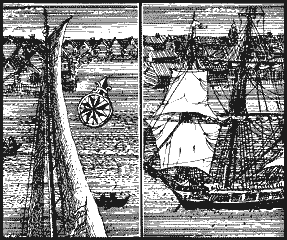Поморское Узорочье
Еще недавно жил среди нас писатель, который старательно реставрировал полувыцветшие страницы из большой историко-культурной летописи России.
И мастер, и мастерство его были особенными.
Всю свою прозу и поэзию он знал наизусть. Мог рассказывать и петь произведения, как бы листая невидимую книгу, слово в слово вторя печатному. Сказывание, впрочем, было не просто воспроизведением, а самим процессом творчества. И если возникали «разночтения» с опубликованными текстами, это не память ошибалась: при повторении старого хотелось пошлифовать, поправить уже отлитое типографами. Так рождались обновленные варианты известных произведений. Словно творил не писатель, а певец былин или старинный сказочник.
В даровитом, искушенном мастере единосущно жили сказитель и литератор. И пожалуй, всего более оба ценили слово говоримое. Когда приходилось сплавлять изустную молву и письменный слог, речь главенствовала над книжностью. Даже когда воспроизводился архаический стиль древней книги, автор, по собственному его признанию, и тут избегал «излишней витиеватости и славянизмов, сохраняя отблески живой разговорной речи».
Отдал он этому труду ни много ни мало — целую жизнь.
Имя писателя: Борис Викторович Шергин. Годы его жизни: 1896—1973.
* * *
На Белом море издревле жили потомки новгородцев — поморы.
Поморское племя ратоборствовало с Океаном и Севером. Оно сумело противопоставить слепой стихии свой разум, волю, силу товарищества, культурные традиции.
Характер и культура поморов ковались борьбой за жизнь, были неразделимы и оттого приобрели значение высокое, общенациональное: они пособляли утверждать русское имя на суровых берегах моря Мерзлого, осваивать земли каменно-неплодные, учили мужеству, запасали опыт.
Борис Шергин постигал этот характер и культуру Поморья с детства: он жил рядом с именитыми корабельными плотниками, капитанами, лоцманами, зверобоями-промышленниками, присматривался к их обычаям, прислушивался к разговорам.
В доме с маленькими комнатками-каютками, где на полках стояли сделанные отцом деревянные модели парусников, Боря Шергин с жаром рисовал виденные в порту рыбацкие, торговые, военные суда. С тщанием знатока вырисовывал детали оснастки.
Страсть разжигалась живописью: в каждом городском доме висели сработанные соловецкими богомазами картины с изображением кораблей, во флотском экипаже створки шкафов были расписаны изображениями верфей, морскими баталиями.
Становясь постарше, Шергин срисовывал орнаменты, заставки старинных книг, учился писать иконы в поморском стиле, расписывал утварь, копировал особый вид рукописного почерка — поморскую вязь.
В отроческие годы Шергину хочется успеть во всем. И, вслед за талантливыми сказителями архангелогородцем Анкудиновым и заостровской крестьянкой Бугаевой (она подолгу гостила у Шергиных, становясь их «домоправительницей»), он начал исполнять «легендарные истории, сказки, былины», записывать их печатными буквами в тетради, сшитые «в формате книг».
Едва ли мог себе представить гимназист Шергин всю серьезность этого своего увлечения — ведь гораздо больше времени и сил отдавалось рисованию. Приехавший в. Архангельск П. И. Субботин, директор художественной школы-мастерской в Подмосковье, педагог, человек большой культуры, увидев рисунки Шергина, советует ему бросить гимназию. Смущенный похвалами юноша отправляется летом 1911 года в Москву, в Строгановское училище, показать свои работы и слышит слово одобрения. После двух лет колебаний выбор сделан. С 1913 года Шергин становится студентом-строгановцем. Но, овладевая профессией художника, Шергин не может преодолеть влечение к северному слову. Молодой архангелогородец в Москве выступал на утренниках словесности, сказывал сказки Двинской земли.
И течение его профессиональной жизни изначально устремляется по руслам двух искусств, которые временами будут сливаться: три его книги оформлены им собственноручно. А тут еще археографический и библиофильский азарт Шергина, все расширяющееся стремление освоить возможно больше сведений об истории поморского Севера…
21 ноября 1915 года газета «Архангельск» (№ 260) опубликует «Письмо из Москвы» под названием «Отходящая красота» с описанием концерта пинежской былинщицы М. Д. Кривополеновой, подписанное инициалами Б. Ш. Как говорится: «Первую песенку зардевшись спеть». Первое выступление девятнадцатилетнего Шергина в печати.
«Письмо» исполнено восхищения «художественностью натуры» неграмотной русской крестьянки (увидев в Третьяковской галерее «Богатырей» Васнецова, певица «тут же к каждому из них спела соответствующую былину»). «Письмо» славит Север, «обетованную Землю всех ценителей русской красоты».
Тогда же Шергин выступает рядом с Кривополеновой в Обществе любителей российской словесности, а по приглашению видного фольклориста Юрия Соколова своим пением иллюстрирует его лекции о народной поэзии в Московском университете. Репертуар Шергина — преимущественно баллады, сказки — пользуется успехом. Но личный успех — исполнитель прекрасно сознает это — частный эпизод огромного резонанса северной народной культуры в столицах, свидетелем которого становится студент художественного училища: в течение полутора десятилетий XX века в Петербурге и Москве происходит новое открытие «края непуганых птиц». Выходят книги М. М. Пришвина, А. П. Чапыгина, Н. А. Клюева. Труды фольклористов развертывают богатейшую картину жизни северного фольклора. Сборники былин, сказок, песен, записанных от Беломорья до Перми А. В. Марковым, А. Д. Григорьевым, Н. Е. Ончуковым, Д. К. Зелениным, братьями Б. М. и Ю. М. Соколовыми, будут позднее названы классическими.
Через год Шергин, хорошо известный в кругах ученых — любителей «живой старины», командируется Академией наук в Архангельскую и смежные губернии для исследования местных говоров и записи произведений фольклора. Эта работа вновь окунает его в родную словесную стихию.
После установления Советской власти Шергин два года заведует художественной частью архангельской ремесленной мастерской, работавшей в холмогорской технике резьбы по кости. На основе поморских орнаментов создает для мастеров новые образцы. Вновь появляется вместе с Кривополеновой на эстраде в летних архангельских концертах 1921 года.
Его знают, ему горячо симпатизируют любители народной северной старины, удивленные обширностью эрудиции молодого человека (и книжность, и живопись, и история!), покоренные его певческим мастерством. Шергин встречается с маляром В. Ф. Кулаковым, который «избушку свою, и чердак, и подполье, и хлев, и поветь — все разными редкостями захламостил». Этот чудак, не заслуживший «во всю жизнь» до Октября «ничего, кроме ругани да смеху», — побывал у Ленина и удостоился похвалы вождя за то, что опередил с идеей музея народных промыслов «ученых профессоров». Среди редкостей Кулакова Шергин находит сборник поморского письма «Малый Виноградец», из которого делает извлечения. Подобные творческие заготовки — на много лет вперед — он делает из новгородских, псковских хроник, беломорских «морских урядников», лоций XVIII века, из записных тетрадей шкиперов, альбомов стихов, песенников.
Земляки станут привозить Шергину заветные «стогодовалые» книги с Севера и из Сибири в Москву, куда Шергин переезжает на жительство в 1922 году.
Около девяти лет Шергин в должности «научного работника первого разряда» Института Детского чтения Наркомпроса, а фактически — артистом пять дней в неделю появляется в разных аудиториях, пропагандируя северный фольклор.
Часть репертуара отражает вышедшая в 1924 году первая его книга — сборник старин «У Архангельского города, у корабельного пристанища», которая знакомит с мелодиями, напетыми матерью писателя, подлинными народнопоэтическими произведениями.
В программном предисловии, характеризуя издание как первую книгу в ряду намеченных Институтом Детского чтения новых публикаций подлинного русского фольклора, профессор А. К. Покровская писала: «В старом народном искусстве — родина наша. Родина во всем: и в пейзаже, и в домах, и в крестах на могилах, и в старине, и больше всего — в искусстве. Человек без родины — сирота. Потому что душа глубоко корнями уходит в родную почву, а если вырвать ее, — высохнут корни, будет перекати-поле… Надо сохранить хотя бы воспоминание о прошлом богатстве не в изуродованном и не в заспиртованном виде, а живым и действенным». Этой программе было вполне созвучно и вступление самого Шергина, в котором он клятвенно — на всю жизнь — формулировал главный творческий принцип: «Поючи держи в уме студено северно море, архангельски текучие дожжи и светлые туманы. Тогда станут былинные словеса поющим и слушающим не на час, не на неделю, — на век человеческий».
Песенно– эпические опыты настраивали на восприятие литературного искусства Шергина как строго серьезного. Тем неожиданнее «хохочущая», веселая книга 1930 года «Шиш Московский» — «скоморошья эпопея о проказах над богатыми и сильными». Мастер торжественно-печальных старин виртуозно владел грубовато-озорным юмором крестьянской бытовой прозы.
Вот он — Шиш, «прохвост», «румяный разноглазый, вертлявый», который «красным девушкам во сне снится»: ему «все рады»; завидев его, царь «сразу начал сгогатывать». Шиш бежит по сказкам с прискоком, и даже тучка подлинной печали (старшие братья Шиша, «мужики здоровенные, скопидомы», гонят его из дому: «При твоем худом здоровье первое дело свежий воздух… ночуй в сарае, а день гуляй по миру») лишь на миг омрачает физиономию находчивого героя, своей улыбкой солнечно озаряющего «московское царство». Вездесущий Шиш сегодня выпорет «дикого барина», у которого люди «упились бедами, опохмеляются слезами», завтра осрамит полицию, накормит краденым царским быком голь перекатную. Господам всех калибров, включая самого царя, солоно от Шиша. Когда же его кидаются искать через адресный стол, сыщикам остается только всплеснуть руками: местом жительства плута оказывается «угол Сливочной и Колбасной, а дому номер красный».
«Шишов разум всех перешиб», — резюмирует рассказчик историю похождений обманщика, действующего, в соответствии с поэтикой народной сатиры, среди гротескно-карикатурных персонажей — представителей социальных верхов («Фрелины песни поют, как кошек режут», у барина рожа вытягивается «по шестую пуговицу», генерала впору отправить «на салотопенный завод» и т. д.).
Самобытный дар автора «Шиша Московского» был признан именно в его литературном качестве: в год принятия в Союз советских писателей Шергин был делегирован на I съезд Союза от его столичного отделения. Между тем Шергин-писатель во многом еще только начинался.
В 1936 году выходят «Архангельские новеллы» — пестрая яркая книга. Лучшие ее страницы охвачены гераневым пожаром чувственной радости и воссоздают нравы старомещанского Архангельска. Стилизованные во вкусе популярных переводных «гисторий» XVII—XVIII веков новеллы посвящены скитаниям в Заморье и «прежестокой» любви персонажей из купеческой среды.
Первыми тремя книгами Шергин, с одной стороны, как бы восстанавливал прежний фольклорный репертуар столицы Двинской земли. С другой стороны, вторая и третья книги обнаружили столь большую импровизационную свободу автора, столь активную обработку народных сюжетов, что ссылка на фольклорный первоисточник в предисловии к «Архангельским новеллам» («новеллы и сказки… слышаны были мною дома, в городе Архангельске… в юности») должна быть воспринята как формула авторской скромности, и только. «Архангельские новеллы» — не фольклорный сборник, а сборник произведений писателя Шергина, который воскрешал в этих многократно перелицованных самим народом сюжетах то самое, за что их ценила староархангельская аудитория, — нравы Двинской земли. В сказках, балладах, скоморошинах, где действовали купеческие дети, «прынцы», лисы-исповедницы, резвые ершишки, слышался гомон ярмарочной, площадной толпы. Звучали сочные диалоги: там и тут, разомкнув малиновые уста, лихо бранились писаные кустодиевские красавицы (в новеллах тонко-ироничного Шергина что ни героиня — «толста, красна, красива», «Девка как Волга: бела-румяна, грудь высока, косы долги, а сама полна, мягка, ступит — дак половица гнется, по шкапам посуда говорит»).
«Архангельские новеллы» — эксперимент, который приближал писателя к созданию многослойно-синтетического образа Поморья. Очерки нравов, облеченные в фольклорные формы, помогали выработке стилизующих начал повествования, способствовали повышению пластичности языка. Шергин воспринимал историю Поморья через его искусство, красноречие, быт. Он уже находился на пороге непосредственного вторжения в историю. Создавая «Архангельские новеллы», одновременно писатель публиковал в журналах историко-биографические поморские рассказы (как свидетельствовали позднее Леонид Леонов, Константин Федин, Алексей Югов, они полюбились Горькому), собирал народные толки о вождях революции и замечательных людях страны, записывал легендарно-сказочные их биографии, естественно возникавшие «параллельно книжным, исторически точным». В значительной мере из этих произведений составлялась книга «У песенных рек» (1939), принадлежащая к числу наиболее выдающихся созданий Шергина.
Детально выписанная панорама Двинской земли, ее просторов, богатств, сочеталась в книге с проникновенным очерком уклада поморской жизни, с портретами товарищей детских лет, мурманских юнг-«зуйков», с волнующими рассказами о героическом труде поморов и поморок. Как поэмы воспринимались слово о жизни и смерти отца писателя, которому он был обязан всем «поморским» строем своей души («Поклон сына отцу»), очерк о создании океанского парусника («Рождение корабля»), пинежский рассказ о Пушкине. И почти во всех этих произведениях, а также в сказах и сказках о гражданской войне на Севере, в великолепном нравоописательном очерке «Старые старухи» подлинно классической высоты достигали «сила и угодье» шергинского слова. Все «изборники» Шергина, что выходят позже (собрания его сочинений пока нет), непременно включают основные произведения книги «У песенных рек»: в ней Поморье впервые по-настоящему распахивается своими просторами, душой, историей, рисуется хранителем гуманистических преданий, национальных заветов русского народа. И «Поморщина-корабельщина» (1947), и «Поморские были и сказания» (1947), и «Океан — море русское» (1959), и «Запечатленная слава» (1967) расширяют и уточняют объем наших знаний о Севере России как особом культурно-историческом регионе, игравшем внушительную роль в ее судьбах.
* * *
Поэма жизни Шергина — труд. Он составлял содержание каждодневного бытия самого мастера и был любимейшей областью его художественного изображения. В трудовой истории народа ищет писатель ответ на вопрос, откуда взялось русское Поморье. Труд для Шергина — инструмент ценностного познания личности, характеризующие возможности которого почти беспредельны.
Всякий труд выдвигает своих художников. Шергин верил в это столь же свято, как его предшественник Николай Лесков, как современник Павел Бажов.
С чувством преклонения рассказывается об искусстве морского кораблевождения. «Я знал, — говорит шкипер Егор Васильевич, — Студеное море, как любой человек знает свой дом. Ты идешь в темной комнате, знаешь, где скрипит половица, где порог, где косяк. Я судно в тумане веду. Не стукну о камень, не задену о коргу» («Егор увеселялся морем»). Кормщики Пафнутий Анкудинов и Иван Узкий, разлученные бурей в открытом море, ничего не ведавшие друг о друге несколько суток, точно предсказали своим командам день и место встречи с лодьями товарищей, потому что было у них «знание ветра, знание моря, знание берегов» и знание искусства собратьев по ремеслу.
Но и иные мастерства восхищают. Плотник Маркел Ушаков так обрабатывал дерево, что его тесинка становилась будто «перо лебединое»: «Погладишь — рука как по бархату катится» («Мастер Молчан»), Живописец по утвари Иван Щека так приготовлял краску, что она «не темнела, не линяла, не смывалась» («Лебяжья река»).
Труд — сфера высшего самопроявления таланта. Но еще важнее, что это школа жизни. Поведение в труде закладывает нравственные основы отношений человека с людьми.
Двинский мореход жертвует не одним заработком, но и добрым именем, лишь бы выкупить из долговой тюрьмы нечаянно-негаданно попавшего в беду датчанина. Корабельный мастер, привыкший на море к искреннему товариществу, без жалости наказывает родного сына, дружившего со сверстником не попросту, а с «хитростью». Старый кормщик Егор, стечением обстоятельств поставленный перед моральным выбором: погубить чужое счастье либо расстаться с юной женой, полюбившей молодого Егорова ученика, — «торжествует над собой пресветлую победу».
Герои Шергина равняются на кодекс чести «северного русского народа» (так именовал архангелогородцев Михаил Пришвин), сложившийся за время познания и покорения Ледовитого моря-океана, и это создает особенный моральный климат его прозы.
* * *
Творчество писателя богато формами, но две манеры повествования наиболее излюблены.
Первая — патетическая. Персонажи и внешностью, и повадкой, и речью, и всей судьбой близки к идеалу. Фоном фигур выступает подчеркнуто-величавая природа, ореол героев — завидные деяния. Широко используются идеализирующие стилистические средства, родственные стилю древнерусских житийных повестей или заимствованных из них, да еще из летописных сказаний, из эпических фольклорных произведений. Такие очерки, новеллы выступают в прямом смысле слова «иконографией» поморского племени.
Вторая манера повествования рисует не торжественные лики, а нимало не прикрашенные, будничные лица. Благородство, преданность, большое чувство выявляются по контрасту с положением и портретом человека. Они живы в тех, кто затерян в толпе. И если крупицы позитивно-идеализирующего стиля проникают в бытовую новеллу, очерк нравов, то лишь потому, что Шергин вообще не мыслит своего рассказа без подстариненно-узорчатой речи, без фольклорной подцветки языка.
Писатель в молодые годы был лично знаком с Кононом Ивановичем Второушиным. Но для него это носитель славы Тектона-Строителя, а значит, повествование не может свестись к бытовой зарисовке.
«Был Конон Тектон велик ростом, глазами светел и грозен, волосы желты, как шелк.
Он встречал меня тихим лицом, и много я от него узнал о греческих, римских, итальянских строителях и художниках. О Витрувии, Винчи, Микеланджело, Браманте, Палладио.
… И первого сентября утром, когда обрадовалась ночь заре, а заря солнцу, поплыли артельные к острову, где «Трифон» строился. И увидели: стоит корабль к востоку, высоко на городах, у вод глубоких, у песков рудожелтых, украшен, как жених, а река под ним, как невеста.
… Мастер Конон сошел по сходням, стал на степени и поклонился большим обычаем. У него топор за поясом, как месяц, светит».
Все ровно-возвышенно, благолепо в этом летописно-размеренном ритме повествования. И подбор «желтых, как шелк», «рудожелтых», «светлых, как месяц», тонов озаряет героя лучистым сиянием величия, сближает образ помора с легендарным Витрувием и Браманте. И в эту минуту Поморье выглядит миром не просто особым, а искони и неколебимо противостоящим всему тому, превосходящим все то, что именовалось Россией царской.
Но вот Шергин переходит к рассказу о современнике Тектона — батраке Матвее Корелянине, жестоко побиваемом неудачами при попытках выбиться в люди, и манера изображения решительно меняется. «Оправу» жизни героя создают натуральные реалии «неочищенного» быта. И повествование уже идет не от имени автора, а строится как непосредственная исповедь Корелянина.
Он ли, Матвей, его ли жена не отдают все силы работе. Вот этот — буквально распинающий человека — труд.
«Матрешке моей тяжело-то доставалось. Ухлопается, спину разогнуть не заможет, сунется на пол:
— Робята, походите у меня по спине-то…
Младший Ванюша у ей по хребту босыми ногами и пройдет, а старшие боятся:
— Мама, мы тебя сломаем…
Тяжелую работу работаем, дак позвонки-ти с места сходят, надо их пригнетать».
И такая жизнь, оказывается, и требует от человека неиссякаемой любви, непрестанного нравственного подвига, притом неэффектного, невидного, не рассчитанного ни на какое признание со стороны:
«Матрена смолода плотная была, налитая, теперь выпала вся. Мне ее тошнехонько жалко:
— Матрешишко, ты умри лучше!
— Что ты, Матвей! Я тебе еще рубаху стирать буду!…»
Лишь самым большим художникам отпущено такое разумение «силы и смысла письма». С пронизывающим лаконизмом Шергина идет в сравнение разве немногословность одного из его прямых литературных учителей — Аввакума. Это на страницах читанного-перечитанного писателем «Жития» жена протопопа Марковна, находясь на пределе физического изнеможения, находит в себе силы поддержать мужа простыми, незабываемыми словами: «… добро, Петрович, ино еще побредем».
Матрена Корелянина принадлежит к тысячам женщин, кто был в супружестве «помощниками неусыпающими, друзьями верными», кто в дни отходничества мужей «сельдь промышлял, сети вязал, прял, ткал, косил, грибы, ягоды носил», а еще вершил мужское поделье: «тес тесал, езы бил (перегораживал реки для семужьего лова. — А. Г.), кирпичи работал» — кто безвестно созидал богатство России. Их, безымянных, обойденных «монографическим» вниманием историков Отечества, — их, никогда высоко не мысливших о себе и так и не узнавших (хотя слагали они песни, причитания, пели былины, сказывали сказки!), что они цвет земли нашей, — разыскивал в поморской стороне и воскрешал словом своим к долгой жизни Борис Викторович Шергин. Подвижничество, верил он, должно служить для людей вечным образцом.
* * *
Писатель не раз говорил, что все его искусство — заимствование из языкотворчества трудящихся людей, что он прошел огромную школу освоения народного слова: «Ряд лет я записываю разговорную речь, главным образом у себя на родине, в пределах бывшей Архангельской губернии. Промышляю словесный жемчуг „по морям и волнам“, на пароходах и на шхунах, по пристаням и по берегам песенных рек нашего Севера. Слушаю, как говорит народ и что говорит».
Шергин называл «северными художниками слова» рыбаков, лесорубов, заводских рабочих, в «картинную, насыщенную образами речь» которых писатель был влюблен.
Художественный мир Шергина заселен работниками разных ремесел, а потому профессиональные словари живут в языке Шергина. В очерке «Рождение корабля» от корабельщиков автор заимствует выражения: «Ель на воде слабее сосны», «Он обходил берега Ледовитого океана, строя шкуны… и елы сшивая», «отворили паруса», «паруса обронив, бросили якоря». Из лексикона плотников берет он образ для пейзажной картины: «птицы разом вскрикнули и поднялись над мелями в три, в четыре венца» («Для увеселенья»). По-мореходски уместно именует писатель путешествия «путеплаваниями» («Достояние вдов»). Шергин наглядно показывает, как обогащался национальный словарь лексикой, а слова оттенками в устах профессионалов. В новелле «Лебяжья река», посвященной труду мастеров росписи по дереву, приводятся рабочие (и вместе изысканнейшие!) эпитеты-термины, обозначающие колеры исключительной нежности: «светло-осиновый» и «тьмо-лимонный». В рассказе «Устюжского мещанина Василия Феоктистова Вопиящина краткое жизнеописание» маляр точнейше пользуется глаголами-терминами: «краска должна вмереть в дерево», «лубочные картины… цветил ягодным соком».
Писателем ценилась непраздность народного слова, несущего в себе отраженный свет породившей его психологической ситуации. Как подлинный гимн слову народному воспринимается рассказ «Для увеселения», где два брата Личутины, выброшенные предзимней бурей на камни, перед лицом неотвратимой гибели вырезают на обломке корабельной доски эпитафию себе.
Для читателя очевидно, что память Шергина стала вместилищем многообразных культурных ассоциаций, которые жили в сознании начитанных поморов на рубеже прошлого и нынешнего веков, — всего того, что было фактически народной культурой, и это создает поразительное богатство стилистики его произведений.
В исповедально-портретных монологах, где каждое слово, интонация были характеризующими, художник «до дна» раскрывал психологию героев («Рассказ Соломониды Ивановны», «Мимолетное виденье», «Митина любовь»).
При сравнительной оценке произведений мастера, уже переживших скоротечную славу некоторых сочинений его современников, припоминаются страницы шергинского «жизнеописания» маляра Василия Феоктистова Вопиящина. Оный Вопиящин рассказывал: «У иконного письма теперь такого рачения не видится, с каковым я приуготовлял тогда… дверцы и ставеньки про свое наивное художество. Которое, впрочем, художеством никто и не называл, но не более как расписные ложки и плошки. Господин Менк, пейзажист из превосходных, неоднократно удивлялся… процедуре нашего письма. Он говорил: „Теперь я понимаю, для чего моя картина, висящая в гостиной, помрачнела в десять лет. А дверь, которую здешний мещанин упестрил своей варварской кистью сорок лет назад, не утратила колоритов“.
Искусство Шергина не только долгие годы не утратит «колоритов» для поколений читателей, но и будет объектом всевозрастающего, пристального изучения со стороны новых поколений мастеров слова.
Работа Шергина над народным словом — это, как бы сказал Бажов, «дело мешкотное», а не рысистое. Но это дело прочное, надежное.
Ал. Горелов
Двинская земля
Родную мою страну обходит с полуночи великое Студеное море.
В море долги и широки пути, и высоко под звездами ходит и не может стоять. Упадут на него ветры, как руки на струны, убелится море волнами, что снег.
Гремят голоса, как голоса многих труб, — голоса моря, поющие ужасно и сладко. А пошумев, замкнет свои тысячеголосые уста и глаже стекла изравнится.
Глубина океана — страшна, немерна, и будет столь светла, ажно и рыбы ходящие видно.
Полуночная наша страна широка и дивна. С востока привержена морю Печора, с запада земли Кемь и Лопь, там реки рождают золотой жемчуг.
Ветер стонет, а вам — не печаль.
Вихри ревут, а вам — не забота. И не страх вам туманов белые саваны… Спокойно вам, дети постановных матерых берегов; беспечально вы ходите плотными дорогами.
А в нашей стране — вода начало и вода конец.
Воды рождают, и воды погребают.
Море поит и кормит… А с морем кто свестен? Не по земле ходим, но по глубине морской. И обща судьба всем.
Ростят себе отец с матерью сына — при жизни на потеху, при старости на замену, а сверстные принимаем его в совет и дружбу, живем с ним дума в думу.
А придет пора, и он в море путь себе замыслит велик.
… Парус отворят, якорь подымут, сходенки снимут… Только беленький платочек долго машется.
И дни побегут за днями, месяцы за месяцами. Прокатится красное лето, отойдут промысла. У людей суда одно по одному домой воротятся, а о желанном кораблике и слуха нет, и не знаем, где промышляет.
Встанет мрачная осень. Она никогда без бед не проходит Ударит на море погода, и морская пучина ревет и грозит, зовет и рыдает. Начнет море кораблем, как мячом, играть, а в корабле друг наш, материна жизнь…
О, какая тьма нападет на них, тьма бездонная!
О, коль тяжко и горько, печали и тоски несказанной исполнено человеку водою конец принимать! Тот час многостонен и безутешен, там — увы, увы! — вопиют, и нет помогающего.
Придет зима и уйдет. Разольются вешние воды А друга нашего все нету и нету. И не знаем, быть ему или не быть.
Мать — та мрет душою и телом, и мы глаз не сводим с морской широты.
А потом придет весть страшна и грозна:
— Одна бортовина с другою не осталась… А сына вашего, а вашего друга вода взяла.
Заплачет тут вся родня.
И бабы выйдут к морю и запоют, к камням припадаючи, к Студеному морю причитаючи:
Увы, увы, дитятко.
Поморской сын
Ты был как кораблик белопарусный
Как чаечка был белокрылая!
Как елиночка кудрявая
Как вербочка весенняя!
Увы, увы, дитятко,
Поморской сын!
Белопарусный кораблик ушел в море,
Улетела чаица за синее,
И елиночка лежит порублена,
Весенняя вербушечка посечена
Увы, увы, дитятко,
Поморской сын!
От Студеного океана на полдень развеличилося Белое море, наш светлый Гандвиг. В Белое море пала Архангельская Двина. Широка и державна, тихославная та река плывет с юга на полночь и под архангельской горой встречается с морем. Тут островами обильно: пески лежат, и леса стоят. Где берег возвыше, там люди наставились хоромами. А кругом вода. Куда сдумал ехать, везде лодку, а то и кораблик надо.
В летнюю пору, когда солнце светит в полночь и в полдень, жить у моря светло и любо. На островах расцветают прекрасные цветы, веет тонкий и душистый ветерок, и как бы дымок серебристый реет над травами и лугами.
Приедем из города на карбасе. Кругом шиповник цветет, благоухает. Надышаться, наглядеться не можем. У воды на белых песках чайки ребят петь учат, а взводеньком выполаскивает на песок раковицы-разиньки. Летят от цветка к цветку медуницы мотыльки. Осенью на островах малина и смородина, а где мох, там обилие ягод красных и синих. Морошку, бруснику, голубель, чернику собираем натодельными грабельками: руками — долго, — и корзинами носим в карбаса. Ягод столько — не упомнишь земли под собой. От ягод тундры как коврами кумачовыми покрыты.
Где лес, тут и комара, — в две руки не отмашешься.
Обильно всем наше двинское понизовье. На приглубистых, рыбных местах уточка плавает, гагара ревет, гусей, лебедей — как пены.
Холмогорский скот идет от деревень, мычит — как серебряные трубы трубят. И над водами и над островами хрустальное небо, беззакатное солнце!
Мимо деревень беспрестанно идут корабли: к морю один, к городу другие. И к солнцу парусами — как лебедь.
Обильная Двинская страна! Богата рыбой и зверем и скотом и лесом умножена.
В летние месяцы, как время придет на полночь, солнце сядет на море, точно утка, а не закатится, только снимет с себя венец, и небо загорится жемчужными облаками. И вся красота отобразится в водах.
Тогда ветры перестанут и вода задумается. Настанет в море великая тишина. А солнце, смежив на минуту глаза, снова пойдет своим путем, которым ходит беспрестанно, без перемены.
Этого светлого летнего времени любим и хотим, как праздника ждем. С конца апреля и лампы не надо. В солнечные ночи и спим мало. Говорим: «Умрем, дак выспимся», «Изо сна не шубу шить».
С августа белые ночи меркнут. Вечерами сидим с огнем.
От месяца сентября возьмутся с моря озябные ветры. Ходит дождь утром и вечером. В эти дни летят над городом, над островами гуси и лебеди, гагары и утки, всякая птица. Летят в полуденные края, где нет зимы, но всегда лето.
Тут охотники не спят и не едят. Отец, бывало, лодку птицы битой домой приплавит. Нищим птицей подавали.
По мелким островам и песчаным кошкам, что подле моря, набегают туманы. Белая мара морская стоит с ночи до полудня. Около тебя только по конец ружья видно; но в городе, за островами, туманов не живет.
Тогда звери находят норы, и рыба идет по тихим губам.
Холодные ветры приходят из силы в силу. Не то что в море, а на реке на Двине такой разгуляется взводень, что карбаса с людьми пружит и суда морские у пристаней с якоря рвет.
Помню, на моих было глазах, такая у города погодушка расходилась, ажно пристани деревянные по островам разбросало и лесу от заводов многие тысячи бревен в море унесло.
Дальше заведется ветер-полуночник, он дождь переменит на снег. Так постоит немного, да пойдет снег велик и будет сеяться день и ночь. Если сразу приморозит, то и реки станут и саням — путь. А упал снег на талую землю, тогда распута протяжная, по рекам тонколедица, между городом и деревнями сообщения нету. Только вести ходят, что там люди на льду обломились, а в другом месте коней обронили. Тоже и по вешнему льду коней роняют.
Так и зима придет. К ноябрю дни станут кратки и мрачны. Кто поздно встает — и дня не видит. В школах только на часок лампы гасят. В училище, бывало, утром бежишь — фонари на улицах горят, и домой в третьем часу дня ползешь — фонари зажигают.
В декабре крепко ударят морозы. Любили мы это время — декабрь, январь, — время резвое и гульливое. Воздух — как хрусталь. В полдень займется в синеве небесной пылающая золотом, и розами, и изумрудами заря. И день простоит часа два. Дома, заборы, деревья в прозрачной синеве, как сахарные, — заиндевели, закуржевели. Дух захватывает мороз-то. Дрова колоть ловко. Только тюкнешь топором — береги ноги: чурки, как сахар, летят.
На ночь звезды, как свечи, загорят. Большая Медведица — во все небо.
Слушайте, какое диво расскажу.
В замороз к полночи начнет в синем бархате небесном пояском серебряным продергивать с запада до востока, а с севера заподымается как бы утренняя заря. И вдруг все погаснет. Опять из-за моря протянутся пальцы долги без меры и заходят по небу. Да заря займется ужасная, как бы пожарная. И опять все потухнет, и звезды видать… Сиянье же обновится. Временем встанет как стена, по сторонам столбы, и столбы начнут падать, а стена поклонится. А то будто голубая река протечет, постоит да свернется, как свиток.
Бывало, спишь — услышишь собачий вой, откроешь глаза — по полу, по стенам бегают светлые тени. А за окнами небо и снег переливают несказанными огнями.
Мама и отец будили нас, маленьких, яркие-то сполохи-сияния смотреть. Обидимся, если проспим, а соседские ребята хвалятся, что видели.
У зимы ноги долги, а и зиме приходит извод. В начале февраля еще морозы трещат, звенят. В марте на солнышке пригреет, сосули с крыш. В апреле обвеют двинское понизовье верховые теплые ветры. Загремят ручьи, опадут снега, ополнятся реки водою. Наступят большие воды — разливная весна.
В которые годы вешнее тепло вдруг, тогда Двина и младшие реки кряду оживут и располонятся ото льда. Мимо города идет лед стенами-торосами.
Великое дело у нас ледоход. Иной год после суровой зимы долго ждем не дождемся. Вскроется река, и жизнь закипит. Пароходы придут заграничные и от Вологды. Весело будет… Горожане — чуть свободно — на угор, на берег идут. Двина лежит еще скована, но лед посинел, вода проступила всюду. В школе — чуть перемена — сразу летим лед караулить. По дворам лодки заготовляют, конопатят, смолят. И вот топот по всему городу. Народ табунами на берег валит. Значит, река пошла. Гулянья по берегам откроются. Не до ученья, не до работы. На городовых башнях все время выкидывают разноцветные флаги и шары; по ним горожане, как по книге, читают, каким устьем лед в море идет, где затор, где затопило.
Пригород Соломбала на низменных островах стоит, и редкий год их не топит. Улицы ямами вывертит, печи размокнут в низких домах. В городе как услышат — из пушек палят, так и знают, что Соломбала поплыла. Соломбальцы в ус не дуют, у них гулянье, гостьба откроется, ездят по улицам с гармонями, с песнями, с самоварами. А прежде — вечерами, с цветными фонарями и в масках.
Лед идет в море торосами, стенами. Между островов у моря льду горами наворотит, все льдом заложит, не видно деревень; на заводах снимает лес со штабелей. То одно, то другое устье запрет. Двине вздохнуть некак, выходу нет, она острова и топит. На этот случай дома в островных деревнях строили на высоких подклетях, крыльца и окна очень высоки. Около крайних домов бывали «обрубы» — бревенчатые городки: обороняют от больших весенних льдин.
Зимою наткут бабы полотен и белят на стлищах вокруг деревень. Как река шевелится, не спят ту ночь: моты, портна хватают. А проспят — все илом, песком занесет, а то и в море утянет.
Конец апреля льдина уйдет, а вода желтее теста, мутновата, потом и мутница и пенница сойдет, и река спадет, лето пойдет. Выглянет травка из-под отавы. В половине мая листок на березе с двугривенный. После первого грома ребята, бывало, ходят в лес, мастерят рябиновые флейты. По всему городу будет эта музыка. Велико еще весной удовольствие, когда Обводной канал со всеми канавами разольется. По улицам хоть в лодке поезжай. Тут ребята бродятся, один перед другим хвастают: у кого кораблик краше и лучше; пускают кораблики по бегучим каналам.
А летом везде дороги торны. От воды, от реки не отходим. Малыши в песке, в камешках, в раковинках разбираются, на отмелях полощутся, а ребята постарше в лодках, карбасах меж кораблями, пристанями, меж островами живут.
Вода в море и в реках не стоит без перемены, но живет в сутках две воды — большая и малая, или «полая» и «кроткая». Эти две воды — дыхание моря. Человек дышит скоро и часто, а море велико: пока раз вздохнет, много часов пройдет. И когда начнет подниматься грудь морская, наполняя реки, мы говорим: «Вода прибывает».
И подымается лоно морское до заката солнечного. А наполнив реки, море как бы отдыхает; мы скажем: «Вода задумалась». И, постояв, вода дрогнет и начнет кротеть, пойдет на убыль. Над водами прошумит слышно. Мы говорим: «Море вздохнуло».
Когда полая вода идет на малую, от встречи ходит волна «сувой».
С полдня много дорог пришло в полуночный и светлый Архангельский город. Тем плотным дорогам у нашего города конец приходит, полагается начало морским беспредельным путям.
Город мой, родина моя, ты дверь, ты ворота в недоведомые полярные страны. В Архангельск съезжаются, в Архангельске снаряжаются ученые испытывать и узнавать глубины и дали Северного океана. От архангельских пристаней беспрестанно отплывают корабли во все стороны света. На запад — в Норвегию, Швецию, Данию, Германию, Англию и Америку, на север — к Новой Земле, на Шпицберген, на Землю Иосифа. В наши дни народная власть распахнула ворота и на восток, указала Великий Северный путь. Власть Советов оснастила корабли на столь дальние плавания, о которых раньше только думали да гадали. Власть Советов пытливым оком посмотрела и твердой ногой ступила на такие берега, и земли, и острова, куда прежде чаица не залетывала, палтус-рыба не захаживала.
Люблю про тех сказывать, кто с морем в любви и совете.
С малых лет повадимся по пароходам и отступиться не можем, кого море полюбит.
А не залюбит море, бьет человека да укачивает, тому не с жизнью же расстаться. Не все в одно льяло льются, не все моряки. Людно народу на лесопильных заводах работает, в доках, в мастерских, на судоремонтных заводах, в конторах пароходских. В наши дни Архангельск первый город Северной области. Дел не переделать, работ не переработать. Всем хватит.
Улицы в Архангельском городе широки, долги и прямы. На берегу и у торгового звена много каменного строенья, а по улицам и по концам город весь бревенчатый. У нас не любят жить в камне. В сосновом доме воздух легкий и вольный. Строят в два этажа, с вышками, в три, в пять, в семь, в девять окон по фасаду. Дома еще недавно пестро расписывали красками, зеленью, ультрамарином, белилами.
Многие улицы вымощены бревнами, а возле домов обегают по всему городу из конца в конец тесовые широкие мостки для пешей ходьбы. По этим мосточкам век бы бегал. Старым ногам спокойно, молодым — весело и резво. Шаг по асфальту и камню отдается в нашем теле, а ступанье по доскам расходится по дереву, оттого никогда не устают ноги по деревянным нашим мосточкам.
Середи города над водами еще недавно стояли угрюмые башни древних гостиных дворов, немецкого и русского. Сюда встарь выгружали заморские «гости» — купцы — свои товары. Потом здесь была портовая таможня. Отсюда к морю берег густо зарос шиповником; когда он цветет, на набережных пахнет розами. Набережные покрыты кудрявой зеленью. Тут березы шумят, тут цветы и травы сажены узорами.
Город прибавляют ко мхам. Кто в Архангельске вздумает построиться, тому приходится выбирать место на мхах — в тундре. Он лишнюю воду канавами отведет и начнет возить на участок щепу, опилки, кирпич, песок и всякий хлам — подымает низменное то место. Потом набьет свай да и выстроится. Где вчера болото лежало, на радость скакухам-лягухам болотным, ныне тут дом стоит, как город. Но пока постройкой грунта не огнело да мимо тяжелый воз по бревенчатому настилу идет, дом-то и качнет не раз легонько. Только изъянов не бывает. Бревна на стройку берут толсты, долги, и плотники — первый сорт. Дом построят — как колечко сольют; однако слаба почва только на мхах, а у старого города, к реке, грунт тверд и постановен.
Строительный обычай в Архангельске: при закладке дома сначала утверждали окладное бревно. В этот день пиво варили и пироги пекли, пировали вместе с плотниками. Называется: «окладно».
Когда стены срубят до крыши и положат потолочные балки, матицы, опять плотникам угощенье: «матешно». И третье празднуют — «мурлаты», когда стропила под крышу выгородят. А крышу тесом закроют да сверху князевое бревно утвердят, опять пирогами и домашним пивом плотников чествуют, называется «князево».
А в домах у нас тепло!
Хотя на дворе ветер, или туман, или дождь, или снег, или тлящий мороз, — дома все красное лето! Всю зиму по комнатам в легкой рубашке и в одних чулках ходили. Полы белы и чисты. Приди хоть в кухню да пол глаженым носовым платком продерни — платка чистого не замараешь.
По горенкам, по сеням, по кладовкам, по лестницам, по крыльцам, и полы, и стены, и потолки постоянно моют и шоркают.
У печи составы: основание печное называется «нога», правое плечо печное — «печной столб»; левое плечо — «кошачий городок». С лица у печки — «чело», и «устье», и «подпечек», а с боков «печурки» выведены теремками. А весь «город» печной называется «тур».
«Архангельский город всему морю ворот». Архангельск стоит на высоком наволоке, смотрит лицом на морские острова. Двина под городом широка и глубока — океанские трехтрубные пароходы ходят взад и вперед, поворачиваются и причаливают к пристаням без всякой кручины.
С восточной стороны легли до города великие мхи Там у города речка Юрос, Уйма, Курья, Кузнечиха.
В подосень, да и во всякое время, у города парусных судов и пароходов не сосчитать. Одни к пристани идут, другие стоят, якоря бросив на фарватере, третьи, отворив паруса, побежали на широкое студеное раздолье. У рынков, у торговых пристаней рядами покачиваются шкуны с рыбой. Безостановочно снуют между городом и деревнями пассажирские пароходики. Степенно, на парусах или на веслах, летят острогрудые двинские карбаса.
Кроме «Расписания» и печатных лоций, у каждого мореходца есть записная книжка, где он делает отметки о времени поворота курса, об опасных мелях, об изменениях фарватера в устьях рек.
Непременно на каждом корабле есть компас — «матка».
Смело глядит в глаза всякой опасности и поморская женщина.
Помор Люлин привел в Архангельск осенью два больших океанских корабля с товаром. Корабли надо было экстренно разгрузить и отвести в другой порт Белого моря до начала зимы. Но Люлина задержали в Архангельске неотложные дела. Сам вести суда он не мог. Из других капитанов никто не брался, время было позднее, и все очень заняты. Тогда Люлин вызывает из деревни телеграммой свою сестру, ведет ее на корабль, знакомит с многочисленной младшей командой и объявляет команде: «Федосья Ивановна, моя сестрица, поведет корабли в море заместо меня. Повинуйтесь ей честно и грозно…» — сказал да и удрал с корабля.
— Всю ночь я не спал, — рассказывает Люлин. — Сижу в «Золотом якоре» да гляжу, как снег в грязь валит. Горюю, что застрял с судами в Архангельске, как мышь в подполье. Тужу, что забоится сестренка: время штормовое. Утром вылез из гостиницы — и крадусь к гавани. Думаю, стоят мои корабли у пристани, как приколочены. И вижу — пусто! Ушли корабли! Увела! Через двои сутки телеграмма: «Поставила суда в Порт-Кереть на зимовку. Ожидаю дальнейших распоряжений. Федосья».
Архангельское мореходство и судостроение похваляет и северная былина:
А и все на пиру пьяны-веселы,
А и все на пиру стали хвастати.
Толстобрюхие бояре родом-племенем,
Кособрюхие дьяки большой грамотой,
Корабельщики хвалились дальним плаваньем,
Промысловщики-поморы добрым мастерством
Что во матушке, во тихой во Двинской губе,
Во богатой, во широкой Низовской земле
Низовщане-ти, устьяне промысловые,
Мастерят-снастят суда — лодьи торговые,
Нагружают их товарами меновными
(А которые товары в Датской надобны)
Отпускают же лодьи-те за сине море,
Во широкое студеное раздольице.
Вспомнил я былину — и как живой встает перед глазами старый мореходец Пафнутий Анкудинов.
«Всякий спляшет, да не как скоморох». Всякий поморец умел слово сказать, да не так красно, как Пафнутий Осипович.
Весной, бывало, побежим с дедом Пафнутием в море. Во все стороны развеличилось Белое море, пресветлый наш Гандвиг.
Засвистит в парусах уносная поветерь, зашумит, рассыпаясь, крутой взводень, придет время наряду и час красоте. Запоет наш штурман былину:
Высоко– высоко небо синее,
Широко– широко океан-море,
А мхи– болота — и конца не знай
От нашей Двины, от архангельской…
Кончит былину богатырскую — запоет скоморошину. Шутит про себя:
— У меня уж не запирается рот. Сколько сплю, столько молчу. Смолоду сказками да песнями душу питаю.
Поморы слушают — как мед пьют. Старик иное и зацеремонится:
— Стар стал, наговорился сказок. А смолоду на полатях запою — под окнами хоровод заходит. Артели в море пойдут, мужики из-за меня плахами лупятся. За песни да за басни мне с восемнадцати годов имя было с отчеством. На промысле никакой работы не давали. Кушанье с поварни, дрова с топора — знай пой да говори… Вечером народ соберется, я сказываю. Мужиков людно сидит, торопиться некуда, кабаков нет. Вечера не хватит — ночи прихватим… Дале один по одному засыпать начнут. Я спрошу: «Спите, крещеные?» — «Не спим, живем! Дале говори…»
Рассказы свои Пафнутий Осипович начинал прибауткой: «С ворона не спою, а с чижа споется». И закончит: «Некому петь, что не курам, некому говорить, что не нам».
Я охоч был слушать Пафнутия Осиповича и складное, красовитое его слово нескладно потом пересказывал.
Детство в Архангельске
Мама была родом из Соломбалы. У деда Ивана Михайловича шили паруса на корабельной верфи. В мастерскую захаживали моряки. Здесь увидал молоденькую Анну Ивановну бравый мурманский штурман, будущий мой отец. Поговорить, даже познакомиться было некак. Молоденькая Ивановна не любила ни в гости, ни на гулянья. В будни посиживала за работой, в праздники — с толстой поморской книгой у того же окна.
Насколько Аннушка была домоседлива и скромна, настолько замужняя ее сестра — модница и любительница ходить по гостям. Возвратясь однажды с вечера, рассказывает:
— Лансье сегодня танцевала с некоторым мурманским штурманом. Борода русая, круговая, волосы на прямой пробор. Щеголь…
— Машка, ты это к чему?
— К тому, что он каждое слово Анной Ивановной закроет…
— Я вот скажу отцу, посадит он тебя парусину дратвой штопать… В другой раз не придешь ко мне с такими разговорами.
Вскорости деда навестил знакомый капитан, зашел проститься к дочери хозяина и подает ей конверт.
— Дозвольте по секрету, Анна Ивановна: изображенное в конверте лицо, приятель мой, мурманский штурман, уходит на днях в опасное плавание и…
Молоденькая Ивановна вспыхнула и бросила конверт на пол.
— Никакими секретами, никакими конвертами не интересуюсь…
Капитан сконфузился и убежал. Разгневанная Ивановна швырнула было пакет ему вслед, потом вынула фотографию, поставила перед собою на стол и до вечера смотрела и шила, смотрела и думала.
Прошло лето, кончилась навигация. По случаю праздничного дня дедушка с дочкой сидели за чтением. В палисаднике под окном скрипнула калитка, кто-то вошел.
Молоденькая Ивановна взглянула, да и замерла. И вошедший — тот самый мурманский штурман — приподнял фуражку и очей с девицы не сводит…
Но и дед не слепой, приоткрыл раму:
— Что ходите тут?
— Малину беру…
А уж о Покрове… Снег идет. Старик к дочери:
— Аннушка, что плачешь?
— Ох, зачем я посмотрела!…
— Аннушка, люди-то говорят — ты надобна ему…
Вот дед с мурманским штурманом домами познакомились. Штурман стал с визитами ходить. Однажды застал Анну Ивановну одну. Поглядели «лица» миньятюры «Винограда российского», писанного некогда в Выгореции… Помолчали, гость вздохнул:
— Вы все с книгой, Анна Ивановна… Вероятно, замуж не собираетесь?…
— Ни за царя, ни за князя не пойду!
Гость упавшим голосом:
— Аннушка, а за меня пошла бы?
Она шепотом:
— За тебя нельзя отказаться…
В Архангельском городе было у отца домишко подле Немецкой слободы, близко реки.
Комнатки в доме были маленькие, низенькие, будто каютки: окошечки коротенькие, полы желтенькие, столы, двери расписаны травами. По наблюдникам синяя норвежская посуда. По стенам на полочках корабельные модели оснащены. С потолков птички растопорщились деревянные — отцово же мастерство.
Первые годы замужества мама от отца не отставала, с ним в море ходила, потом хозяйство стало дома задерживать и дети.
У нас в Архангельске до году ребят на карточку не снимали, даже срисовывать не давали, и пуще всего зеркало младенцу не показывали. Потому, верно, я себя до году и не помню. А годовалого меня увековечили. Такое чудышко толстоголовое в альбоме сидит, вроде гири на прилавке.
Я у матери на коленях любил засыпать. Она поет:
Баю, бай да люли!
Спи– ка, усни
Да большой вырастай,
На оленя гонец,
На тетеру стрелец.
Бай, бай да люли!
Ты на елке тетерку имай,
На озерке гагарку стреляй,
Еще на море уточку,
На песочке лебедушку
Мама на народе не пела песен, а дома или куда в лодке одна поедет — все поет.
Годов-то трех сыплю, бывало, по двору. Запнусь и ляпнусь в песок. Встану, осмотрюсь… Если кто видит, рев подыму на всю улицу: пусть знают, что человек страдает. А если нет никого, молча домой уберусь.
Отец у меня всю навигацию в море ходил. Радуемся, когда дома. Сестренка к отцу спрячется под пиджак, кричит:
— Вот, мамушка, у тебя и нету деушки, я ведь папина!
— Ну дак что, я тебе и платьев шить не буду.
— Я сама нашью, модных.
Сестрица шить любила. Ей дадут готовую рубашонку и нитку без узла. Она этой ниткой весь день шьет. Иногда ворот у рубашки наглухо зашьет.
Отец нам про море пел и говорил. Возьмет меня на руку, сестру на другую, ходит по горнице, поет:
Корабли у нас будут сосновы,
Нашосточки, лавочки еловы,
Веселышки яровые,
Гребцы — молодцы удалые.
Он поживет с нами немножко и в море сторопится. Если на пароходе уходит, поведет меня в машинное отделение.
Я раз спросил:
— Папа, машина-то, она самородна?
Машины любил смотреть, только гулкого, громоносного свиста отправляющегося в океан парохода я, маленький, боялся, ревел. До свистка выгрузят меня подальше на берег. Я оттуда колпачком машу.
Осенью, когда в море наступят дни гнева и мрака и об отце вестей долго нет, не знала мама покоя ни днем, ни ночью. Выбежит наутро, смотрит к северу, на ответ только чайки вопят к непогоде.
Вечером заповорачиваются на крыше флюгера, заплачет в трубе норд-вест. Мама охватит нас руками:
— Ох, деточки! Что на море-то делается… Папа у нас там!
Я утешаю:
— Мамушка, я как вырасту, дальше Соломбалы не пойду в море.
А Соломбала — часть того же Архангельска, только на островах.
Не одна наша мама печалилась. При конце навигации сидят где-нибудь, хоть на именинах, жены и матери моряков. Чуть начнут рамы подрагивать от морского ветра, сразу эти гостьи поблекнут, перестанут ложечки побрякивать, стынут чашки.
Хозяйка ободряет:
— Полноте! Сама сейчас бегала флюгера смотреть. Поветерь дует вашим-то. Скорополучно домой ждите. Зимой отец на берегу, у матери сердце на месте.
В листопад придут в город кемские поморы, покроют реку кораблями.
Утром, не поспеет кошка умыться, к нам гости наехали.
Однажды ждали в гости почтенного капитана, у которого было прозвище Мошкарь. У нас все прозвища придумывают, в глаза никогда не назовут, а по-за глаз дразнят. Мама с отцом шутя и помянули: «Вот ужо Мошкарь приедет…» Гость приехал и мне игрушку подарил. Я с подарком у него в коленях бегаю, говорю:
— Я тебя люблю. Тебя можно всяко назвать. Можно дядей, можно дядюшкой. Можно Мошкарем, можно Мошкариком…
Ребячьим делом я не раз впросак попадался из-за этих несчастных прозвищ.
Годов пяти от роду видел я чью-то свадьбу. Меня угостили конфетами, и все это мне понравилось.
На нашей улице был дом богача Варгасова, которого за глаза прозывали Варгас. Я думал, это его имя. Вот на другой день после моей гостьбы вижу, что он едет мимо на лошади. Я кричу из окна:
— Варгас, постой-ко, постой!
Он лошадь остановил, ждет, недоумевает… Я выбежал за ворота.
— Варгас, вы, пожалуйста, вашу Елену Варгасовну никому замуж не отдавайте. Я маму спрошусь, сам Еленку-то приду сватать…
А Елене Варгасовой год ли, полтора ли от роду еще…
Помоложе Варгасовны была у нас с сестрой симпатия, Ульяна Баженина. Ряд лет жили мы в деревне Уйме, где зимовали мурманские пароходы. Понравилось нам с сестрой нянчить соседскую дочку, шестимесячную Ульянку. Ульянкина зыбка висела на хорошей пружине. Мы дернем вниз да отпустим, дернем вниз да отпустим. Ульянка рявкнет да вверх летит, рявкнет да вверх летит. Из люльки девка не выпадет, только вся девка вверх тормашками, где нога, где окутка, где пеленка… Няньки-то были, вишь, немножко постарше Ульянки.
Весной по деревне проходили странники. А взрослых часто нет дома. Соберется нас, малышей, в большой Ульяниной избе много, посидим и испугаемся, что странники придут нас есть Вот и выставим к двери лопаты да ухваты — странников убивать. А чуть привидится что черное, летим кто под лавку, кто в подпечек, кто в пустой ушат Сестренка дольше всех суетится:
— Я маленькая, меня скоро съедят буки-то.
По Уйме-реке лес. Там орды боялись. Слыхали, что охотники орду находят, а какая она, не видали.
Ягоды поспеют — отправимся в лес по морошку. Людно малых идет. Вдали увидим пень сажени полторы, как мужик в тулупе.
— Ребята! Эвон де орда-та!
Испугаемся, домой полетим. А орда вся-та с фунт, вся-та с векшу, пестрая. Орда не покажется людям, только собаки находят.
Конец зимы уемляне все у корабельного, у пароходного ремонта. Мелкие с утра одни дома. Мы в Ульянкиной избе все и гостим, куча ребят трех — шести лет. Что у старших видели, то и мы: песни поем, свадьбы рядим — смотренье, рукобитье, пониманье. Девчонки у матерей с кринок наснимают, ходят, кланяются, угощают, — честь честью, как на свадьбе, а на дворе пост великий… И тут увидит из соседей старик ли, старуха — с розгой к нам треплют… Ведь пост! Беда, если песни да скоромное!… Мы опять кто куда — в подпечек, на полати, под крыльцо. Час-два там сидим.
Эти отдельные картинки раннего моего детства мне позже мама и тетка рассказывали. Ну, что попозже творилось, сам помню.
Ко всему, что глаз видит и ухо слышит, были у нас, у ребят, присказки да припевки. И к дождю, и к солнцу, и к ветру, и к снегу, и к зиме, и ко всякой ползучей букашке, и летучей птице.
Вот, к примеру, в зимние вечера, перед ночлегом, летают над городом стаи ворон. Ребята и приправят кричать:
— У задней-то вороны пуля горит! Пуля горит!
Мы уверены были, что именно эти наши слова производят среди ворон суматоху, так как ни одна не хочет лететь задней.
Отец рисовать был мастер и написал мне азбуку, целую книжку
В азбуке опять корабли, и пароходы, и рыбы, и птицы — все разрисовано красками и золотом. К азбуке указочка была костяная резная. Грамоте больше учила мама. Букву А называла «аз», букву Б — «буки», В — «веди», Г — «глаголь», Д — «добро». Чтоб я скорее запомнил, шутя говорила, что начертанья А и Б похожи на жучков, буква В — будто таракан, Г — крюк.
Для памяти я декламирую:
Аз, буки — букашки,
Веди — таракашки,
Глаголь — крючки,
Добро — ящички
И другие стишки про буквы:
Ер (ъ) еры (ы) — упал с горы.
Ер, ять (ять) — некому поднять.
Ер, Ю — сам встаю.
А и Б сидели на трубе.
Азбуку мне отец подарил к Новому году, поэтому в начале было написано стихами:
Поздравляю тебя, сын, с Новым годом!
Живи счастливо да учись.
Ученый водит,
Неученый следом ходит
Рано, весело вставай —
Заря счастье кует
Ходи вправо,
Гляди браво.
Кто помоложе,
С того ответ подороже.
Будь, сын, отца храбрее,
Матери добрее.
Живи с людьми дружно.
Дружно не грузно.
А врозь — хоть брось!
Отец, бывало, скажет:
— Выучишься — ума прибудет!
Я таким недовольным тоном:
— Куда с умом-то?
— А жизнь лучше будет.
Весной выученное за зиму бегали писать на гладком береговом песке.
В городе я поступил в школу, уже хорошо умея читать и писать.
Больше всего успевал я, учась, в языках, совсем не давалась математика; из-за нее не любил я школы, бился зиму, как муха в паутине. Жизнь была сама по себе, а наша школа сама по себе. Город наш стоял у моря, а ни о Севере, ни о родном крае, ни о море никогда мы в школе не слыхали. А для меня это всегда было самое интересное.
С ребятами сидим на пристанях, встречаем, провожаем приходящие, уходящие суда да поем:
У папы лодку попросил,
Папа пальцем погрозил:
— Вот те лодка с веслами,
Мал гулять с матросами!…
Или еще:
Пойду на берег морской,
Сяду под кусточек.
Пароход идет с треской,
Подает свисточек.
Насколько казенная наука от меня отпрядывала, настолько в море все, что я видел и слышал, льнуло ко мне, как смола к доске.
Миша Ласкин
Это было давно, когда я учился в школе. Тороплюсь домой обедать, а из чужого дома незнакомый мальчик кричит мне:
— Эй, ученик! Зайди на минутку!
Захожу и спрашиваю:
— Тебя как зовут?
— Миша Ласкин.
— Ты один живешь?
— Нет, я приехал к тетке. Она убежала на службу, велела мне обедать. Я не могу один обедать. Я привык на корабле с товарищами. Садись скорее, ешь со мной из одной чашки!
Я дома рассказал, что был в гостях у Миши Ласкина. Мне говорят:
— В добрый час! Ты зови его к себе. Слышно, что его отец ушел в дальнее плавание.
Так я подружился с Мишей.
Против нашего города река такая широкая, что другой берег едва видно. При ветре по реке катятся волны с белыми гребнями, будто серые кони бегут с белыми гривами.
Однажды с Мишей сидели на берегу. Спокойная река отражала красный облачный закат. С полдесятка ребят укладывали в лодку весла.
Старший из ребят кричал:
— Слушать мою команду! Через час всем быть здесь. Теперь отправляйтесь за хлебом.
И они все ушли. Миша говорит:
— Это они собрались за реку на ночь. Утром будут рыбу промышлять. А домой не скоро попадут. Глупый ихний капитан — не понимает, что если небо красно с вечера, то утром будет сильный ветер. Если говорить, они не послушают. Надо спрятать у них весла.
Мы взяли из лодки весла и запихали их под пристань, в дальний угол, так, что мышам не найти.
Миша верно угадал погоду. С утра дул морской ветер. Кричали чайки. Волны с шумом налетали на берег. Вчерашние ребята бродили по песку, искали весла.
Миша сказал старшему мальчику:
— Забрались бы вы с ночи на тот берег и ревели бы там до завтра.
Мальчик говорит:
— Мы весла потеряли.
Миша засмеялся:
— Весла я спрятал.
Как-то раз мы пошли удить рыбу. После дождя спускаться с глиняного берега было трудно. Миша сел разуться, я побежал к реке. А навстречу Вася Ершов. Тащит на плече мачту от лодки. Я не дружил с ним и кричу:
— Вася Ерш, куда ползешь?
Он зачерпнул свободной рукой глины и ляпнул в меня. А с горы бежит Миша. Вася думает: «Этот будет драться» — и соскочил с тропинки в грязь.
А Миша ухватил конец Васиной мачты и кричит:
— Зачем ты в грязь залез, дружище? Дай я помогу тебе.
Он до самого верху, до ровной дороги, нес Васину мачту.
Я ждал его и думал: «Миша только и глядит, как бы чем-нибудь кому-нибудь помочь».
Утром взял деревянную парусную лодочку своей работы и пошел к Ершовым. Сел на крыльцо. Вышел Вася, загляделся на лодочку.
Я говорю:
— Это тебе.
Он улыбнулся и покраснел. А мне так стало весело, будто в праздник.
Однажды мой отец строил корабль недалеко от города, и мы с Мишей ходили глядеть на его работу. В обеденный час отец угощал нас пирогами с рыбой. Он гладил Мишу по голове и говорил:
— Ешь, мой голубчик.
Потом нальет квасу в ковшик и первому подаст Мише:
— Пей, мой желанный.
Я всегда ходил на стройку вместе с Мишей. Но однажды я подумал: «Не возьму сегодня Мишу. Умею с кем поговорить не хуже его».
И не сказал товарищу, один убежал.
Корабль уже был спущен на воду. Без лодки не добраться. Я с берега кричу, чтобы послали лодку. Отец поглядывает на меня, а сам с помощниками крепит мачту. А меня будто и не узнает.
Целый час орал я понапрасну. Собрался уходить домой. И вдруг идет Миша. Спрашивает меня:
— Почему ты не зашел за мной?
Я еще ничего не успел соврать, а уж с корабля плывет лодочка. Отец увидел, что я стою с Мишей, и послал за нами.
На корабле отец сказал мне строго и печально:
— Ты убежал от Миши потихоньку. Ты обидел верного товарища. Проси у него прощенья и люби его без хитрости.
Миша захотел украсить место, где строят корабли. Мы начали выкапывать в лесу кусты шиповника и садить на корабельном берегу. На другое лето садик стал цвести.
Миша Ласкин любил читать и то, что нравилось, переписывал в тетрадь. На свободных страницах я рисовал картинки, и у нас получилась книга. Книжное художество увлекло и Васю: он писал, будто печатал. Нам дивно было, какие альбомы получаются у Миши из наших расписных листов.
Книги, и письмо, и рисование — дело зимнее. Летом наши думы устремлялись к рыбной ловле. Чуть зашепчутся весенние капели, у нас тут и разговор: как поплывем на острова, как будем рыбу промышлять и уток добывать.
Мечтали мы о легкой лодочке. И вот такая лодка объявилась в дальней деревушке, у Мишиных знакомцев. Миша сам туда ходил, еще по зимнему пути. Лодка стоила не дешево, но мастеру понравился Мишин разговор, Мишино желание и старание, и он не только сбавил цену, но и сделал льготу: половину денег сейчас, половину — к началу навигации.
Отцы наши считали эту затею дорогой забавой, однако, доверяясь Мише, дали денег на задаток.
Мы с Васей ликовали, величали Мишу кормщиком и шкипером, клялись, что до смерти будем ему послушны и подручны.
Перед самой распутой зашли мы трое в Рыбопромышленный музей. Любуемся моделями судов, а Вася говорит:
— Скоро и у нас будет красовитое суденышко!
Миша помолчал и говорит:
— Одно не красовито: снова править деньги на отцах.
Вздохнул и я:
— Ох, если бы нашим письмом да рисованием можно было заработать!…
Мы не заметили, что разговор слышит основатель музея Верпаховский. Он к нам подходит и говорит:
— Покажите мне ваше письмо и рисование.
Через час он уж разглядывал наши самодельные издания.
— Великолепно! Я как раз искал таких умельцев. В Морском собрании сейчас находится редкостная книга. Ее надобно спешно списать и срисовать. За добрый труд получите добрую цену.
И вот мы получили для переписывания книгу стогодовалую, премудрую, под названием: «Морское знание и умение».
В книге было триста страниц. Сроку нам дано две недели. Мы рассудили, что каждый из нас спишет в день десять страниц. Трое спишут тридцать страниц. Значит, переписку можно кончить в десять дней.
Сегодня, скажем, мы распределили часы работы для каждого, а назавтра с Мишей Ласкиным стряслась оказия.
Он для спешных дел побежал к отцу на судно. У отца заночевал, а ночью вешняя вода сломала лед, и началась великая распута. Сообщения с городом не стало.
Люди — думать, а мы с Васей делать.
— Давай, — говорим, — сделаем нашему шкиперу сюрприз, спишем книгу без него.
Так работали — недосуг носа утереть. Старая книга была замысловатая, рукописная, но вздумаем о Мише — и на уме станет светло и явится понятие. Эту морскую премудрость втроем бы в две недели не понять, а мы двое списали, срисовали в девять дней.
Верпаховский похвалил работу и сказал:
— Завтра в Морском собрании будут заседать степенные, я покажу вашу работу. И вы туда придите в полдень.
На другой день мы бежали в собрание, а навстречу Миша:
— Ребята, я книгу разорил?
— Миша, ты не разоритель, ты строитель. Пойдем с нами.
В Морском собрании сидят степенные, и перед ними наша новенькая книга. Миша понял, что работа сделана, и так-то весело взглянул на нас.
Степенный Воробьев, старичище с грозной бородищей, сказал:
— Молодцы, ребята! Возьмите и от нас хоть малые подарочки.
Старик берет со стола три костяные узорные коробочки, подает Мише, мне и Васе. В каждой коробочке поблескивает золотой червонец. Миша побледнел и положил коробочку на стол.
— Господин степенный, — сказал Миша, — эта книга — труд моих товарищей. Не дико ли мне будет взять награду за чужой труд?
Этими словами Миша нас как кнутом стегнул. Вася скривил рот, будто проглотил что-то горькое-прегорькое. А я взвопил со слезами:
— Миша! Давно ли мы стали тебе чужие? Миша, отнял ты у нас нашу радость!
Все молчат, глядят на Мишу. Он стоит прям, как изваяние. Но вот из-под опущенных ресниц у него блеснули две слезы и медленно покатились по щекам.
Старчище Воробьев взял Мишину коробочку, положил ему в руку, поцеловал всех нас троих и сказал:
— На дворе ненастье, дождик, а здесь у нас благоуханная весна.
С тех пор прошло много лет. Я давно уехал из родного города. Но недавно получил письмо от Михаила Ласкина. В письме засушенные лепестки шиповника.
Старый друг мне пишет:
«Наш шиповник широко разросся, и, когда цветет, весь берег пахнет розами».
Новоземельское знание
Отец мой всю жизнь плавал на судах по Северному океану[1]Плавание по Белому морю, Северному Ледовитому океану и их залиням требовало большого опыта и знаний. Наука кораблевождения в той или другой части Белого моря и океана обозначалась у поморов термином «знание». Различались Новоземельское знание — умение водить корабли вдоль западных берегов Новой Земли; Двинское и Соловецкое знание — вождение судов в сложном фарватере Двины, среди многочисленных островов и шхер. — Прим. автора.. Товарищи у него были тоже моряки, опытные и знающие. Особенно хорошо помню я Пафнутия Осиповича Анкудинова. Он был уже стар. Когда собирался в гости, концы своей длинной седой бороды прятал за жилет.
Бывало, я спрошу его:
— Дедушко Пафнутий, вам сколько лет?
Он неизменно отвечал:
— Сто лет в субботу.
Отца моего Пафнутий Осипович иногда называл «Витька» или «Викторко». Я и пеняю отцу:
— Батя, у тебя у самого борода с проседью. Какой же ты «Витька»?
Отец засмеется:
— Глупая ты рыба! Он мой учитель. Я в лодье Анкудинова курс морской науки начал проходить.
— Батя, как же он тебя учил?
— Мы, дитя, тогда без книг учились. Морское знание брали с практики. Я расскажу тебе о первом моем плавании с Пафнутием Анкудиновым. Ты поймешь, как мы учились…
Пафнутий Анкудинов превосходно знал берега Новой Земли, где были промыслы на белого медведя, на песца. В эти дальние берега Анкудинов ходил на лодье — большом парусном трехмачтовом судне. На таком судне Анкудинов был кормщиком. Кормщику была «послушна и подручна» вся команда лодьи. Самым молодым подручным был я. Спутницей нашей лодьи всегда бывала лодья другого архангельского кормщика, Ивана Узкого.
Однажды, возвращаясь с промысла, обе лодьи шли вдоль западного берега Новой Земли. Ветер с берега развел лихую непогоду. Наш кормщик успел укрыться в губу Пособную. Лодью Узкого стало отдирать от берега, и она потерялась из виду. Через четыре дня береговой восточный ветер сменился южным, «русским» ветром. Этот ветер держал нас в Пособной еще четыре дня. Русский ветер сменился ветром с севера. Тотчас Анкудинов подымает якоря, открывает паруса и отправляется искать Ивана Узкого.
Продолжая прерванный курс, Анкудинов опять шел вдоль берега. Поветерь была неровная. Временем накатывал туман. Мы убавляли паруса, шли тихо, по течению.
Я знал, что Анкудинов не пойдет домой, на Русь, без Ивана Узкого, и думал, что пойдем обыскивать все попутные заливы. Но кормщик наш подряд два дня и две ночи шел вперед, не обращая никакого внимания на берег, чуть видный сквозь туман. Я удивился еще больше, когда кормщик круто управил лодью в залив, ничем не отличный от пройденных. Не я один, и другие из команды говорили:
«Будто тебя, кормщик, кто за руку взял и повел в эту маловидную лахту».
Но действительно, здесь, в этой лахте, Иван Узкий ждал Анкудинова.
Я удивился в третий раз, когда увидел, что нас ждали именно сегодня и Узкий с раннего утра велел готовить обед на тридцать человек, по числу команды двух лодей.
За обедом ученики Ивана Узкого говорят:
«Ты, Виктор, дивился на своего кормщика, а мы на своего. Как только мы забежали в эту лахту, Иван Узкий стал говорить, как по книге читать: „Мы сидим без дела здесь, Анкудинов тоскует там“. Дня через три кормщик говорит: „Сегодня Анкудинов выскочил из заключения и устремился к нам. То летит на крыльях, то ползунком ползет“. А вчера, в канун вашего прихода, высказал: „Завтра, в час большой воды, можно ждать гостей…“
Прямо как колдун читал по тайной книге».
Старшие обедали в молчании, и наш разговор был слышен. Иван Узкий рассмеялся и сказал:
«Кормщик Анкудинов, объясни моим ребятам наше колдовство».
Анкудинов стал объяснять:
«Как известно, мы в разлуке были десять дней. Первые четыре дня восточный ветер меня держал под берегом, а вас гонил открытым морем. В следующие четыре дня дул русский ветер. Он опять держал меня на месте, но вам позволил справить к берегу.
Как я, оставшись далеко, в Пособной, мог предугадать, где кинет якорь лодья Узкого?…
Я знал, сколько верст в сутки могла проходить ваша лодья. За четыре дня, при ваших многотрудных обстоятельствах, вы сделали в направлении юго-запада четыреста верст. Этот счет мой сразу прекратился, когда ударил противный вам ветер с юго-запада. Немедленно, на всех парусах, вы устремились в берег.
Как мог я в точности определить место вашей стоянки?
Зная, что вы ушли на юго-запад и находитесь от Пособной на расстоянии четырехсот верст, я вообразил, какие бухты и заливы там имеются. А так как у меня и у Ивана Узкого один и тот же опыт и те же мысли, я знал, что он выберет эту лахту.
Точно так же кормщик Узкий знал, что я в четыре дня берегового ветра не двинусь из Пособной. Он знал, что и в следующие четыре дня дует ветер, не попутный для меня. В тот день, когда взялся северный ветер, Иван Узкий сказал вам: «Сегодня Анкудинов выскочил из заключения».
Расстояние в четыреста верст, при попутном ровном ветре, можно одолеть за тридцать два часа. Иван Узкий учел, что за туманами мы шли без парусов, учел неровность ветра и для этих трудностей прибавил к нашему походу еще часиков двенадцать. Его расчет был точен.
День встречи и место встречи мы определили знанием ветра, знанием моря, знанием берегов, а не гаданьем и не колдовством».
На рассвете следующего дня лодьи Анкудинова и Узкого оставили Новоземельский берег и добрым порядком пришли домой, в Архангельск.
Новая Земля
Веку мне — «сто лет в субботу». Песнями да баснями, гудками да волынками, присказками-сказками, радостью-весельем от старости отманиваюсь и людей от смерти-тоски отымаю.
Архангельская страна, Двинская земля богатеет от моря. Угрюмо Студеное море — седой океан. И поморы, идучи на дальние промысла, брали с собой на корабль песню и сказку.
Таковым-то побытом в молодые, давние годы подрядился я в двинскую артель, идти на Новую Землю, бить зверя и сказывать сказку в мрачные дни.
Из-за нас, мастеров-посказателей, артельные старосты плахами березовыми бились, дрались, боем отбивали, отымом отымали нас друг у друга.
Дула праматерь морская — пособная поветерь. Наша лодья от Двины до Новой Земли добежала в пятеры сутки. Зверя в тот год выстала несосветимая сила. Целое лето били тюленя, моржа, стреляли оленя. Такой задор одолел — гусли мои паутиной заткало, без них весело!
Осень пошла. Старики говорят: «Время обратно. На добычу задоримся, да кабы беды не дождаться!»
Здесь у ветров обычаи. Весной заведется ветер с юга — полудник. Очистит море от льда, угонит льдину на север, вдаль, в неведомый край, и держит льдину у полуночи, в задвенной стране. А осенью приходит день и час — полуденный ветер умолкнет. Волю возьмет ветер полуночник. Погонит льдину обратно к Новой Земле. Смены летнего ветра на зимний не жди!
Вот этак с вечера спать завалимся: «Ребята, завтра домой непременно». А утро настанет — ветер вчерашний. Опять тебя так и подмывает: «Коли зверя-то, стреляй! Все золото в клубок. Женок, невест с экой добычи в шелк и бархат оденем!»
До бортов корабль нагрузили. Староста назначил час отхода.
Тогда артель раскололась надвое. Одиннадцать зашли на лодью. Мы, одиннадцать, толкуем свое: «Плывите, доставьте добычу домой. А за нами сюда другой кораблик немедля пошлите. Мы будем ждать, новый груз припасать. Сей год зима не торопится».
Староста нас и клял и ругал. В последнюю минуту с нами остался:
— Я клятву давал вас, дураков, охранять! Слово дадено — как пуля стреляна. Твори, бог, волю свою! Вы с меня волю сняли.
Те убежали, мы опять промышляем, барыши считаем. Прошла неделя, другая. Время бы за нами и судну быть. Тайно-то, про себя-то, тревожиться стали. На Здвиженье птица улетела. Лебеди, гуси, гагары — все потерялось. Тихо пропало… Заболели сердца-то у нас. Защемило туже да туже.
Как-то спросил я:
— Староста, почто ты с лодьи книги снес — Четьи-Минеи, зимние месяцы?
Он бороду погладил:
— Вдруг да кому, баюнок, на Новой Земле зимовать доведется… Они нам за книги спасибо скажут.
— Староста, даль небесная над морем побелела. Это от снегов?
— Нет, дитя, от льдины… — И ласково так и печально поглядел мне в глаза. — А ты, ладь, ладь гусли-то. Ежели не на корабле, дак на песне твоей поедем.
Ночевали мы в избушке за горой. В пятую неделю ожиданья на заре пошел я к морю, глядеть корабля. Иду и. чувствую, что холодно, что вечер не вчерашний. Шапчонку сорвал, щеку подставил, а ветер-то норд-ост, полуночник… Ноги будто подрезал кто-то, присел даже. Однако усилился, вылез на глядень. И море увидел: белое такое… Лед, сколько глазом достать, — все лед. Льдины — что гробы белые. И лезут они на берег, и стонут, и гремят. Жмет их полуночник-от… Воротился, сказываю. Только ахнули: месяц ждавши, с тоски порвались, а каково будет девять месяцев ждать!
Помолились мы крепко, с рыданием, и зазимовали.
Староста говорит:
— Не тужи, ребята! Ни радость вечна, ни печаль бесконечна. Давайте избу на зиму налаживать.
Собрали по берегам остатки разбитых кораблей. Избу заштопали, зашили. Тут и снегом нас завалило до трубы. Сутки отгребались.
Стало тепло, а темно. И на дворе день потерялся: ночь накрыла землю и море. И в полдень и в полночь горят звездные силы, как паникадила.
Староста научил по созвездьям время читать, часы узнавать. В избе на матице календарь на год нарезали: кресты, кружки, рубежи — праздники, будни, посты. Заместо свечи жирник горел денно-нощно…
Тут повадились гости незваные — белые медведи: рыбный, мясной запас проверять. В сени зашли, в дверь колотили; когтищами, будто ножами, свои письмена по стенам навели. Мы десять медведей убили; семь-то матерых. Перестали гостить. Они, еретики, пуще всего свистом своим донимали. В когти свистят столь пронзительно, ажно мы за сердце хватались.
Тут и всток-ветерок из-за гор приударил. По ветру льдина с камнем летела. По две недели мы за порог не ступали, — как мыши в подполье, сидели. Счет дням по жирнику вели: приметили, сколько сала сгорит от полдня до полдня. Староста дышит мне: «Пуще всего, чтобы люди в скуку не упали. Всякими манами ихние мысли уводи».
С утра мужики шить сядут, приказывают мне:
— Пост теперь, книгу читать. Да чтобы страх был!
Слушают, вздыхают… А оконце вдруг осветится странным, невременным светом. Горят в небе сполохи, северное сияние. С запада до востока, будто река вся жемчужная, изумрудная свернется да развернется; то как бы руки златые по небу пойдут, перебирают серебряные струны…
Вечером ребята песню запросят. Староста строго:
— В песнях все смехи да хи-хи. Заводи, баюнок, лучше старину.
Сказываю Соловья Будимировича:
Из-за морд, моря Студеного
Выплывают корабли Будимировы.
Тридцать кораблей без единого,
Нос-корма по-звериному.
Бока взведены по-туриному.
А и вместо глаз было вставлено
По камню было по яхонту.
Вместо бровей было прибито
По черному соболю сибирскому…
В пост на былину-старину разрешено, а уж как завыговаривает старинка про любовь да как зачнут мужики сгогатывать, так староста только головой вертит да руками машет:
— Ну, разлилась масленица, затопила великий пост!
Про Лира-короля слушать любили. По книжке у меня было выучено.
— Ты, баюнок, мастер слезы выжимать. Поплачешь, оно и легче.
Был у меня в артели друг, подпеватель, Тимоша. Перед святками он замолчал.
Староста мне наказывает:
— Не давай ему задумываться!
Я заплакал:
— Тимоша моложе всех, что ему печалиться!
— То и горе. Стар человек, многоопытен — беды по сортам разбирает: это, мол, беда, это полбеды. А молодому уму несродно ни терпеть, ни ждать.
Я Тимошу отчаянно любил, жалел:
— Тимошенька, чем ты будешь зиму провожать, весну встречать? Давай сделаем гудок.
На деревянную чашу натянули жилы оленьи, гриф из вереска — вот и гудок с погудальцем.
Два коровьих рога, в чем иглы держали, то сопелки-свирели.
— Староста, нам до праздника надо сыгровку делать.
— Играть нельзя, а сыгровку можно.
«Во святых-то вечерах виноградчики стучат: виноградие красно-зеленое!»
В праздник всякий вечер ударим в гусли: запоет гудок девическим голосом, завизжат рожки. Учинится топот-хлопот, скаканье-плясанье. Зажиг от старосты пойдет: зачнет пудовыми сапожищами в половицы бухать, перстами щелкать, закружится…
У нас песни поют,
У нас гудки гудут,
Золотая труба трубит,
Переладец разговаривает…
За старостой стар и млад, — ажно ветер по избе. И Тимоша с ними. Только я заметил, глаза у него блестели и губы рдели по-особому. Утром он не встал. И зачал наш Тимошенька таять, как снег.
Я обниму его, реву над ним.
— Тимошенька, не спи! Во снах тебя смерть схватит…
Он рассмехнется:
— Ты не отдавай меня смерти-то.
Нет, не укараулил я Тимошеньку, не сохранил, не уберег от смерти…
За Тимошей еще трое товарищей повалились в той же тоске. Сам староста перед ними в гудок играл и кружился. Все артельные попеременно плясали, смешили недужных. На Афанасьев день, января восемнадцатого, они рассмеялись и встали. Только Тимошеньку моего не мог я рассмешить… Положили его на глядень, откуда море видать. Графитной плитой накрыли и начертали:
Спит Тимоша-горожанин,
Ждет трубы архангеловы.
На Афанасьев-от день первый свет показался над Новой Землей. В полдень заря зарумянилась. Мы и ночник погасили на часок. На Аксинью-полузимницу солнышко-батюшко как бы с красным фонариком прошло по горам.
В Сретенев день солнышка мы навидались. В полном лике оно над морем встало. Мы-то целовались, обнимались в охапку, по снегу катались, в землю кланялись солнцу-то красному:
— Здравствуй, отец наш родной, солнце пресветлое! При тебе теперь живы будем!
Да в землю ему, да в землю ему, солнцу-то красному.
Друг друга разглядываем:
— Ты баюнок, обородател!
— А ты поседател!
— А это кто, негрянин черной?
— Ничего, промоюсь — краше вас буду!
И Благовещенье и Пасху славить к морю выходили. В медные котлы звонили. Проталинки ребячьими глазками в небо заглядели. Мох закудрявился. На Радоницу в тысячу звонков-колокольчиков Новая Земля зазвенела — с гор ручьи побежали. На Егорьев день гуся два, чайки две, гагары две прилетели, посидели, поглядели, поговорили — опять улетели. Передовые это были. На вешнего Николу слышим сквозь сон: стон стоит на дворе. Выбежали — птица прилетела! И лебеди, и гуси, и гагары, и… все прилетели. Земли не видать, голосу человеческого не слышно. Лебедь кикает, гагара вопит, чайка кричит. Любо! Весело!
На Троицу в ночь будто орган заиграл, во вселенной будто трубы запели. Это ветры сменились. Ветры с полдня, южные, летние ветры ударили. Дрогнула льдина морская, заворотилась и ушла. Море по-веселому зашумело, волна разгулялась во все стороны света белого. По горам шиповник зацвел. Березка, вся-то она ростом в аршин, притулилась за камешком, листочки по грошику, а тоже, как невеста, сережки надела. Тут и травочка маленька, и пчелка бунчит…
Мы, где эко место увидим, падем на колени, руками охапим:
— Мать-земля благоцветущая! Мать сыра-земля!
День тогда беззакатный стоит над Новой Землей, и ночи нет ни единого часу. А мы в солнечные-те ночи и сон и еду потеряли. Своих ждем, корабля ждем. Так и живем на берегу, на высоком-то гляденье. Так и едим глазами край-то морюшка, откуда кораблю быть…
Раз этак задремали о полдне. Вдруг староста кричит:
— Парус! Парус! Парус!…
Подняло нас. Правда, парус! Да не один. Вон два кораблика, вон три соколика… Наши это! С Двины за нами идут…
Тут опять слезы. Только — ах! — сладкие это были слезы. Слаще их ничего не живет на земле.
Морской устав живущий
Корабельные вожи
В устье Северной Двины много островов и отмелей. Сила вешних вод перемывает стреж-фарватер. Чтобы провести большое судно с моря к городу Архангельску или от города до моря, нужны опытные лоцманы. В старину эти водители судов назывались корабельными вожами.
Когда Архангельский посад назвался городом, в горожане были вписаны корабельные вожи Никита Звягин и Гуляй Щеколдин. Звягин вел свой род от новгородцев, Щеколдин — от Москвы. Курс «Двинского знания» оба проходили вместе с юных лет. Всю жизнь делились опытом, дружбой украшали домашнее житье-бытье. Гостились домами: приглашали друг друга к пирогам, к блинам, к пиву.
Но вот пришло время, дошло дело — два старинных приятеля поссорились как раз на пиру.
Вожевая братчина сварила пиво к городскому празднику шестого сентября. Кроме братчиков в пир явились гости отовсюду. Обычно в таких пирах каждая «река» или «город» знали свое место: высокий стол занимала Новгородская Двина, середовый стол — Москва и Устюг, в низких столах сидели черные, или чернопахотные, реки.
После званого питья у праздника в монастыре Звягин поспешил веселыми ногами к вожевому пиву. Здесь усмотрел бесчинство. Братчина и гости сидели без мест. Молодшие реки залезли в большой стол. Великая Двина безмятежно пировала в низком месте.
— Прибавляйся к нам, Никита! — кричал Щеколдин из высокого стола. — Пинега, подвинь анбар, новгородец сядет.
— Моя степень повыше, — отрезал Звягин.
— Дак полезай на крышу, садись на князево бревно! — озорно кричал Щеколдин.
Чернопахотные реки бесчинно загремели-засмеялись. Звягин осерчал:
— Ты сам-то по какому праву в высокий стол залез, московская щеколда?
— Я от царственного города щеколда, а вы мужичий род, крамольники новгородские!
— Не величайся, таракан московский! — орал Звягин. — Твой дедушка был карбасник, носник. От Устюга от Колмогор всякую наброду перевозил. По копейке с плеши брал!
— А твой дедко барабанщик был! Люди зверя промышляют — Звягин в бочку барабанит: «Пособите, кто чем может! По дворам ходил, снастей просил — не подали».
Поругались корабельные вожи, разобиделись и рассоветились. Три года сердились. Который которого издали увидит, в сторону свернет.
Звягин был мужик пожиточный. Щеколдин поскуднее: ребят полна изба. Звягин первый прираздумался и разгоревался: «Из-за чего наша вражда? За что я сердце на Щеколдина держу? Завидую ему? Нет, кораблей приходит много, живу в достатке».
Задумал Звягин старого приятеля на прежнюю любовь склонить. Он так начал поступать: за ним прибегут из вожевой артели или лично придет мореходец иноземец или русский:
— Сведи судно к морю.
У Звягина теперь ответ один:
— Я что-то занемог. Щеколдина зовите. Щеколдин первый между нами, корабельными вожами.
Еще и так скажет:
— Нынче Двина лукавит, в устьях глубина обманная.
Корабли у вас садкие. Доверьтесь опыту Щеколдина.
Корабельщики идут к Щеколдину. Он заработку и достатку рад. Одного понять не может: «За что меня судьба взыскала? Кто-нибудь в артели доброхотствует. Надобно сходить порасспросить».
В урочный день Щеколдин приходит в артель платить вожевой оброк. Казначей и говорит:
— Прибылей-то у тебя, Щеколдин, вдвое против многих.
Недаром Звягин знание твое перед всеми превозносит. Мы думали, у вас остуда, но, видно, старая любовь не ржавеет.
У Щеколдина точно пелена с глаз спала: «Конечно он, старый друг, ко мне людей посылал!» Щеколдин прибежал к Никите Звягину, пал ему в ноги:
— Прости, Никита, без ума на тебя гневался!
Звягин обнял друга и торжественно сказал:
— Велика Москва державная!
Грумаланский песенник
В старые века живал-зимовал на Груманте посказатель, песенник Кузьма. Он сказывал и пел, и голос у него, как река, бежал, как поток гремел. Слушая Кузьму, зимовщики веселились сердцем. И все дивились: откуда у старого неутомленная сила к пенью и сказанью?
Вместе со своей дружиной Кузьма вернулся на Двину, домой. Здесь дружина позвала его в застолье, петь и сказывать у праздника. Трижды посылали за Кузьмой. Дважды отказался, в третий зов пришел. Три раза чествовали чашей — два раза отводил ее рукой, в третий раз пригубил и выговорил:
— Не стою я таких почестей.
Дружина говорит:
— Цену тебе знаем по Груманту.
Кузьма вздохнул:
— Здесь мне цена будет дешевле.
Хлебы со столов убрали, тогда Кузьма запел, заговорил. Его отслушали и говорят:
— Память у тебя по-прежнему, только сила не по-прежнему. На зимовье ты, как гром, гремел.
Кузьма отвечал:
— На зимовье у меня были два великие помощника. Сам батюшка Грумант вам моими устами сказку говорил, а седой океан песню пел.
Рассказы о кормщике Маркеле Ушакове
Русский Север долго хранил устную и письменную память о морской старине, замечательных людях Поморья. Сказания о морской старине бытовали в морском сословии Архангельска и передавались из поколения в поколение. Включенные в данный раздел рассказы являются художественным осмыслением слышанного и записанного мною в молодых годах, запечатленного в памяти от тех ушедших времен.
Примечательными представителями «поморских отцов» были Маркел Ушаков, Иван Порядник (Рядник), Федор Вешняков.
Маркел Иванович Ушаков (годы его жизни: 1621—1701) видится нам типичным представителем старого Поморья. Он имел чин кормщика и, кроме того, был судостроителем. С дружиной своей он жил «однодумно, односоветно», поэтому и товарищи его были ему «послушны и подручны».
Сведения об Ушакове и Ряднике взяты мною из сборника поморского письма XVIII века «Малый Виноградец». В начале двадцатых годов сборник этот принадлежал В. Ф. Кулакову, маляру и собирателю старины, проживавшему в ту пору в Архангельске. В рассказах я старался сохранить эпизодическую форму повествования и стиль речи поморского автора, избегая излишней витиеватости и славянизмов, сохраняя отблески живой разговорной речи того времени.
Мастер Молчан
На Соловецкой верфи юный Маркел Ушаков был под началом у мастера Молчана.
Первое время Маркел не знал, как присвоиться к этому учителю, как его понять. Старик все делает сам. По всякую снасть идет сам. Не скажет: принеси, подай, убери.
Маркел старался уловить взгляд мастера — по взгляду человека узнают Но у старика брови, как медведи, бородища из-под глаз растет — поди улови взгляд. Маркел был живой парень, пробовал шутить. Молчан только в бороду фукнет, усы распушит.
— Морж, сущий морж! — обижался Маркел.
Однажды Маркел сунулся убрать щепу около мастера.
Тот пробурчал:
— Что у меня, своих рук нету?
Маркела горе взяло:
— Что ты, осударь, мне все грубишь? Тебе должно учить меня, крошку, а не пырскать в бороду, как козел! Тебе неугодно, что я тут, и ты скажи, когда неугодно…
— Угодно, мое дитя. Угодно, милый мой помощник.
Тяжелая рука мастера нежно гладила непокорные кудри Маркела; старик говорил:
— Не от слов, а от дел и примера моего учись нашему художеству. Наш брат думает топором. Утри слезки, «крошка». Ты ведь художник. Твоего дела тесинку возьмешь, она, как перо лебединое. Погладишь — рука, как по бархату, катится.
Наконец-то уловил Маркел взгляд мастера: из-под нависших бровей старика сияли утренние зори
Рядниковы рукавицы
Между матерой землей и Соловецкими островами зимою ходят ледяные тороса. Ходят непрерывно, неустанно. Соловецкий трудник Ушаков водил суда меж лед бойко и гораздо.
Братия спросили:
— Чем тебя, Маркел, почествовать за экой труд?
Маркел ответил:
— Повелите выдать мне Рядниковы рукавицы.
Все удивились:
— Что за рукавицы?
Кожаный старец объяснил:
— Хаживал к игумену Филиппу некоторый Рядник-мореходец. Сказывал игумену морское знанье. И однажды забыл рукавицы. Филипп велел прибрать их: «Еще-де славный мореходец придет и спросит…» Сто годов лежат в казне. Не идет, не спрашивает Рядник рукавиц.
— Сегодня пришел и стребовал! — раздался голос старого Молчана. — Хвалю тебя, Маркел, — продолжал Молчан. — Не золото, не серебро — Рядниковы рукавицы ты спросил, в которых Рядник за лодейное кормило брался на веках, в которых службу морю правил. Ты, Маркел, отцов наших морских почтил. Молод ты, а ум у тебя столетен.
Маркел и стал хранить эти рукавицы возле книг. Надевал в особо важных случаях.
Из– за Рядниковых рукавиц попали в плен свеи-находальники.
Но расскажем дело по порядку.
Однажды в соловецкой трапезной иноки «московской породы» сели выше «новгородцев». «Новгородская порода» возмутилась. Маркел втиснулся меж теми и теми и так двинул плечом в сторону московских, что сидящие с другого края лавки «московцы» посыпались на пол.
Баталия случилась в праздник, при большом стечении богомольцев. Маркела в наказание за бесчинство и послали в Кандалакшу, к сельдяному караулу.
В безлюдное время, в тумане, с моря послышался стук весел и нерусская речь. Маркел говорит подручному:
— Каяне[2]Каяне — от названия городка Каяна, на территории нынешней Северной Финляндии, с которого шведы (свеи) не раз делали набеги (находы) на Поморье. — Прим. автора. идут. За туманом сюда приворотят. Бежи в деревню! Нет ли мужиков…
… К Маркелу в избу входят трое каянских грабежников. Двое захватили его за руки, третий стал снашивать в лодку хлебы, рыбу и одежду.
Маркел стоит: его держат эти двое. Наконец третий, оглядев стены, снял с гвоздя заветные Рядниковы рукавицы.
Маркел говорит:
— Это нельзя! Повесь на место!
Тот и ухом не ведет.
Тогда Маркел тряхнул руками, и оба каянца полетели в разные углы. Вооружась скамьей, Маркел тремя взмахами «учинил без памяти» наскакивающих на него с ножами грабежников. Сам выскочил в сени, прижал двери колом.
Те ломятся в двери, а он стоит в сенях и слушает: не трубит ли рог в деревне?
И деревенские, как пали в карбас, сразу загремели в рог.
А в лодке еще трое каянцев. Вопли запертых слышат. Один выскочил из лодки и бежит к свеям на помощь. € ним Маркел затеял драку, чтобы не подпустить к избе. Но рог слышнее да слышнее. Показался русский карбас с народом. В свалке один грабежник утонул. Пятеро попали в плен.
За такую выслугу Маркелу с честью воротили чин судостроителя.
Кошелек
На Молчановой верфи пришвартовался к Маркелу молодой Анфим, к делу талантливый, но нравом неустойчивый. Сегодня он скажет:
— Наш остров — рай земной. И люди — ангелы. А в миру молва, мятеж, вражда…
Завтра поет другое:
— Здесь ад кромешный, и люди — беси. А в миру веселье: свадьбы, колесницы, фараоны, всадники… Молчан наказывал Маркелу:
— Ты поберегай этого Анфимку. Он тебе доверяется всем сердцем. И ты за него ответишь.
Маркел удивился:
— Значит, и ты, осударь, отвечаешь за меня?
— Да Как отец за сына.
Как-то за безветрием стояло у Соловков заморское судно Общительный Анфим забрался туда и всю ночь играл с корабельщиками в зернь и в кости. Днем на работе пел да веселился, вечером наедине сказал Маркелу:
— Маркел, я деньги выиграл. Хватит убежать в Архангельск. Пойдем со мной, Маркел. В Архангельске делов найдется.
Маркел говорит:
— Значит, бросить наше дело и науку, оскорбить учителя Молчана и бежать, как воры?
Анфим твердит свое:
— Не запугивайся, друг! В кои веки выпало такое счастье. Попросимся на то же судно, где игра была, и уплывем.
При ночных часах Анфим с Маркелом пришли к судну. С берега на борт перекинута долгая доска. На палубе храпел вахтенный. Маркел говорит:
— Давай, Анфимко, деньги. Я зайду на судно, разбужу кептена, заплачу за проезд и позову тебя.
Сунув за пазуху кошелек, почему-то неуверенно перекладывая ноги, Маркел шел по доске… Тут оступился, тут бухнул в воду… Это бы не беда — Маркел через минуту выплыл, вылез на берег. Беда, что кошелек-то с деньгами утонул.
— Обездолил я тебя, Анфимушко! — тужил Маркел, выжимая рубаху.
— Я одного не понимаю, — горячился Анфим, — ты свободно ходишь по канату с берега на судно, а с трапника упал…
Простодушному Анфиму было невдомек, что Маркел в воду пал нарочно и кошелек утопил намеренно. Иначе нельзя было удержать Анфима от безумного намерения.
Ворон
Ходил Маркел по Лопской тундре, брал ягоду морошку. На руке корзина, у пояса серебряный рожок призывный. Ягоды берет и стих поет о тишине и о прекрасной Матери-Пустыне. А заместо тишины к нему бежит мальчик лопин:
— Господине, не видал оленя голубого?
— Не видал, — говорит Маркел.
— О, беда! — заплакал мальчик. — Я пас оленье стадышко и уснул. Прохватился — оленя голубого нет.
— Веди меня к тому месту, где ты оленей пас, — говорит Маркел.
Вот они идут по белой тундре, край морского берега. А под горою свеи у костра сидят, в котле еду варят.
— Они варят оленье мясо, — говорит Маркел.
— Нет, господине, — спорит лопин. — Я видел, у них в котле кипит рыбешка.
— Рыбешка для виду, для обману. Они кусок оленины варят, а туша спрятана где-нибудь поблизости.
И Маркел, отворотясь от моря, зорко смотрит в тундру. А тундра распростерлась, сколько глаз хватает. И вот над белой мшистой сопкой вскружился черный ворон. Покружил и опустился в мох с призывным карканьем.
— Там закопана твоя оленина, — сказал Маркел.
К белому бугру пришли, ворона сгонили, мох, как одеяло, сняли: тут оленина.
А свеи из-под берега следят за лопином и Маркелом. Как увидели, что воровство сыскалось, и они котел снимают, лодку в воду спихивают. А Маркел в ту пору приложил к устам серебряный рожок и заиграл. Свеи рог услышали, в лодку пали, гонят прочь от берега; только весла трещат — так гребут. Их корабль стоял за ближним островом. Так спешно удалялись, что котел-медник на русском берегу покинули.
Этот котел Маркел присудил оленьему пастуху. Пастух не в убытке: котел-медник дороже оленя.
Художество
Маркел Ушаков насколько был именитый мореходец, настолько опытный судостроитель.
В молодые свои годы он обходил морские берега, занимаясь выстройкой судов. Знал столярное и кузнечное дело; превосходно умел чертить и переписывать книгу. Все свои знания Маркел объединял словом «художество».
Спутник и ученик Маркела, Анфим Иняхин, спросил Маркела:
— Когда же мы сядем на месте, дома заниматься художеством?
Маркел отвечал:
— Кто же теперь отнимет у нас наше художество? Художество места не ищет.
Маркел говаривал:
— Пчела куда ни полетит, делает мед. Так и художный мастер: куда ни придет, где ни живет, зиждет доброту (создает красоту).
У работы Маркел любил петь песню. Скажет, бывало.
— Сапожник ли, портной ли, столяр ли — поют за работой. Нам пример путник с ношей. Песней он облегчает труд путешествия.
Ничтожный срок
Корабельные мастера и работные люди от пяти берегов Двинской губы собрались в Соломбальской слободе выслушать отчет своих выборных людей и воочию увидеть Лисестровскую верфь — любимое детище всех пяти берегов.
Собрались не в раз и не в час. Кого держала непогода, кто намелился, кого водило в лесах. Наконец скопились сполна. К началу собрания подоспел Панкрат Падиногин, артельный стряпчий, отъезжавший в Поморье.
Выборные люди стали докладываться, всяк по своей части. Каждый из них тут же получал оценку своей деятельности. Григорий Гневашев докладывал:
— Я удоволил Лисестровские анбары дорогим припасом, красным лесом. Хватит на два года при большом расходе.
Собрание спрашивает:
— За какое время ты управил это дело?
Панкрат отвечает:
— Начал с осени, по первому снегу. Завершил с началом навигации.
Собрание говорит:
— Значит, девять месяцев. Срок немалый. Благодарим, но ничего выдающегося тут нет.
Петр Сухой Лоб докладывал:
— Я обеспечил Лисестровскую верфь столярским и плотницким струментом. Итого двести наборов. Вот что я доспел!
Собрание спрашивает:
— Сколько времени ты хлопотал?
— Сколько Гневашев, столько и я. Всю зиму этим беспокоился. Итого девять месяцев.
Собрание говорит:
— Что же… Ты исполнил свою должность. Но ничего восхитительного тут нет… «Девять ден, девять верст, как сокол летел».
Докладчик Панкрат Падиногин спросил собрание:
— Известен ли вам художественный мастер и мореходец Маркел Ушаков?
Собрание отвечает:
— Ты бы еще спросил, известны ли нам отцы наши и матери! Мореходные и судостроительные чертежи Маркела Ушакова друг у друга отымаем.
— Я уговорил Маркела Ушакова принять во свое смотрительное руководство нашу Лисестровскую верфь. Придет сюда на постоянное житье. Но чтобы расположить Маркела, мне понадобился долгий срок…
— Сколь долгий? — спрашивает собрание.
— Девять лет…
Собрание триста человек, как один, всплеснули руками, встали, закричали:
— Мало, совсем мало времени потратил ты, Панкрат Падиногин! Для столь полезного успеха девять лет — ничтожный срок.
Видение
Как-то Маркел с Анфимом жили в Архангельске. У корабельной стройки взяли токарный подряд. Маркел и жил на корабле, Анфим — в городе. Редко видя учителя, Анфим соблазнился легкой наживой — торговлей. Запродал даже токарную снасть. Маркел этого ничего не знает.
Но вот рассказывают, пробует он маховое колесо у станка и видит будто, что заместо спиц в колесе вертится Анфимка Иняхин.
Опамятовавшись от видения, Маркел прибежал к Анфиму:
— Друг, с тобой все ли ладно?
— А что же, Маркел Иванович? — удивился Анфим.
— Ты сегодня в видении передо мной колесом ходил.
— Ужели? — простонал Анфим и заплакал: — Ты меня, отец, правильно обличил. Торговлишка меня соблазнила. Я задумал художество наше бросить.
Ушаков и Фома Кыркалов
Ушаково мастерство Маркелово было рассудительно и с любопытством, а не только по старым извычаям.
Ушаковские суда заморские обдуманы по чертежу. Лодья уж на воду спущена, мастер еще примечает, смекает и на догадку берет. Заботился, чтобы шито было прочно; беспокоился, насколько будет красовито на ходу, под парусами Ушаков был ученик не худых учителей. И не хотел уважить иноземным кораблям. Однако их рассматривал испытно, чая пользы своему любезному художеству.
Бывало, поручит Ушаков помощнику опробовать новопостроенную лодью, а сам выбежит на пристань, чтобы «из-под ручки посмотреть» на свое новорожденное.
Этак однажды привелся на пристани Фома Кыркалов[3]«Виноградец» примечает, что в начале царствования Алексея Михайловича Кыркалов и Ушаков ходили на Новую Землю и на Вайгач для отыскания серебряной руды, слюды и олова., поздоровался с Маркелом и говорит насмешливо:
— Все ходишь, Маркел Иванович? Все любуешься на суда свои? Наглядеться, налюбоваться не можешь…
— Нет, нет, Фома Онаньевич, — горестно и гневно отвечал Маркел. — Досадовать хожу, горячиться, сам на себя, хожу. Гляжу, ошибки свои считаю. Косность ума своего обличаю.
Кыркалов снял шапку и поклонился Ушакову в пояс:
— Когда так, Маркел Иванович, — ты настоящий, истинный художник!
Достояние вдов
Ушаков отлично умел делать модели кораблей. А приобучился этому в Соловецком монастыре. В монастыре не ужился: нрав имел строптивый и язык — как бритва.
Изба Маркела в Архангельске вся была заставлена маленькими кораблями. В долгие зимние вечера мастер сидел обычно на низеньком сосновом чурбане и при свете сальницы[4]Сальница — сковорода с налитым в нее салом. В носок вставлялась льняная светильня. оснащал игрушечный корабль. Около Маркела всегда множество детей. Он любил рассказывать о своих удивительных путеплаваниях. В праздники Маркел ходил ругаться со всякими начальниками.
Приехавший с Петром Первым[5]Петр Первый в молодости дважды бывал в Архангельске. знатный барин заказал Маркелу модель голландского корабля. Жена этого барина, увидев готовую модель, сказала:
— Мастер, не бери у мужа денег за эту игрушку. Я возьму их в пользу вдов и сирот.
Маркел отвечает:
— Не твое, сударыня, дело о бедняках печалиться.
— Ах ты пьяница! — вспыхнула барыня. — Я слабая здоровьем, и то беспокою себя ради голодранцев…
— Нет, ты не слабая, — перебил Маркел. — Ты богатырка. Ты, сударыня, носишь на плечах достояние бесчисленных вдов и сирот. И не чувствуешь этого.
Плечи знатной барыни украшены были драгоценностями.
Долг
Молодой промысловец занял у Маркела денег наперехватку. Отдавать явился, а Маркел в море ушел. Так и побежало время: то Маркела на берегу нет, то у должника денег нет.
Оба встретились на Новой Земле. Хотя в разных избах, да в одном становище зимовали две артели. Маркел говорит:
— Что уж, парень, ни разу меня не окликнул?
Парень снял шапку:
— Не смею и глядеть на тебя, осударь. Должен тебе.
Маркел говорит:
— Провались концом! Какие меж нас долги?
— Хотя бы работой какой отработать дозволили, Маркел Иванович…
Маркел говорит:
— Ладно. Всякий вечер приходи в нашу избу. Дела найдутся.
На зимовьях народ поужинают да повалятся. Должник пришел к Маркелу. Маркел не спит, живет у книги при огне. Книга — азбука, писана и рисована художной ушаковской рукой. Маркел стал показывать гостю буквы. Часа два учились. Во столько-то недель детина понял все «азы» и «буки». Когда полная тьма накрыла Новую Землю, ученик вытвердил титла.
Время катится, дни торопятся, — сколько парень радуется науке, столько тревожится: «Когда же я начну долг отрабатывать?»
Когда свет завременился над Новой Землей, паря читал по складам. При конце зимы читал по толкам. Наконец стал с пением говорить по книгам четкого Маркелова письма.
Маркел говорит:
— Ну, друг, дошла промышленная пора. Но ты всякий день урви хоть малый час для книжного чтения.
Ученик возопил:
— Благодарствую, Маркел Иванович! Ты мне бесценное добро доспел — книгам выучил. Но когда я долг-то буду отрабатывать?
Маркел говорит:
— Сколько ты должен?
— Без двух гривен пять рублей.
Маркел говорит:
— Пускай так. Теперь считай: буквы ты учил — трудился. Значит, из твоего долга сорок алтын долой, титла изучил — другие сорок алтын из долга вон. По толкам ты читал усердно — остальных сорок алтын отработал. Ты за эту зиму, дитя, сполна твой долг отработал. И больше ты мне ни о каких долгах не смей поминать.
Понятие об учтивости
Деревня Лодьма[6]Деревня в устье Северной Двины. славна была изготовлением изящных корабельных моделей. Здесь подолгу живал Маркел Ушаков.
… Царский чиновник едет мимо ряда лодемских крестьян, сидящих на бревнах.
— Эй, борода! — кричит чиновник.
Все с бородами, — усмехнулись крестьяне.
— Кто у вас тут мастер? — сердится чиновник.
Все мастера, кто у чего, — отвечают крестьяне.
Я желаю купить здешнюю игрушку — кораблик!
— За худое понятие об учтивости ничего не купишь, — слышится спокойный ответ.
Это сказал Маркел Ушаков, который по виду ничем не отличался от любого мужика-помора.
Маркел Ушаков и Василий Кекин
Любомудрые годы неутомленной старости своей Маркел провожал в Койде[7]Деревня, и сейчас существующая, в Архангельской области, в Мезенском районе..
В это время молодой судостроитель в городе[8]Подразумевается в Архангельске., Василий Кекин, добивался на учительный разряд.
Городовые мастера сказали:
— Домогаешься высокой степени. Но похвалит ли Маркел Иванович на Койде? Спросишь его. Мы ему писали о тебе.
Кекин в Койду прибыл. Старый мастер его встретил с усмешкой.
— Пишут о тебе: строишь карбасы, а корма-то розна[9]Рваная.. Еще не знаю, годишься ли в ученики. Возьми полено, сделай в образец лодейку.
Кекин сделал образец художно, с вымыслом. Старый мастер сморщился.
— Изукрашенье ни к чему. Отдай эту игрушку ребятишкам. Сделай проще.
Кекин сделал просто. Старый мастер говорит:
— Поживи да поучись на Койде года три. Хлеба мои, одежа твоя… Тебе любо ли, Василий Кекин?
— Любо, Маркел Иванович! Хотя бы тридцать лет метлой стоять, только бы у ваших учительных дверей!
Это все Маркел испытывал Василия. Вскоре Маркел послал в город грамотку, к городовым мастерам на верфи. А следом пустил и Кекина.
В городе на верфях Кекина встречают честно; разрядные мастера сказали:
— Пишет о тебе Маркел Иванович: умеешь-де ты повиноваться и учиться. Знатно, что сумеешь и начальствовать.
Треух
Пристрастие Петра Первого к кораблям и к морю заставило Маркела Ушакова полюбить преобразователя России. По рекомендации Афанасия Холмогорского Маркел был вызван к корабельному строению на Неве и Ладоге.
Тут душа старого помора начала рваться на куски. Сочувствуя Петру, Маркел негодовал на преклонение перед Западом без разбору.
— Бывало, в северных морях иноземец русским в рот глядел, ждал слова. А теперь извольте стулом становиться под голландца или шведа!
На заседании «приказных господ и членов» произошел скандал. Ушаков вылез вперед, вывернул свой лисий треух наизнанку, поставил тульей себе на голову и сидит так, помавая лисьими хвостами. Все вытаращили глаза. Председатель прервал речь. В публике раздался шум и хохот.
Тогда Маркел Иванович стукнул кулаком о стол «и рек, аки гром грянул»:
— Иноземец всех нас кверху дном поставил. Всех на обезьянин лик поворотил. И это вам не дико. А я только то и сделал, что шапку свою навыворот надел, и все смутились, все оскорблены.
«Притворя себе болезнь», Маркел вернулся в Архангельск.
Вера в ложке
Ушаков и товарищи пришли в Сумский посад. Был праздник, и сумляне пригласили их к столу. Маркелов подкормщик говорит:
— Какой страх — со всеми есть и пить, а не знаем, кто какой веры! У меня и ложки с собой нет. Маркел говорит:
— Какой страх людей обижать! В ложку ты свою веру собрал.
Пиво
Трое молодых ребят на лодье повадились тайно пробовать пьяное пиво, которое хранилось в бочке на случай праздника.
Маркел это заметил, позвал ребят к себе в казенку и говорит:
— Ребята, что-то вы поблекли. Чем вас развеселить? Или пивком угостить?
Ребята покраснели, как брусника, и старший выговорил:
— Прости, дядюшка Маркел Иванович. Вперед таковы не будем.
Ушаков и Яков Койденский
Маркел относился к делу своему и к людям страстно и пристрастно. Но людей тянуло к Маркелу, как железо на магнит. Где бы ни кидала якорь Маркелова лодья, везде являлись у него друзья и ученики. А потом оставалась незабытная память.
Маркел искал и находил людей, призванием которых было мореходство. За таких людей он полагал свою душу.
Когда Маркел пришел на Койду и срядился плыть на Новую Землю, в лодейную дружину вступил Яков Койдянин, подросток-сирота. В нем Маркел нашел ученика, потом и ревностного помощника в судостроении.
Старый мастер веселился сердцем и умом, есть кому оставить наше знанье и уменье.
Но хмель в молодости начал разбирать верного Маркелова помощника. Яков стал одолевать Маркела неотступным разговором:
— Уйду в российские города Здесь тесно
— Яков, у Студеного ли моря тесно? Что ты будешь делать в городах? Не отпущу тебя. Погубишь мастерство, потеряешь и себя. Ты не вернешься сюда. Яков говорит:
— Я вернусь сюда, если ты, мастер Маркел, пойдешь вместе со мной. С тобой и я вернусь. А не пойдешь со мной, останусь там.
И старый Ушаков, тревожась и болезнуя о судьбе талантливого ученика, оставляет свой дом, свой промысел и идет за Яковом неведомо куда.
Но скитались они недолго.
Однажды Яков пал мастеру в ноги с воплем и со слезами:
— Господин мой, доброхот мой! Непостижно велика печаль твоя обо мне. Не стою я тебя. Но если можешь ты простить меня, если в силах ты глядеть на меня, то вернемся в нашу Койду, к нашему светлому морю, к нашему доброчестному промыслу.
Как-то при людях Маркел почествовал Якова, назвав его мастером. Люди подивились:
— Столь молодого ты называешь мастером…
Маркел отвечал:
— Дела его говорят, что он мастер.
Кондратий Тарара
Слышано от неложного человека, от старого Константина.
У нас на городовой верфи состоял мастер железных дел Кондрат Тарара. Он мог высказывать мечтательно о городах и пирамидах, будто сам бывал. Сообразно нрав имел непоседливый и обычай беспокойный. Смолоду скитался, бросал семью.
Столь мечтательную легкокрылость Маркел ухитрился наконец сдержать на одном месте двадцать лет.
Удивительнее то, что и память о Маркеле держала Тарару на месте другие двадцать лет.
А хитрость Маркела Ивановича была детская.
Весной не успеет снег сойти и вода сбежать, Кондрат является в приказ.
— Прощай, Маркел Иванович. Ухожу.
— Куда, Кондраша?
— По летнему времени на Мурман или на Мезень. Может, к промыслам каким пристану.
Маркел заговорит убедительно:
— Кондраша, навигация открылась. В якорях, в цепях никто не понимает. Именно для летнего времени невозможно нам остаться без тебя.
— Ладно, Маркел Иванович. До осени останусь.
Значит, трудится на кузнице до снегов. Работает отменно.
Только снег напал — кондратий в полном путешественном наряде опять предстает перед Маркелом:
— Всех вам благ, Маркел Иванович. Ухожу бесповоротно.
— Куда же, Кондратушко?
— Думаю, на Вологду. А там на Устюг.
Маркел руки к нему протянет:
— Кондрат! В эту зиму велено уширить кузницу, поставить новых три горна. Не можем оторваться от тебя, как дитя от матери.
— Это верно, — скажет Тарара. — Зиму проведу при вас.
Весной Кондратьева жена бежит к Маркелу:
— Пропали мы, Маркел Иванович! Тарара в поход собрался. Уговори, отец родной!
Приходит Тарара:
— Ухожу. Не уговаривайте.
— Где тебя уговорить… Легче железо уварить. Прощай, Кондрат… Конечно, этим летом повелено ковать медных орлов на украшение государевой пристани… Ну, мы доверим это дело Терентию Никитичу.
— Вы доверите, а я не доверю! Ваш Терентий Никитич еще в кузнице не бывал и клещей не видал…
Вот так-то год за годом удерживал Маркел милого человека.
В которые годы Маркела не было в Архангельске, Тарара все же сидел на месте:
— Воротится Маркел Иванович из Койды, тогда спрошусь и уйду.
Но Маркел Иванович из Койды отошел к Новоземельским берегам и там, мало поболев, остался на вечный спокой. А Кондрат Тарара остался в Архангельске:
— Мне теперь не у кого отпроситься, некому сказаться.
Стихосложный грумант
На моей памяти молодые моряки усердно обзаводились рукописными сборниками стихов и песен.
Иногда такой «альбом» начинался виршами XVIII века и заканчивался стихотворениями Фета и Плещеева.
В сборнике, принадлежащем знаменитому капитану-полярнику В. И. Воронину, находился вариант «Стихосложного Груманта», написанного безвестным помором.
В старинном сборнике поморских стихов «Рифмы мореплавательны», принадлежащем моему отцу, также был вариант названной песни. Напечатанный здесь текст «Стихосложного Груманта» представляет собою свод двух вариантов.
В молодых меня годах жизнь преогорчила:
Обрученная невеста перстень воротила.
Я на людях от печали не мог отманиться.
Я у пьяного у хмелю не мог звеселиться.
Старой кормщик Паникар мне судьбу обдумал,
На три года указал отойти на Грумант.
Грумалански берега — русской путь изведан.
И повадились ходить по отцам, по дедам.
Мне по жеребью надел выпал в диком месте.
… Два анбара по сту лет, и избе за двести.
День по дню, как дождь, прошли три урочных года
Притуманилась моя сердечна невзгода,
К трем зимовкам я еще девять лет прибавил,
Грозной Грумант за труды меня не оставил.
За двенадцать лет труда наградил спокойством,
Не сравнять того спокою ни с каким довольством.
Колотился я на Груманте
Довольны годочки.
Не морозы там страшат,
Страшит темна ночка.
Там с Михайлы, с ноября,
Долга ночь настанет,
И до Сретения дня
Зоря не проглянет.
Там о полдень и о полночь
Светит сила звездна.
Спит в молчанье гробовом
Океанска бездна.
Там сполохи пречудно
Пуще звезд играют,
Разноогненным пожаром
Небо зажигают.
И еще в пустыне той
Была мне отрада,
Что с собой припасены
Чернило и бумага.
Молчит Грумант, молчит берег
Молчит вся вселенна.
И в пустыне той изба,
Льдиной покровенна
Я в пустой избе один,
А скуки не знаю —
Я, хотя простолюдин,
Книгу составляю
Не кажу я в книге сей
Печального виду.
Я не списываю тут
Людскую обиду.
Тем-то я и похвалю
Пустынную хижу,
Что изменной образины
Никогда не вижу.
Краше будет сплановать
Здешних мест фигуру,
Достоверно описать
Груманта натуру.
Грумалански господа,
Белые медведи, —
Порядовные мои
Ближние соседи.
Я соседей дорогих
Пулей угощаю.
Кладовой запас сверять
Их не допущаю.
Раз с таковским гостеньком
Бился врукопашну.
В сенях гостьюшку убил,
Медведицу страшну.
Из оленьих шкур одежду
Шью на мелку строчку.
Убавляю за работой
Кромешную ночку.
Месяцам учет веду
По лунному свету
И от полдня розню ночь
По звездному бегу.
Из моржового тинка
Делаю игрушки:
Веретенца, гребешки,
Детски побрякушки.
От товарищей один,
А не ведал скуки,
Потому что не спутал
Праздно свои руки.
Снасть резную отложу,
Обувь ушиваю.
Про быванье про свое
Песню пропеваю.
Соразмерить речь па стих
Прилагаю тщанье:
Без распеву не почтут
Грубое сказанье.
Круговая помощь
На веках в Мурманское становище, близ Танькиной Губы, укрылось датское судно, битое непогодой. Русские поморы кряду принялись шить и ладить судно. Переправку и шитье сделали прочно и, за светлостью ночей, скоро. Датский шкипер спрашивает старосту, какова цена работе. Староста удивился:
— Какая цена! Разве ты, господин шкипер, купил что? Или рядился с кем?
Шкипер говорит:
— Никакой ряды не было. Едва мое бедное судно показалось в виду берега, русские поморы кинулись ко мне на карбасах с канатами, с баграми. Затем началась усердная починка моего судна.
Староста говорит:
— Так и быть должно. У нас всегда такое поведение. Так требует устав морской.
Шкипер говорит:
— Если нет общей цены, я желаю раздавать поручно.
Староста улыбнулся:
— Воля ни у вас, ни у нас не отнята.
Шкипер, где кого увидит из работавших, всем сует подарки.
Люди только смеются да руками отмахиваются. Шкипер говорит старосте и кормщикам:
— Думаю, что люди не берут, так как стесняются друг друга или вас, начальников.
Кормщик и староста засмеялись:
— Столько и трудов не было, сколько у тебя хлопот с наградами. Но ежели такое твое желание, господин шкипер, положи твои гостинцы на дороге, у креста. И объяви, что может брать кто хочет и когда хочет.
Шкиперу эта мысль понравилась:
— Не я, а вы, господа кормщики, объявите рядовым, чтоб брали, когда хотят, по совести.
Шкипер поставил короба с гостинцами на тропинке у креста. Кормщики объявили по карбасам, что датский шкипер, по своему благородному обычаю, желает одарить всех, кто трудился около его судна. Награды сложены у креста. Бери, кто желает.
До самой отправки датского судна короба с подарками стояли среди дороги. Мимо шли промышленные люди, большие и меньшие. Никто не дотронулся до наград, пальцем никто не пошевелил.
Шкипер пришел проститься с поморами на сход, который бывал по воскресным дням. Поблагодарив всех, он объяснил:
— Если вы обязаны помогать, то и я обязан…
Ему не дали договорить. Стали объяснять:
— Верно, господин шкипер! Ты обязан. Мы помогли тебе в беде и этим крепко обязали тебя помочь нам, когда мы окажемся в морской беде. Ежели не нам, то помоги кому другому. Это все одно. Все мы, мореходцы, связаны и все живем такою круговою помощью. Это вековой морской устав. Тот же устав остерегает нас: «Ежели взял плату или награду за помощь мореходцу, то себе в случае морской беды помощи не жди».
Грумант — медведь
Зверобойная дружина зимовала на Груманте. Время стало ближе к свету, и двое промышленников запросились отойти в стороннюю избу:
— Поживем по своим волям. А здесь хлеб с мерки и сон с мерки.
Старосте они говорили:
— Мы там, на бережку, будем море караулить. Весна не за горами.
… Наконец староста отпустил их. Дал устав: столько-то всякий день делать деревянное дело, столько-то шить шитья. Не больше стольких-то часов спать. В становище повелено было приходить раз в неделю, по воскресеньям.
Оба молодца пришли в эту избу, край моря, и день-два пожили по правилу. До обеда поработают, часок поспят. Вылезут на улицу, окошки разгребут. В семь часов отужинают — и спать. В три утра встают и печь затопляют. И еду готовят. Все, как дома, на матерой земле.
День– два держались так. Потом разленились. Едят не в показанное время. Спят без меры. В воскресенье не пошли к товарищам. В понедельник этак шьют сидят, клюют носом.
— Давай, брат, всхрапнем часиков восемь?
К нарам подошли и, вместо шкур оленьих, видят белого медведя. Будто лежит, ощерил зубы, ощетинился…
Не упомнят молодцы, как двери отыскали да как до становища долетели. Из становой избы их издали увидели. Староста говорит:
— Им за ослушанье какой-нибудь грумаланский страх привиделся. Заприте двери. Их надо поучить.
Братаны в дверь стучат и в стену колотятся; их только к паужне пустили в избу. Они рассказывают:
— Мы обувь шьем, сзади кто-то дышит-пышет. Оглянулись — медведище белый с нар заподымался. Зубами скалит, глаза, как свечки, светят…
Староста говорит:
— Это Грумант вас на ум наводит. Сам Грумант-батюшка в образе медведя вас пугнул. Он не любит, чтобы люди порознь жили. Вы устав нарушили. Грумант вас за это постращал.
Общая казна
Был дружинник — весь доход и пай клал в дружину, в общую казну. И некогда пришло на ум: «Стану откладывать на черный день. А то вклады у нас неравные, мне не больше людей надо».
Стал давать в общую казну, равняясь по маломочным.
Бывало, когда он все отдавал, дак и люди ему все отдавали. А он отскочил от людей, и люди не столь его жалеют.
Однажды не пошел на ловы: «С меня запасу хватит» Захворал. И бывало, как он неможет, двое при нем останутся — знают его простертую руку. А теперь никто не остался.
Он в эти дни одумался, опомнился.
— Нет, лучше с людьми. Люди в старости меня не оставят.
Скоро товарищи вернулись. Они беспокоились о нем.
— Мы твое добро помним.
И опять он стал весел и спокоен: поживи для людей, поживут и люди для тебя. Сам себе на радость никто не живет.
Болезнь
Опять было на Груманте.
Одного дружинника, как раз в деловые часы, начала хватать болезнь: скука, немогута, смертная тоска. Дружинник говорит сам себе:
«Меня хочет одолеть цинга. Я ей не поддамся. У нас дружина малолюдна. Моя работа грузом упадет на товарищей. Встану да поработаю, пока жив».
Через силу он сползал с нар и начинал работать. И чудное дело — лихая слабость начала отходить от него, когда он трудился.
Дружинник всякий день и всякий час сопротивлялся немощи. Доброй мыслею побеждал печаль и победил цингу: болезнь оставила его.
По уставу
Лодья шла вдоль Новой Земли. Для осеннего времени торопилась в русскую сторону. От напрасного ветра зашли па отстой в пустую губицу. Любопытный детинка пошел в берег. Усмотрел, далеко или близко, избушку. Толкнул дверь — у порога нагое тело. Давно кого-то не стало. А уж слышно, что с лодьи трубят в рог. Значит, припала поветерь, детине надо спешить. Он сдернул с себя все, до последней рубахи, обрядил безвестного товарища, положил на лавку, накрыл лицо платочком, доброчестно простился и, сам нагой до последней нитки, в одних бахилах, побежал к лодье.
Кормщик говорит:
— Ты со уставу сделал. Теперь бы надо нам сходить его похоронить, но не терпит время. Надо подыматься на Русь.
Лодью задержали непогоды у Вайгацких берегов. Здесь она озимовала.
Сказанный детина к весне занемог. Онемело тело, отнялись ноги, напала тоска. Написано было последнее прощанье родным. Тяжко было ночами: все спят, все молчат, только сальница горит-потрескивает, озаряя черный потолок.
Больной спустил ноги на пол, встать не может. И видит сквозь слезы: отворилась дверь, входит незнаемый человек, спрашивает больного:
— Что плачешь?
— Ноги не служат.
Незнакомый взял больного за руку:
— Встань!
Больной встал, дивяся.
— Обопрись на меня. Походи по избе.
Обнявшись, они и к двери сходили и в большой угол прошлись.
Неведомый человек встал в огню и говорит:
— Теперь иди ко мне один.
Дивясь и ужасаясь, детина шагнул к человеку твердым шагом:
— Кто ты, доброхот мой? Откуда ты?
Незнаемый человек говорит:
— Ужели ты меня не узнаешь? Посмотри: чья на мне рубаха, чей кафтанец, чей держу в руке платочек?
Детина всмотрелся и ужаснулся:
— Мой плат, мой кафтанец…
Человек говорит:
— Я и есть тот самый пропащий промысловщик из Пустой Губы, костье которого ты прибрал, одел, опрятал. Ты совершил устав, забытого товарища помиловал. За это я пришел помиловать тебя. А кормщику скажи — он морскую заповедь переступил, не схоронил меня. То и задержали лодью непогоды.
Евграф
Соловецкие суда отличались богатством украшения. Я знавал там ревнителя искусства сего рода. Его звали Евграф, был он отменный резчик по дереву. Никогда я не видел его спящим-лежащим. Днем в руках стамеска, долото, пила, топор. А в солнечные ночи, летом, сидит рисует образцы.
Евграф беседовал со мной, как с равным, искренно и откровенно.
Я восхищался легкостью, непринужденностью, весельем, с каким Евграф переходил от дела к делу.
Он говорил:
— И ты можешь так работать. Дай телу принужденье, глазам управленье, мыслям средоточие, тогда ум взвеселится, будешь делать пылко и охотно. Чтобы родилась неустанная охота к делу, надо неустанно принуждать себя на труд.
Когда мой ум обленится, я иду глядеть художество прежде бывших мастеров. Любуюсь, удивляюсь: как они умели делать прочно, красовито…
Нагляжусь, наберусь этого веселья — и к своей работе. Как на дрождях душа-то ходит. Очень это прибыльно для дела — на чужой успех полюбоваться.
Про старого кормщика Ивана Рядника
Диковинный кормщик
Ивану Ряднику привелось идти с Двины в Сумский берег на стороннем судне. Пал летний ветер, хотя крутой, но можно бы ходко бежать, если бы кормщик правил поперек волны. Но кормщик этим пренебрегал, и лодья каталась и валялась. Старый и искусный мореходец Рядник не стерпел:
— Ладно ли, господине, что судно ваше так раболепствует стихии и шатается, как пьяное?
Кормщик ответил:
— Это не от нас. Человек не может спорить с божией стихией.
— Сроду не слыхал такого слова от кормщика, — говорит Рядник. — А сколько лет ты, господине, ходишь кормщиком?
— Годов десять — двенадцать, — отвечает тот.
— Что же ты делал эти десять — двенадцать лет?! — гневно вскричал Рядник. — Бездельно изнурил ты свои десять — двенадцать лет!
Вопрос и ответ
Дружина спросила Рядника:
Почему на зимовье у Мерзлого моря ты и шутил, и смеялся, и песни пел, и сказки врал? А здесь, на Двине, беседуешь строго, говоришь учительно, мыслишь о полезном.
Иван Рядник рассмеялся:
— Я мыслил о полезном и тогда, когда старался вас развеселить да рассмешить. На зимовье скука караулит человека. Я своим весельем отымал вас у болезни. А здесь и без меня веселье: здесь людно и громко, детский смех и девья песня. Я свои потешки и соблюдаю в сундуке до другой зимовки.
Павлик Ряб
При Ивановой дружине Порядника был молодой робенок Павлик Ряб.
Он без слова кормщика воды не испивал. Если кормщик позабудет сказать с утра, что разговаривай с людьми, то Павлик и молчит весь день.
Однажды зимним делом посылает Рядник Павлика с Ширши[10]Деревня близ Архангельска. в Кег-остров. В тороки к седлу положил хлебы житные.
Павлик воротился к ночи. Рядник стал расседлывать коня и видит: житники не тронуты. Он говорит:
— У кого из кегостровских-то обедал?
— Приглашали все, а я коня пошел поить.
— Почему же отказался, если приглашали?
— Потому, что у тебя, осударь, забыл о том спроситься.
— Ну, а свой-то хлеб почто не ел?
— А ты, осударь, хотя и дал мне подорожный хлеб, а слова не сказал, что, Павлик, ешь!
Рядник, помолчав, проговорил:
— Ох, дитя! Велик на мне за тебя ответ будет.
Рядник и тиун
Какое-то лето кормщик Иван Рядник остался дома, в Ширше.
Его навещали многие люди, и я пошел, по старому знакомству. Был жаркий полдень. Именитый кормщик сидел у ворот босой, грудь голая, ворот расстегнут. Вслед за мной идет тиун из Холмогор. Он хотел знать мненье Рядника о споре холмогорцев с низовскими мореходцами.
При виде важного гостя я схватил в сенях кафтанец и накидываю на плечи Ивана для приличия. А Иван сгреб с себя кафтан рукой и кинул в сторону. Когда тиун ушел, я выговорил Ряднику:
— Как ты, государь, тиуна принимаешь: будто из драки выскочил. Ведь тиун-то подивит!
Рядник мне отвечает:
— Пускай дивит, когда охота. Потолковали мы о деле, а на рубахи, на порты я не гляжу и людям не велю. В чем меня застанут, в том я и встречаю.
Иван Рядник говаривал
Дела и уменья, которые тебе в обычай, не меняй на какое-нибудь другое, хотя бы то, другое, казалось тебе более выгодным.
В какой дружине ты укаменился, в той и пребывай, хотя бы в другом месте казалось тебе легче и люди там лучше.
Пускай те люди, с которыми ты живешь, тебе не по нраву, но ты их знаешь и усвоил поведенье с каждым.
А с хорошими людьми не будет ли тебе в сто раз труднее?
ДЛЯ УВЕСЕЛЕНЬЯ
Владимиру Сякину
В семидесятых годах прошлого столетия плыли мы первым весенним рейсом из Белого моря в Мурманское.
Льдина у Терского берега вынудила нас взять на всток. Стали попадаться отмелые места. Вдруг старик рулевой сдернул шапку и поклонился в сторону еле видимой каменной грядки.
— Заповедь положена, — пояснил старик. — «Все плывущие в этих местах моря-океана, поминайте братьев Ивана и Ондреяна».
Белое море изобилует преданиями. История, которую услышал я от старика рулевого, случилась во времена недавние, но и на ней лежала печать какого-то величественного спокойствия, вообще свойственного северным сказаниям.
Иван и Ондреян, фамилии Личутины, были родом с Мезени. В свои молодые годы трудились они на верфях Архангельска. По штату числились плотниками, а на деле выполняли резное художество. Старики помнят этот избыток деревянных аллегорий на носу и корме корабля. Изображался олень и орел, и феникс и лев; также кумирические боги и знатные особы. Все это резчик должен был поставить в живность, чтобы как в натуре. На корме находился клейнод, или герб, того становища, к которому приписано судно.
Вот какое художество доверено было братьям Личутиным! И они оправдывали это доверие с самой выдающейся фантазией. Увы, одни чертежи остались на посмотрение потомков.
К концу сороковых годов, в силу каких-то семейных обстоятельств, братья Личутины воротились в Мезень. По примеру прадедов-дедов занялись морским промыслом. На Канском берегу была у них становая изба. Сюда приходили на карбасе, отсюда напускались в море, в сторону помянутого корга.
На малой каменной грядке живали по нескольку дней, смотря по ветру, по рыбе, по воде. Сюда завозили хлеб, дрова, пресную воду. Так продолжалось лет семь или восемь. Наступил 1857 год, весьма неблагоприятный для мореплавания. В конце августа Иван с Ондреяном опять, как гагары, залетели на свой островок. Таково рыбацкое обыкновение: «Пола мокра, дак брюхо сыто».
И вот хлеб доели, воду выпили — утром, с попутной водой, изладились плыть на матерую землю. Промышленную рыбу и снасть положили на карбас. Карбас поставили на якорь меж камней. Сами уснули на бережку, у огонька. Был канун Семена дня, летопровидца. А ночью ударила штормовая непогодушка. Взводень, вал морской, выхватил карбас из каменных воротцев, сорвал с якорей и унес безвестно куда.
Беда случилась страшная, непоправимая. Островок лежал в стороне от росхожих морских путей. По времени осени нельзя было ждать проходящего судна. Рыбки достать нечем. Валящие кости да рыбьи черепа — то и питание. А питье — сколько дождя или снегу выпадет.
Иван и Ондреян понимали свое положение, ясно предвидели свой близкий конец и отнеслись к этой неизбежности спокойно и великодушно.
Они рассудили так: «Не мы первые, не мы последние. Мало ли нашего брата пропадает в относах морских, пропадает в кораблекрушениях. Если на свете не станет еще двоих рядовых промышленников, от этого белому свету перемененья не будет».
По обычаю надобно было оставить извещение в письменной форме: кто они, погибшие, и откуда они, и по какой причине померли. Если не разыщет родня, то приведется, случайный мореходец даст знать на родину.
На островке оставалась столешница, на которой чистили рыбу и обедали. Это был телдос, звено карбасного поддона. Четыре четверти в длину, три в ширину.
При поясах имелись промышленные ножи — клепики.
Оставалось ножом по доске нацарапать несвязные слова предсмертного вопля. Но эти два мужика — мезенские мещане по званью — были вдохновенными художниками по призванью.
Не крик, не проклятье судьбе оставили по себе братья Личутины. Они вспомнили любезное сердцу художество. Простая столешница превратилась в произведение искусства. Вместо сосновой доски видим резное надгробие высокого стиля.
Чудное дело! Смерть наступила на остров, смерть взмахнулась косой, братья видят ее — и слагают гимн жизни, поют песнь красоте. И эпитафию они себе слагают в торжественных стихах.
Ондреян, младший брат, прожил на островке шесть недель. День его смерти отметил Иван на затыле достопамятной доски.
Когда сложил на груди свои художные руки Иван, того нашими человеческими письменами не записано.
На следующий год, вслед за вешнею льдиной, племянник Личутиных отправился отыскивать своих дядьев. Золотистая доска в черных камнях была хорошей приметой. Племянник все обрядил и утвердил. Списал эпитафию.
История, рассказанная мезенским стариком, запала мне в сердце. Повидать место покоя безвестных художников стало для меня заветной мечтой. Но годы катятся, дни торопятся…
В 1883 году Управление гидрографии наряжает меня с капитаном Лоушкиным ставить приметные знаки о западный берег Канской земли. В июне, в лучах незакатимого солнца, держали мы курс от Конушиного мыса под Север. Я рассказал Максиму Лоушкину о братьях Личутиных. Определили место личутинского корга.
Канун Ивана Купала шкуна стояла у берега. О вечерней воде побежали мы с Максимом Лоушкиным в шлюпке под парусом. Правили в голомя. Ближе к полуночи ветер упал. Над водами потянулись туманы. В тишине плеснул взводенок — признак отмели. Закрыли парус, тихонько пошли на веслах. В этот тихостный час и птица морская сидит на камнях, не шевелится. Где села, там и сидит, молчит, тишину караулит.
— Теперь где-нибудь близко, — Шепчет мне Максим Лоушкин.
И вот слышим: за туманной завесой кто-то играет на гуслях. Кто-то поет, с кем-то беседует… Они это, Иван с Ондреяном! Туман-то будто рука подняла. Заветный островок перед нами, как со дна моря всплыл. Камни вкруг невысокого взлобья. На каждом камне большая белая птица. А что гусли играли, это легкий прибой. Волна о камень плеснет да с камня бежит. Причалили; осторожно ступаем, чтобы птиц не задеть. А они сидят, как изваяние, Все, как заколдовано. Все, будто в сказке. То ли не сказка: полуночное солнце будто читает ту доску личутинскую и начитаться не может.
Мы шапки сняли, наглядеться не можем. Перед нами художество, дело рук человеческих. А как пристало оно здесь к безбрежности моря, к этим птицам, сидящим на отмели, к нежной, светлой тусклости неба!
Достопамятная доска с краев обомшела, иссечена ветром и солеными брызгами. Но не увяло художество, не устарела соразмерность пропорций, не полиняло изящество вкуса.
Посредине доски письмена — эпитафия, — делано высокой резьбой. По сторонам резана рама — обнос, с такою иллюзией, что узор неустанно бежит. По углам аллегории — тонущий корабль; опрокинутый факел; якорь спасения; птица феникс, горящая и не сгорающая. Стали читать эпитафию:
Корабельные плотники Иван с Ондреяном
Здесь скончали земные труды,
И на долгий отдых повалились,
И ждут архангеловой трубы.
Осенью 1857-го года
Окинула море грозна непогода.
Божьим судом или своею оплошкой
Карбас утерялся со снастьми и припасом,
И нам, братья, досталось на здешней корге
Ждать смертного часу.
Чтобы ум отманить от безвременной скуки,
К сей доске приложили мы старательные руки…
Ондреян ухитрил раму резьбой для увеселенья;
Иван летопись писал для уведомленья,
Что родом мы Личутины, Григорьевы дети,
Мезенские мещана.
И помяните нас, все плывущие
В сих концах моря-океана.
Капитан Лоушкин тогда заплакал, когда дошел до этого слова — «для увеселенья». А я этой рифмы не стерпел — «на долгий отдых повалились».
Проплакали и отерли слезы: вокруг-то очень необыкновенно было. Малая вода пошла на большую, и тут море вздохнуло. Вздох от запада до востока прошумел. Тогда туманы с моря снялись, ввысь полетели и там взялись жемчужными барашками, и птицы разом вскрикнули и поднялись над мелями в три, в четыре венца.
Неизъяснимая, непонятная радость начала шириться в сердце. Где понять!… Где изъяснить!…
Обратно с Максимом плыли — молчали.
Боялись, не сронить бы, не потерять бы веселья сердечного.
Да разве потеряешь?!
Гость с Двины
В Мурманском море, на перепутье от Русского берега к Варяжской горе, есть смятенное место. Под водою гряды камней, непроглядный туман, и над всем, над всем, над шумом прибоя, над плачем гагары и криками чайки, звучал здесь некогда нескончаемый звон.
Заслышав этот звон остерегательный и оберегательный, русские мореходцы говорили:
— Этот колокол — варяжская честь.
Варяжане спорили:
— Нет, этот колокол — русская честь. Это голос русского гостя Андрея Двинянина.
Корабельные ребята любопытствовали:
— Что та варяжская честь? Кто тот Андрей Двинянин?
Статнее всех помнили о госте Андрее двинские поморы.
Этот Андрей жил в те времена, когда по северным морям и берегам государил Новгород Великий.
Андрей был членом пяточисленной дружины. Сообща промышляли зверя морского, белого медведя, моржа, песца. Сообща вели договоренный торг с городом скандинавским Ютта Варяжская.
В свой урочный год Андрей погружает в судно дорогой товар — меха и зуб моржовый. Благополучно переходит Гандвиг, Мурманское море и Варяжское. Причаливает у города Ютты. Явился в гильдию, сдал договоренный товар секретариусу и казначею. Сполна получил договоренную цену — пятьсот золотых скандинавских гривен. Отделав дела, Андрей назначил день и час обратного похода.
Вечером в канун отплытия Андрей шел по городской набережной. С моря наносило туман с дождем. Кругом было пусто и нелюдимо, и Андрей весьма удивился, увидев у причального столба одинокую женскую фигуру. Здесь обычно собирались гулящие. Эта женщина не похожа была на блудницу. Она стояла, как рабыня на торгу, склонив лицо, опустив руки. Ветер трепал ее косы и воскрылия черной, как бы вдовьей, одежды.
Андрей был строгого жития человек, но изящество этой женщины поразило его. Зная скандинавскую речь, Андрей спросил:
— Ты ждешь кого-то, госпожа?
Женщина молчала. Андрей взял ее за руку, привел в гостиницу, заказал в особой горнице стол. Женщина как переступила порог, так и стояла у дверей, склонив лицо, опустив руки. Не глядела ни на еду, ни на питье, не отвечала на вопросы.
Андрей посадил ее на постель, одной рукой обнял, другой поднес чашу вина.
— Испей, госпожа, согрейся.
Женщина вдруг ударила себя ладонями по лицу и зарыдала.
— Горе мне, горе! Увы мне, увы! Забыл меня бог и добрые люди!
Беспомощное отчаяние было в ее рыданиях. Жалость, точно рогатина, ударила в сердце Андрея.
— Какое твое горе, госпожа? Скажи, не бойся! Я тебя не дотрону.
Переводя рыдания, женщина выговорила:
— По одежде твоей вижу, господине, ты русский мореходец. Мой муж тоже был мореходец.
— Был мореходец? — переспросил Андрей. — Ты вдовеешь, госпожа?
— Почти что вдовство. Мой муж брошен в темницу.
— За что же?
— Я расскажу тебе, господине. Мой муж с юношеских лет ходил на здешних торговых судах. Когда мы поженились, загорелся он мыслью построить собственное суденышко. Сколько своими руками, столько помощью товарищей построен был кораблик, пригодный к заморскому плаванию. О, как мы радовались, господине! Тогда задумывает муж сходить в Готтский берег на ярмарку. Но где взять деньги на покупку прибыльного в Готтах товару? И опять судьба улыбнулась нам: здешняя гильдия дает моему мужу деньги в долг на срок — вернуть долг сполна по возвращении с Готтского берега. О, как мы радовались, господине! Днем муж закупал товар и погружал на судно. Ночами мы рассчитывали, сколько у нас останется прибыли по уплате долга в гильдию. Я не плакала, провожая мужа, я радовалась. Но пути божьи неисповедимы. Еще кораблик наш не дошел Готтского берега, налетела штормовая непогода. Кораблик нанесло на камни и разбило в щепы. Дорогой товар утонул.
Муж вернулся в Ютту бос и наг. По суду гильдии его бросили в темницу на срок, покуда не уплатит долга. Это было два года назад, господине.
Я осталась одна с двумя маленькими детьми. Надо было кормить мужа в темнице, прокармливать детей. Я стала работать у рыбного засола. С рассвета до заката, на ветру, на снегу, на дожде. За труд платили рыбой. Голову варила и несла мужу, остальное доедала с детьми. Хлеб подавали соседи, добрые люди. И они же доводили меня до отчаяния. Всякий день я слышала: «Гордячка ты, бесстыдница! Рыбный засол не работа! Сама подохнешь и семью уморишь. Иди на пристань, торгуй своим телом, пока молода. Познатнее дамы торгуют любовью по нужде, а ты кто?»
С ужасом я слушала такие речи. Стать блудницей, пропащей… Утопиться бы — и то нельзя: без меня замрут мои дорогие муж и дети. И вот сегодня город тонет в тумане. И я решила: вечером пойду и стану у пристани. В такую непогоду никто из горожан не ходит, никто моего позора не увидит. Меня, господине, ты и приметил у причального столба и привел сюда. Вот и все.
— Госпожа, как велик долг твоего мужа?
— Страшно вымолвить, господине: без малого сто золотых скандинавских гривен.
Андрей соображал:
«На нас пятерых я получил пятьсот гривен, по сто гривен на брата. Моей долей я волен распорядиться». Он выговорил:
— Следуй за мной, госпожа.
Город накрыт был белесым туманом. Но Андрей шел быстро, уверенно. Женщина едва поспевала за ним. На спуске к пристаням еле блазнила древняя церквица. Андрей сказал:
— Стань, госпожа, в церковных воротах и не соступи с места. Жди меня. Я тотчас вернусь.
Как птица слепым полетом в тумане, он побежал на свой корабль. Спустился в каюту, отомкнул ларец с общей казной, в кожаный кошель отсчитал сто золотых гривен. Спрятал кошель за пазуху, побежал обратно в город.
Женщина стояла в каменной нише, как изваяние. Андрей сказал:
— Я принес тебе нечто, госпожа. Но должен проводить тебя до дому.
— Господине, — отвечала женщина, — мой дом близко. Видишь, в конце улицы брезжит огонек. Это мой сынишка поставил на окне светильник, боится, чтобы мать не заблудилась.
Андрей все же проводил ее до дому.
— Теперь ты дома, госпожа. Вот, держи обеими руками этот кожаный кошель. В нем сто золотых гривен. Завтра утром иди в гильдию, объяви о себе секретариусу и казначею. Они примут гривны счетом и весом. Также выдадут тебе пергамент с печатями, что твой муж чист от всякого долга. Завтра, до полудня, твой муж возвратится домой полноправно и свободно. А теперь прости, госпожа.
Сотворив поклон, Андрей зашагал обратно, и его накрыло туманом.
Тогда только женщина опомнилась, бросилась вслед Андрею и закричала:
— Господине, господине! Человек ты или ангел? От сотворения мира неслыхана такая великая и богатая милость!
Она бежала и кричала, но не знала, в какой переулок, к каким пристаням свернул Андрей, и крик ее был как крик чайки в море. Тогда женщина упала на Дорогу и, рыдая и молясь, целовала следы Андреевых ног на сыром песке.
В ту же ночь, до утренних часов, Андреев корабль покинул Ютту Варяжскую и, открыв паруса, пошел в русскую сторону.
Оминув Варяжскую Гору, Андрей проходит море Мурманское и наконец, одолев жерло, достигает Двинской земли.
В сборной избе Андрей здравствуется с четырьмя своими товарищами. Справив поклон, они спрашивают:
— Каково путь и торговлю справил, господине?
Андрей отвечал:
— Вашим счастьем, государи, бог дал все благополучно.
В Ютте казначей и секретариус товар похвалили и договоренную цену уплатили, пятьсот гривен золотом свесили счетом и мерою.
Андрей поставил на стол ларец с золотом.
— Здесь, государи, только ваша доля — четыреста гривен золотом. Свою долю — сто гривен — вынял и стратил.
— Суматоху говоришь, государь! Общая казна делится сообща. Никто из пайщиков не вправе выхватить из общей казны ни единой серебряной копейки. Ты, государь Андрей, поступил самочинно, самонравно, самовольно. Ты переступил Морской промышленный устав!
Ни единого слова покорного не приготовил Андрей своим товарищам. Вышел из горницы, так дверью двизнул, что изба дрогнула.
С этого дня и часа остуда легла меж Андреем и четырьмя его товарищами. Эта остуда была на руку соседственной артели. Артельный староста «подвесил Андрею лисий хвост».
— Тебе, преименитому кормщику, не дозволено копейки взять из казны! Твоей бы дружине перед тобой на четвереньках бегать, а они свою ногу тебе на голову ставят. Переходи в нашу дружину. Будешь над нами государить, а мы тебе будем в рот глядеть и от тебя слова ждать.
— Куда походите? — спросил Андрей.
— Зимовать на Матку, на Новую Землю. Люди к походу готовы.
Андрей был крут на поворотах — дал согласие. Ушел на Новую Землю, не сказавшись, не спросившись со старыми своими товарищами. И те оскорблены были даже до слез: ушел, не простился!
На Новой Земле кормщик Андрей государил и осень, и зиму, и весну. Там, в невечерний день, к Андрею пришла та, которая говорит о себе: «Я — детям утеха, я — старым отдых, я — рабам свобода, я — трудящимся покой».
Андрея положили в каменном берегу, накрыли аспидной плитой. На плите высечена надпись: «Спит Андрей Двинянин, жда архангеловы трубы».
Эта весть об Андрее прилетела на Двину, и была печаль великая, и дружина плакала — ушел и нам прощения не оставил.
Через четыре года по Андрееве исходе, значит, через пять лет после его быванья в Ютте, пришел на Двину скандинавский корабль, и хозяин корабля стал сыскивать об Андрее. В тот же вечер встретился с Андреевой дружиной.
— Вы Андреева дружина. Вам должно принять эти гривны.
— Недостойны.
— Раздайте скудным, бедным людям.
— Не нашими руками раздавать. Тяжко нам будет получать спасибо за Андрееву милость.
Наконец сошлись на том, что надобно учредить память Андрею. А как Андрей был отменный мореходец, то да будет намять его знатна и слышна в морском сословии.
— Наша Двина ходит промышлять рыбу в Западный Мурман, близ Бусой салмы. Это место вы, скандинавы, зовете «Жилище туманов», и Андрей мечтал учредить здесь остерегательный звон.
— Быть по сему, — отозвался варяженин. — Я в эту же зиму вылью колокол и весной, на Троицу, привезу кораблем.
— Быть по сему, — отвечали двиняне. — Мы явимся на Мурман раньше тебя и к Троицыну дню возведем на Бусой вараке столп-звонницу. Еще кладем на тебя заповедь, государь варяженин. По ободу, по краю колокола, вылей сей стих: «Малый устав преступив, исполнил великую заповедь».
Как пообещал варяженин, так и учинил. Сыскались в Скандинавии искусные мастера-литейщики. Вылили из меди, олова и серебра художный колокол. Только стих, завещанный двинянами, вылили латинской речью. По тому же латинскому обычаю колокол был окрещен и наречен Андреем.
Весною, когда полетели в русскую сторону гуси, гагары и, утята, варяженин погрузил колокол на свой корабль и, вслед за птицей, пошел в русский ветер.
В эту пору стоит на Мурмане беззакатный день, и берега грезят и манят в великой прозрачности.
Варяженин видит Бусую вараку в полном лике: на вершине возведена звонница новгородским обычаем, но в один пролет.
Варяженин трубит в рог, и Русь трубит ответно. Колокол вздымали на гору на моржовых ремнях, всем народом.
Звон был учрежден западным обычаем: в пролете, в железных гнездах, ходила дубовая матица. В матицу врощены уши колокола. От ушей спущены до земли ременные вожжи. Звонарь, стоя на земле, управлял вожжами. Матица начинала ворочаться, раскачивая колокол. Колокол летал в пролете, язык бил свободно, рождая звук певучий, грозный и жалобный.
Это звенящее нескончаемое пение носилось по океану триста лет. И проходящие мореходцы поколение за поколением поминали гостя Андрея с Двины и гостя Варяженина.
После этих времен дошел день и час: колокол зазвонил сам собою, ужасая слышавших.
«Последи же бысть трясение земли о Западный берег Мурмана».
Тряхнуло гору в Кольской Губе, дрогнула Бусая варяка, качнулась звонница. Колокол, звеня и рыдая, как птица слетел в глубину морскую. Но и в начале нынешнего столетия мореходцы уверяли, что звенит Андреев колокол и на дне моря-океана.
Любовь сильнее смерти
У Студеного моря, в богатой Двинской земле, жили два друга юных, два брата названых, Кирик да Олеша. И была у них дружба милая и любовь заединая.
Столь крепко братья крестовые друг друга любили секли стрелою руку, кровь точили в землю и в море. Мать Сыру землю и Синее море призывали во свидетели. Кирик да Олеша — они одной водою умывались, одним полотенцем утирались, с одного блюда хлебы кушали, одну думу думали, один совет советали — очи в очи, уста в уста.
Отцы их по любови морскою лодьею владели и детям то же поведали. Кирик, старший, стал покрут обряжать, на промысел ходить, а Олеша прилежал корабельному строению.
Пришло время, и обоим пала на ум одна и та же дева Моряшка. И дева Моряшка с обоими играет, от обоих гостинцы берет. Перестали крестовые друг другу в очи глядеть.
В месяце феврале промышленники в море уходят, на звериные ловы. Срядился Кирик с покрутом, а сам думает: «Останется дома Олеша, его Моряшка опутает». Он говорит брату:
— Олешенька, у нас клятва положена друг друга слушати: сряжайся на промысел!
Олеша поперек слова не молвил, живо справился. Якоря выкатили, паруса открыли… Праматерь морская — попутная поветерь была до Кирика милостива. День да ночь — и Звериный остров в глазах. Круг острова лед. На льдинах тюленьи полежки. Соступились мужи-двиняне со зверем, учали бить.
Богато зверя упромыслили. Освежевали, стали сальное шкурье в гору волочить. На море уж отемнело, и снег пошел. А Олеша далеко от берега забежал. Со льдины на льдину прядает; знай копье звенит, головы зверины долу клонятся. Задор овладел. Старый кормщик и обеспокоился:
— Олеша далеко порато ушел. Море на часу вздохнет, вечерняя вода тороса от берега понесет…
Побежал по Олешу Кирик. Бежит по Олешу, ладит его окликать, да и вздумал в своей-то голове: «Олешу море возьмет, девка Моряшка моя будет». И снова крикнуть хочет и опять молчит: окаменила сердце женская любовь. И вот ветер с горы ударил. Льдина зашевелилась, заворотилась, уладила шествовать в море, час ее пробил.
И слышит Кирик вопль Олешин:
— Кирик, погибаю! Вспомни дружбу-то милую и любовь заединую!…
Дрогнул Кирик, прибежал в стан:
— Мужи-двиняне! Олеша в относ попал!
Выбежали мужики… Просторно море… Только взводень рыдает… Унесла Олешу вечерняя вода…
Того же лета женился Кирик. Моряшка в бабах как лодья соловецкая под парусом: расписана, разрисована. А у мужа радость потерялась: Олешу зажалел.
Заказал Кирик бабам править по брате плачную причеть, а все места не может прибрать.
В темную осеннюю ночь вышел Кирик на гору, на глядень морской, пал на песок, простонал. Ах, Олеша, Олешенька!…
И тотчас ему с моря голос Олешин донесло:
— Кирик! Вспомни дружбу-то милую и любовь заединую!
В тоске лютой, неутолимой прянул Кирик с вершины вниз, на острые камни, сам горько взопил:
— Мать земля, меня упокой!
И буде кто его на ноги поставил. А земля провещилась:
— Живи, сыне! Взыщи брата: вы клятву творили, кровь точили, меня, сыру-землю, зарудили!
По исходе зимы, вместе с птицами, облетела Поморье весть, что варяги-разбойники идут кораблем на Двину, а тулятся за льдиной, ожидают ухода поморов на промысел. Таков у них был собацкий обычай: нападать на деревню, когда дома одни жены и дети.
И по этим вестям двиняне медлили с промыслом Идет разливная весна, а лодейки пустуют. Тогда отобралась дружина удалой молодежи.
— Не станем сидеть, как гнус в подполье! Варяги придут или нет, а время терять непригож!
Старики рассудили:
— Нам наших сынов, ушкуйных голов, не уговорить и не постановить. Пущай разгуляются. А мы, бородатые, здесь ополчимся навстречу незваным гостям.
Тогда невесты и матери припадают к Кирику с воплем.
— Господине, ты поведи молодых на звериные ловы! Тебе за обычай.
Кирик тому делу рад: сидячи на берегу, изнемог в тосках по Олеше. Жена на него зубами скрипит:
— Чужих ребят печалуешь, а о своем доме нету печали!
Мужская сряда не долгая. На рассвете кричала гагара, плакали женки. Дружина взошла на корабль. У каждого лук со стрелами, копье и оскорд — булатный топор. Кирик благословил путь. Отворили парусы, и пособная поветерь, праматерь морская, скорополучно направила путь.
Не доведя до Звериного острова, прабаба-поветерь заспорила с внуками — встречными ветерками. Зашумела волна. А молодая дружина доверчиво спит Кирик сам у руля. И была назавтра Олеше година.
Студеное море на волнах стоит, по крутому взводню корабль летит. И Кирик запел:
Гандвиг-отец,
Морская пучина
Возьми мою
Тоску и кручину
В том часе покрыла волну черная тень варяжской лодьи. И варяги кричат из тумана:
— Куры фра? Куры фра?
Кирик струбил в корабельный рог грозно и жалобно. Дружина прянула на ноги. И тянут лук крепко, и стреляют метко. Поют стрелы, гремят долгомерные копья. Кирик забыл тоску и печаль, отдал сердце в руки веселью. Зовет, величает дружину:
— Мужи-двиняне! Не пустим варягов на Русь! Побьемся! Потешим сердца!…
Корабли сошлись борт о борт, и двиняне, как взводень морской, опрокинулись в варяжское судно. Песню радости поет Кириково сердце. Блестит булатный оскорд. Как добрый косец траву, косит Кирик вражеские головы…
Но при последнем издыхании варяжский воевода пустил Кирику в сердце стрелу…
Красное солнце идет к закату, варяжское трупье плывет к западу. Сколько двиняне празднуют о победе, о богатой добыче, — столько тужат о Кирике. Он лежит со смертной стрелою в груди, весел и тих. На вечерней воде стал прощаться с дружиной:
— Поспешайте на Русь, на Двину, с победною вестью. Оставьте меня и варяжское судно в благодарную жертву Студеному морю.
И дружина, затеплив по бортам жертвенной лодьи воскояровы свечи, с прощальной песней на своем корабле убежала на Русь.
В полночь вздохнуло море, затрепетало пламя свечей, послышался крик гусиный и голос Олешин:
— Здрав буди, Кирик, брате и господине!
Ликует Кирик о смертном видении:
— Олешенька, ты ли нарушил смертные оковы? Как восстал ты от вечного сна?…
Снова пронзительно вскричали гуси, затрепетали жертвенные огни, прозвенел Олешин голос:
— Я по тебя пришел. Сильнее смерти дружеская любовь.
Две тяжкие слезы выронил Кирик:
— Люто мне, люто! Я нарушил величество нашей любви!…
В третий раз гуси вскричали, как трубы огремели, колыхнуло пламя жертвенных свечей, и Кирик увидел крестового брата. Глядят очи в очи, устами к устам. И голос Олешин, что весенний ручей и свирель:
— Кирик! Подвигом ратным стерта твоя вина перед братом. Мы с тобой поплывем в светлый путь, в Гусиную белую Землю, где вкушают покой души добрых и храбрых. Там играют вечные сполохи, туда прилетают легкокрылые гуси беседовать с мертвыми. Там немолчно рокочут победые гусли, похваляя героев…
Завязалась праматерь морская — поветерь и взяла под крыло варяжский корабль, где Кирик навек позабыл печаль и тоску человеческую…
О былина, о песня, веселье поморское! Проходят века, а Двинская земля поет, поминает под гусли Олешу и Кирика.
Смерть не все возьмет — только свое возьмет.
Ингвар
В Соловецке при игумене Филиппе жил инок Ингвар, или Игорь, родом свеянин, швед. По старым памятам рассказывают так:
Свейский карбас — шесть рядовых, седьмой шкипер Ингвар шли в Соловецкое море. Для какой потребы шли, не ведаем. Может, что купить или продать. Будучи нетверды в соловецком знании, потеряли путь и пристали в Тонскую деревню. Шкипер приказал товарищам остаться в карбасе, а сам пошел в конец деревни спрашивать вожа. Дружина, мимо слова шкипера, тотчас побежала на другой конец деревни. Свеян было мало, но и в деревне мужского полку не было. Только бабки с мелкими ребятами. Во все лето с дальних волоков не оказывало дыму, и люди неопасно разошлись на промыслы.
Свеи начали ломать запоры у анбара. Завопили бабки, ребятишки подняли неизреченный рев. Шкипер Ингвар это слышит, ухватил железный лом и прибежал к разбою.
Увидя, что его товарищи шибают о землю ребят, стегают воющих старух и кидают из анбара кожи, обувь, сбрую и холсты, Ингвар стал благословлять грабежников железным ломом. Бил по головам и по зубам. И гонил их из деревни, посылая ломом. Один из грабежников увернулся и ударил шкипера в лоб камнем. Ингвар повалился заубито. Товарищи его вскочили в карбас и угребли из виду.
Старухи привели Ингвара в действие и, забывши страх, стали жалеть его, как внука.
Весть о свейском нагоне полетела далеко. Пришли из Сумского посада в Тонскую деревню приставы и взяли Ингвара. Также было велено имать свидетелей. Вся деревня лезла во свидетели. Отобрали десять старых бабок, самых мудрых и речистых.
Тонская деревня была соловецкой вотчиной и подлежала монастырскому суду. Ингвара судил случившийся в Суме игумен Филипп Колычев.
Дьяк объявил, что шестерых бежавших в море свеян бог нашел своим судом. Только-де шесть свейских рукавиц, с одной руки, море выплеснуло на берег. Затем тонские свидетели заявили, что хотя судимый и явился с лиходеями, но оказался добрым человеком. И его-де надо не судить, а миловать. Судья Филипп сказал:
— Правда то, что Ингвар заступился за обидимых, не щадя и своей жизни. Но есть и кривда: почему ты, Ингвар, добрый, сердобольный человек, пошел в товарищах с людьми лихими?
— Господине, — отвечал Ингвар, — все у нас затеяно бахвальством, все чинилось без ума. Но молю вас всех: не кляните их, моих товарищей, а меня не величайте добрым человеком.
Судья Филипп говорит:
— Сердце твое детское, и речи у тебя как у младенца. Ты говоришь: «Не вредите мое сердце, не поминайте мне товарищей». Лучше бы тебе о том поплакать, что из-за таких товарищей про всю вашу породу свейскую слава в мире носится самая зазорная!… Думаю, Ингвар, что на родину тебе нельзя являться?
Ингвар говорит:
— Господине, я хочу прижаться к русским людям. Возьми меня к себе, в какой чин хочешь.
Ингвар принял в Соловецке имя Игоря. Тут и помер в старости. И память о себе оставил — «сердобольный Игорь».
Ваня Датский
У Архангельского города, у корабельного пристанища, у лодейного прибегища, в досельные годы торговала булками честна вдова Аграфена Ивановна. В летнюю пору судов у пристани — воды не видно; народу по берегам — что ягоды морошки по белому мху; торговок — пирожниц, бражниц, квасниц — будто звезд на небе. И что тут у баб разговору, что балаболу! А честну вдову Аграфену всех слышней. Она со всем рынком зараз говорит и ругается. Аграфена и по-аглицки умела любого мистера похвалить и обложить. Горожане дивились на Аграфену:
— Ты, Ивановна, спишь ли когда? Утром рано и вечером поздно одну тебя и слыхать. Будто ты колокол соборный.
— Умрем, дак выспимся, — отвечала Аграфена. — Я тружусь, детище свое воспитываю!
Был у Аграфены одинакий сын Иванушко. И его наравне с маткой все знали и все любили. Не только своя Русь, но и гости заморские. Не поспеет норвецкое суденышко кинуть якорь, Иванушка является с визитом, спросит: по-здорову ли шли? Его угощают солеными «бишками» — бисквитами, рассказывают про дальние страны.
Иванушко рано запросился у матери в море. Четырнадцати лет приступил вплотную:
— Мама, как хошь, благослови в море идти!
Мама заревела, как медведица:
— Я те благословлю поленом березовым! Мужа у меня море взяло, сына не отдам!
— Ну, я без благословенья убежу.
Ваня присмотрел себе датский корабль, покамест тот стоял у выгрузки-погрузки. Явился к капитану:
— Кэптен, тэйк эброд! (Возьмите с собой!)
У капитана не хватало матросов. Бойкий парень понравился.
— Хайт ин зи трум! (Ступай в трюм!)
Ваня и спрятался в трюме. Таможенные досмотрщики не приметили его. Так и уплыл Аграфенин сын за море.
Аграфена не удивилась, что сын не пришел ночевать. Не очень беспокоилась и вторую ночь. «На озерах с ребятами рыбу ловит». Через неделю она выла на весь рынок:
— Дитятко Иванушко! В Датску упорол, подлец!
И не было об Аграфенином сыне слуху двадцать лет…
Нету слез против матерних. Нет причитанья против вдовьего. По утренним лазорям Аграфена выходила на морской бережок и плакала:
Гусем бы я была, гагарой,
Все бы моря облетела,
Морские пути оглядела,
Детище свое отыскала.
Зайком бы я была, лисичкой,
Все бы города обскакала,
Кажду бы дверь отворила,
В каждо бы оконце заглянула,
Всех бы про Иванушка спросила…
А Иванушко за эти годы десять раз сходил в кругосветное плаванье. В Дании у него жена, родилось трое сыновей. Ребята просили у отца сказок. Он волей-неволей вспоминал материны песни-былины. Видно, скопились старухины слезы в перелетную тучку и упали дождем на сыновнее сердце.
Припевая детям материны перегудки, Ваня слышал материн голос, мать вставала перед ним как живая…
А Ивану было уже тридцать четыре года. Тут по весне напала на него печаль необычная. Идет Иванушко по набережной и видит — грузится корабль. Спрашивает:
— Куда походите?
— В Россию, в Архангельский город.
Забилось сердце у нашего детинушки: «Маму бы повидать! Жива ли?…» И тут же порядился с капитаном сплавать на Русь и обратно в должности старшего матроса.
Жена с плачем собрала Ваню в путь:
— Ох, Джон! Узнает тебя мать — останешься ты там. Не узнает. И я не признаюсь, только издали погляжу.
Дует пособная поветерь. Шумит седой океан. Бежит корабль, отворив паруса. Всплывают русские берега.
На пристанях в Архангельском городе людно по-старому Точно вчера Иванушко бегал здесь босоногим мальчишкой. Теперь он идет по пристани высокий, бородатый. Идет и думает: «Ежели мама жива, она булочками торгует».
Он еще матери не видит, а уж голос ее слышит:
— Булочки мяконьки! По полу катала, по подлавочью валяла!
Люди берут, хвалят. И сын подошел, купил у матери булочку. Мать не узнала. Курчавая борода, одет не по-русски.
У пристани трактир. Ваня у окна сидит, чай пьет с маминой булочкой, на маму глядит…
Неделю корабль стоял под Архангельском. Ваня всякий день булочку купит, в трактире у окна чай пьет, на маму смотрит У самого дума думу побивает: «Открыться бы! Нет, страшно она заплачет, мне от нее не оторваться А семья как?»
В последний день, за час до отхода, Ваня еще раз купил у матери булочку и, пока Аграфена разбиралась в кошельке сунул под булки двадцать пять рублей.
Так, не признавшись, и отошел в Данию.
Аграфена стала вечером выручку подсчитывать — двадцать пять рублей лишних! Зашумела на всю пристань
— Эй, женки-торговки! Кто-то мне в булки двадцать пять рублей обронил! Может, инглишмен какой полоротой! Твенти файф рубель!
Никто не спросил ни завтра, ни послезавтра
После этого быванья прошла осень грязная, зима протяжная. Явилась весна разливна-красна. Закричала гагара за синим морем. Повеяли ветры в русскую сторону.
Опять Иванушко места прибрать не может: «Надо сплавать на Русь, надо повидать маму».
Опять жена плачет:
— Ох, Джон! В России строго: узнает мать — не отпустит.
— Не узнает. Я не скажусь ей, только издали погляжу.
Опять он порядился на корабль старшим матросом и приплыл к Архангельскому городу. Идет в народе по пристани. И мамин голос, как колокольчик:
— Булочки-хваленочки: сверху подгорели, снизу подопрели!
Ваня подошел, купил. Потом в трактире чай пьет, из окна глядит на маму. И жалко ему: постарела мама, рученьки худые… Упасть бы в ноги! Может бы, и простила и отпустила!… Нет, страшно!
Неделю корабль находился в порту, каждодневно сын у матери булочки покупал, а не признался. Только в последний день, перед отходом, сунул ей в короб пятьдесят рублей и ушел в Данию.
Аграфена стала вечером выручку подсчитывать — пятьдесят рублей лишних! Все торговки подивились:
— Что же это, Аграфена! Прошлый год ты у себя в булках двадцать пять рублей нашла, сейчас пятьдесят. Почто же мы ничего не находим? Уж не сын ли тебе помогает?
— А и верно, сын! Больше некому! — И заплакала. — Дитятко мое роженое, почто же ты не признался! Поглядела бы я на тебя… Верно, уж большой стал. Дура я, детища своего не узнала! Теперь каждому буду в руки смотреть.
Таковым побытом опять год протянулся, с зимою, с морозами, с весною разливной. Веют летние ветры, кричит за морем гагара, велит Иванушке на Русь идти, мамку глядеть Плачет жена:
— Ох, Джон! Я не держу тебя, только знай: не так я беспокоилась, когда ты на полгода уходил в Америку, как страшусь теперь, когда ты плывешь одним глазом взглянуть на мать…
Дует веселый вест, свистит в снастях Иванова кораблика. Всплывают русские берега… Вот сгремели якоря, опустились паруса под городом Архангельском. На горе стоят, как век стояли, башни Гостиного двора. Под горой сидит, как век сидела, булочница Аграфена. Теперь она зорко глядит в руки приезжим морякам: не сунет ли кто денег в булки?
Иванушко тоже свое дело правит: у мамы булку купит, в трактире чай пьет, на маму глядит.
И в последний раз, как булку купил, сует матери в корзину сто рублей. А старуха в кошельке роется, будто сдачу ищет, а сама руки покупателя караулит.
Как он деньги-то пихнул, она ястребом взвилась да сцапала его за руки и разинула пасть от земли до неба:
— Кара-у-ул! Грабя-ят!!
Ване бы не бежать, а он побежал. Его и схватили, привели в полицию.
Аграфена тихонько говорит приставу:
— Это не грабитель, это мой сын. Он мне сто рублей подарил. Он двадцать три года терялся. Я хочу, чтобы он сознался.
Пристав подступил к Ване:
— Признавайтесь, вы ей сын?
— Ноу, ноу! Ноу андестенд ю!
Аграфена закричала с плачем:
— Как это «но андерстенд»! Не поверю, чтобы можно было отеческу говорю забыть… Иванушко, ведь я тебя узнала, что же ты молчишь!
Ваня молчит, как бумага белый. И все замолчали. А народу множество набилось. По рынку, по пристани весть полетела, что Аграфена сына нашла. А она снова завопила:
— Ежели так, пущай он рубаху снимет! У него на правом плече три родимые пятнышка рядом.
Пристав приказывает Ивану:
— Раздевайтесь!
Тогда Ваня пал матери в ноги:
— Маменька, я твой сын! Только не губи меня, отпусти! У меня в Дании жена и трое сыновей. Вот тебе все мои деньги пятьсот рублей. Возьми, только отпусти!
Аграфена застучала кулаком по столу:
— Убери свои деньги! Мне не деньги — мне сын дорог Я без сына двадцать три года жила. Я о сыне двадцать три года плакала…
Заплакал и Ваня:
— Мама, пожалей своих внучат! Пропадут они без отца.
Заревели в голое и торговки:
— Аграфена Ивановна, отпусти ты его!
Аграфена говорит:
— Ладно, дитя, я тебя прощаю и отпускаю тебя. Только ты сними с божницы Спасов образ, сними своими руками и поклянись мне, что на будущий год сам приедешь и старшего внука мне на погляденье привезешь.
Действительно, на другой год привез старшего сына. Аграфена внука и зимовать оставила:
— Я внученька русской речи, русскому обычаю научу.
Мальчик пожил у бабушки год и уезжать не захотел.
Ваня привез среднего сына. И этот остался у бабки, не пожелал лететь из теплого русского гнездышка. Тогда приехала жена Ванина с младшим сыном. И полюбилась кроткой датчанке мужнева мать:
— Джон! Останемся тут! Здесь такие добрые люди.
Аграфена веселится:
— Вери гут, невестушка. Где лодья не рыщет, а у якоря будет.
Аграфенины внуки-правнуки и сейчас живут на Севере, на Руси.
По имени Вани, который бегал в Данию, и фамилия их — Датские.
Кроткая вода
Несколько лет назад, читая о четырех советских солдатах, попавших в «относ» в Тихом океане, вспомнил я одну старую «мирскую оказию».
Читатель, мне кажется, без комментариев оценит разницу между старым временем и новым: в прежние времена погибавших поморов никто не искал, никто не писал о них.
Архангельские поморы, бывало, хвалились: «Морскую беду терпеть нам не диво, но когда что за обычай, то весьма сносно».
«Гибельные случаи» из своей жизни поморы иногда закрепляли в своих записных книжках.
Устный рассказ помора о своей беде всегда поэтично-образен. Но стоит ему взять перо, он, стесняясь просторечия, пишет как бы «донесение по начальству». Такой полицейский протокол написал о себе и талантливейший Афанасий Тячкин, от лица которого и ведется рассказ «Кроткая вода»[11]Попавшие в морской унос поморы спасались в «час кроткой воды», то есть во время отливного течения. — Прим. автора..
В 1915 году это протокольно-деловитое донесение разыскала и опубликовала артистка О. Э. Озаровская. Между тем внуки Тячкина сохранили в памяти живые детали устного рассказа своего деда. Их воспоминания и послужили основой предлагаемого читателю рассказа «Кроткая вода».
Мы, жители посада Неноксы, знаем ветер, и воду, и всякую морскую примету.
Но был гибельный случай, над которым я и при старости лет вздыхаю и говорю: море — измена лютая.
В тот там год весной, еще в море льдина погуливала, пришли мы в Архангельск купить жита для посева.
На шестое мая заря всю ночь была многокровавая, а у нас договоренность плыть домой. В карбасе народу двадцать два человека, а жита двести пудов. Приятель мой, Мирон Кологреев, говорит:
— Ошалеть надо, чтобы с эким грузом в море напускаться.
Карбасник говорит:
— Ты и не плавай. Нам и без тебя не тоскливо.
Грамотница Дарья кудемская говорит:
— Чем ругаться, сходите поставьте свещу Николе Морскому.
Мы пошли в часовню, свещи затеплили, цену положили, обратно идем, а старец свещник под берегом сидит у котла с ковшом и кричит:
— Ей вы, утопленники, идите пиво пробовать никольское!
Мы говорим:
— Отче, благослови путь.
Он ковшом взмахнул и запел:
— Непорочнии в путь. Аллилуйя…
Мы это в карбасе рассказали. Одни рассмеялись, другие смутились:
— Ведь это он погребальную кафизму запел…
В море выплыли Никольским устьем. Точно из воды выстал белокаменный Никола.
Тут на веках потонули два сына новгородской посадницы Марфы. Она и поставила мореходную примету: белокаменный Никола, как лебедь, одно крыло распустил на север, другое — на полдень. Карбас грузен, а под парусом ходко бежит. Уж от берега верст за пять были, и тут ветер стал чернеть. В корму поддаст шелоник[12]Юго-западный ветер с реки Шелони., а в лицо ему веток Волна пошла несурядна. Кологреев правил волне вразрез, а правый борт накрыла волна со встока. В каюте вода, в корме того больше. За помпы схватились — помпы не действуют. У карбаса то нос в небо взлетит, то корма кверху. Что тут делать? Надо воду лить, баб от реву унимать…
Парус не поспели обронить.
Бабы взвыли:
— Святитель Никола, убавь воды!
Мужики кричат:
— Ройте жито в воду!
Схватились мешки в море свистать, но той же минуты ветер стегнул в парус, и суденко наше опрокинулось вверх дном, раз за разом, трижды. Сильно страшно, вверх колодой переворачивало. И груз и людей единым мгновением вымыло из карбаса, как сор из чашки.
О, коль тошно человеку водою конец принимать! Я, Афанасий Тячкин, всплыл из-под карбаса возле самый борт. Карбас лежит на водах боком: мачта с реей и парусом не дают ему обвернуться вверх колодой-килем.
Ухватясь за обшивку, я вытянулся за борт, а из-под карбаса вынесло Мирона Кологреева. Я ухватил Мирона за волосы и подал руку. В тот же миг карбасник наш, чая спасения, схватил Мирона за ногу, и толь несоблюдно, что сдернул с ноги, с левой, сапог и унес в пучину моря.
Еще разом выстали из воды, возле карбаса, братишко мой Степка и Лукьян Лгалов. Степка сам залягнулся ногами на сухой борт, а Лукьяна выудил Кологреев.
Еще сколько-то держалась на водах Дарья Ивановна, грамотница из Кудьмы. Сарафан широко спузырился и не дает тонуть.
Но не успели ахнуть, как она, махнув бахилами, исчезла в бездне.
И вот мы четверо посреди смертей многих. Пособить бы, да некак, помочь бы, да нечем.
А нас, четырех, понесло вниз и к вечеру спустило до Летних гор. Несло в великой нужде: карбас на боку, волна ударит, нас ледяной водой полощет, — зубов сцепить не можем.
Как вода пошла на прибыль, и наше суденко покорно плывет в обратный путь. Верст за пятнадцать подносило к родному берегу. Видели Ненокотскую вараку и белый Климент на ней. Тогда Кологреев говорит мне:
— Ты, Афоня, в грамоту горазд. На тебе шило. Напиши память.
Сроду этак никто не писывал, как я, — уцепясь ногами за борт, головой вниз, рукой буква за буквой царапаю на обшивке. И о долгах было написано, кому что отдать и с кого что взять.
Опять часы дошли, и кроткая вода понесла нас вниз, попутно воде летние ветры управили карбас на середину моря. При конце убылых часов завидели Терский берег. Там еще снег белел. Загорелась надежда зачалиться за льдинку и вылезти на гору. Но ударил с Терских гор ветер, а теченье пошло на прибыль… Нас понесло обратно и стало осаживать во всток, в Зимнее море.
Только глазами ели берег-то… Жажда нас томила. Выудили льдинку, пососали: как полынь горька. И опять вздохнула грудь морская. Прибыль сменилась на убылую воду. Палая вода стала нас осаживать вниз, но несет ближе к земле, и находимся от берега в семи верстах. Однако вешние воды с Двины садят о Зимний берег сильно и неодержимо. И мы сказали друг другу:
— Ежели за этот берег не захватимся, то полетим вниз и в океане пропадем.
Чтобы как-нибудь прибарахтаться к берегу, надо было обронить мачту с реей и парусом, которые держали судно на боку.
Вот ведь злое горе! Дома, хоть в избе, хоть во дворе, завсегда топор за поясом и нож у пазухи, а в грозном море оказались с голыми руками. Но усилились, и отогнули железные обоймы, и развязали, ногтями да зубами, бортовые снасти-крепи. Но мачту еще сдерживает штак — снасть, протянутая от верхушки к носу. Благо ночи светлые, и мы, раздеваясь догола, по очереди лезем в ледяную воду, от носового корга этот штак отвязывать.
Восьмого мая штак был отвязан. Той же минуты мачта выпрянула из своего гнезда, и той же секунды карбас обвернулся вверх колодой-килем. А мы, все четверо, разом ухнули в воду. Но скорополучно вычерапались на днище и сдумали думу: обвернуть карбас как следует. Для сей акции уперлись коленями в киль, а руками в воде по локоть ухватились за борт и тянули на себя. И толь ловко преуспели, что, обвернувшись, карбас чуть нас не утопил. Но опять вынырнули и залезли в карбас. Сели, в воде по пояс, двое с той и двое с другой стороны. Сняли по сапогу, стали воду отливать. Воды не убывает: взводень через ходит. Между тем течение гонит мимо берег, ждать некогда.
Отодрали от поддона две доски матерых. Зачали грести и задаваться в берег. А Кологреев у руля. Румпель утерялся, и Кологреев держит руль в охапке. А мы изо всей мочи гребем, действуем досками. А сами ведь по грудь и по пояс в воде.
Девятого мая, раным-рано поутру, шаркнул наш карбас по прибрежному песку — хрящу. Выбрели на землю, пали, поклонились трижды. Напились водицы из ручья, сели на сухом на бережку, поплакали от радости.
Место, на которое мы вышли, находится в половине Зимнего берега и называется Добрыниха. Рассудили, что разумнее всего идти в Зимнюю Золотицу. Кологреев, глядя на меня и на Лгалова, вздохнул:
— Справите ли, осудари, экой путь?
Я действительно при утоплении разбил себе колени, а Лгалов оскудел всем телом, но и у Мирона одна нога была босая. Я говорю:
— Хоть ползунком ползти, а в Золотице быть.
Пошли мы берегом, брели водою, вязли в глинах. Лезли мы через наносный хлам, ползли по глиняным оплавинам. Изваляемся, как куклы глиняные. И везде ручьи гремят, как добрые жеребцы ржут. Так дошли до становища Лысунова: крест, изба, амбар. И — безлюдье. В избе на блюде — кости рыбьи прошлогодние, мы пожевали. И уснули, будто люди, в доме; на лавках, будто господа какие.
Дальше путь пошел до наволока Вепрь. А погода взялась ненастлива: сито с дождем. Мы с Лукьяном Лгаловым под руку ведем друг друга. Кологреев в Лысунове полотенце драное нашел, босую ногу завернул. Лукьян шутит:
— Чем так идти, поедем друг на дружке попеременно. Ты, Афанасий, садись на Мирона, я сяду на Степку. Час проедем и сменимся.
Кологреев смеется:
— Я боюсь, Афонька и Лукьян зачнут скакать. Мы упадем, убьемся…
Дошли до наволока Вепрь. На полугоре часовня древняя, и божество в ней древнее. Лестно было постоять. У иконы воск нашли и пожевали. Нам досадно было, что ни в одной избушке на странных, на людей терпящих, припасу никакого не оставлено. Но — год был скудный.
В часовне и обночевали. Сон отрясли — утро ясное, холодное. Опять бредем, идем песками прибрежными. Пески зыбучие, мы еле ноги перекладываем.
Этак о полдень привалились на песок, забылись… Вдруг чайка надлетела, звонко крикнула. Мы прохватились, а невдалеке от берега бежит судно поморское под парусами.
Мы по берегу забегали, закричали, замолились. Видим: на судне паруса убавляют, лодку спущают. Кормщик и хозяин судна, дошед до нас, спрашивают:
— Вы какие?
— Осудари корабельщики, не оставьте нас, губительных людей!
Без дальних расспросов в лодку они нам забраться помогли а из лодки на судно затянули. Далее спрашивают:
— Куда вы попадали?
— В Золотицу в Зимнюю.
Они говорят:
— В Золотицу вас доставим. А теперь выпейте, поешьте и усните.
Тут нам несут уху горячую, и хлебы мягкие, и вина по чайной чашке.
Судно к Золотице подошло, а у меня и у Лукьяна ноги ничего не понимают. Доброхоты корабельщики нас в деревню на руках несли.
Золотицкий староста хотел нас положить к себе, но житель Степан Субботин отпросил нас в свой дом. Тут доброхоты корабельщики прощаются, торопятся на судно.
Мы их только тем отблагодарили, что в ноги пали со слезами.
В Золотицу мы пришли одиннадцатого мая. Мы приметили, что люд одет нарядно и поют девицы. Здесь был престольный праздник — Троица.
Хозяин наш Степан Субботин нас зовет к гостям. Мы подивились:
— Степан Иванович, какие же мы гости?!
Он говорит:
— Самые дорогие: нынче я вас, потерпевших, принимаю, а в иное время сам могу попасть в морской унос. Тогда вы меня не оставьте.
Прихаживал к нам и золотицкий старшина. Он советовал:
— Вам веселее будет попадать домой через Архангельск. Когда поотдохнете, я наряжу под вас карбас.
Преудивленный человек Степан Субботин держал нас десять дней. Нами беспокоился и нас воспитывал, как отец родной. Приводил знающих старух, которые определили, что я болею от простуды, а Лгалов от кручины.
Двадцатого мая мы выплыли из Зимней Золотицы на казенном карбасе. Из Архангельска поехали домой на конях.
… Узнали, что, когда еще нас четверых носило по морю, в Неноксу уж прилетела гибельная весть и велик был плач с рыданьем.
Устюжского мещанина Василия Феоктистова вопиящина краткое жизнеописание
Любителей простонародного художества нонче у нас довольно. Уповаю, что и моя практика маляра-живописца послужит к пользе и удовлетворению таковых любителей.
Окидывая умственным взором ту отдаленную эпоху, читатель видит худощавого юношу, а еще ранее младенца, который отнюдь не получает хвалы за свое стремление к искусству, а наоборот — деру. Рисовать и красить отваживался я только в воскресные и праздничные дни. Переводил на серую бумагу лубочные картины или из «Родины» и цветил ягодным соком, свеклой, чернилом и подсинивал краской для пряжи. Которые картинки выходили побойчее, получал за них от деревенских копейки по три и по пятаку. Тогда и родители начинали смотреть на мое художество снисходительно.
Пятнадцати годов фортуна обратила ко мне благосклонные взоры в лице устюжского мещанина, живописца Ионы Неупокоева, каковой мастер работал по наружности и по внутренней отделке.
Преодолев диковатую стеснительность, я подскакивал к Ионе со всяким угождением, и добродушный человек сговорил меня в ученики за пять рублей в месяц.
С каким душевным удовлетворением гляжу я на жизненное поприще теперешней молодежи: теперь кто имеет призвание или стремление, ему не так трудно выказать себя. Нонче всякое рачительное усердие в науке и художестве неограничительно поощряется государством.
Так ли теперешний студент, принятый в Академию художеств, доволен судьбою, как радовался Васька Вопиящин, попавши в обучение к маляру Ионе Неупокоеву?
Истинно был Неупокоев: на одном месте не любил сидеть.
С Ионою Неупокоевым обошел я мало не все выдающие пункты Вологоцкой и Архангельской губерен. Иону ничто не держит: ни дождь, ни снег. Он все идет да идет. И я за ним, как нитка за иглой. Окромя всякого малярного поделия, как-то: левкас, окраска, отделка под мрамор и под орех, — с успехом потрафляли по художественной части. Липовой доски на Севере нету. Под краску утвари деланы из сосны, ели, ольхи.
Поновляли божество и писали изнова, свободно копируя в новейшем вкусе. Причем любопытно отметить, что население Северной Двины и Поморья имеет неопровержимое понятие к древнерусским образцам письма.
Повсеместно принятую новую живопись икон здесь почитают за простые картины, и местное духовенство нередко потакает таковому пристрастию прихожан. В японскую войну 1904 года мне довелось пособлять владимирскому иконописцу в поновлении древнего иконостаса в Заостровье, под городом Архангельском. Профессура археологов навряд ли Так следит за реставрацией, каковым недреманным оком караулило нашу работу местное население, даже простые бабы, чтобы мы не превратили навыкновенных им дохматов.
Но возвращаюсь к предыдущему периоду. Перьвой мой учитель Иона достоконально знал живописную практику и мог говорить об теории. Но благодаря тому, что Иона любитель был скитаться по проселочным дорогам, а не шаркать по городовым тротуарам, у него зачастую конкуренты удерьгивали из рук работу или заказ.
Самозванный художник, а по существу малярешко Самое немудрое, Варнава Гущин не однажды костил Иону Неупокоева в консистории, якобы пьянственную личность. Но пусть беспристрастные потомки судят хотя бы по такому факту:
«Де мортуи низиль ни бебэне». Но таково было повседневное поведение самозванного Варнашки и К°. Отнюдь не оскорбляя памяти усопших, которые, напившись, пели песни в храме божием, где имели пребывание по месту работ! Каковые несвойственные вопли в ночное время вызывали нарекание проживающих деревень.
Но мастер призванный, а не самозванный, Иона, когда ему доверено поновить художество предков, с негодованием отвергал, даже ежели бы поднесли ему кубок искрометной мальвазии, не то что простого. Но даже и принявши с простуды чашки две-три и не могши держаться на подвязах, Иона все же не валялся и не спал, но, нетвердо стоя на ногах, тем не менее твердою рукою побеливал сильные места нижнего яруса; причем нередко рыдал, до глубины души переживая воображенные кистью события.
С Ионою Терентьевичем ходил я десять годов не как в учениках, а в товарищах. Такого человека более не доведется встретить.
Преставился в 1895 году в городе Каргополе.
Такой удивленный житель Иона, что у него не было ни к кому хозяйственного поведения. Ходил зимой и летом одним цветом: одежонка сермяжных сукон. Прибыльные подряды на округ были в руках загребущих человеков. У Ионы его многотрудные руки простирались только ко краскам да кистям, к столярным да к щекотурным снастям, а не ко граблению. Он чужого гроша под палец не подгибал.
Иона Неупокоев имел дарование писать с живых лиц — глядит и пишет. Умел милиатюрное письмо, так что предельная величина не превышала двенадцать вершков, каковым портретом занимался в среде мещанства и торгового сословия.
Но фотография подорвала уже своей дешевизной цены.
Впрочем, заказывают увеличение на красках с карточек визитного размера, чтобы отнюдь не явилось черноты, но поцветнее и посановитее.
Иона для сортовых писем холстинки накладывал на тонкую дощечку и, ежели где стоим долго, писал из яйца. Я же, худой ученик, клею холст и на кардонку да, наведя тонкий левкас, пишу готовыми масляными красками. А из яйца писать — много обрядни. В запас яичных красок не натворишь, хотя и прочнее. Впрочем, и Иона делывал без доски. Но три холстинки одна на другую наклеит мездрявым или рыбным клеем, оказывало как дощечка.
Такого рода живопись на паволоке имелась на флотском полуэкипаже адмиралтейства города Архангельска. Такие у Варпаховского в Рыбопромышленном музее на Троицком пришпекте, того же типа два шкапа на красках. Каковые шкапы делал я во свои юные годы, каждогодно посещая Архангельский город с Ионою Неупокоевым на время ярманки для письма балаганов.
У иконного письма теперь такого рачения не видится, с каковым я приуготовлял тогда эти дверцы и ставеньки про свое наивное художество. Которое, впрочем, художеством никто и не называл, но не более как расписные ложки и плошки.
Господин Менк, пейзажист из превосходных, неоднократно удивлялся навыкновенной процедуре нашего письма. Он говорил: «Теперь я понимаю, для чего моя картина, висящая в гостиной, помрачнела в десять лет. А дверь, которую здешний мещанин упестрил своей варварской кистью сорок лет назад, не утратила колоритов».
Я тогда не доспросился, а, видимо, господин Менк понял: потому варварское письмо прочно и цветно, что мещанин сам и краску тер, сам олифу варил.
Которую олифу варил знающий человек, и под той олифой живопись как под стеклом. Но и краска должна вмереть в дерево, в левкас. То уж письмо вековое. Правнуки подивятся.
Ишь, скажут, — прежние дураки над чем старались. Рядовой работы комоды, сундуки, шкапы подписывали расхожими сужектами: вазоны, травы, цветки. Дерево или железо грунтовали охрой, крыли белилом свинцовым и писали на три краски во льняном масле.
Но возьмем предметы благородной страсти господина Варпаховского или флотского полуэкипажа. Им теперича годов по девяносту и по шестьдесят. Но они сохраняют следы былой красоты.
Но молодые бабы суть лютой враг писаной утвари. Они где увидят живописный стол, сундук или ставень, тотчас набрасываются с кипящим щелоком, с железной мочалкой, с дресвой, с песком. И драят наше письмо лютее, нежели матрос пароходную палубу.
Но любее нам толковать о художествах, а не о молодых бабах.
Устоющей работы сухое дерево приклеивали клеем, который выварен из кожаных обрезков. Как высохнет, всякую ямурину загладим. Тогда холщовую настилку, вымочив в клею, притираем на выделяющие места, где быть живописи.
Паволока пущай сохнет, а я творю левкас: ситом сеянной мел бью мутовкой в теплой и крепкой тресковой ухе, чтобы было как сметана. Тем составом выкроешь паволоку, просушивая дважды, чтобы ногтя в два толщины. И, по просухе, лощить зубом звериным, чтобы выказало как скорлупка у яйца. Тогда и письмо. Тут и рисованье, тут и любованье. Тут другой кто не тронь, не вороши, у которого руки нехороши.
Как деланы были шкапы на морское собрание и у чела писал панораму Соломбальского адмиралтейства, а по ставенькам постройку фрегата «Пересвет», каковая состоялась в 1862 году. Да на другом шкапу: «Бомбандирование Соловецких островов от англицкой королевы Виктории в 1854 году». Писано яичными красками и самой изящной работы.
Егор увеселялся морем
Впоследствии времени пущай эти слова будут мне у гробового входа красою вечною сиять.
А сейчас разговор пойдет про свадьбу. О том, как Егор жену замуж выдал. Действительно, я свою бесценную супругу замуж выдал. Замуж выдал и приданое дал! Люди судят:
— Ты, Егор, всему берегу диво доспел С тебя будут пример снимать.
— Не будут пример снимать, ежели рассмотрят, какими пилами сердца у нас перетирались.
Жизнь моя началась на службе Студеному морю. Родом я с Онеги, но не помню родной избы, не помню маткиных песен. Только помню неоглядный простор морской, мачты да снасти, шум волн, крики чаек. Я знал Студеное море, как любой человек знает свой дом. Ты идешь в темной комнате, знаешь, где скрипит половица, где порог, где косяк. Я судно в тумане веду. Не стукну о камень, не задену о коргу.
Теперешнее мое звание — шкипер, но судовая команда звала меня по-старому «кормщик» и шутила:
— Наш кормщик со шкуной в рот зайдет да и поворотится.
Мореходство — праведный труд. Море строит человека.
Наше судно называлось «Мурманец». Много лет ходили мы на нем. Пятнадцать человек — все как одна семья. Зимовали на Онежском и на Зимнем берегу. Я занимался судовым строением, увлекался переправкой парусных судов на паровые. Чертил проекты и чертежи посылал в Архангельск.
Отдыхал с малыми ребятами: делал им игрушки. На Зимнем берегу был у меня приятель Колька Зимний. Обожал меня за кисти да за краски. Где меня ни встретит: «Дядюшка Егор Васильевич, срисуй кораблик!»
На Онежском берегу меня встречала маленькая Варенька. Я ей рассказывал про Кольку Зимнего. Она ему вышила платочек. Он ей послал рябиновую дудочку.
Маленькая Варенька любила мои сказки. Впоследствии она сама рассказала мне сказку моей жизни.
Имея дарование к поэзии, я две зимы трудился над стихами. В звучных куплетах изложил мое жизнеописание. Но едва начну читать, как слушателей сковывал могучий сон.
Я тогда не думал о своих годах, о возрасте. Годы жизни были словно гуси: летели, звали, устремлялись. Мне стукнуло пятьдесят годов.
Получаю приглашение явиться в управление Архангельского порта. Товарищи мои обеспокоились:
— Что ты, шкипер! Неужели нас покинешь? Не являйся и не отвечай.
— Ребята, я вернусь через неделю Может, любознательность какая.
— Смотри, шкипер. Отпускаем тебя на десять дней, не более.
Я ушел от них на десять дней — и прожил в разлуке с ними десять лет.
Являюсь в Архангельск. Оказалось, что над конторой порта поставлен некто, старый мой знакомец. Он меня встречает, стул поддерьгает. Из своих рук чаем потчует.
— Садись, второй Кулибин. Я нашел твои изобретательные чертежи о применении парового двигателя в парусном ходу. Мы в этом направлении оборудовали мастерскую. Работай и сумей увлечь мастеровую молодежь.
… Я шел по городу без шапки. Шапку позабыл в конторе. Смеяться мне или плакать?
Мастеровая молодежь оценила жизнерадостность моей натуры. Был я слесарь и столяр, токарь и маляр чертежник и художник.
Покатились дни и месяцы.
Сравнялся год, пошел другой.
Вышеупомянутый начальник так аттестовал мою работу: Я не ошибся, что призвал тебя. Но не могу тебя понять. Ты механик, чинишь пароходные машины, а твои ученики только и слышат от тебя, что гимны легкокрылым парусным судам.
Так прошло пять лет. И такое у меня чувство, будто меня обокрали. Нет, — будто я кого-то обокрал. О покинутой семье, то есть о морской своей дружине, я старался ничего не знать, я усиливался позабыть.
Как весна придет, я места не могу прибрать.
Эх, шкипер, пять годов на якоре стоишь! Выкатал бы якорь, открыл бы паруса — да в море…
… Нет, я на прибавку к якорю цепью приковался к берегу еще на пять годов.
Получаю письмо с Онеги. Варенька, которую я помнил крошкой, пишет, что, за смертью отца, желают они с матерью жить в Архангельске. Умеют шить шелками, знают кружевное дело.
Я жил в домике, который мне достался после тетки. Пригласил Вареньку к себе.
Встретил их на пристани. Со шкуны сходит девица в смирном платье, тоненькая, но, как златая диадима, сложены на голове косы в два ряда. Давно ли на зеленой травке резвилась, а тут… Взгляни да ахни! И какое спокойствие юного личика! Какая мечтательность взгляда! Тонкость форм не по вкусу нашему быту, но я обожаю мечтательность в женщине.
Они стали жить у меня в верхнем покойчике.
Мне — за пятьдесят. Варе — двадцать, а я попервости робел. Она выйдет шить на крылечко, я из-под занавески воздыхаю и все дивлюсь: «Что это люди-те у моих ворот не копятся на красу любоваться?»
Дальше — Варя поступила в школу, учить девиц изяществу шитья. Я тоже осмелел. Укараулю Варю дома, подымусь на вышку, будто к маменьке, а разговоры рассыпаю перед дочкой.
— Ну, задумчивая Офелия, признайтесь, кто из коллег-учителей вам больше нравится?
Варя шутливо:
— Офелию вода взяла. Ужели я с утопленницей схожа?
— Кто-нибудь да утонет в вашем сердце…
И мать вздохнет:
— Сердце закрыто дверцей. Истинная Фефелия. Хоть бы ты, Егор, ее в театр сводил.
Я за это слово ухватился. Представление привелось протяжное. Моя дама не скучает, переживает от души. Переживал и я. В домашности даже касательство руки предосудительно, а в театре — близкая доверчивость. Притом воздушный туалет и аромат невинности…
В гардеробной подаю Варе шубку, а сторожиха с умиленьем:
— Ишь, папенька, как доченьку жалеет! Видно, одинака дочка-то?
Дома в зеркало поглядывался: сюртук по старой моде. Борода древлеотеческая… Что же, старее тебя есть кобели, и те женились на молоденьких. Мало ли исторических примеров!
Ум мой раздвоился. Корабль руль потерял, и подхватили его неведомые ветры.
Не узнают дядю Егора его ученики: брюки с напуском при куцом пиджачке, бородка а-ля Фемистофель. Во рту папироса, курить не умею.
Приглашаю Варю в оперетку. Половины действия не досидела:
— Как это можно любовь на смех подымать, а измену выхвалять?!
Как-то в мастерской наступил я кошке на хвост. Ребята рассмеялись:
— Егор Васильевич, жениться задумал?
— Кто вам сказал?
— Примета такая. Рассеянность чувств.
Я постарался открыть свои чувства в стихах. Варя отвечала грустным взглядом. Наконец я изъяснился со всею тонкостью, вынесенною из книг. Варя покорно опустила глаза.
Первый год после свадьбы «молодой муж» на крыльях летал, на одном каблуке ходил. С лестницы бегом и на лестницу бегом. На работу побежу, жене воздушные поцелуи посылаю. А поясница аккуратно дождь и снег предсказывает. Изучил тонкую светску манеру поведения, ножкой шаркать и ручку целовать. Да, любовь у юноши душу строит, а у старика душу мутит.
А Варя какова была, такая и осталась. Ни вздоров, ни перекоров, ни пустых разговоров. Никогда меня не оконфузила, не оговорила, не подосадовала. Чуть припаду с простуды, она и ночь не спит. И школу посещала, ремесло свое правила радетельно. Детей любила. С улицы чужого ребенка притащит, обмоет да накормит.
Варенька была охотница до романов, изображающих высокие волнения страстей. Но к себе того не примеряла.
Таковым побытом мы прожили с ней четыре года. Но у меня такое чувство, будто меня обокрали. Нет, — будто я кого-то обокрал.
Было ненастное лето. В море бушевали непогоды. Ходили слухи о крушениях. В один ненастный день меня требуют в контору. Начальник говорит:
— На Соломбальском острове находится шкуна, по имени «Обнова», потерпевшая аварию. Шкуна принадлежит Онежскому обществу, но контора собирается ее купить. Возлагаю на тебя ремонт. Возьми помощников. Имей в виду, шкипер этой шкуны — аттестованный механик. Приобучался в Петербурге, Николай Иванов.
— Не слыхал такого, — говорю.
Пришел к Соломбалу на лихтере. Ребята выгружают матерьялы, инструменты, а я на шкуну наглядеться не могу. Истинно «Обнова»! Какая легкость и изящество постройки! Разговариваю с ней, со шкуной-то, пробоины руками глажу:
— Не горюй, голубушка моя. Залечим твои раны. Будешь краше прежнего…
Вдруг кто-то меня руками сзади охапил. Оглядываюсь: молодой детина, станом крепок, лицом светел.
— Вы кто будете? — спрашиваю.
Детина состроил мальчишескую рожицу и выговорил только:
— Дядюшка Егор, срисуй кораблик!
— Колька Зимний! Ах ты, милый мой! Ах ты, желанный…
Меня почему-то страшно взволновала новость, которую мне Коля сообщил: команда его шкуны почти целиком состояла из былых моих товарищей по «Мурманцу». Старый «Мурманец» обветшал, но согласие его дружины осталось нерушимо.
Спрашиваю Колю:
— Они где теперь?
— Поспешили на родину, в Онегу. Но я слышал, что управление порта не хочет отпустить таких отменных моряков.
Варе я рассказал о встрече с Колей Зимним, а ему устроил маленький сюрприз. Он знал, что я женат, но ожидал увидеть хлопотливую старушку. Вообразите изумление молодого человека, когда перед ним предстала моя задумчивая Офелия в венце прекрасных кос.
— Варенька, вот этот джентльмен когда-то смастерил трумпетку из рябины и послал тебе в подарок.
Варенька смеется, протягивает ему руку. Он ее руки не замечает, покраснел:
— Так это вы… Это вы мне вышили платочек?…
Я хохочу впокаточку:
— Это я вас, сопленосых, сватал. Дары от жениха невесте за море возил. Упустили вы свое счастье. Сват-то сам не промах. Ха-ха-ха! А ты, Коля, почему не женат?
— Судьбы не было, Егор Васильевич.
С весельем я у этой шкуны работал.
Как матка дочку умывает да утирает, учесывает да углаживает, наряжает и любуется, так я эту «Обнову» уделывал и обихаживал. И то было умильно и утешно, что для старых моих товарищей стараюсь. Пускай добром помянут кормщика.
Варя иногда придет, шанег горячих принесет.
Как-то в обед сижу я, отдыхаю под берегом: чайки кричат, рыбу промышляют. Меж седого камня синий колокольчик, незабудки. Вдруг слышу смех: Коля с Варей собирают по угору шиповник на букет. Она боится оступиться, он ее за руку содержит. И что у них смеху, разговору! Молодость их берет. А мне что-то скучен стал сияющий день, полиняло небо, поблекли цветы.
Стал я уросить и обижаться. Ну, посудите сами: этот молодой человек разбил о камни судно. Заместо того чтобы с сокрушенным сердцем помогать мне у починки этого судна, он зубоскалит с дамами, подносит им букетики.
Коля за столом пустяк соврет — Варенька смеется, как колокольчик. А я учну что-нибудь полезное объяснять — в ней захватывающего внимания нет. А уж, кажется, любезная, могла бы ты за столько лет оценить мои любопытные познания и рассудительность понятий…
А Николай что? Неосновательность мнений, невнимание к тайнам природы. От моря пошел, а к морю должного пристрастия нет. При всем желании нечем восхищаться: ни изящества воспитанных манер, ни светской обходительности… Медвежонок! Каждая лапа с ведро. Только и есть что располагающие глаза да зубы со смехом.
Мне были тягостны такие переживания. Будто два человека боролись во мне. Один, любящий и добрый, радовался, что Варя оживилась и повеселела, а другой кто-то ревновал и оскорблялся.
Но и Варя что-то заметила в своем сердце и чего-то испугалась. Как-то раз сговорились мы втроем на остров по морошку. Я, изобретаючи олифу, позамешкался. И Варя отказалась:
— Я без мужа ездить неповадна.
Как дом отеческий, я шкуну обновил и учинил. И, отделав дела, как с домом отеческим, простился. Николай остался жить в Соломбале.
Потянулась ненастная осень. Залетали белые мухи. Варя дрогнула и с лица сменилась. Он гостил у меня два дня. Варя не сказала с ним двух слов. По отъезде в глазах ее установилась смертная тоска. Молчит, склоняясь над шитьем. За оконцем неустанно-неуклонно падает снег…
Что же делает Егор в присутствии плачевной супруги?
Вознамерился презрение показывать и безотрадно в том преуспевал. Оледенело сердце, и страшная была зима душевная.
Думали, конца зиме-то не дождаться… Однажды Варя мне сказала:
— Егор Васильевич, Коля мне пишет. Письма все в красненьком столике.
Я процедил сквозь зубы:
— За низкость почитаю интересоваться подобными секретами.
Однажды ночью слышу: Варя вздыхает, плачет за своей перегородкой. Я выговорил ехидным тенорком:
— Бабушка, бывало, молилась: «Пошли мне, господи, слезную тучу». Я спишу для вас?
Остегнул ее таким словом и — ужаснулся. Я ли это? Ей ли, бедной, говорю? Хотел зареветь, заместо того скроил рожу в улыбку.
Коля явился к нам на масленой. Я только охнул. Будто кто его похитил: глаза ввалились, по привычке улыбается, но улыбка самая страдальческая.
Я был маленько выпивши и запел дурным голосом:
Где твое девалось белое тело?
Где твой девался алый румянец?
Белое тело на шелковой плетке,
Алый румянец на правой на ручке.
Плетью ударит тела убавит.
В щеку ударит румянца не станет.
Пою… И тяжкий груз, который меня всего давил, во едино место собрался: вот-вот скину. Заплакать бы — еще не могу.
На другой день Барина мать мне «по тайности» высказывала:
— Коля без тебя заходил проститься. Они всегда молча сидят. А тут он глядел-глядел, да и пал перед Варей. Обнял ей ноги, положил ей голову на колени и заплакал навзрыд, как ребенок, Варя лила слезы безмолвно, прижимая к устам платок, чтобы заглушить рыданья. Потом отерла Колино лицо и сказала: «Коля, много у нас цветов было посеяно, мало уродилось. Коленька, когда мы будем в разлуке, не грусти безмерно. Моя душа всякий раз слышит твою печаль и скорбит неутешно».
Я прибежал к себе, зачал бороду рвать и кусать: «Ирод ты! Журавлиная шея, желтая седина! Что ты, мимо себя, на людей нападаешь? Что ты свою жизнь надсаживаешь?!»
Опять весна пришла, большие воды, немеркнущие зори. Было слышно, что старые товарищи мои согласились поступить на «Обнову», Контора их ждала со дня на день. Но какое мне дело до вольных людей!
Какой-то вечер мы сидели с Варей, молчали. Приходит Зотов, пароходский знакомый. К разговору спрашивает:
— Что это ваш Николай Зимний затевает? Подал в управление порта просьбу о зачислении его в команду Новоземельской экспедиции. Вторую неделю живет в городе. Остановился у меня.
Варя сделалась белее скатерти. Вышла из комнаты. Слышу, наверху, в светелке, дверь скрипнула.
Когда Зотов ушел, я поднялся к Варе. Она где плакала, у окна на сундучке, тут и уснула. И столько было ейного воз-рыданья, что и рукав и плат мокры от слез. Негасимый свет летней ночи озарял лицо спящей. И грозно было видеть неизъяснимую печаль на сомкнутых глазах, горечь в сжатых устах.
Жалось пуще рогатины ударила мне в сердце. И, опрятно встав, руки к сердцу, заплакал я со слезами. И тихостным гласом, чтобы не нарушить скорбного сна, зачал говорить:
— Дитятко мое прежалостное, горькая сиротиночка! Где твоя красота? Где твоя премилая молодость? Ты мало со мной порадовалась. Горьки были тебе мои поцелуи. Я неладно делал, лихо к лиху прикладывал. Совесть меня укоряла — я укорам совести не верил. Видел тебя во слезах — и стыдился утешать. Сколько раз твоя печаль меня умиляла, но гордость удержала.
Кукушица моя горемычная, горлица моя заунывная! Звери над детьми веселятся, птица о птенцах радуется, — ты в холодном гнезде привитала. Ты, как солнце за облаком, терялась, мое милое дитя ненаглядное! Был я тебе муж-досадитель, теперь я тебе отец-покровитель…
Шепчу эти речи, у самого слезы до пят протекают. А красное всхожее солнышко золотит сосновые стены.
Так я в эту ночь свою гордость обрыдал и оплакал.
Но часы-время коротаются, утро — в полном лике. Прилетел морской ветерок, и занавески по окнам залетали, как белые голуби. Внизу я наказал, чтобы покараулили Варин сон, чтобы, как проснется, шла она к Коле, на квартиру и ждала меня там, у Зотова.
А сам достал из сундука поморскую свою одежу коричневых сукон, вязаную, с нездешними узорами рубаху, бахилы с красными голенищами, обрядился, как должно, и легкою походкой отправился в контору.
В конторе прямо подлетаю к начальнику, не обратив внимания на людей, сидящих вдоль стены:
— Господин начальник, я по личному делу.
Удивленно взглянув на меня, он показал рукой на сидящих:
— Ты с ними не знаком, Егор Васильевич?
Я оглянулся и… повалился в ноги им, старой дружине моей.
Сколько у меня было слов приготовлено на случай встречи с ними! А только и мог выговорить:
— Голубчики… Единственные… Простите.
Они встали все, как один, и ответно поклонились мне большим поклоном:
— Здравствуй многолетно, дорогой кормщик и друг Егор Васильевич!
Меня усадили на стул. А я все гляжу на них, вековых моих друзей, на их спокойные лица, степенные фигуры. Начальник говорит:
— Ты пришел, Егор Васильевич, более чем кстати… Да ты ведь по личному делу?
— Я шел сюда проситься в команду «Обновы».
Начальник говорит:
— Я ожидал этого. Но правление не отпустит тебя, если не представишь заместителя. А такого не предвидится.
Я спрашиваю:
— Верны ли слухи, что Николай Зимний ушел с «Обновы»?
— Ушел. Отказался от этой службы категорически. По каким-то личным обстоятельствам.
Я говорю:
— Господин начальник, вот бы кто поставил мастерскую на должную высоту. Николай Зимний — судовой механик с аттестатом.
Начальник даже крякнул:
— Эх, Егор! Лучшего бы выхода и для тебя и для меня не было. Но Николай Зимний рвется в дальние края. Он заявил мне: «Если не устроите меня в Новоземельскую экспедицию, я уйду в дальние зимовья на купеческих судах.» Уперся, уговаривай его хоть год.
Я стукнул кулаком о стол и говорю:
— Господин начальник, я берусь уговорить Николая остаться в городе. И сроку мне понадобится не год, а пять минут.
Все глаза вытаращили
— Каким образом?
— Цепью его прикую к пристани.
— В добрый час, Егор! Орудуй!
Я побежал к Зотову, где жил Николай. Остался в сенях, слушаю… Варя плачет с причетью:
Не одна родитель нас родила,
Одной участью-таланом наградила:
Что любовь наша — печаль без утешенья.
Мне не честь будет старого мужа бросить.
Он не грозно надо мной распоряжался.
Не обидел меня грубим словом.
Он много цветов посеял, мало уродилось.
Николай говорит:
— Мне должно уехать, Варенька, но не терплю без вас быть!
Я дверь размахнул, за порог высокоторжественно ступил:
— Принимайте меня с хлебом-солью! Доченька! Много ты потерпела бедностей, и ты ныне возрадуйся! Я, твой бывший муж, ныне же твой отец, торжествую над собой пресветлую победу. Отдаю тебя Николаю на руки, Ивановичу навеки… Николка, я твою думу разбойницкую всю знаю. Не затевай! Не езди!
Он прослезился горько и отер слезы:
— Егор Васильевич!… Мы вас не согласны обидеть…
Варя пала мне в ноги:
— Благодарствую, Егор Васильевич! Спасибо на великом желаньице. Ты доспел себе орлиные крылья, нашел в себе высокую силу.
Ты мужскую обиду прощаешь,
Превысоких степеней отцовских доступаешь,
Пред тобой мы безответны и немы.
Я подхватил ее с полу, как ребенка.
— Дочка, подыми лицо и более ни перед кем не опущай! Дети! Я упал больно, встал здорово. Теперь буду вашей радости пайщик, вашего веселья дольщик, вашего счастья половинщик.
Видя мою радость, Коля с Варей стали краше утра. Я учредил их в моем домишке и, как куропать вырвавшись из силка, устремился к старой и вечно юной морской жизни.
Радость одна не приходит: дружина моя объявила портовой конторе, что подпишутся в службу только в том случае, ежели шкипером на «Обнове» положат старого их кормщика Егора Васильевича.
Вот и настал этот торжественный день моего освобожденья, день отпущенья. Все мы собрались сполна. Начальник конторы сам перо в чернильницу обмакнул и подает мне:
— Подписывайся, кормщик.
Я говорю:
— Дозвольте, господин начальник, чин справить, у дружины спроситься.
Товарищи зашумели:
— Егор Васильевич! Это чин новоначальных. Ты старинный мореходец.
Я говорю:
— Совесть моя так повелевает.
Они сели вдоль стены чинно. Я встал перед ними, нога к ноге, рука к сердцу, и выговорил:
— Челом бью всем вам, и большим, и меньшим, и середним: прошу принять меня в морскую службу, в каков чин годен буду, И о том пречестности вашей челом бью, челом бью.
И, отведя руки от сердца, поклонился большим обычаем, дважды стукнув лбом об пол.
Они встали все, как один, и выговорили гласом:
— Осударь, Егор Васильевич! Все мы, большие, и меньшие, и середние, у морской службы быть тебе велим, и быть тебе в чину кормщика. И править тебе кормщицкую должность с нами однодумно и одномысленно. И будем мы тебе, нашему кормщику, послушны, подручны и пословны.
И вот я опять в море. Попутный ветер свистит в снастях. Волны идут рядами, грядами
Обгоняем поморскую лодью. Они кричат нам:
— Путем-дорогой здравствуйте!
Я отвечаю:
— Вам здоровья многолетнего на всех ветрах!
От них опять доносится:
— Куда путь правите?
Я отвечаю:
— Из Архангельского города в Мурманское море.
И опять только волны шумят да ветер разговаривает с парусами
О море! Души моей строитель!
Мимолетное виденье
Корытину Хионью Егоровну, наверно, знали?… Горлопаниха: на пристани пасть дерет — по всему Архангельскому городу слышно. И дом ее небось помните: двоепередый, крашеный?… Дак от Хионии Егоровны через дорогу и наша С сестрицей скромная обитель — модная мастерская…
… Дело давнишнее: после первых забастовок пустила Хионья Егоровна петербургского студента ссыльного… И видно, что Лев Павлович был не из простых. Разговор, манеры… Мы с сестрицей, несмотря на страшный недосуг, всякий день забежим, бывало, к Корытихе чашечку кофейку выпить и, грешны богу, элегантного квартиранта повидать. Его томной бледностью многие дамы восхищались, но, казалось, его снедал роковой недуг. И мы с сестрицей сразу диагност поставили: не столько суровость северного климата, сколько разлука с любящей супругой истерзала молодую грудь. Два– три письма еженедельно в Питер Катюше своей пошлет. Одно-два от нее получит. А уж ни с Хионьей Егоровной, ни с нами, ейными приближенными фаворитками, не поделится своей сердечной тайной. А мы, не будь дуры, Левины-то письма да и супругины нежные ответы при случае распечатаем и прочитаем. Пособить не пособим, а хоть поплачем над ихней прелестной любовью.
Зима тот год была дождлива. Наш изгнанник поляживает да покашливает. И весь он, как лебедь, унылый, который улететь-то не в силах.
Этак сидим однажды у Хионьи, не то по пятой, не то по девятой чашечке кофейку налили, а Лев Павлович и заходит.
— Не откажите в любезности бросить письмо. (Почтовый ящик у нас на воротах.)
Хионья и осмелилась:
— В свою очередь, Лев Павлович, окажите любезность дамам выпить с нами кофейку. Также извините за нескромный вопрос, почему бы вашей супруге не приехать сюда? Я чужих писем не читаю, но по всему видать, что ее счастие — быть возле вас.
— Да. Катя там тоскует без меня, но климат здешний На! Чем этта не климант — у дров да у рыбы?! У Кати там должность.
— Этта тоже можно, писменны упражненья найти!
— Катя такая хрупкая…
— Будь она хоть рюмочка хрустальная — она бы здесь кофейком отпилась!
Зима пошла на извод, наш Левушка — вовсе на исход. А свою принцессу все успокаивает: здоров да благополучен Мы с сестрицей взяли да, на семи ли, на восьми страницах, вкратце и открыли этой Кате всю ужасную действительность. Ответа ждем, а она сама является, как майский день! И знаете, действительно принцесса! Такой тип красоты парижанки: блондинка при черных бровях. При этом ежели парижанкин тип, то лик неизбежно втолсту отщекатурен. Но у Кати, окроме добродетелей, ничего в лице не выражалось. И одета просто, но с громадным вкусом: во все белое и во все черное. Мы с сестрицей портнихи не из последних: в туалетах можем понимать!
Боже, как они с Левой встретились! Конечно, может ли какой презент быть превосходнее сего. Даже нам с Хионьюшкой досталось по нескольку поцелуев… А багажу-то дорогая гостьюшка не ахти сколько привезла. Один чемодан, да и тот веретеном тряхнуть… Но не поспела она этот чемоданчик расстегнуть, как сразу разговор на копылья поставила: какие в городе конторы и насколько личность, много знающая в науках, может найти упражнения. А мы с сестрицей не последние люди в городе. В деловых кругах знакомства, и весь бомонд на вестях. Раскинули умом да, несмотря на страшный недосуг, на другое же утро и порхнули в роскошный особняк купцов Маляхиных.
Фирма «Маляхин и сын» преименитая — свои пароходы, рыбой торговали.
Об эту пору мы молодого Маляхина супруге Настасье Романовне шили гардероб домашний и а-ля променад. Заказчицы обычно к нам являлись на примерку, но на сей раз мы сделали исключение, в рассуждении застать домовладыку.
И папенька и сын дома оказались. Простодушно беседуя с заказчицей, расставляю я свои коварные сети насчет но воприезжей особы, что-де умна и прекрасна, как мечта, и на двенадцати языках поет и говорит А Федька, молодой-то Маляхин, ужасти какой был бабеляр. Закатался, будто кот, на бархатных-то диванах.
— Папенька, какой сюрприз для нашей фирмы! При наших связях с заграницей!
А папенька, медведь такой
— Хм. Какая-нибудь на велисапеде приехала.
Одним словом, принялась наша протеже служить в маляхинской конторе. И мы с сестрицей ходим, поднявши нос, как две виновницы торжества Ох, ежели бы знать, к каким это приведет плачевным результатам, дак волосы бы на себе лучше было драть и свою безумную главу толченым кирпичом посыпать… Тем более под ярким впечатлением видела я сон: будто катаемся в шлюпке при тихой погоде я с сестрой и Катя с Левой. И вдруг нас качнуло… Агромадный пароход валит на нас, обдавая рыбным запахом… Я заревела… Сон сестре рассказываю, а она:
— Вольно тебе рыбну кулебяку на ночь под носом оставлять…
Ну ладно… Не успела наша Катя на должности показаться, все мужчины принялись кидать на нее умильные взоры, а молодой хозяин ус крутить и ножкой шаркать… И нельзя винить: прежде за диковину была служащая дамочка. Притом Федькина жена, Настасья Романовна, взята была их поморского быта. Платья по журналам шить согласилась, а уж парчового повойника с головы сложить не соизволила: «Это женский венец! Не от нас заведено…» Ну куда же современный муж такую патриархальность поведет? Ни в театр, ни в концерт. А тут на глазах, при своей конторе, богиня красоты — юбка плиссе с воланом, блузка с утюга…
Обзадорился Феденька на свою подчиненную, а какими средствами ее достигнуть, не знает. Это не певичка, в «Золотой якорь» не позовешь.
Каких только промыслов он над Катей не чинил! В Пасху плюшевое яйцо, ростом с бочку, четыре оленя к Хионьиным воротам подвезли. Из яйца выпал карлик и подал Кате самовар с французскими духами. Хионья этими духами больше года поливалась.
Опять на Катин день рожденья пряник от Маляхина, в пуд весу, прикатили. И литеры «К» и «Ф» — Катя и Федя — сахаром на прянике выделаны…
На улице молва пошла: ссыльная барыня купеческого сына присушила, приворотным зельем опоила…
Убежала Катерина из маляхинской конторы. Хотя мы и советовали: «Терпи с выжиданием». Да уж Федька-то… что ступит, то стукнет. А ведь этаку фарфоровую штучку, вроде Катеньки, надо полегонечку обдерживать, вкруг да около манежно переступывать.
Соболезнуя Настасье Романовне, мы не раз к Маляхиным для-ради примерки являлись, испытующим оком выраженье ейной личности изучали. Но ничего прочесть не могли. Уродится же такая дура не от мира сего!
А Левушка недолго прожил после этого. В июньскую сияющую ночь смерть исторгла его из объятий рыдающей супруги.
На провожании мы с сестрой Катю под руки вели. Хионья Егоровна заместо духовенства впереди ступала. Шла в старинном косоклинном сарафане, в шитом золотом платке. Несла в руке ветвь благоцветущего шиповника и пела плачную причеть. Мы с сестрицей подхватывали на голоса. Все плакали, выключая молодой вдовы.
— Катя, для чего ты не плачешь?
Она — что каменная. А мы выревемся, нам и легче.
Шесть недель она к Леве на могилу ходила. Молча сидела. Домой воротится вся в комарах искусана.
Тут опять на сцену донжуан выходит. Ежели Феденька Маляхин при живом муже светским приличием пренебрегал, то теперь открыто повел лобову атаку.
В Ильинску пятницу идем с сестрой из магазина, а у корытовских ворот маляхинский рысак. И Хионья из окна подает отчаянные знаки. Несмотря на страшный недосуг, летим к ней черным ходом.
— Душенька, что у вас?
— Формальное предложение сделал!
— Кто?
— Федька.
— Вам?
— Черт ли мне! Катерине…
Мы даже заплакали: «Забыть так скоро!…» Коварная, прельстилась на богатство… К дверям Катерининым припали… Нет! Почтения достойное творенье ничем не обольстилось.
Федоров голос из-за двери:
— Дом отделаю во вкусе и сад во вкусе. Определю вас в золотую оправу, подобно жемчужине.
А Катин голос:
— Стыдитесь, господин Маляхин, не меня, а вашей достойной жены!…
Мы в куски рвемся под дверями-то: «Дура ты, дура ты, Катерина! Благодарение бы надо воссылать такому благодетелю! И ты-то, Федька, дурак! Тебе бы сначала пару белых лилий поднести, потом альбом грустных сонетов, потом букет пунцовых роз, а ты: „На содержанье возьму!…“
Опять и Настеньку, Федькину жену, вспомнили. Настя-то за какие прегрешения скорбную чашу будет пить?! Смолоду на нее шьем! Слова худого, взгляду косого не видели.
… Разоряемся этак под чужими дверями, а Федор и вылетел да хлоп Хионью дверью в лоб!… Пал в коляску, ускакал. Еще бы: обожаемый предмет заместо сабли все чувства становит.
Мы с сестрицей в тот же вечер к Настеньке Маляхиной с примеркой пожаловали. У нее, у голубушки, личность от горячих слез опухла и губы в кровь искусаны, однако разговора на острую тему не поддержала, хотя мы и делали прозрачные намеки. «Ну, — думаем, — ежели сердечного участия не понимаешь, дак и черт с тобой!» Домой шли, ругались, а дома заревели:
— Настенька-голубушка! Назвала бы ты нас суками да своднями. Через нас твой благоверный в рассужденьи Катерины изумился.
Недели не прошло, принимаем мы заказчицу, супругу жандармского полковника. К зимнему сезону шила плюшеву ротонду на лисьем меху. У нас первостатейны дамы шили. Прикидываю ей сантиметром по подолу, а жандармша и погляди в окно:
— Ох, какая роскошная упряжка мокнет под дождем! Я посмотрела да и села со всего размаху на пол: у Хионьиных ворот старика Маляхина карета.
— Душенька, что с вами?
— Это у меня на почве сердца. Сестрица, выведи меня на воздух.
Сдали барыню помощнице, а сами кубарем через забор да соседским двором, чтобы жандармша не увидела, к Корытихе. Подолы ободрали, в крапиве обожглись — наплевать!
Хионья в коридоре на своем посту обмирает; молча нам кулаком погрозила… Папенька Маляхин в гостях. Мы к дверям припали, не смеем дух перевести.
К началу представленья не попали, однако все понятно из дальнейшего. Старик говорит:
— Возьмите отступного полтысячи, даже тысячу и удалитесь в родные Палестины.
Катя с гневом:
— Какое вы имеете право ко мне приезжать? Как вы смеете мне это говорить?
— А вы какое имеете право женатого человека завлекать?
— Я служила в вашей конторе на глазах у всех. По отношению к вашему сыну я держала себя как любой из ваших служащих. Я сразу же ушла, увидевши себя в ложном положении.
— Порядочная женщина должна оберегаться мущин, а не действовать над ихним воображением. Мало тысячи — получите полторы, ежели вы такая практикованна особа.
Тут Хионьюшка двери рванула да как налетела на Маляхина-то:
— В моем доме нету практикованных! Со всеми соседями ставлю во свидетели, что вы благородную невинность оскорбляете. Вон отсюда, рыбьи глаза! Я честна вдова, тридцать лет вдовею! Меня сам отец Иван Кронштадской знат да уважат!
Старик шапку в охапку, пал в карету, ускакал.
Мы пых перевели, а по всему дому чад, окон не видно. Хионья кофей жарила, да и забыла с гостем-то. Сожгла огромадну сковороду. Пока окна-двери отворяли, Катя мимо нас на улицу бегом, с самым жалким выражением своего миловидного лица. А дождик с утра поливал. Хионья говорит:
— Пущай по ветерку пробежится. Я свежего кофею зажарю. Она кофейком отопьется.
А моя молчаливая сестрица и провещилась:
— Может, Катя-то тонуть ушла…
Хионья заревела, а мы с сестрицей подолы на голову закинули а-ля помпадур и потрепали за Катей. Для того и носим нижние юбки на шелку, чтобы их на дождике показывать. А Катя не к реке, привела нас на кладбище. Катя мостиком пошла, мы оврагами махнули, да и спрятались в елочках, где Лева-то лежит. Катя подошла молча, постояла, молча пала на могилку. Потом и простонала:
— Левушка, мне надо уехать. Как же я оставлю тебя одного?…
В эти немногие слова такую она скорбь вложила, что заревели мы голосом в своем сокровенном убежище. Не нам Катеринушку, а ей нас успокаивать пришлось:
— Не оплакивайте меня, я ведь на минутку духом упала
— Катенька, мы тебя своими руками в беду положили, к Маляхину свели! И в корытовском доме нет тебе покоя от визитов. Переходи к нам. Мы тебя на фарфорову тарелку посадим и по комнате будем носить.
Она развеселилась, засмеялась. Тут и дождь перестал и солнышко выглянуло.
Однако до Хионьи кто-то допихал наши речи. Принимали мы мадам ван Брейгель, супругу датского консула. И Хионья налетела, будто туча с громом:
— Я честна вдова! Меня отец Иван Кронштадской знат да уважат! Я сама за моих квартирантов умею кровь проливать!
Тут опять является на сцену Феденька Маляхин.
Как вечерняя заря небо накроет, так несчастный донжуан и заслепит Корытихину улицу золотыми часами и золотым портсигаром. Как перо на шляпе, мимо Корытихина дома ходит. Соседям не надо в театр торопиться. Корытихин дом — всем открытая сцена. У Егоровны, конечно, имелись с Федькой разговоры. Она калитку размахнет, выпучит глаза а Маляхин в ейну сторону табачным дымом пустит.
— Что, Корытиха, стоишь? На кого глядишь?
— Стою для опыта. Гляжу твоего дурацкого ума.
— Ах ты, раковы глаза!…
— Ах ты, Сомова губа!…
Мы браним Хионью-то:
— Вы хоть бы Катю пожалели, не делали бесплатных спектаклей для соседей. С пьяным связываетесь.
Не думала, что пьяный. Катенька, прости меня Не могу своего характера сдержать
Вот эдак, скажем, сегодня она покаялась, а назавтра еще с большей талантливостью сыграла… День-то рыбу в погребу укладывала, перед ужином вышла в залу отдохнуть И покажись ей, что Маляхина нету Обрадовалась: «Хоть один, — думает, — вечерок подышу чистым воздухом, без шпионов» Окна-то распахнула под окном-то Федька!
Хионья Егоровна Корытова цветы с подоконника срыла да и выпихалась на улицу задним-то фасадом. Бесчествует купца первой гильдии Федора Маляхина… Прохожие путники во главе с уличными детями вопиют:
— Гордись, гордись, Корытиха, не сдавайся!
А мимо наша девка воду несла. Федор схватил ведра да мадам Корытову и окатил с головы до пят. Страм!
После этого день прошел и неделя прошла Господин Маляхин что-то перестал являться на своем посту.
А вечера чудные, не похоже, что осень. Несмотря на страшный недосуг, оделись мы с сестрицей для прогулки побежали за Катей.
— Прекрасная затворница! Позвольте вас пригласить для приятной прогулки по набережной, тем более ваш Отелло исчез!
Катя, как птичка, радехонька.
Вот и шествуем, три элегантные дамы. У моей сестрицы новой выдумки нарядное фуро, у меня прозаический чепец а-ля Фигаро, а Катя всегда комильфо и бьен ганте.
Оживленно беседуя, вдруг наталкиваемся на толпу Что такое? У гостиницы «Золотой якорь» народ, извозчики, точно свадьба Пробираемся поспешно через публику, а все в окна глядят А там песни, бубны, топот, звон посуды и беспредельный бабий визг На улице темно, в гостинице светло, нам некуда деваться, в окна смотрим О ужас! Табун девок захватились вокруг Федора Маляхина и скачут ажно ветер свистит Лампы и свечи то вспыхнут, то померкнут Федор опух, обородател, глаза остолбели. И он вопит:
— Сволочи, песню! Мою песню!
Прихлебатели и девки грянули под музыку
Кат-тя, ты меня не лю-убишь!
Кат-тя, ты меня погубишь!
В толпе кто-то и выговорил:
— О-хо-хо!… В каждой песне Катю помянет. Пятые сутки пьет напропалу, любовь-то утолить не может.
Слава богу, нас не узнали в темноте. Я схватила Катю за руку, перебежали через дорогу и — окаменели, как две Лотовых жены: у чужих ворот прижалась-притаилась Настасья Романовна Маляхина и тоже глаз не сводит с ужасных сияющих окон «Золотого якоря».
Катерина моя охнула — да бежать. Чем дальше бежит тем громче плачет.
… Что вы думаете — в одну ночь она собралась. Мы с сестрой вещи пособляли увязывать, а Хионьюшка сидела на полу да причитала:
— Опустеть хочет корытовско подворьице!
У нас вокзал за рекой. Катя пароходом плыла мимо города. Но последний взгляд был брошен ею не на ельник, не на кладбище. Она смотрела на маляхинскую набережную, неутолимо глядела на маляхинский дом.
Она не велела никому сказывать о своем отъезде Но разве в нашей провинции могут быть секреты!
Катя днем отбыла, а в вечерню к Хионье Егоровне явился Федор Маляхин, в черном сюртуке, в черном галстуке.
— Куда уехала? Докуда билет брала?
Хионья и сама ничего толком не знала. Билет нарочно до ближних станций был бран, чтобы следы затерять. И Федор не стал искать. Всю зиму, как медведь, в лавке сидел Пощелкает-пощелкает на счетах, потом уставится в одну точку, долго так сидит. Весной на пароходе в Норвегу уехал и жил там до белого снегу. Катя у него далеко стала, все перегорело, он и обошелся. Домой приехал, жене голубого шелку на платье привез, а себе в кабинет заграничную картину в золотой раме. Изображена молодая особа в виде нимфы, порхающая над бурным ручьем. Многие находят, что черты нимфиного лица напоминают Катю. Называется картина «Мимолетное виденье».
Митина любовь
У меня годов до двадцати пяти к дамам настоящего раденья не было.
Конечно, при гостях пронзительность глаз делаешь, а все не мои. Притом холостой да мастер корабельный, дак сватьи налетают, как вороны на утенка:
— Погоди, Митька! Роешься в девках, как в сору, одна некрасива, друга нехороша, а криворота камбала и достанется.
— Скажите, как напужали!
— Небось напужаешься! Над экими, как ты, капидонами вымышляют колдуны-ти. В гости тебя зазовут, в чаю, в кофею чего надо споят, страшну квазимоду и возьмешь, молекулу.
А я живу, какого-то счастья жду, судьбы какой-то. А дни, как гуси, пролетают.
… Позапрошлая наступила зима, выпали снеги глубоки, ударили морозы новогодни. Три дня отпуску, три билета в Соломбальский театр. Соломбала — города Архангельска пригород. От нашей Корабельщины три часа ходу.
У вдовы, у Смывалихи, остановился. Вечером в театре жарко, людно. В антракт огляделся: рядом особа сидит молодая. Сроду не видал такого взора! Не взгляд — тихая заря поздновечерняя. Больше во весь вечер не посмел в ейну сторону пошевелиться.
Другой день ушел в гости к вечеру.
Народушку в театре — как тараканов на печи.
— Ишь лорд какой расселся, член парламента! Расшеперил лапы-то!
Ейно место охраняю… Идет. Голову гордо несет, щеки, уши пылают. Стыдится. Честного поведения, значит При встал ей. Мило улыбнулась.
«Грозу» Островского представляли… Вместе ахнем, вместе рассмеемся, а слова за сто рублей не сказать. В антракте осмелел:
— Не угодно пройтись в фойе?
— С кем имею честь?
Такой-то.
— Марья Ивановна Кярстен.
И в слове и в походке она мне безумно нравится. У ей все так, как я желаю.
— Что на меня зорко глядите?
— Очень вы, Марья Ивановна, ненаглядны. Только во взорах эка печаль…
— Оттого, что родом я со печального синя-солона моря…
— У меня тоже не с кем думы подумать, заветного слова промолвить. Марья Ивановна, мы другой вечер рядом сидим, вы меня вчера заметили ли?
У ней и смехи на щеках играют, оглядывает меня.
Экипажецка рубашка.
Норвецкой вороток.
Окол шеечки платок,
Словно розовый цветок!
— … Ну, как вас не заметить?
— Это я для вас постарался, гарнитуровым платком повязался.
А в последнее действие уливается моя соседка слезами.
— Люблю слушать, как занапрасно страдают…
— Любите, а эдак плачете.
— Я сама в том же порядке.
Проводить не дозволила, одна убежала.
На третий день представленья не было, только дивертисмент музыкальных номеров. В мире звуков рассказываю Марье Ивановне, что-де у меня мамы нету, сам хлебы пеку, тесто жидко разведу — скобы у дверей и у ворот в тесте…
А она:
— Говорите, говорите!… Я потом вашу говорю буду разбирать, как книгу.
— Марья Ивановна! Мы по своим делам часто в Соломбале бываем. Дозвольте с вами видаться!
— Да что вы! Ведь я замужем!
Как нож мне к сердцу приставила…
— Дак… от мужа гуляете?
— Гуляю? За пять лет замужества случаем в театр попала… С добрым человеком поговорила… Может, до смерти нигде не бывать…
— Теперь эта неволя отменена.
— Неволя отменена, да совесть взаконена!
— Вот вы наделали делов — бросаете меня… Куда я теперь?
… Но горячность моих упреков умиротворяет чудная мелодия вальса:
Зачем я встретился с тобою,
Зачем я полюбил тебя?
Зачем назначено судьбою
Далеко ехать от тебя?
Марья Ивановна сделалась в лице переменна… Встала, выхватила у меня из грудного кармана батистовый платочек… Публика музыкантам хлопает, а я слышу тихое, но внятное слово:
— Пока я жива, это мне лучезарная память. А умру, глаза вашим платочком накрыть прикажу.
И ушла. Как век не бывала. Опомнился да побежал вслед — знай метелица летит в глаза да адмиралтейская часозвоня полночь выколачивает…
А Смывалиха на квартире:
— Сегодня в Соломбале два дива было. Первое диво — Машенька Кярстен в театре показалась, второе диво — с некоторым молодым человеком флиртовала.
— Она чья? Она кто?
— Мужняя жена. Замужем живет, честь наблюдает. Муж-то пьюшшой, хилин такой. Она мукой замучалась, а уж ни с кем ни-ни… Сама портниха, рукодельница… Замужем живет… Честь наблюдает… Мне тоже бесчестно баловством-то сорвать. Кабы навеки моя, а так, баловством, мне не надо!
И той же ночи побежал я домой. Бежу пустыми берегами, громко плачу, как ребенок:
— Эх ты, Машенька Кярстен! Навела мне беду!…
И поклялся я забыть эту любовь. За троих работу хватаю. Сам себе внушаю: «Не думай про нее! Знай, что она не твоя». Да, а ночь-то моя; а кто же рад один-то!… Бывало, не лягу в хороших брюках, все увертываю да углаживаю, а теперь. Обородател, похудел…
Зима на извод пришла. На верфях стук да юк рано и поздно. У меня топор в руках, чертежи в глазах, на уме Машенька Кярстен. Голос ее, духи ее слышу — «Лориган».
— Эх, Митя, Митя, упустил ты свое счастье!
Не курил — закурил.
Притом эту сплетню из Соломбалы принесли в нашу Корабельщину. То прежде дамы по своей части меня хладнокровно укоряли, теперь, видя полноту переживаний, в другую сторону заобиделись. Заведующая парикмахерской как-то при гостях на меня затужила:
— Не желаем соломбальску прынцессу! Счас парикмахерску замкну и ключ в море брошу Пущай населенье ходит в диком образе!
Пришла весна-красна, с летичком теплым, с праздничком майским. Со всем народом, со всем славным шествием пришел я в Соломбалу. И скопилось три дня свободных Куда пойду? А Смывалиха на углу и стоит:
— Здравствуй, Митенька! Да, помнишь Машеньку Кярстен, в театре-то увлекались?… Овдовела: до краю допил…
— Она где живет?!
— В город переехала отсюда.
— Улица какая, дом какой?!
— Дом номер восемнадцать, улица… Погоди ужо; дом номер восемнадцать… улица… Забыла. Ново какое-то переменено название.
— Она где с мужем-то жила?
— Эво, где домичек зеленый!
В зеленом домике самовары лудят да паяют, никакой Марьи Ивановны не знают. Сунулся в возледворные соседи…
— Мы у ей на новосельи не бывали, городского пива не пивали. Гордиянка была и скрытница…
Я на перевоз да и в город. В адресном бюро дежурна подает адрес прежний, Соломбальский.
— В город она переехала!
— Может, и год проживет не прописана. У нас не торопятся.
Все пропало! Машенька Кярстен, утерял я тебя!… Вылез на крыльцо, а кругом-то весна! Река ото льда располонилась, в море плывет, чайки кричат, пароходы свистят. На домах, на пристанях, на кораблях флаги, ленты, банты… Отвяжись, худая жизнь, привяжись, хорошая!
Искать пойду! Обойду город с верхнего конца до нижнего. В каждую улицу загляну, в каждой улочке дом № 18 найду. Везде спрошу Марью Ивановну Кярстен. Взял да и пошел. Три дня ходил. Как лесом, пошел этими домами. № 18 увидаю — так сердце и замрет. У старушки пить попрошу:
— Здесь проживает портниха такая-то?
Ответ один:
— Не знаем, не знаем никаку Марью Ивановну.
По дворам собаки приведутся, за ноги хватают. На Мхах одушевленна собачка, за штанину ухватясь, две улицы на мне ехала. Иду, фасон не теряю. Иду в желтых щиблетах, пальто серого драпу, норвецкая кепи. Дома «Дели» или «Спорт» курю за шестьдесят пять, тут «Пушку» купил. Инде домоуправляющий выскочит, как пробка из бутылки:
— Санитарной инспектор являетесь? Помойны ямы смотреть?
— Иду своим путем, за своим делом.
Ничего не доспел, а той же отвагой к Смывалихе ночевать явился.
— Нашел?
— Найду.
— Присушили тебя. Приворотным зельем опоили. А то опять кошки есть троешерстны… Завтра пойдешь шляться, зайди в «Ледовитый океан». У ворот бабка-гадалка живет…
На другой день ходил главными улицами. Помню: в комфортабельную квартиру зашел, а потолки трясутся, в шкапах посуда говорит… Спрашиваю:
— Что это у вас, кабыть… последний день Помпеи?
— Это у нас пенсионер Иван Авдеич физкультурой занимается. По своему этажу кровать с перинами катает.
«Нет, моя жемчужина сюда не закатилась».
В обед на реку выгулял, тут кафе «Ледовитый океан». У ворот старинна избушечка, кабыть из-под ягой бабы. Постучался:
— Хозяйка жива?
— Жива маленько-то…
Хорошенька беленька старушоночка у оконца вяжет. И котенок у печки из чашечки лапкой ест.
— Бабушка, я не гадать.
— Что тут гадать, без гаданья видать. Нарядной, взволнованной, судьбу свою ищешь.
— Бабушка, я остался без невесты!
— Значит, курвяга кака-нибудь.
— Нет, уж всех честнее да прекраснее!
— У тебя-то, дитя, простота в лице детская, ненаглядная. Ежели она стоющая женщина, ты у ейного сердца прижат.
— Потеряю ее — буду пить, в карты играть!
— Не дичай. Праведна любовь не потеряется.
— На тебе, бабушка, на гостинцы.
— Не надо, не надо! Свадебного принесешь, пряничков мятных.
Как меня эта маленькая старушка развеселила! А к вечеру еле ноги перекладываю: новые ботинки жмут. О полночь в Лодейну улицу выбрел. Над городом тихо припало. Солнце присело на воды, как утка. Вот и дом № 18, а как зайдешь… Стою, булочку доедаю. А на крыльце человек и пошевелился. Вам кого?
— Дозвольте с вами на крылечке посидеть, опоздал на пароход.
— Даже прилечь не угодно ли! Вот вам оленья постель. Я как выпью, меня женка всегда на улицу выгонит и постелю высвиснет. Для гостя можно бы в избу поколотиться, да боюсь, чем бы не огрела…
А я на оленину пал, пальтишком накрылся… Как у мамы за пазушкой.
Пароходные свистки разбудили. В горницах хозяева ругаются. Больше слыхать выговор женственный, полный, окатистый. Я застегнулся да наутек… И не поблагодарил. А день серый, с дождем. Поглядел на себя: весь в оленьей шерсти. О, кто бы меня шомполом оловянным настегал! За тенью гоняюсь, за ветрами бегаю. А тут и городу конец; невеличка осталась Кузнечевская слободка. Домишки, как коробки, худые, а нельзя не пройти. По дороге канава: с горы вода летит, льет. Мостик был, да сплыл. Я размахнулся да — р-раз на ту сторону. Тут оступился, каблук отсадил и карман оторвал. А глины на ногах, на боках!… Тут я духом упал, тут весь форс потерял.
«Эх, Митя, Митя!… Век над людьми смеялся, теперь сам всех насмешил!»
И поворотил я обратно — скорее бы на пароход да домой. Плакать не плачу, а слеза бежит.
«Эх, Машенька Кярстен, потерял я тебя!…»
А поперек дороги под старым карбасом сапожник, как в магазине, сидит. Тремя гвоздиками прихлопнул мне каблук.
— Мастер, вы худо сделали.
— Худо сделал, дак и опять ко мне прибежишь. Крепко сделаешь, дак и без денег сиди…
— Мастер, вы мне карман не прилепили хоть на живую бы нитку.
— Наша фирма этими пустяками не занимается. Эво где, за углом, портниха живет, дом номер восемь.
Дай схожу, хоть пальто зашьет да почистит, а то хуже пьяного… Дом номер восемь… Крылечко и сены чистенькие, половички тканые. За дверью швейна машина стучит. Поколотился.
— Зайдите.
За порог ступил, у оконца… она!
… Радость любезна бывает слезна… Захватилась за меня, руками за шею напала.
— Вы въявь ли мне видитесь?! Не во сне ли мне кажетесь?!
— Машенька, в день веселья моего не плачь!
— Жить-то начинать без вас тошно было! Как в погребу сидела, с вами рассталась…
— Я-то тебя искал, в домах заблудился, в дождях замочился. Дому номер наврали: надо восемь — восемнадцать сказали…
Третий год с нею живу. Каждый день, как в гостях, гощу.
Така хозяюшка, така голубушка!… На пароходе со мной в море выпросится.
— Машенька, там тебя заплеснет валом.
— Митенька, ты меня крепче держи-то.
Смывалиха встретилась:
— Поздравляю, Митенька! Умно ты родился, да умно и женился.
— Соврала номер-то, вралья редкозубая!
— Забы-ыла!…
Дождь
Эта оказия случилась годов за восемьдесят назад. Красильщики Фатьян с подмастерьями Тренькой да Сенькой Бородатым карбасом по. Северной реке причаливали к деревням, красили портна, набивали узором полотна. Бабы платились тем же полотняным тканьем, и дальновидный Тренька ругал мастера:
— Выискал ты реку, дядюшка Фатьян. Преудивленные народы: без денег обитают.
Фатьян отмахивался:
— Молчи ты, хилин рассудительный. Наша-то река с деньгами живет? Здесь смолу курят, мы холсты красим: денег класть не во что, кошелька купить не на что… Ужо выплывем к Архангельскому городу, холсты продадим, в барышах домой воротимся.
Архангельск встретил неприветливо. Дул шелоник — на море разбойник. Тренька с Сенькой сроду не видали моря. Боязливо слушали россказни о кораблекрушениях. Впрочем, всякий день бегали дивиться морскому чуду — пароходу. Пароход был в диковину не только деревенскому парнишке.
А Фатьяну было не до диковинок. Цены на деревенские холсты явились невыгодны. Фатьян не спал ночами, раздумывал, как быть с товаром. В таких заботах встретил земляка, именитого человека из города. Земляк выслушал Фатьяна и сказал:
— Через пять недель на острове, у морского лесопильного завода, состоит гулянье. При заводе слобода. Слобожанки — щеголихи, а купить нарядов негде. Купцы не ездят; срочных рейсов нет. У тебя, Фатьян, полотняный припас есть, набивные снасти есть. Напечатай своих ситцев, сплавай на гулянье. Я ради старого знакомства похлопочу тебе право поставить балаган у лесопильного завода.
Фатьяну совет полюбился. Заложил земляку свой карбас, купил хороших красок и дорогой олифы. Снял у бабушки-задворенки на огороде избушку и скорым делом стал печатать ситцы. Работали на совесть, чтобы прочно было и пригоже. От всего усердия стараются. Стукают да стукают тяжелыми узорными досками, пот в башмаки бежит, а мастера, как дети, как художники, веселятся незайтеливыми птичками-цветочками, корабликами-домиками. Мастера любили работу, и работа удавалась. Тоже, значит, мастеров любила.
Работали — как песню пели. Но лишь только разговор заходил, что надобно плыть в море, начинались споры. Тренька бубнил:
— Эстолько товару наработано. А морем поплывем, кораблик заплеснет валами. Товар замокнет, заплесневеет, запихтевеет… Тогда куда мы, человеки разоренные и много должные?
Сенька, молодой курносый парень с рыжей бородищею, добавлял свои резоны:
— Мне мама дальше Архангельского города плавать не велела.
Фатьян разгорячился:
— Один уеду! Околевайте без меня.
— Одного тебя не пустим. Не дадим тебе кукушкой в море куковать.
Приятели согласились неожиданно:
— Вези нас, дядюшка Фатьян, на пароходе. Пароход нам понравился.
Смех с ними и грех, а дело править надобно. Два-три раза сходил Фатьян в приказ с подарками, получил именное право. Приказные говорят:
— За твою добродетель тебе такое скорое доверие. И поручитель у тебя добрый. А некоторый иноземец с весны в эту поездку домогается. Ему от нас ответа нет
Фатьян из приказа зашел в трактир, сел в уголок, сердито разглядывал гербовый лист с печатью: «Пропали бы вы кверху ногами с вашим доверием!… Столько товару нет, сколько пошлин правите».
В трактире привелись три иноземца. Старший, с виду опытный, бывалый, сунул нос в Фатьянову бумагу, пробежал ее бойко глазом и расплылся в улыбку:
— Любопытствуем сделать с вами знакомство, мистер Фатьян. Дозвольте представиться: Гарри Пых, мануфактур-советник, иностранец. Желаю выпить за успех вашего предприятия.
Он выудил из заднего кармана штоф, налил полстаканчика себе и стакан Фатьяну.
— Прошу, мистер Фатьян. Ваше здоровье!
Фатьян недоуменно мигал глазами, отказаться не посмел:
— Покорнейше благодарю, мистер Пыхов. Равным образом и вам желаю… Какой державы будете?
— Верноподданный заморских королей.
— Чем изволите заниматься?
— Дамский туалет, маскарад кустюм. Новейшие фасоны, заграничные модели. Фирма существует двести лет! Одним словом, мистер Фатьян, возьмите нас в компанию, и поедем вместе на завод. Торгови дом Фатьян и К°. Шикарно?
Фатьяну столь стыдно за себя, простого деревенского красильщика Тяжело вздохнув, он сказал:
— Опасаюсь, мистер, что вы, по вашей склонности, имеете высокое воображение о нашей простоте. Мы являемся простые мужики. Земля у нас нехлебородна. Хлеб надо покупать. На покупку деньги достаем отхожим промыслом. Наша деревенька, скажем, вся — красильщики-набойщики. А соседняя — швецы-портные. Вот мы из каких, а не купцы первогильдейные. Однако, не хвалясь, скажу: мы мужики по званью и художники по знанью. Искони втянулись в ремесло и достигаем мастерства.
Пых закурил и пустил дым Фатьяну в лицо.
— Ваше ремесло, мой друг, получит настоящий блеск, когда вы войдете в компанию с нами… Но что же вы не пьете, друг Фатьян? Ваше здоровье!
У Фатьяна в голове хмелинушка бродит, но немножко-то он соображает:
— А вам какая выгода в моей компании? Почему от себя не промышляете, мистер Пыхов?
— Праздный вопрос, мистер Фатьян. Мы приехали сюда на малый срок. Хлопотать о мастерской и о торговом помещении нам некогда. А вас все знают. У вас на руках готовое разрешение.
— А ежели, мистер Пыхов, ваш товар пойдет, а моего аршина не возьмут?
— Барыши пополам, мистер Фатьян.
— Слово дадено — как пуля стреляна, — сказал Фатьян. — Ты как, мистер Пых, на бумаге договор будешь крепить? А по-нашему: слово да руку дал — крепче узла завязал.
У Пыха глаза сделались веселые. Он промолчал, а Фатьян ораторствовал:
— Мастерскую ты помянул. Тебе на что мастерская?
— Для производства моделей. Недельки на две. К бабушке-задворенке в избушку заходи и выделывай свои кадрели-модели. Мастерская — пустяки, а важность вот какая: на чем товар к месту доставим? Море сей год непогодливо.
— Я буду хлопотать о пароходе. Великое удобство!
Фатьян хлопнул Пыха по плечу так, что тот едва со стула не слетел:
— Орудуй, мистер Пых, дело подходящее. Главное, Сенька и Тренька будут рады. Они на пароходе — с полным удовольствием.
Дома Фатьян хвастал перед подмастерьями:
— На пароходе поплывем. Я себя не оконфузил. Пых свое, а я свое. И так его ловко в свою пользу насаживаю.
Сенька с Тренькой не видали мастера во хмелю. Не могут надивиться:
— Они какой державы люди? Званья какого?
— Верноподданные заморских королей… А званьев у них много. Этот Пых, он, может, урожденный граф, его светлость! Я в людях понимаю. Насквозь вижу человека.
Новые компаньоны принялись за дело не мешкая. Забрались в Фатьянову избушку. Не спросясь схватили ведра, кисти, утюги. А главное, что повели работу с хитростью, с секретом. В избу к ним ходить никому не велели. Запрутся, как стемнеет, и пошабашат за час до свету. Удалые Сенька с Тренькой взялись доглядывать за иноземцами. Сенька бородатый впялил глаза в дверную щель. В тот же миг тряпка с краской ляпнула в рыжую бороду. Стала борода зеленая Умный Тренька высмотрел сквозь ставни с улицы в оконце После докладывал Фатьяну:
— Намешано у них в ведрах всякого сословия: желтого, зеленого, красного и синего. И Пыхов, как паук из паутины, ветошь тянет. Помощники эту ветошку щекотурят киселями разных колеров. Я гляжу, меня так в обморок и кидает. И плюют, и дуют, и пеной пырскают. Высушат и мылом налощат. И сидят не со свечой: новомодный свет, карасин горит.
В конце другой недели Тренька доносил:
— Дядюшка, ситцы-то у них пришли в полную красу сарафаны сделались! Полну избу кофт да юбок наработали.
Фатьян поскреб в затылке:
— Твори, господи, волю твою!
Готовые наряды иноземцы стали гладить. Из-под утюгов валил кромешный дым:
— Портной гадит — утюг гладит, стонал Фатьян, угорая с ребятами до пропасти от этого чада. Посоветоваться, потолковать Фатьяну было не с кем: опытный земляк ушел по должности в море.
Гарри Пых сумел подъехать к капитану парохода. Выяснил что пароход будет грузиться на морском заводе тесом, и как раз ко времени гулянья.
Фатьяновы полотняные тюки на пароход носили — сходни от тюков гнулись. Пыховы коробки с туалетами, будто пташки, с рук на руки летали. Фатьян обиделся на Пыха, что тот ни в чем не спрашивается, а как в море вышли, Фатьян отмяк, подсел к компаньону:
— Как проворно вы управились с работой! Жаль, не удалось взглянуть, из какого матерьяла вы работаете.
— Из пены! — огрызнулся Пых. Хм… пена — дело легкое.
— У нас за морем из пены веревки вьют.
Ночью пароход хватила непогода. Сеньку с Тренькой с ног на голову ставило, качало. Мистер Пых тоже в дело не годился, ползал на карачках. Фатьян бранился:
— Парохода вы домогались — получайте пароход!…
Потом бежал укутывать товар брезентом, молился со слезами:
— Морские заступники, скорые помощники! Не замочите коробки и мои набойки! Убавьте волну!
Путь окончился благополучно. Пароход пришвартовался к пристани.
Иноземцы при постройке балагана снова показали хитрость и затейку. Поставили себе шатер особенно. Рядышком с Фатьяном, а не вместе. Сверху налепили ленту-вывеску: «Пых и К°. Базар де мод». Модный-де базар. А уж товар у них: взгляни да ахни! Колера пронзительные. Кофта: по огненному полю синие лимоны. Юбка: желтая земля, синие дороги.
Привалил народ. Бабы на заморские разводы сразу обзадорились. Жужжат у Пыхова товару, будто комары. Мистер Пых того и ждал, пуще зазывает:
— Бальный туалет! Американ фурор! Модерн костюм! Три рубля комплект!
Покупательницы из-за кофт дерутся. Юбки друг у дружки отымают. Только старые старухи опасливо косились на азартные «канплекты»:
— В глазах рябит, как набазарено. А не марко ли? Не линюче ли?
Фатьян в этот день не опочинился. Склавши руки сидел, как невеста женихов дожидаючи.
Напрасно Сенька с Тренькой раскатывали на прилавке трубы набивного полотна. Напрасно заливались звонким голосом:
— Эй, ройся, копайся! Отеческим узором украшайся!
Бабы задирали нос перед Фатьяном, фыркали:
— Вы не можете потрафлять на модный скус. Такой ли ваш фасон, чтобы показывать себя? А у Пыха туалеты как цветы.
Фатьян негодовал:
— А мои набойки разве не цветы? Узоры не собаки, чтобы в нос бросаться.
— У тебя цвет брусничный да цвет коричный. А у Пыха будто феверки. Оделась в мериканском скусе и пошла, как колокольчик…
Утром другого дня Пых распродал свой товар до нитки.
Девки и молодки торопились нарядиться: по обеде открывалось игрище-гулянье. Старухи опять приходили глядеть Фатьяновы набивки. Приводили своих стариков, шептались. Отходили с глубокой думой на челе.
Фатьян разговаривал, гордо поворотясь к покупателям спиной:
— На здешних клоунов и на попугаев у нас товару нет. Не задорны наши ситцы для такого племени.
Тренька по-аглицки ругался с Пыховыми препозитами:
— Нахвально поступаете. Совесть у вас широка: садись да катись. Пленти мони вери гут до добра не доведут.
Фатьян становил его:
— Брось, нехорошо. Пых мне-ка слово дал, что барышом поделится.
— А ты спросил бы, дядюшка.
— Совестно.
Гулянье началось на лугу, на берегу, далеко от всякого жилья, чтобы простору было больше. Старухи, старики, женатые мужики, ребята расселись, как в театре, по бревнам, по доскам, по изгородям, по пригоркам. Все знают, что сегодня не в старинных штофниках и сарафанах бабы-девки явятся, а в модных туалетах. Всем известно, что триста «канплектов» продал Пых… Ждать долго, потому что от завода, от слободки, где бабы-девки белятся-румянятся, в туалеты рядятся, до гульбища — версты полторы. День стоял пригожий, но с обеденной поры старики запоглядывали в края моря:
— Теменца заводится…
Заежилась древняя бабка:
— Не быть ли дожжу, — вся дрожу.
Погодя, старики опять проговорили:
— Гром гремит, путь воде готовит…
Мальчишки, которые с высоких штабелей караулили дорогу, закричали наконец:
— Идут! Идут!
Щеголихи шли рядами: двести девок, сотня баб. Шествие замыкали парни с гармонями. Старики на бревнах запели:
Слеталися птицы,
Галки и синицы,
Стадами, стадами,
Сходились девицы,
Сбирались молодки
Рядами, рядами.
Одночасью весь берег будто цветами расцвел. Разноцветно стало на лугу. Цветасто. Девки как букеты разно-пестрые. Бабы будто лампы в абажурах. И что тут величанья, и смотренья, и манежности! У смотрящих стариков в глазах зазеленело. Старухи ахают:
— Глянь-ко, глянь-ко! Этой бы только в погребу сидеть под рогожей, а она как жар-птица!
— Эту бы давно на табак молоть, а она как фрегат под парусами. Сейчас зачнет палить из пушек.
Тут парни зараз в гармони жахнули. Двести девок, сотня баб песню завели; высоко занесли да в пляс пошли. Только и слыхать, что «ух-ух, ух-ух!». Топанье, хлопанье, плесканье, скаканье…
И в те поры дожжинушка ударил, как с горы. Не то что дождь пошел как из ведра, а — бочками, ушатами заполивало. Вдруг гроза-то с моря накатилась.
Разом триста баб и девок караул закричали. Не грозы испугались: гроза не диво. С туалетами заморскими беда стряслась: краска смокла. Краска-то плывет, и ветошь-та ползет. Бабы держат ветошь-ту да визжат, как кошки. За какой лоскут хватятся, тот в руках останется. Во мгновенье вся краса стерялась. Как не бывало туалетов. Смотреть негодно. Эти щеголихи все лохмотье мокрое с себя сбросили в кучу да, как чертовки из болота, ударились бежать.
Кому горе, кому смех! Мужики, как гуси, загоготали. Парни, старики со смеху порвались:
— Ха– ха-ха-ха-а! Вот она, чудовища-а! Европейские модели побежали-и!
Маткам, бабкам не до смеху. За дочками в погоню стелют да ревут:
— Косматики вы, трепалки вы! На всю вселенну срам наделали! Теперь ни в пир, ни в мир, ни в добры люди.
Переведя дух у себя в слободке, умывшись, опамятовавшись, молодицы и девицы решили отсмеять насмешку иноземцу:
— Бабы, девки! Нельзя такого бесчестья простить! Головы не оторвем, дак хоть плюх надаем этому Пыху.
Еще до света учредились они как на битву: с ухватами, с лопатами. Мужики смеялись:
— Маврух в поход собрался… Пропал теперь заграничный Пых. Он ведь сидит и ждет: «Скоро ли бабы меня трепать придут!»
— Пущай он хоть в утробу матерню спрятался, и там до будем! — вопияли женки.
Есть пословица: «Крой да песни пой; наплачешься, когда шить будешь». Пел Пых и у кройки и у шитья. Пел, товар с рук сбываючи. Заплакал в дождик, когда началась суматоха. Бежать на пароход поопасался: бабам нигде не загорожено, а капитан не любит неприятностей. Вместе со своими препозитами Пых залез под пристань. Всю ноченьку осеннюю там тряслись, единым словом меж себя не перещелкнули. А комары их едят.
Одна была отрада: знали, что погрузка тесу кончена и пароход утром отваливает. Решили заскочить на пароход после второго, третьего свистка. Тогда уж бабам Пыха не достать. Только бы проскочить удалось.
Фатьян в своем балагане тоже ни жив ни мертв сидит. Вот дак мистер заграничный! Присчитается и мне на орехи! И я с ним в паю буду… Век худых людей бегал, при старости с мазуриком связался! Рук марать не стану барышом грабительским.
— У тебя откуда барыши-то? спросил Тренька.
— Да ведь половину барыша мне Пых-то посулил!…
— Ох, дядюшка Фатьян! Нет, у тебя ума-то с наперсток. Таких, как ты, лесных тетерь, и учат.
— За мою добродетель?!
— За твою дурость, не во гнев будь сказано.
— После дела всяк умен. Уйди с глаз! — рявкнул мастер. Ночью Фатьян не спал, бродил около палатки. На сердце росла тревога: «Влетит и мне за Пыховы дела…»
Пущего страху нагнал глухой сторож из слободки: Здравствуй, гость торговый. Вина штоф отпусти. У меня не кабак.
— Табак не надо… А вас бабы убивать придут. Я на гулянье не был, а видел, как они в деревню прибежали. Как есть — банны обдерихи.
Так и сидел Фатьян до свету:
— Убежать бы, да некуда. Укрыться бы, да негде.
На рассвете завел глаза, задремал. И тут же со страхом прянул на ноги. Услышал топот ног и воинственные возгласы:
— В воду посадить еретиков!
Несколько запыхавшихся баб сунулись в Фатьянову палатку:
— Дедко, вчерашний Пых где?
— Голубушки, не знаю. Матушки, ни в чем не виноват.
— Ты смотри, никуда не уезжай. Тех поймаем, до тебя дело есть.
Полотняная дверца захлопнулась. Фатьян, белый, как бумага, начал расталкивать Сеньку с Тренькой:
— Вставайте! Убивать нас идут! Где у нас чисты рубахи? Помрем. Деточки, смерточка напрасная приходит.
Поняв, в чем дело, Сенька бородатый заревел:
— О, не по красу приехали, не на великую добычу. Зачем ты нас в море сбил, седая анафема?
Тренька заорал на обоих:
— Мужики вы или нет? Бежать надо!
— А товар как? — опомнился Фатьян.
— Ведь ты помирать снарядился.
— Пережить не уповаю. А своего художества непонимающим людям оставить не желаю, — торжественно сказал Фатьян.
Тренька уважительно поглядел на мастера.
— Одобряю эти слова, дядюшка Фатьян. Возьмем с вами по топору, станем у дверей. Пусть-ка сунутся которые… А ты, Сенька, лети на пристань. Нет ли там благоразумных мужиков?
Сенька побежал, на всякий случай поклонившись Треньке и Фатьяну в ноги.
Время тянулось. Никто убивать не шел. Фатьян поуспокоился; насупив брови, сел.
— Охо-хо!… Ждать да догонять нет того хуже.
Со стороны берега донеслись два пароходных свистка и вслед за тем крики, брань. Фатьян опять схватился за топор.
Прошел час Фатьян простонал:
— Тренька, ради бога, сбегай, поищи бородатого. Матка его будет жалеть. Да не провались там!
Тренька ушел, да и провалился. Фатьян изнемог ждавши. Охал и ругался:
— Дураков пошли, да и сам за ними иди. Порвало бы вас, разорвало бы вас! Живы ли вы, деточки мои? Брошу все, сам пойду.
Не поспел Фатьян и шаг шагнуть, его с ног сбили Сенька с Тренькой.
— О, леший бы вас побрал! Где вас, проклятых, задавило?
Докладывать начал красноречивый Тренька:
— Ух, дядюшка Фатьян!… Женки по штабелям летают, в бревнах Пыха ищут, а он под пристанью хранится. Тут с парохода два свистка. Пыховы, все трое, выскочили да по мосту и лупят, а сами кричат: «На секурс! На секурс!»
— Бабы со штабелей ссыпались — да за ними. По мосту канат причальный. Пых подопнулся, и один подручный с ног долой. Бабы налетели, стали Пыха потчевать. Тут спустился с парохода управляющий заводский. Его провожает капитан. Бабы прискочили к управляющему, кладут жалобу на Пыха. Пых вопит что-то капитану на ихнем языке. А народу много, полна пристань накопилась. Управляющий говорит капитану:
«Вы что скажете, мистер каптейн?»
Капитан, такая личность представительная, с сизым носом, отвечает:
«Я совершенно ни при чем. Но мистер Пых просил дать объяснений на его товар. Это есть обычная материй аплике, накладной бумажный кисея. Весьма боится сырость. Если бы не дождик, туалет гулялся бы на год».
Управляющий к народу:
«Вот что, женочки и девицы: вы в памяти, в сознанье эти юбки-кофты покупали. Небось у своих ситец выбираете, жуете да лижите — не марко ли, не линюче ли?… Цену-то какую иноземец брал?»
«Три рубля за канплект».
«Это вы иноземцу за науку заплатили. Вперед пригодится… Угодно ли еще про Пыха обсуждать и сыскивать?»
«Мы его уж обсудили. Погладили мутовкой по головке. Вишь, со страху каждый лоскуток на нем трясется. Черт с ним!»
Тут бабы и капитану словцо ввернули:
«Хотя за морем эта аплике и за обычай, однако не возите к нам таких обычаев. Держите у себя».
— Уплыл Пых-то? — спросил Фатьян
— Угреб.
— Меня-то не помянули?
— Помянули, дяденька Фатьян! Пароход-то отвалил, старухи заговорили: «Вот что, девки-молодки, сами вы на себя в кнут узлов навязали: деньги бросили и народ насмешили. Почто было у русского гостя не брать? Вчера куражились, сегодня хошь не хошь — к нему пойдешь»…
Тренька не окончил слова: в балаган полезли бабы, девки и старухи. Поклонились, заговорили:
— Здравствуйте, гости торговые! Из ваших рук набойки захотели. Вчера к вам собирались, да кони не довезли.
Фатьян приосанился, прищурил глаз:
— Доброе дело не опоздано. Милости прошу. Наши набойки за сутки не заплесневели, не заиндевели. Только что узором не корыстны, против модного базара не задорны…
Бабы застыдились:
— Карасином бы этот базар облить было да спалить!…
— То-то, — наставительно сказал Фатьян. — За морем прок потеряли, только хитрость одна. Русский мастер у работы радоваться хочет. Вот полотно: под песню прядено, под сказку ткано, на мартовском снегу белено. Мы к ткачихину художеству свое приложили. Краски натуральные: от матушки сырой земли, и от коры березовой, осиновой, от дерева сандала, от ягод, от цветущих трав. Земляную краску в пух стираем: хоть графиня рожу пудри! Сенька Рыжа Борода у выбойки, будто бабка-повивалка у родов. Тренька досточку-печатку режет, как батальный живописец. Я в свою набойку сорок лет людей сряжаю. Сколько молодежи обучил, ремесло в руки дал. И от всех, кроме спасибо, другого слова не слыхал. Я не хвалюсь. Моя работа пусть меня похвалит. Такое наше поведенье вековое-цеховое…
Сколько бабам Фатьяновы речи нравятся, столько выбойки узорчатые глянутся.
— И как вчера такой красы не разглядели? Глаза отвел заморский пес.
Старухи брали по целой «трубе» столокотной, по целому куску. Важно говорили:
— Этот мартиал хвалы не требует. Он стирку любит. От стирки в полную красу приходит.
Бабы помоложе прикидывали набойку на себя:
— Мастер, как по-вашему, это виноградье нам к лицу?
Пришли мужики. Потребовали матерьял порточный, с продольным «форнаментом». И на рубахи орнамент «попристальней».
Иноземцы торговали полтора дня. Фатьян в полдня продал все до нитки. Остатками, обрезками товара он наделил ребятишек, безденежно, в подарок.
По случаю последнего дня гулянья покупатели не торопились расходиться, сидели вкруг палатки, балаболили, хвастались покупками.
Фатьян, выйдя из пустой палатки, весело крикнул:
— Желаю всем эти обновки сто лет носить, на другую сторону переворотить да опять носить!
Переждав, пока кончится смех, Фатьян продолжал:
— Чувствительно вас благодарю за неоставленье. Иноземцы меня выучили, а вы меня выручили. — И Фатьян поклонился народу в землю.
Бабы встали и ответили Фатьяну поясным поклоном:
— Промышлять вам с прибылью, гость торговый! За вашу добродетель, как вы есть превосходный мастер…
Обратно Фатьян правился на шкуне. Парусом бежали шибче парохода.
Фатьяновы внуки-правнуки, такие же, как дед, красильщики-набойщики, работают теперь на фабриках. Дедова оказия не вылиняла, не выцвела в пересказах внучат. Дедовской пословкой и заканчивают: «За морем прок потеряли, только хитрость одна».
И объясняют:
— Тогда прок, когда делаешь дело по совести, на общую пользу. Эту прочность ничья злохитрая корысть не переможет.
Рассказ Соломониды Ивановны
У нас родитель беда грозный был.
Еще ребята никто не родились, мамку пришли подружки на игрище звать:
— Марфа, пойдем на качели.
— Ивана дома нету.
— А что там Иван, приведем таку же.
В вечерню домой явилась, муж не глядит:
— Где была?!
— На качели.
— Неси вожжи.
Она сходила за вожжами — да в ноги.
— Прости, Иван, боле никуда не пойду.
До старости нигде не бывала.
Братишко пяти годов баловал да окно разбил. Татка его схватил, засек до кровей. А мамка ткет, слезы ручьем бежат, не смеет молвить. Братишко из-под ремня ей кричит:
— Мамушка, мамушка! Не плачь, мне совсем не больно!
Я семи лет овец пасла, с ягнятами заигралась, овцы в огород зашли… Татушка был ростом велик, я маленька… Меня за рубашонку повесил — да ремнем. Я как птица… Сек, сек — под порог свиснул.
Братья уж не молоды были. Андрей вдовел, у Мартемьяна ребят двое. Жили — не делились. Родитель коня купил с изъяном. Мы не смеем язык высунуть, что конь худой. Уж через месяц в праздник братья выпили да просказались:
— Кто рад — эку клячу!…
Родитель с полатей и заспущался, страшной, грозной.
— Андрей, подай сюда узду!
Брат узду в руки подал. Родитель ухватил узду лошадину — да удилами его по лицу. Шибанул узду под порог.
— Мартемьян, подай узду!
Тот увернулся от отцовской руки — да в двери.
Неделю прятался. Татка его в соседях нашел, в ноги сыну падал, прощался.
Никто никого эдак не боится, как мы татки боялись.
Так его боялись, без брани, а как он заходит в избу — в глаза глядим, какой взгляд.
Мы рады, как он на промысел уплывет. Мы его не порато жалели. Он и маленьких нас на колени не бирал.
Девкой я семь годов кряду с таткой семгу промышлять ездила по рекам. Семь годов молчала… Я как вода. Он куда скажет, я туда. Он меня не бранил. Он жалел меня…
Не очень так, чтобы припадал… Однажды на полатях лежу, шубу с краю подложил:
— Моя-то дева упадет!
Я выросла в такой грозе, дак человека не найти, чтобы я не уладила. Худо без добра не живет.
Было купил мне татка о празднике шелковый плат. Надо в ноги поблагодарить, потом нарядиться, я не поспела, в часовню обновкой хвастать побежала. Татка и обиделся:
— В нонешних детях благодарности нету. Им бы схватить, а за труд не покорились.
Мамка выскочила мне навстречу:
— Поди скорее, поклонись отцу!
Я — в избу, он на печи. Я думаю: пасть бы в ноги, дак спит Что печке кланяться? Лучше подожду — с печи полезет, упаду ему в праву ножечку… До ночи караулила в обновке…
У нас река была бедна; серо-серо наряжались. Заведем обновку, дак уж навек. Завод у нас очень трудной.
… А мы не тужим. Работа грязна, в тряпках весь век ходим. Починенное лучше нового радеем: хранить не надо.
Татушка восьмидесяти годов помер. Болен не бывал, голова не баливала. В избушке сине от угара — ему ладно. Сколько он зверя — медведей, лисиц, куниц, росомах, белки, — сколько птиц, сколько рыбы добывал!
… В умерший день с утра заскучал:
— Подайте ружье, я хоть к сердцу прижму… Нет… Напромышлялся… Возьмите мое ружье!
Лег на лавку. Больше и все. Я плакала ему.
Кого мы будем бояться?
Кто теперь будет грозить?
Все будем сами себе больши,
Все будем нарозь глядеть.
Некому будет связать…
Я замуж ушла. В нашей стороне замужем жить надо лошадину силу иметь. Мужики — с лесом, а женки — с пашней. Земля не оправдывает, а от нее не отвяжешься. Кабы не лес да не белка, мы бы померли.
Мужа на все лето в леса провожу, сеять надо.
Шесть пудов ржи посею. Поле одна выпашу сохой. Дома ложки не могу донести до рта, трясутся руки. Лица умыть не могу. На гору с ведрами ползунком ползу. Страда у нас, как гора, прикатывается. Свое рано выжну, к чужим наймусь. Смолода я триста снопов в день жала. Уж не глядела на небо, без расклонки жала, стоять нехорошо и сидеть нехорошо, жнея коль совестна.
Однажды я пять рублей выжала у богачки.
Вот эдак пашем, копаем, сеем, смотришь — утренник пал, и все пропало… Урожая нет, дак леса начнем проведывать: леса уж сколько опять поддержат. А иные пойдут за белкой, за зверем — снег-то нападет.
Когда хлеб приходит, тогда и ягоды — морошка, черника, брусница. Вот делов-то у баб! Я за десять верст по ягоды ходила, по две ночи в лесу ночевала. По два пуда зараз вынашивала. Устану как!… Опять без грибов не прожить. По борам хожу, все посматриваю: медведь бы не попал. Медведицы — они бедовы! Съест не съест, а уж выпугат!…
Осень придет, прясть надо, и ткать, и молотить.
С тканьем да с пряжей все, все убились!…
Тканье еще легче, а пряжа — ой!… Кудели-то чистишь. Легче стало, машины пошли да ситцы.
Горя с ребятами было. Одни растут, другие родятся «Уа» да «уа» — уши сквозь. Бедны байкают:
Спи усни.
Хоть сейчас умри.
Татка с работы
Гробок принесет,
Мамка у печки Блинков напекет.
Мужа на германскую войну спроводила, лес рубить в артель вкупилась с маленьким Ванюшкой.
Снег под пазуху, лес охватом не охватишь… Дерев шесть-семь ссеку и снег сгребу, обделаю всю кору. Тяжело порато кору обделывать морожену — она ледяна; топор соскакиват, топор со всех сил надо держать.
Иванушко мне помогал, девяти годов, топорком и лопатой.
В потемни в лесную избушку бредем. Там повалком мужики лежат: угар, табак, матерщина. Под порог упаду, сплю, как убита, на себе все мокро. Мужики меня в артель брали, думали: «Бабенка — как кошка, пустяки на ейну долю приведутся». А увидели — не меньше их выколотила. Стали посматривать косо.
Канун Рождества стали от артели отбрасывать. Слез у меня сколько было! А Марута, мужик рассудительный, уговаривает: «Не реви! Плюнь на всех! Проси на рознь…» Выпросила участок особо. Мороз градусов сорок — сорок пять. Идешь в лес-то, зубы ломит. А там как слупишь дерево, да снегу аршина на два, да кору, как железну, обделаешь, дак все сбросишь. В одной холщовой рубахе — и то мокрехонька, как мышь…
Щедрая вдова
У купеческой вдовы дочка помре — богатая невеста. По городу пошел слух, что вдовица дочернее приданое раздает неимущим. Является к ней бедная девка:
— Здравствуйте, Матрена Савишна.
— Что скажешь, голубушка?
— Люди-то сказывают, у вас дочерниного именьица много осталось…
— Не знаю, много ли, мало ли, а одного платья шесть сундуков, белья два комода, обутки три ящика, саков да пальтов два гальдеропа…
— Слышала я, что по бедным невестам-сиротам вы кое-что пожелали раздать…
— Не кое-что, а все. Потому — добрее да проще меня на свете нету. Я вам, беднякам, мать, вы мои дети!
— Благодетельница, наделите меня платьем, хоть немудрящим…
— Пла-атьем?! Ишь како слово выворотила… Да ты понимаешь ли, каковы у нашей Манюшки платья были?… Все по моды да с фасоном!… Да к твоей ли роже барышнино платье?…
— Платье нельзя, дак башмачков нет ли худеньких?…
— Станет наша Манюшка худеньки носить! Покажи-ка ногу… Ну и лапишша! Дам я тебе магазинны ботиночки… Хороша и в лаптях!
— Может, платок головной старенькой есть?
— Платок?! Что ты, дура, неужно наша дочь платки носила, как проста девка! У ней шляпок семнадцать картонок осталось…
— Ну, простите, что побеспокоила… пойду.
— Стой! Я бедным мать и благодетельница. Платок ты просила — на тебе платочек ситцевенькой. Только его дочка вместо утюжки держала, дак он с краев оборвался и середина выгорела… Заплату нашьешь… Бери, пользуйся. Я для вас, бедняков, гола рада раздеться!
Ходили в Лявлю
Народ на гулянье плывет карбасами и пароходами.
На карбасах летят парусом с песнями, а пароходы отваливают от города с музыкой.
Однажды напраздновались горожана в Лявле и, как стемнело, стали посряживаться домой.
Последний пароход отвалил в десятом часу; баржу поволок велику. На ту баржу миру накопилось много без меры.
Как на середку реки вышли, заиграли по музыке, затрубили в трубы, ударили по накрам.
В том часе почало быть плесканье, и гуденье, и крики, и топот ножный.
Раскатись, моя поленница без дров!
Рады баржу разнести…
От того многовертимого плясания ссадили со стены лампу и обшивка кряду запластала.
Другомя запели да заскакали.
Сколько-то человек сунулись во глубину речную — да и без воротиши. Не увидали боле белого свету. А другие по тросам полезли на пароход. Пьяные. И по народу поднялся пополох зол.
Только привелись в то время люди, не изумелые от вина. И они стали женок унимать от крыку и реву и чтобы до времени за борт не скакали и друг друга в воду не пихали. А капитан дал полный ход к берегу.
И хотя от огненного стремления у многих бороды и сертуки шаяли, а у женок сарафаны, однако все изготовились и дожидали в порядке, что-де как будет помельче, дак миром лезти в воду.
А вода привелась, пала. И вскоре баржа намелилась.
Тогда почали скакать и на сухое место выгребаться. А истомных носком несли, а навых за руки и за ноги приплавили к лайды.
Была ночь и деялся дождь.
Как на гору заволоклися, тут стоит лес пуст. До города верст двадцать. Лодок нету.
У кого было изможенье, сдумали идти на Уйму в деревню — часа два пешей ходьбы.
Достальные костры разожгли, кому вера была дожидаться свету.
И при дневных часах все побрели к городу. Пеши и на подводах.
Не таково скорополучно и весело домой, бажоны, попали, как было гадано.
На это богомолье многопамятное ездила тетенька наша Глафира Васильевна.
И на барже танцы водила, и потом горела и в воде гасла. Мы, выслушав, да спросим:
— Уж верно, тетенька, много лет в Лявлю не показывалась опосле такого страху?
— На! На другой год была.
— А назад опять на баржи?
— Дак на чем другом-то поедешь?
— И опять плясала?
— Все каблуки оттоптала!
Старые старухи
На Севере принято долго жить. Но стогодовалые старики бывают хуже малых ребят.
«Домоправительница» наша Наталья Петровна привыкла в деревне с лучиной сидеть — у них свадьбы при лучинах рядят, — керосиновой лампой пренебрегала. Откопала в чулане древний светец, сидит — прядет или шьет у лучины.
— То ли дело соснова лучинушка! Сядешь около — светло и рукам тепло. И хитрости никакой нету. Нащепал хоть воз — и живи без заботы. Лес везде есть… А керосин — вонища от него, карману изъян, на стекла расход; лампу от ребят храни… Люблю свет, который сама сделала.
Сама с сеновала к коровам идет — лучина в зубах пластает, сено в охапке.
— Петровна, дом спалишь!
— Вы с лампами не спалите.
Наконец провели у нас электричество. Тут объявила протест тетенька Глафира Васильевна, отцова сестра. Над головой у нее сияет «осрам», а на столе, у самого носа, — керосиновая лампа.
— Не сравню настоящего огня с вашими пустяками. То ли дело керосиновая лампа — тепло, удобно, куда сдумал, туда с ней и гуляй. А этот фальшивый пузырь чуть что — и умер. На той неделе у нас погасло, и у Люрс погасло, и по всему проспекту погасло. Полгорода на бубях остались… А уж Лампияда Керосиновна не выдаст… лампу ли, свечу зажигаешь — сначала аккуратненький огонек, потом разгорится, а тут выскочит свет — так и дрогнешь. Люблю огонь, который сама сделала.
Бывало, заведут избомытье — подобием постная Наталья Петровна и телоносная Опроксенья (по выговору моряков-скандинавов, отцовых приятелей, — Гризельда). Рано, перед лазорями, мать обряжается у печки. Мытницы подойдут с ведрами и мочалками, справят челобитье:
— Благослови-ко, хозяюшка, полы шоркать!
Мать равным образом поклонится в пояс:
— Мойте-ко, голубушки, благословясь!
Наталья Петровна, не спеша, на коленцах, мягким вехтем моет полы крашеные, левкашеные. Опроксенья сдирает пол белый струганый, только пена из-под голика. Доски, лавки, полки, скамьи — дресвой, да во всю мочь. При этом вслух сравнивают обшарпанный веник с бородой жениха, а свой характер — с тряпкой. «Мной хоть полы мой да пороги затирай!…» А пол «отдерет» — как желтилами выжелтит. Наталья Петровна любуется на нее:
— У тебя и бело, Опроксеньюшка! Мне надо двери запереть, чтобы не зарились на твой пол. Жалко ногой ступить. Надоть мосты выстилать, гостей принимать, столы столовать да пиры пировать.
Гризельда польщена:
— Бело не бело, да дело-то ведено!
— То и ладно, то и хорошо. Тебе замуж, мне в землю, Опроксеньюшка.
— Ты, Петровна, поглядывай вот, как я…
— Не сравняться мне, потому что веник не так шарчит. Потому старых и кладут в землю. Помоложе — дак рублем подороже. Ох, было и у меня ждано хвалы-то! Все минуло…
При двух-то лампах, электрической и керосиновой, тетушка Глафира Васильевна со своей подругой Татьяной Федоровной Люрс в карты играют… Обеим по восемьдесят лет, обе глухи, ссорятся каждую минуту. Гостья первая забунчит:
— Горе мне с глухой тетерей! Врет — глазом не мигнет. Последний раз играю!
И Глафира Васильевна не поддается:
— Беда с теми играть, которые из ума выжили!
Одна другую не слышат, им и не обидно.
Утром тетенька станет на молитву. В землю поклонится — и вдруг ахнет:
— Вот он! Вот он, бубновой-то король!… Под Люрсихиным стулом лежит. Вчера думаю: «Куда козырь девался?» — а эта шельма его под себя срыла. Недаром и выиграла!
Положит карту на стол и продолжает молиться. То опять, поклонясь в землю, обидится, что пол худо вымыт. Высмотрит, что пыль под комодом не вытерта…
Раз, под праздник вечером, вымытый пол только что высох, тетенька перебирала чернику на пирог. Ягоды на пол сыплются, тетка не слышит, только видит — бегут по полу черные катышки. Подумала — тараканы; давай летать — давить. Испортила пол — чернику не скоро выживешь.
Татьяне Федоровне Люрс пришла однажды фантазия помыться у нас в бане. Своя была у нас банька на огороде. А там как раз парилась помянутая дева Гризельда. И видит вдруг Гризельда: лезет из предбанника чудо, стуча клюкой, косматое, скрюченное. Умная девка сразу смекнула, что это банна обдериха, заверещала не по-хорошему да и в чем мать родила — на улицу… Девку водой холодной обрызгивают, она — свое:
— О, тошнехонько! Я моюсь, а обдериха из-под полка и вышла!
Жених Гризельды, Егорша, как настоящий рыцарь, схватил топор, дует обухом в банную дверь да орет:
— Где ты, обдериха?! Зашибу!…
Татьяна Федоровна ничего не уяснила, слышит, что в двери бухают, думает: замок чинят. Как голубушка вымылась, села с Глафирой Васильевной кофей пить (первые восемнадцать чашек без сахара). Пьет и в зеркало на себя любуется:
— Я сегодня рогозинной мочалкой вымылась, дак мяконька стала. Помнишь, Глафира Васильевна, какой кавалерчик норвецкой ко мне сватался?
— А?
— Помнишь, говорю, на мне толстик сватался норвежин?
— Медвежин?
— Тьфу! Молчи, глуха, — меньше греха… К счастью, дворник паспорт рассмотрел. Кавалер-от оказался женатой!
Нашей Наталье Петровне мадам Люрс заказывала и свое «умершее» платье:
— Сошьешь, Петровна, саван, как положено по уставу, только кружева, и рюш, и воланчики добавишь, и чтобы сзади прорехи ни в коем случае не было. Может, на Страшном суде генерал или другая благородная личность сзади будет стоять…
И тетеньку и мадам Люрс я нередко фотографировал. Они к этому относились саркастически:
— Боря-то зря аппаратом треплет, вовсе снимать не умеет. Столько морщин наделает, вроде обезьян. Ужасти как непохоже! Помнишь, Глафира Васильевна, мы с тобой у француза снимались?… Как живые вышли. И не так давно было, в турецкую войну… Только Боре-то не надо говорить, что не умеет… обидится. Бог с ним…
А сами кричат одна другой в ухо, на улице слыхать.
Мамина мать, Олена Кирилловна, на моей памяти уже вдовела. И ее помню на девятом десятке. У них после деда оставалась парусная мастерская. Бабушка иногда явится к мастерам с тростью, в повойнике, в черном шерстяном сарафане. Если ей тотчас поддернуть стул, обидится:
— Думаете, хлам старуха стала, с ног валится, песок сыплется… Нет, еще жива маленько. Еще шалнеры гнутся… Это вам все бы сидеть да лежать, а мне не до сиденья. У меня делов — на барже не утянуть!…
Опять непременно обидится, если зашла да стул моментально не подали:
— У нынешней молодежи нет уважения к возрасту. Сами, как гости, на стульях сидят, а старой человек стой перед ними навытяжку, как рекрут на часах.
Застучит тростью, уйдет.
Лет восьмидесяти двух бабушка Олена Кирилловна худо увидела. Оба сына ее и внуки всю навигацию — в море, невесткам скучно с полуслепой свекровью. Придумают пошутить над ней: бойкая Аниса прибежит с рынка да и спросит старуху:
— Аниса-то где у вас?
Бабушке ни к чему, что невестка про себя же спрашивает:
— Убежала в рынок на минуту, да и провалилась. Верно, чаи да кофеи с пароходскими распивает.
— Давно ушла?
— Часа два, поди… Пока у тех кофейники-то скипят…
В другой раз другая невестка, жена дяди Петра, вводит старуху в заблуждение. Сядет рядом:
— Олена Кирилловна, как поживаете? Невестки-ти каковы?
— Ничего невестки.
— Лучше-то котора?
— Обе хороши.
— Котора-нибудь лучше уж?
У бабки на лице появляется заговорщицкая мина. Хрипит в ухо вопрошающей:
— Петькина-то уж не совсем… не очень (а «Петькина» с нею разговаривает)… Кофейком уж не угостит…
— Бабенька, да ты целый день за кофейником!
— Свой пью. Никому дела нет…
Старухи у нас собачек около себя не держали, а курочку — непременно.
У Олены Кирилловны курочка Хохлатка тоже аредовы веки доживала. Вся облезла, только на крыльях да на ногах пучки перьев. Полуслепая бабушка по старой памяти считала Хохлатку красавицей:
— Курочка не так чтобы молода, а оперенье какое пышное! Доктор Магнус Ерикович всегда удивлялся.
Голая Хохлатка, сидя на спинке громадной кровати, утвердительно вторит: «Ко-ко-ко-ко…»
Мы жили в городе, бабушка — на Соломбальском острове. Погостим у них день, вечером зайдем к старухе проститься:
— Бабушка, прощай!
— Какой такой среди ночи чай?
И Хохлатка оттуда, из-за полога, сердито: «Ко-ко-ко-ко?»
Восьмидесятилетней Олене Кирилловне сняли катаракт, и она опять увидела; однако, потрясенная операцией, захворала… Наконец доктор объявил, что минуты сочтены. Болящую торжественно отсоборовали. Реву было у домочадцев, причитания:
— Ты промолви нам последнее словечушко!
Болящая раба божия молчала, глаз не открывала.
Поднесли ко рту зеркало: дышит ли?…
Раба божия ловко смахнула зеркало на пол и открыла один глаз:
— Попов сколько было? Выдать по пятищнице на плешь. Пели умильно.
Наша Петровна воротилась домой ночью, опять запричитала:
В печи вода поставлена
Олену Кирилловну омывать.
Ох, деточки, бабушка у вас
Теперь часова, Не векова…
Утром Наталья Петровна надела черный костыч с белыми руками, взяла псалтырь, отправилась над «покоенкой» читать… Пришла, дверь к бабушке открыта, а та как ни в чем не бывало сидит у окошка, шьет… Косо так на Петровну посмотрела:
— Ты куда, могильна муха, срядилась? Что за пазуху-то пихаешь?
— В баню пошла… к вам забежала…
— Давно ли в городу-то бань не стало? В Соломбалу мыться пришла?
Но Петровны и след простыл.
Однако через три года Олена Кирилловна заумирала не шутя.
Дочери говорят:
— Мама, мы батюшку пригласили.
— Созвали бы старух из Амбурской пустыни. Поп-то «ба–ба-ба», да и все. А наши-то старухи за рублевку три часа поют да поют.
Однако иерей явился.
— В чем грешна, раба божия?
— Ну, батько, ты и толст, сала-то, сала! Ты светло загоришь в аду-то.
— Тебя саму за эти слова в муку!
— Я тоща, я худо загорю: головней возьмусь, да и… Ох, кабы кучей мучиться-то… Все бы веселее…
— Раба божия, я буду тебя исповедовать, ты отвечай.
— Нет, ты мне отвечай! Вот скажи: кто меня так крепко, со всех сторон пожалеет, так обнимет, что уж не вывернешься?
Священник недоумевает, все молчат… Старуха рассмехнулась:
— Могила, кто же больше!… Ну, простите. Не велю вам скучать.
Тут и все.
А тетка Глафира Васильевна, умирая, сказала:
— Не хочу больше на Севере репу есть. Поеду по яблоки в южные страны.
Матвеева радость
На новой беломорской верфи расхвастались старые поморы, кто в жизни больше работы унес. Матвей Иванов Корельской сказывал:
— Родился я в Корельском посаде на морском бережку. Отец был корелянин, мать русская. Род наш на Мурмане, у Семи островов, промышлял. Отец там и утонул. Матка стала поденщичать в людях. Года за два до смерти робить не замогла, по миру пошла и меня с собой повела.
Шести лет начал я скитаться по чужим дворам один-одиношенек. Лохмотья с плеч валятся, колени в дыры выглядывают. О, горе сиротам! Каждому в глаза гляди, каждого надо бояться…
В такой маете, в такой позоре я вырос. О празднике молодежь на улицу пойдет петь, гулять, играть, а я в лес побежу, чтобы моих трепков да грязи не увидели.
Весь я пристыдился. Так уж и привык, что мое счастье дождь да ненастье.
Двенадцати годов ушел я на Мурман в зуйки. Ведь я не на смех родился. Работы я не боялся.
Три лета в зуйках ходил. Ушел на Мурман бос и наг, в три навигации стал на человека похож и голову поднял. Может, думаю, и я не хуже других.
И загорела у меня, у сиротины, душа в люди выбиться. Зачал я у вывозки, у выгрузки работу ломить.
У меня такой ум-то обозначился — нать свое нажить. Сверстные ребята наряжаются, а я убогой лопарской малицы не сменяю. Копейки, значит, выколачиваю. Молодой, а задорный стал; давно ли с сумой бегал, а теперь задумал карбас, свою промысловую посудину, строить.
Нам, поморам, море — поилец, кормилец. Но море даст, что возьмешь. А чтобы взять, надо суденышко. Без своей посудины, хоть самой утлой, помор не добытчик, а раб богачу. Смала я это понял и терпеть не мог. Редкую ночь суденышко мое мне не снилось: вижу, будто промышляю на нем, и рыбы — выше бортов.
Год за годом двенадцать лет медными копейками собирал Матюшка Корелянин, сколько нужно на карбас.
До тонкости у меня было все сосчитано, что возьмут за доски, за гвозди, за снасти, за работу. Насчет матерьяла с лопью договорился, мастера в Коле нашел.
Люди строят к весне, а я, как деньжонки собрались, осенью построился. Карбас недолго сошить. Карбас работали, как именинницу сряжали. Я на работу, как в гости, ходил.
Время бы к снегу, а молодой «хозяин» новым-то суденком подрядился триста пудов жита в Норвегу доставить. Моря бойся пуще осенью, а молодецкое сердце зарывчиво. Веку мне тогда стукнуло двадцать пять годов. Так бы карбас-то взял в охапку да пешком по водам побежал…
Погрузились. Поплыли океан-морем. Не доходя Тана-губы пала несосветима погодушка. Парус оборвало, мачту сломало, руль не послушался. Положило карбас вдоль волны, бортом воды зачерпнуло. Не поспели мешков выкидать, опружило кверху дном. Было народу пять человек, трое поспели за киль ухватиться, двоих охватило прочь…
Сутки океан-батюшка нашим карбасом играл, как мячиком. Наигрался, в камни положил. Мы трое на гору выползли, а суденышко мое погибло. Я ноги и живот ознобил, идти не замог, послал товарищей объявить жителям, а сам еще двое сутки на этой горе волосы рвал да рот открывал. Для чего я двенадцать лет силу складывал, недопивал, недоедал?! Прости, моя свобода…
Добры люди поставили меня на родину, в Корелу. От морской горькой погибели постигла меня болезнь. Ползимы день и ночь трясло, кабыть от морозу от большого, хотя на печке лежал. Одна вдова с молоденькой дочкой жалели меня, водились как с родным. У них в избе я зиму огоревал.
Тут весна подошла. Лед из губы вынесло, дни заблестели.
Как-то хозяйка ушла карбас смолить. И вижу, на подоконник чайка села и закричала на меня по-своему: долго ли, мужик, бока править будешь?
Меня ровно кто на ноги поставил.
Вылез я на улицу, забрался на глядень — и охнул: волны морские играют, шумят: стада лебединые под север летят, и облака небесные туда же плывут, и корабли белопарусные в ту же океанскую сторонушку… А свету! А солнца! А ветру!
И Матюшка Корелянин от болезни, как от сна, пробудился… Топнул ногой о камень да кричу:
— Остер топор, да и сук зубаст! Турью гору[13]Турья гора на западном берегу Белого моря. — Прим. автора. сворочу, а полечу в океан на своих крыльях! Да не на шнеке, а на шкуне!
Так я выздоровел. Опять, значит, работу, как бешеный, хватаю.
Часов шестнадцать подряд отчубучу, сунусь отдохнуть, да как сдумаю, будто я на своем суденышке плыву и паруса что снег, и я вольный промышленник, — дак и окутки в сторону и постели прочь… И ночь не сплю, работу ворочаю.
Люди надо мной посмеиваются: «Пока, — говорят, — Матюша, твое солнце взойдет, роса очи выест».
Пожалуй, эта пословица не мимо дела. Работал я в кабале у богатея. Главная-то отчего у нас кабала учинялась? Своего суденка нет — в ложке за море не поедешь. А у богача судно — да еще океанское, трехмачтовое. У него снасти из Норвегии да из Англии, у него все возможности…
Поморская земля нехлебородима; зима нас прижмет, вот и явимся к благодетелю: дай муки, дай хлеба, дай круп, дай денег, дай того-другого. Он добр, он дает в долг, чтобы летом у него на судах да на промысле отрабатывали.
Что же выходит? Товар-то свой по самой бессовестной цене поставит, а работу нашу оценит грошами. В одну навигацию зимнего долгу не отработаем, а другая зима подходит — в новые долги заберемся у того же хозяина. Одно остается петь:
Осудари наши,
Воля ваша!
Хоть дрова на нас возите
Лишь не помногу кладите!
И то знай: этот твой хозяин — и единственный торговец на всю деревню. Кроме него, ни спичек, ни соли, ни мыла, ни аршина ситца купить негде.
Теперь понимаете, как трудно копейку-то откладывать. А я откладывал. У меня, как звезда в ночи, как маяк в пути, свой-то кораблец, своя-то волюшка.
У какого дела надо втроем-вчетвером, я один берусь. Товарищи косо на меня глядят. Они на работе сидят, да лежат, да перевертываются, а я не могу тихо работать.
Чтобы люди дружны были, следует пить и других поить, а я над каждой копейкой трясусь, меня и не любят. Иродом зовут.
… Опять год за годом десять лет пробежало. Вижу, что не зря сказано: пока солнце взойдет, роса очи выест. Хозяину — рубль, рабочему — нищие копейки; хозяин осенью в Архангельск едет бумажки на золото менять, а у меня те же медяки.
Тут я чуть было маленько с копыл не сбился.
Что такое, думаю: мне тридцать лет, а я не наряживался, не гуливал… Купил в Норвеге брюки-клеш, синюю матроску с большим воротником, полотняну манишку, платок швейный шелковый и явился на родину, в Корелу. Парень я был высокий, плечистый, говорили, что и с лица красивый.
И… тут я большой шаг шагнул: женился на дочери той самой старухи, которая меня десять годов назад пожалела.
Женился и испугался: «О, зачем за себя баржу привязал?! Мне ли гнездо разводить! Теперь не выбиться из бедности».
А пожил с Матреной и увидел в ней помощницу неусыпающую, друга верного. Она со мной заодно думу думала. При ней я на свои ноги начал вставать.
Я на Мурмане, жена дома сельдь промышляет, сети вяжет, прядет, ткет, косит, грибы, ягоды носит. Матрена моя и мужскую работу могла. Тес тесала, езы била, кирпичи работала…
Ребятишки родились — труднее стало. А Матрешка, хоть какая беда, уж тихонько она сдумает, ладно скажет…
В шесть годов мы избу свою поставили. Вместе лес возили, стены рубили, вместе крышу крыли.
В эту пору я кинул якорь у Василия Онаньевича Зубова, нашей же Корелы у богатеющего купца: на Мурмане своя фактория, промысловое оборудование, три шхуны, одна — что твой фрегат.
В море ли, на берегу ли работаю — все нет-нет да погляжу на чужие кораблики, как они плывут, брызги на сторону раскидывают. Погляжу да подумаю: «Ничего! Проведу и я свою борозду».
Деньжонки я усердно копил, а что строить буду не малую скорлупку, а заправскую шкуну, это я давно решил.
Семья в Корелах, я на Мурмане: что добуду, им оторву, остальное в кошель; на себя ни полушки. И кошель на груди носил.
Каждый рубль — что гвоздь на постройку моему желанному кораблю, каждым рублем я на волю выкупался сам и детей выкупал.
Я людей-то насмешил: в Соловецке картину заказал, два рубля потратил, написана приправная норвецкая шкуна.
По праздникам на эту картину любовался. Любовался — не думал, не гадал, какая гроза над моей головой собирается.
Хозяин мой, Василий Зубов, в нас, в рабочих, не входил. Платит грошами, а зиму пропащей рыбой кормит — и ладно, думает, дородно им.
Покамест я у него в кулаке сидел, хоть и жужжал, да не рвался, он до меня ровный был. А как усмотрел, что Корельской на ноги встает, запосматривал на меня не мило.
Осенью, при конце промысла, не утерпел, скричал на меня при народе:
— Эй, любезный! Люди смеются, да и вороны каркают, будто кореляки собственные пароходы заводят. Ты не слыхал?!
— Про людей не слыхал, — говорю, — может, и пароходы. А вот насчет шкуны я подумываю.
Он зубы оскалил:
— Подумываете? Ай да корельская лопатка! А по-моему, спустить бы тебе на воду пищу коробку, с которой по миру бегал, а заместо паруса маткина нища сума. Экой бы корабль по тебе!…
Это он меня да матерь мою нищетою ткнул…
Сердце у меня остановилось:
— Ты! Ты, который нас по миру с сумой пускаешь, ты сумой этой нас и укоряешь? Мироед! Захребетник мирской! Погоди… Умоетесь вы, пауки, своею же кровью!…
Кругом народ, стоят, молчат.
Уж не помню, чего я еще налягал языком; что было на сердце, все вызвонил. Хлопнул шапку о землю, побрел прочь.
Иду — шатаюсь, как пьяный. Сердце себе развередил.
Тут испугался: «Пожалуй, заарестуют меня». Урядник все слышал, он Зубову слуга… И до того мне Матрешку да ребят увидать захотелось!… А мимо пристани гальот знакомого человека и плывет, в Ковду пошли. Ковда с Корелой рядом.
Взяли меня без разговоров. Ничего, что пассажир без шапки.
Долгу за Васькой семь рублей с полтиной оставалось, я всего отступился.
Дома сельдь промышляю, а сердце все неспокойно. Не простит мне Васька Зубов. Через годик можно бы кораблик тяпать-ляпать, а тут как бы помеху какую Зубов не сунул…
Скоро и он сам домой пожаловал. Я мимо иду, ой в окошко окликнул:
— Корельской, ты что, чудак, тогда от меня убежал? Кроме шуток: скоро ли шкунарку свою ладишь стряпать?
— Мне ведь не к спеху, Василий Онаньевич. Через год, через два…
Он воровски огляделся:
— Ну-ко, зайди в сени.
В сенях и шепчет:
— Хочешь, тебя со шкуной сделаю на будущую весну?
Я и глаза вылупил, а он:
— Ум у тебя дальновидный, ты опыт имеешь, практику знаешь. Пора, пора тебе, Матвей Иванович, в люди выходить.
Такой лисой подъехал. Я и растаял. Слушаю — как мед пью. А Васька поет:
— Знакомый норвежский куфман запутался в делах. Наваливает мне за гроши — за две тысчонки — новенький пароходик. А у меня деньги все в дело вложены. Денег нет. Ничего не решив с куфманом, поехал в Архангельск, а в Архангельске частная контора на упрос просит сосватать пароходик тысяч за восемь… Понимаешь, Матюша, — Васька-то говорит, — мы норвецкий пароходик и сбагрим им за восемь тысяч, а сами за него заплатим две. Барыш-то по три тысчонки на брата…
Я глазами хлопаю:
— Это кого же вы в братья-то принимаете?
— Как кого? Да тебя! Принимаю тебя, Корельской, в компаньоны. Тысячу рубликов я у себя наскребу. Тысчонку ты положишь.
Я заплакал:
— Не искушай ты меня, Василий Онаньевич! Всего у меня капиталу семьсот семьдесят четыре рубля шестьдесят одна копейка.
— Давай семьсот семьдесят четыре рубля. Прибыль все одно пополам.
Я воплю:
— Дай до утра подумать!
Ночью с Матреной ликую:
— Три тысячи барыша… Мне их в двадцать лет не выколотить. А тут сами в рот валятся. Три тысячи! Ведь это шкуна моя, радость моя, к моему берегу вплотную подошла: «Заходи, говорит, Матюша, берись за штурвал, полетим по широкому раздольицу…» Ох, какой человек Василий Онаньевич! Напрасно я на него обиделся!
Жена говорит:
— Может, так и есть. Только бумагу вы сделайте.
Утром сказываю свое решение Зубову, что согласен, только охота бумажку подписать у нотариуса. Он глазищи опустил, потом захохотал:
— Правильно, Корельской! Ты у меня делец!
Поехали на оленях в уезд. На дворе уж зима. Зубов к нотариусу пошел, долго там что-то вдвоем гоношили. Потом меня вызывает. Чиновник бумагу сует:
— Подпишись.
А я неграмотный вовсе. Только напрактиковался чертить свою фамилию. Надо бы велеть прочитать, что в бумаге писано, а я где дак боек, а тут, как ворона лесна.
Накаракулил подпись, может, задом наперед — и получил копию. Сложил Зубов мои денежки в сертук, во внутренний карман, и еще наказывает мне:
— Ты смотри, до времени языком не болтай и бумагу не показывай. Мы с тобой потихошеньку да полегошеньку.
Конец зимы Зубов в Колу на оленях уехал, оттуда хотел в Норвегу, а я дома проживаю в радужных мечтах. Барыши делю. Тысячи свои распределяю.
Началась навигация. Лето. Жена с ребятишками рыбешку добывает, а Матвей Корельской от компаньона телеграммы ждет.
Пришла весточка, что пароходик этот в Архангельске продан. Я телеграмму жду. И на Мурман это лето не пошел.
Весь распался что-то, весь поблек.
Жена уговаривает:
— Погоди ты падать духом. Мало ли какие в городах, в конторах да в банках задержки. Может, Зубов и денег еще не получил.
А у меня сердце болит, в трубочку свивается.
Осень пришла, и Зубов домой прибыл. Приехал ночью. Я с утра дорогого гостя ждал, обмирал.
В паужну сам полетел.
Он разговаривает, расхохатывает, о деле ни слова. «Может, — думаю, — семейные мешают». Шепчу:
— Мне бы с вами, Василий Онаньевич, по секрету…
А он на всю избу:
— Что? Какие у нас с тобой секреты?
— А дельце наше, Василий Онаньевич?
— У Василия Зубова с Матюшкой Кореляком дела?!
— А пароход-то!
— Что пароход? Скорее, Корельской! Мне некогда.
— Да ведь деньги-то у меня брали…
— Что? Я у тебя, у голяка, — деньги? Ха-ха-ха!…
Я держусь обеими руками за стол, все еще думаю — он шутит.
— Василий Онаньевич, бумагу-то нотариальную забыли?
— Какую бумагу?
— Зимой делали.
— Мало ли я зимой бумаг сделал! Неси ее и приведи писаря.
Слетал домой за бумагой, добыл писаря. А руки-то, а колени-то трясутся. Зубов рявкнул:
— Читай Корельскому его бумагу!
Писарь читает:
«Я, крестьянин такой-то волости, Матвей Иванов Корельской, сим удостоверяю, что промышлял на купца Василия Ивановича Зубова на обычных для рядового мурманского промышленника условиях. Договоренную плату деньгами и рыбой получил сполна и никаких претензий не имею. В чем и подписуюсь.
М. Корельской».
… Не хочу рассказывать плачевного дела! Две недели я без языка пролежал. Опомнюсь — клубышком катаюсь, поясом вьюсь. Мне сорок годов, я до кровавого поту работал — и все, все прахом взялось!
Все отнял Зубов, оставил с корзиной…
Тут праздник привелся. Я вытащил у жены остатние деньжонки, напился пьян, сделался, как дикой. Полетел по улице да выхлестал у Зубова десять ли, двенадцать ли рам. Меня связали, бросили в холодную.
После я узнал, что в тот же вечер мужики всей деревней приступили к Ваське Зубову, просили мои деньги отдать. Он от всего отперся.
— Пусть подает в суд. Вы ставаете свидетелями?
Мужики ответили:
— Не знаем, Зубов, не знаем, можно ли, нет ли на тебя в суде доказать, по делам твоим тебе давно бы камень на шею, безо всякого суда. Помни, Зубов, собачья твоя совесть, что придет пора, ударит и час. Мы тебе Матюшкино дело нарежем на бирку…
Спасибо народу, заступились за меня. Не дали мне духом упасть. Я не спился, не бросил работать и после Зубова разоренья, только радость моя потерялась, маяк мой померк, просвету я впереди не увидел. Годы мои далеко, здоровье отнято. Больше мне не подняться.
Да я бы так не убивался, кабы одинокой был. Горевал из-за робят, из-за жены.
С воплем ей говорю:
— Ох, Матрешка! Мне бы тебя в землю запихать да робят в землю, вот бы я рад сделался, что не мучаетесь вы!
Она рядом сядет, мою-то руку себе на голову тянет:
— Матюша, полно-ка, голубеюшко! Мы не одни, деревня-то как за нас восстала… Это дороже денег! Гляди, мужики с веслами да с парусами несутся: видно, сельдь в губу зашла, бежи-ка промышляй!
Однако я в море не пошел, поступил в Сороку на лесопилку. Мужики ругают меня:
— Эдакой свой опыт морской под ногу Ваське хочешь бросить! Мало ли хозяев, кроме Зубова…
— Все хозяева с зубами…
Доски пилю — в море не гляжу, обижусь на море. Сколько уж в сонном видении по широкому раздольицу поплаваю… Сердце все как тронуто. Я в Корелу не показываюсь, фрегата Васькиного видеть не могу.
Копейки, конечно, откладываю. Не на корабль — кораблем батраку Матюшке не владеть, — откладываю робятам на первый подъем, чтобы не с нищей корзиной жизненный путь начинали. Дети мои зачали подыматься, об них мое сердце заболело. Боюсь, не хочу, чтобы дети к Зубовым в вечну работу попали.
После Зубова разоренья еще пятнадцать лет я не отдыхивал ни в праздник, ни в будни, ни зимой, ни летом. Было роблено… Сердита кобыла на воз, а прет его и под гору и в гору.
В одном себя похваляю: грамоте выучился за это время, читать и писать.
Матрешке моей тяжело-то доставалось. Ухлопается, спину разогнуть не может, сунется на пол:
— Робята, походите у меня по спине-то…
Младший Ванюшка у ей по хребту босыми ногами и пройдет, а старшие боятся:
— Мама, мы тебя сломаем…
Тяжелую работу работаем, дак позвонки-то с места сходят. Надо их пригнетать.
Матрена смолоду плотная была, налитая, теперь выпала вся. Мне ее тошнехонько жалко.
— Матрешишко, ты умри лучше!
— Что ты, Матвей! Я тебе еще рубаху стирать буду!…
Пятнадцать годов эдак. Всю жизнь так!…
Что же дальше? Дальше германская война пошла. Два сына кочегарами на пароходе ходят, я на заводишке дерьгаюсь: только и свету, что книжку посмотрю.
А потом — что день, то новость. В Петербурге революция, у нас бела власть. Про свободу сказывают, а Зубов в Учредительное собрание снарядился.
Преполовилась зима девятьсот двадцатого года. В одно прекрасное утро бреду с завода, а в Сороке переполох, Начальники и господа всяких чинов летят по железной дороге, кто под север, кто под юг… Что стряслось?
— Бела власть за море угребла. Красна Армия весь Северный край заняла…
Наутро мне из Корелы повестка с нарочным — явиться спешно в сельсовет. Все как во сне. Бежу домой, а сам думаю: «Судно зубовско где? Красна власть отобрать посмела ли? Вдруг да Васька на меня из-за лесины, как тигр, выскочит…»
С женкой поздороваться не дали, поволокли на собранье. Собранье народа в Васькиных палатах идет вторы сутки.
Сажусь у дверей, меня тащат в президиум и кричат всенародно:
— Товарищи председатели! Матвей Иванов Корельской здесь!
Над столом красны флаги и письмена, за столом товарищи из города, товарищи из уезда. Тут и мое место. Васька бы меня теперь поглядел…
Шепчу соседу:
— Зубов где?
А председатель на меня смотрит:
— Вы что имеете спросить, товарищ Корельской?
Я встал во весь рост:
— Василий Онаньев Зубов где-ка?
Народ и грянул:
— О-хо-хо-хо! Кто о чем, а наш Матюша о Зубове сохнет! О– хо-хо-хо!!
Председатель в колокольчик созвонил:
— Увы, товарищ Корельской! Оставил нас твой желанный Василий Онаньевич, усвистал за границу без воротиши.
— А судно-то егово? Это не шутка, трехмачтово океанско судно!
— Странный вопрос, товарищ Корельской! Вы — председатель местного рыбопромышленного товарищества, следовательно, весь промысловый инвентарь, в том числе и судно бывшего купца Зубова, в полном вашем распоряжении…
— Я?… В моем?…
— Да. Вчера общее собрание Корельского посада единогласно постановило просить вас принять председательствово вновь организованных кооперативных промыслах, как человека исключительного опыта.
Я заплакал, заплакал с причетью:
— Я думал, мой корабль — о шести досках, думал, по погосту мое плаванье, а к моему плачевному берегу радость на всех парусах подошла: «Полетим, говорит, по широкому морскому раздольицу!» Сорок восемь годов бился ты, батрак Матюшка Корельской, в кулацких сетях, а кто-то болезновал этим и распутывал сеть неуклонно, неутомимо…
И чем больше реву, тем пуще народ в ладони плещут да вопиют:
— Просим, Матвей Иванович! Просим!
Ну, и я на кого ни взгляну, слезы утирают. И вынесли меня на улицу и стали качать:
— Ты, Матвей, боле всех беды подъял, боле всех и чести примай!
… Кому до чего, а кузнецу до наковальни: запустил Зубов, до краю заездил свой фрегат — и я по уши в ремонт ушел. Сам с робятами лес рубил для ремонта, сам тесал, сам пилил. Сам машину до последнего винта разобрал, вычистил, собрал. Сам олифу на краску варил. Перво охрой сплошь грунтовал, потом разукрасил наше суденышко всякими колерами. До кильватера — сурик, как огонь, борта — под свинцовыми белилами, кромки — красным вапом, палубу мумией крыл по-норвецки, каюты — голубы с белыми карнизами.
Обновленный корабль наименовали мы «Радостью». На носу, у форштевня, имя его навели золотыма литерами: «Радость». И на корме надписали: «Радость. Порт Корела».
За зиму кончил я ремонт. Сам не спал и людям спуску не давал. В день открытия навигации объявили и нашу «Радость» на воду спущать. Народишку скопилось со всего Поморья. Для народного множества торжество на берегу открылось.
Слушавши приветственные речи, вспомнил я молодость, вспомнил день выздоровленья моего после морской погибели… Сегодня, как тогда, чайка кричит, и лебеди с юга летят, как в серебряные трубы трубят, и сияющие облака над морем проплывают. Все как тридцать пять годов назад, только Матюшка Корелянин уж не босяком бездомным валяется, как тогда, а с лучшими людьми сидит за председательским столом. Я уж не у зубовского порога шапчонку мну да заикаюсь, а, слово взявши, полным голосом всенародно говорю:
— Товарищи? Бывала у меня на веку любимая пословка: «Ничего, доведется и мне, голяку, свою песенку спеть». Вы знали эту мою поговорку и во время ремонта, чуть где покажусь, шутили: «Что, Матвей Иванович, скоро свою песню запоешь?»
Я отвечал вам: «Струны готовы, недалеко и до песни».
Товарищи, в сегодняшний день слушай мою песню. И это не я пою — моими устами тысячи таких, как я, бывших голяков, поют и говорят…
Двенадцати годов я начал за большого работать. В двадцать пять годов ударила меня морская погибель. Сорок пять лет мне было, когда меня Зубов в яму пихнул. Шестьдесят мне стукнуло, когда честная революция надунула паруса купецких судов не в ту сторону и подвела их к бедняцкому берегу. Наши это корабли. Все наше воздыхание тут. Каждый болт — наш батрацкий год. Каждая снастиночка нашим потом трудовым просмолена, каждая дощечка бортовая нашими слезами просолена… Слушай, дубрава, что лес говорит: теперь наша Корела не раба, ейны дети — не холопы! Уж очень это сладко. Не трясутся ваши дети у высоких порогов, как отцы тряслись: не надо им, как собачкам, хозяевам в глаза глядеть.
Уж очень это любо!…
Мое сказанье к концу приходит. Ныне восьмой десяток, как на свете живу. Да годы что: семьдесят — не велики еще годы… Десять лет на «Радости» капитаном хожу.
Как посмотрю на «Радость», будто я новой сделаюсь, как сейчас из магазина. При хозяевах старее был.
Оногды земляна старуха, пустыньска начетчица, говорит мне:
— Дикой ты старик, — все не твое, а радуиссе!
А я ей:
— Дика ты старуха, — оттого и радуюсь, что все мое!
Золотая сюрприза
— Уточка моховая,
Где ты ночь ночевала?
— Там, на Ивановом болоте.
Немцы Ивана убили;
В белый мох огрузили.
Шли-прошли скоморошки
По белому мху, по болотцу,
Выломали по пруточку,
Сделали по гудочку.
Тихонько в гудки заиграли,
Иванушкину жизнь рассказали,
Храброе сердце хвалили.
— Сидите, заезжие гости. Не глядите на часы. Вечера не хватит — ночи прихватим. Не думайте, что я стара и устала. Умру, дак высплюсь. Вы пришли слушать про Ивана Широкого? Добро сдумали. Небо украшено звездами, наша земля таковых Иванов именами. И не Иваны свою силу затеяли — время так открывается.
Иван Широкий был русского житья человек. Шелковая борода, серебряная голова, сахарные уста. Он был выбран с трех пристаней наделять приезжающих рыбой, хлебом и вином. За прилавком стоит, будто всхоже солнышко. Поздравляет и здравствует, кого с обновкой, кого с наступающим…
Иван был вдовец, и моя сестра, Марья, честна вдова-баловница, против праздника набелится добела, нарумянится доала, ждет Ивана. Он прикатит с закусками, с гитарой. Учинится плясанье, гулянье, топот ножный. Я ругаться, они смеяться: «Не тогда плясать, когда гроб станут тесать. Царь Давид плясал перед ковчегом!»
У Ивана от первой жены был сын Вася; в городах учился, до большой науки доходил. Своим детищем Иван всенародно восхищался: «Сегодня Васенька письмо послал с довольным наставлением, скоро сам прибудет. Я ему все расскажу и обо всем спрошу».
Сын приедет в самую навигацию. Отец пароходы встречает, пароходы провожает…
Вася строгий был:
— Отец, вы не того стоите, чтобы в столешницу стаканчиком колотить.
— Сын, напрасно вы будете обременять мои понятия. Я сам скажу експромту.
… В эту пору с Запада, из-за Корельских болот, припахнули к нам ненастливые ветры, приносили ратные вести: прусская аспида пивом опивалась, во хмелю похвалялась:
— Я сера липучая. У меня пушки скакучие и на ногах бегучие. Вы до смерти на меня будете работать, до гроба мое дело делать. Я ваш ум растлю.
И Красная Армия ответила просто и не спесиво:
— Ты к нам за своей смертью приехала.
Вася Широкий ушел на войну добровольно, с товарищами. Иван разум сына любит и хвалит:
— Пущай любодейцу тряхнут, выгонять хмель-то из сучки.
Когда Вася пал храброй смертью, Иван горе свое на люди вынес. Сядет в народе, руками всплеснет и слезами зальется. Люди ему слезы отирают:
— Твой сын в невеликие свои годы исполнил лета многа. Не тот живет больше, кто живет дольше.
Иван скажет:
— Верно! Сын обо мне промышлял. Слово тайное, крайное мне припасал. Теперь я слышу его слово… Горе мне! Я летами призаживши, годами призабравши, что я живу?… Кисла шаньга деревенская!
И пришла пора-времечко, докатилась час-минуточка — сделали деревни выбор на Ивана, везти подарки на войну. Эта дорога Ивану под ноги попала, и он повеселел:
— Не до горя, когда дела вдвое. Теперь у меня много детей. Поплыву глядеть… Марья, не реви, не держи меня. Дай от полной души вздохнуть.
На отъезде неведомо как Иван вередил свои серебряные часы. Марья говорит:
— Обрадуй меня, прими от меня золотую сюрпризу, мои красного золота часики.
С войны Иван писал, бойцов похвалял: «Много доброхотов наших, а все одного моего сердца. Светло и статно промышляют воинским делом. Их ни дождь, ни снег не держит. Болотами идут, по неделе бахилы с ног не скидывают, Отечеству нашему радеют. На воинов глядя, и я молодею. Всего меня переновило, переполоскало».
Теперь до главного дела доходит.
Пришвартовался наш Иванушко к госпитали. У Корельских пристаней. Тут лежал сбинтован молодой начальник Марко Дудин. Днем товарищей на совет созовет и так-то их щекотурит. А в ночи не спит, Ивана за руку держит, Иван ему сказку говорит. Будто сын и отец друг друга жалеют.
Гитлерова аспида тогда разъехалась, широко щеки разинула. Наши перешли до времени за озеро. Молодой
Марко уж на ноги попал. На него вся госпиталь опрокинулась.
Беспомощных людей сряди и соблюди и за озеро их на пароме переведи.
Марко на всякое дело сам кидался, сон и еду позабывал. Иван Широкий с Марком рядом бегает, его на ходу, как собаку, кормит.
Марко по должности своей приказывает и Широкому сплыть за озеро. Широкий не послушался. Утаился на отводном дворе, и вести о Марковых скорых шагах принашивал еврей-гостинник. Прежде госпитали тут гостиница стояла, и старобытному гостиннику поставили кроватку для его древней немощи. Никакими манами не мог его Дудин сманить за озеро. Старичонко бородой тряхнет да костылем махнет:
— Я еще перину буду зашивать. Кто рад без перин-то?
А у Дудина не то что часы — минуты сосчитаны. Некогда стало гостинника нянчить, о Широком обыскивать. Дудин Ивана давно за озером числил.
Марко, скажем, вечером остатную койку на паром погрузил, к рассвету сам изладился, а в полночь враг налетел.
Мятежно было в ту ночь. Иван прибежал в госпиталь, гостинника добыл. Тот шепчет по тайности:
— Пятерых попавших людей замкнули в палате. Марко в том числе. На заре им будут языки тянуть — спрашивать.
Иван спросил:
— Тебе-то не потянут языка?
— Мне, Иване, за восемьдесят. Умру — и все тут.
— Дедко, ты разумеешь немецкую речь. Как бы мне докупиться до Марко?
— Караулит нашего Марка немецкий Тырк Обезьянин. Чем ты его купишь, Иване?
— Есть у меня золотая сюрприза — червонные часы и с цепочкой.
Гостинник привел Ивана к дежурному Тырку и, хотя через порог едва ноги переволок, вежливо справил челобитье и сказал:
— Господин начальник, этот купец желает преподнести вам золотую сюрпризу. Взамен просит отпустить одного незначительного человека.
И в те поры Иван показывает из своих рук золотые часы. За перегородкой храпели другие немцы, и Тырк говорит осторожно:
— Можно. Имена и возраст арестантов еще не переписаны. Но я принял пять человек и должен сдать пять человек.
И тут дело преславно бывает. Иван говорит:
— Ежели надобно только пятичисленный комплект соблюсти, то возьмите меня в это число, а молодого человека, Марко Дудина, отпустите.
Тырк говорит:
— Давай часы.
А Иван часы в пазуху прячет.
— Возьмешь, когда дело справишь. Станешь силой отымать — я зареву, придется тебе с комрадами делиться. И еще ведай, немец: ни словом не заикнись Дудину, что его некто выменил. Немедля запри меня в сенях, в чулане: я услышу, как Дудин побежит. Ежели по его следу стрелишь, или феверку пустишь, или гаркнешь, не увидит часиков твоя немецкая фря!
Тырку Обезьянину лестно на себя одного схватить золотую сюрпризу. Он Ивана Широкого спрятал. Марка Дудина тихомолком отпустил со двора.
Отдал Иванушко немцу золотую сюрпризу, купил доброму человеку свободу, а себе, старику, горькую смерть.
Осенняя ночь скороталась. Стали Ивана вязать и ковать. Повели под допрос.
Рыжий фашист вопросил:
— Любопытствую знать: будешь ли к нам прихаживать и слова принашивать, что в Советах деется?
Иван говорит:
— Любопытствую узнать про фашизму, где вы эту грязь покупаете.
— Я тебя муками утомлю! Выручки тебе из Москвы не будет.
— Будто вам из Москвы и писали, что выручки не будет. Столько волосов нет на ваших головах, сколько силы Красной Армии идет на нашу выручку. Будет Корела вашими головами рыб кормить.
Тогда прусская аспида исполнилась гнева и, рыкнув, как лев, осуждает Ивана под расстрел. Небось каково было страшно и трепетно, но Иван взял силу больше страха.
День ненастливый дождевой тучей покрывается. Иванушко в последний путь снаряжается… хлопнули ружья немецкие. Пал Иван честным лицом в белый мох. Того часу и снегу туча велика накрыла болото, и лежал снег три дня и три ночи.
Безвестно уснул Иван, а слава его полетела на золотых крыльях. Вся река Иванов разум похвалила. Он верховную добродетель исполнил: положил свою душу за Друга.
О смертном и славном труде Ивана Широкого узнали в деревне от Марка. Из-под немецкого замка Дудин выбежал в лес. Шел горою и водою, набрел на своих. Искал Ивана и не нашел…
По зиме, по белому снегу, Красная Армия выдула фашистскую душину из Корелы. Марко Дудин стал обыскивать в народе про Ивана. Гостинник оказался жив, только после немецкого быванья трясся всем составом и временем говорил суматоху. Однако Иванову судьбину объяснил внятно.
Дудин от Ивановых рассказов знал нашу пристань и деревню. Приехал к нам весной по первому пароходу. Стребовал Иванов портрет, припал устами и заплакал:
— Отцом ли тебя назову? Но ты больше отца, добрый печальник жизни моей! Ужасается разум, и сердце трепещет, и слово молчит, похваляя твое великодушие.
Огненными слезами плакал Марко. Не в обычай ему были слезы. Но эти мужественные слезы усладили нашу горькую печаль…
…Утолила Марья свои причитанья и говорит:
— Коли Ивану так было годно, то и мне любо. Сердцу-то жалко, а умом-то я рада. Марко, вези меня в свою гошпиталь полы мыть.
Он отвечает:
— Будешь ты моей маменькой.
Лебяжья река
Есть у Студеного моря Лебяжья река. На веках только гуси да лебеди прилетали сюда по весне, вили гнезда. Потом пришли люди, наставились хоромами-домами. На одном берегу деревня Лебяжья Гора, на другом — деревня Гусиная Гора. Земля здесь нехлебородная. Того ради народ промышляет деревянным и живописным делом. На продажу работают сундуки, ларцы, шкатулки и подписывают красками. Мастерство переходило от отца к детям. Бывали настоящие художники. И все они жили скудно. Все зависело от скупщика. Все глядели в рот хозяину. Скупщики платили не цену, не деньги, злосчастные гроши-копейки. Мастера гонялись за случайным покупателем. Из-за этого была рознь, зависть и вражда. Самолучшие живописцы Иван Губа да Иван Щека усилились однажды, сколотили артель. Артель рассыпалась. Сами учредители, Губа да Щека, до старости меж собой слова гладкого сказать не умели. Проезжающий в царскую ссылку человек выговорил им однажды:
— Не в ту сторону воюете, друзья!
— Против кого же воевать?
— Против тех, кому рознь ваша на руку.
— Золотое твое слово, — отвечали Губа и Щека. — Мы таких, как ты, согласны уважать. Садись в нашу лодку, берись за кормило.
Но разумного человека угонили дальше, к Мерзлому морю. Оставленные царской властью без призора самобытные деревенские художники зачастую бросали свое художество.
Но пришла пора, ударил и час: царский амбар развалился от подмою живой воды. Как трава из-под снегов, потянулись к жизни художники-сундучники, живописцы-красильщики. Говорливая Лебяжья пуще всякой сказки расскажет о комсомольцах Гуле Большом и Васе Меньшом, которые помогли деревенским мастерам собраться в складчину-братчину.
Гурий Большаков и Василий Меньшенин были комсомольцы из первых в то время и по той далекой реке. Гуля председательствовал в сельсовете. Деревенские хвастались:
— Настоящий председатель. Худых людей словом одергивает, добрых людей словом поддерживает.
Гуля Большой собрал в артель остаточных мастеров Лебяжьей Горы. Вася Меньшой и столяр Федор Деревянный связали в одну семью мастеров Горы Гусиной.
Артельное дело пошло бы ходко, да не хватало хитромудрых живописцев Губы и Щеки. Освободившись от хозяйской кабалы, оба Ивана ушли на дальние морские берега, на промыслы.
В красные дни на песках у Лебяжьей реки сходились обе артели. Гуля председательствовал, Вася секретарствовал. Люди говорили:
— Всякий художный запас — краски, и масло, и клеймы добудем. Кисти и прочую художную снасть сами доспеем. А как ремесленную порядню вести, чтобы наше поделье в домовых обиходах было прочно и вечно? Это мы порастеряли, в этом мы поослабли. Вид дадим, а не красовито. Цвет покажем — полиняет. И вторая статья: как художество строить? Без Губы да без Щеки мы письмо переврем и пошиб-манеру запутаем. Живем соседственно, но в чертеже и в раскраске каждая деревня соблюдает свою добродетель. На Лебяжьей колер обожают самый нежный, «тьмо-лимонный» да «светло-осиновый», голубой да лазоревый. Человечков писали тоненьких. На Гусиной красили пестро. Цвет пущали сильный. Мужиков писали головастеньких, а женочек коротеньких. Нам свое лицо терять ненадобно. У всякой ягоды свой скус.
Старуха Губина докладывала:
— Письма от мужа были, адрес не пишет, для того, что месте не сидит. И я спрошу тебя, товарищ председатель: ужели по теперешней науке нельзя дознать местоположенье хоть бы нашего Губы? Узнать бы да истребовать письмом.
Гуля рассмеялся:
— К сожалению, и наука не может вычислить координаты наших мастеров. Ни ихней долготы, ни широты.
Порешили на том, что будут сыскивать вестей и по тем вестям мастеров добывать. А работу начинать не мешкая для того, что время горячее.
На Лебяжьей сыскались и нехудые живописцы. Гусиная Гора в живописи пооскудела. Зато столяр Федот Деревянный умел резное дело: стамеской орудовал по дереву краше, нежели иной кистью по бумаге. Федот взялся приобучать молодежь столярству и резьбе.
И полезли ребята к Федоту, как мужи на брагу. Навыкали пилить и тесать, делали скамью и столец чисто и чинно. Которые ребята были схватчивы и ученье принимали бойко, тех Федот садил за тонкую работу.
— Вот, Михайлушко, — толковал Федот талантливому пареньку, — вот тебе художественные снасти, пилка да топорок, долото да стамеска. Построишь тут ларец. Приладишь тут кровельку. Получится для мухи для горюхи домик-теремок. К ней постойщики приедут. Пойдет житье-бытье.
Муха — Горюха,
Блоха — Поскакуха,
Комар — Пискун,
Таракан — Шаркун.
Присмотрясь к Федотовым рукам, ребята начинали делать сами. Всякую поделку, какова она будет в дереве, сначала чертили на чертеж, на бумагу. Федотовым ученикам подражали малыши-недоросточки. Мать иному репину даст, он из репы человечью образину или птичку вырежет.
Многие из старших пристрастились к рисованию, дивились сами на себя — почему это человеку художничать охота? Федот размышлял:
— Такой уж иной человек родится: чертить, да красить, да что-нибудь мастерить вроде как пить-есть ему надобно. Сундук, скажем, и без прикрасы в обиход пойдет. А художнику охота, чтобы этим сундуком любовались. Ну, и в карман лишняя копейка. Я вот резьбой да узором сколько покупателя приманиваю, друга столько себя веселю.
Федот жил и ребят обучал в доме Ивана Щеки. На деревне все дома были великие, потому что сторона лесная, но у Щеки было особенно светло: окна рублены широко. Иван Щека, сряжаясь в море, сказал Федоту:
— У тебя глазишки маленькие, и оконца в твоей избе коротенькие. Там тебе работать темно. Заходи в мой дом, столярствуй, топи печи, карауль…
Когда к Федоту стали собираться артельные, он немножко-то обеспокоился: «Без спроса тут хозяйничаю». А и хозяин будто в канский мох провалился.
На Лебяжьей Горе ждали Ивана Губу. Гуля Большой заходил спрашивать вестей к старухе Губиной:
— Как думаете, не вместе Иван Егорович с Иваном Щекой промышляют?
— Могут ли вместе, Гулюшка, эких два воеводы! Весь век в два веника метут. Все чего-то делят. Однако по секрету вот что тебе расскажу: мой-то муженек Ивана Щекина работу в сундуке хоронит. Две коробки писаных в полотенце увернуты, в бумагу увязаны. В праздник вынет, полюбуется, вздохнет и скажет: «По живописной добродетели ни с кем Ваньку Щекина не сравню…» Опять и такой случай был: скупщик на пристани парохода ждет, сидит на ларце — Ивана Губина работа. Щека это усмотрел, к купцу подскочил и плюху дал: «Недостоин ты в руках носить Губино художество, не то что сидеть на нем…»
Колотятся теперь о морскую льдину моржи седатые, не ведают, какие дома дела открываются. Ужо по зиме, на оленях, не будут ли.
На оленях стариков не дождались. Иван Губа приехал по весне, Иван Щека — летом.
С вешней водой Лебяжья река откладывает кисти да краски. Брались за багры, за весла, за якоря, за паруса, за рыболовные снасти. Но из области было получено приглашение участвовать в осенней выставке, и люди урывали день-другой для художества.
Туля Большой по должности и по делам выставки гонял то в область, то в район. Никто не встретил Ивана Егоровича Губу на пристани, а Гуля не сразу явился с визитом.
Губа все это принял как невнимание, как пренебрежение и как оскорбление. Пуще всего затужил о том, что артельное дело зачалось без него.
— Я век об этом деле радел, этого времени ждал да хотел. А они мимо меня и мимо Ваньки Щекина артель составили. Нарочно скорым делом стряпали, чтобы меня не пригласить. Хотя и приглашают, да после всех.
Жена уговаривала:
— Не горазды твои речи, Егорович. Артельная телега широка, садись да катись.
— Вот уж, Ананья да Маланья. Фома да кума да и место заняли. Я не из тех, чтобы сверх канплекта проситься.
— Что тебе проситься? Гуля Большой по зиме сто раз заходил: «Ждем, говорит, Ивана Егоровича, как майского дня».
— Ежели я майский день, дак меня встретить да почтить должно.
— Музыки да барабану не нашли, а то бы встретили.
— Тебе, дура, смех, а мне смерть… Оно и Ваньку Щекина нароком держат без вестей.
— Кто это они, не наш ли Гуля, не Вася ли Меньшенин? — негодовала старуха.
— И Гульку не за что хвалить. Обо всей реке печалится, а мне отставку дал. Пущай мое письмишко самое немудрое, но Щека — первостатейный мастер. Только норов у него тяжелый. Но я за свою добродетель не пойду в ноги кланяться. А пропитаемся мы своей промышленной рыбешкой.
Артельные тоже не знали, как подступиться к мастеру.
— Смех и грех со стариком. Вишь, для его упрямки и для гордости встречу было надобно срядить. На тарелку посадить да по деревне пронести… Теперь уж все пропало. Он теперь и всенародного моленья не услышит. А бывало, что он, что Щека за чужую обиду первые лезли в драку с мироедами.
Молодежь дивилась:
— Как же хозяева-то дерзость такую прощали?
— Потому что у Ивана Щеки да у Ивана Губы руки золотые. Хозяин да скупщик прибыль этими руками загребали.
Пуще всех Губа обиделся на Гулю Большакова:
— В городе красуется, павлиены к выставке городит, а меня не залюбил. Ему Губа не надобен, и я их всех ничем зову и ни во что кладу.
Гуля Большой прямо с парохода забежал к Губе. Встретила хозяйка со словами:
— Иван Егорович в слабом состоянии здоровья. Принять не может. Извиняется.
Вышла Гулю проводить и зашептала:
— Не оскорбляйся, Гулюшка. Старик сам не рад, да своего упрямого обычая переломить не может. Намедни сам меня послал в артель. «Узнай обиняком, что такое нова тематика. Из артели парни шли и про каку-то „нову тематику“ песню квакали».
Гуля это намотал на ус. Укараулил Губу на улице, учтиво здоровается и подает коробочку:
— Иван Егорович, это первый мой живописный опыт. Я пытался применить новую тематику. Позвольте узнать ваше мнение.
Старик впился глазами в рисунок: звезда, краснофлотец, корабли с гербами.
— Ты это сделал?
— Я, — отвечал Гуля.
— Коробка-то лучше тебя!
Гуля рассказал артельным. Те смеялись:
— Иван Егорович, уж век такой. Скупщика, бывало, штукатурит так, что — ах! Народ гогочет. Губа и на народ с веслом, с какой ни есть со снастью налетит… Ивана Губу да Ивана Щеку на весы посадить — ни который не перетянет.
Губа после встречи с Гулей Большаковым принялся за дело. Трудился днем и ночью, благо летние ночи на Севере светлы, как день. Выточил большие деревянные блюда, какие шли для свадеб, и покрыл левкасом, мелом на рыбьем клею. Как просохло, вылощил звериным зубом.
Стал левкас, как яичная скорлупа, бел и гладок. По левкасу чертил тонким угольком и обводил рисунок чернильцем. В перо от журавлиных крыльев вдевал щепотку волоса от беличьих хвостов, — готовил кисти. Потом стирал краски с яичным желтком. Краску соберет в деревянную ложку. Много ложек под левой рукой на лавке лежит. По надобью то ту, то другую ложку возьмет, из нее кистью краску берет и пишет по блюду. Рядки серебряного кружева на бирюзе изображали море. По морю золоченые кораблики. Сверху как бы розовый веничек из цветов — утренние зори. Готовое письмо, как просохло, выкрыл олифой, льняным вареным маслом. Мастер хвалился:
— Гляди, жена, олифа-то моя сколь успешна к делу. Голубец и охра здешни немудры. Багрянец из-под нашей же горы. А через олифу сколь они румяны и светлы!
Жена, любуясь, говорила:
— Гуля хоть по мелочам, а художный-то припас из города привозит. Перед распутой синего кобеля привез и нутро маринино.
Мастер усмехнулся:
— Кобальт и ультрамарин… Краски добрые, а стратит без толку. Которую краску мизинной кисточкой задевать должно, они наплавом будут пущать, ворота красить. Недавно слышал, как они об окраске полов лжесвидетельствуют: олифу с керосином, дескать, превосходно… Я в обморок упал.
Старуха переводила разговор на приятное:
— Уж и красовито у тебя, Егорович. Как сады цветут на блюде.
— То-то! — соглашался Губа. — А разумеешь ли ты силу и смысл письма?
— Очень даже явственно. Здесь красное войско гонит из нашего моря иноземных хватов. Здесь морской парад писан: пушки с наших кораблей палят, знамена трепещутся, чайки летят. А девка с трумпеткой почто на небо залезла?
— Это Слава с трубой, — улыбался старик. — Изображено «Пришествие Красного Флота на Север…» Надокучили мне птички да цветочки. То желаю рассказать, что мой ум веселит, чему сердце радуется.
Губа решил похвастаться перед артельными, особливо перед Гулей. Старуха побежала к Большаковым. Оказалось, Гуля снова вызван в город. Снова потемнел Иван Егорович:
— Медали поехал лудить для своей канпании. Конечно, все они Птицианы и Ребрамты. Их посадят в Ермитаж на божницу при освещении електричества. А позабытый художник Ванька Губин пущай поет на мокрой мостовой: «Подайте мальчику на хлеб, он Велизария питает».
— Уж и мастер ты, Егорович, слезы выжимать, — всхлипывает старуха. — Вылизарий-то кто?
— Оскорбленная невинность, — хмуро отвечал Губа.
Вскоре ему надоело жалобить самого себя:
— Председателя нет, щегольну перед артельными.
Разбирало любопытство — что-то наготовили для выставки.
Как-то утром усмотрел, что на улице народу нет, увязал свои блюда, отправился.
— Куда, Иван? — удивилась жена. — Артель-то вся небось на пристани. Пароход пришел.
— Мели, Емеля… Будут они бегать, пароходики встречать, когда выставка на носу… А ты, старуха, не звони. Я тихомолком.
Чтобы люди не подумали чего, Иван прошел по деревне не спеша, помахивая тросточкой, и, словно невзначай, юркнул в артельные ворота. Толкнул двери мастерской. Заперто. Но внутри кто-то вовсю гремел молотком. Иван приправил стучать и кулаком и палкой.
— Ишь какое министерство! Запершись работают. «Без докладу не входить». Нет уж, я не отступлюсь. Хоть незваный посетитель, а принимать извольте!
Из соседнего дома выглянула бабка:
— Напрасно колотитесь. Народ-то на пароход убежали, дрова грузить… Ой, да это Иван Егорович? Не узнала тебя. Какой товар за пазухой жмешь, антиресность каку-нибудь сработал?
Из дома напротив вылезла другая бабка:
— Здравствуешь, Иван Егорович! Колотись шибче. Один глухой Петруха в мастерской-то, сковородки делает. Дай я пособлю, колом в простенок приударю…
Себя не помня, прилетел Иван Егорович домой. Шиб блюда под лавку:
— Наделал смеху: «Иван Губа в артель ломился, кланялся, просился». Подай мне ружье, старуха. На озеро уйду. С гагарами, с утятами поговорю. Успокою свое сердце. Раньше воскресенья не вернусь.
Лесная тишина не успокоила Ивана. В воскресенье брел домой безрадостно.
— Ничего, товарищи артельные… Я вам улью щей на ложку. Сам до области дойду. Перед художественными начальниками свою работу положу. Пущай решат, достойно ли Ивашку Губина от дел отбрасывать…
Возле сельсовета толпился народ. Послышались голоса:
— Губа идет! Егорович идет!…
Кто-то крикнул:
— Эй, Иван Егорович! За тобой два раза бегали. Где ты провалился-то? На собрание опоздаешь!
— Какое такое собрание?
— Гуля Большаков из города доклад привез насчет артели. И наши и гусиновские тут.
«Ладно, — подумал Губа. — Осчастливлю вас своим присутствием. Напою куплетов. Отругаю и за старое, и за новое, и вперед на три года…»
В обширном зале народу было — хоть по головам ступай. Кончились общие вопросы. Со своим сообщением вышел Гуля Большаков. Рассказывал о строительстве выставки, открытие которой приурочено к Октябрьским праздникам; о том, какое видное место предоставлено Лебяжьей реке. Иван Губа, считая, что для него все потеряно, желая досадить докладчику, начал громко разговаривать с соседями. Тогда и высокий голос Гули Большакова зазвенел, как колокольчик:
— Я слышу, что среди нас присутствует наш уважаемый мастер Иван Егорович Губин. Иван Егорович, я привез вам личное приглашение участвовать на выставке.
Иван буркнул:
— Некому меня там знать.
Гуля продолжал:
— Простите, что без вашего разрешения я показал выставочному комитету несколько ваших работ. Из тех, что хранились в артели. Ваши изделия, Иван Егорович, чрезвычайно понравились. Комитет с удовольствием предоставит вам, Иван Егорович, особую витрину или, если вы пожелаете оказать честь артели, — то в качестве ее члена, среди ее экспонатов. Вы, конечно, будете нашим украшением, Иван Егорович.
Гуля спрыгнул с кафедры, подошел к скамье, где сидел Иван Губа, и протянул ему конверт:
— Вот вам личное письмо от комитета, Иван Егорович.
Тишина стояла в зале. Сотни глаз глядели на Ивана. Иван вдруг побагровел, сморщился, и… слезы обильным потоком хлынули из его глаз. Из-за слез не видя Гулю Большакова, старик нашарил его руками и обнял:
— Заботник ты мой, печальник ты мой, доброхот ты мой, Гулюшка! Не я украшение, это вы, молодые, великодушные, всемирное наше украшение!
Повернув в сторону артельных мокрое от слез лицо, Иван гаркнул:
— Артель, пиши меня в члены или хотя в ученики! Челом бью!
Не гуси-лебеди крыльями захлопали — артельные в ладоши загремели, закричали:
— Инструктором будешь у нас, Иван Егорович, — решено и подписано!
На Лебяжьей Горе дела идут благополучно. Про Гусиную Гору можно сказать, что если строил здесь артельное дело столяр Федот Деревянный, то увенчал Федотово строенье кровлей комсомолец Вася Меньшенин.
На Гусиной и прежде мало было живописцев. Больше столяры и резчики. В последнее время один Иван Щека умел разрисовать-расписать шкатулку-сундучок в здешнем, особливом вкусе. И краска в Щекиной работе не темнела, не линяла, не смывалась.
— Тридцать лет столешницу мочалками сдираю, — скажет деревенская хозяйка, — а цветочки как сегодня расцвели.
Щекина Ивана рукоделье!
Еще зимой Щека оповестил Федота:
— В навигацию, в корабельный приход буду дома!
Артельные обрадовались. Наготовили ларцов да ящичков: края-каемочки резные, а стенки-кровельки оставили для живописи:
— Иван Акимович приедет, нацветит и наузорит. Не поддадимся Лебяжьей Горе.
Вася Меньшой добывал рисунки, картинки о новой жизни, советской. Собирал и приговаривал:
— Пригодится нашему художнику.
Федот задумчиво покачивал головой:
— Вот только мы пригодимся ли? К своему художеству Иван Акимович относится с пристрастием. Каким глазом взглянет?… Может, не понравится, что в его избе распоряжаемся. Мне первому достанется.
Иван Щека приехал к лету. Тут же, у морской пристани, узнал подробности об артели, о том, что для артельных в городе «куют медали». Недаром говорили, что Ивана Егоровича с Иваном Акимовичем посадить на одни весы — ни который не перевесит.
Щека рассердился, разгорячился на себя и на людей, а на Федота пуще всех. По Лебяжьей реке ходил нарочный пароходик. Щека не поехал домой. Засел в шатре знакомого рыбака.
О приезде мастера на Гусиной узнали в тот же день. Ждали трое сутки, обеспокоились: «Не захворал ли? Не лежит ли где под карбасом?» Федот Деревянный, как на грех, поранил ногу. На разведку отправился Вася Меньшой.
Щека сидел в шатре, вязал рыбачью сеть. Не поглядел на Васю, а только покосился:
— Здрасте, молодой человек. Меньше вас некого было послать? Федотка околел?
— Федот посек ногу тором.
— Умысел и хитрость… Значит, вас послали бесприютного изгнанника глядеть?… Возвестите населению, что Ивашка Щекин, не имея где главы приклонить, кочует по морскому берегу, подобно диким племенам.
Вася старался умягчить старика:
— Как мы вас ждали, Иван Акимович. Делов вам на припасали — на барже не утянуть.
Щека уставился на Васю ярым оком:
— Не спросясь, меня в работники купили! Вы будете в моей избушке государить, а я у вас в холопах? Вы и с Губиным нахально поступаете. Он дурачится на старости. А в нашем мастерстве Ивашко Губин личность неизбежная.
— Я вам логику желаю доказать, Иван Акимович.
— А я вам и без логики спою: надменная аспида Федотко пущай опростает мое домишко. Сроку даю неделю. Через неделю покорнейше прошу уведомить меня.
Унылой показалась Васе обратная дорога.
«Как низко ставит сам себя Иван Акимович. Капризит хуже малого ребенка. В деревне будут пересуживать: „Знать, мошну толсту набил, то и куражится“. Больной Федот опечалится. Лучше помолчу. Авось наш долгожданный мастер образумится».
На Гусиной Вася заявил, что Иван Акимович прихворнул. Через недельку просит навестить. Артельные успокоились. У Федота отлегло от сердца.
Комары, безлюдье, досада вконец одолели Щеку за эту неделю.
Вася приехал, начал добрым порядком:
— Напрасно вы на нас обиделись, Иван Акимович. Для чего не едете домой?
— В чулан меня положите или на чердак закинете? — горячился Щека. — Власти из города наедут: «Где обитель оскорбленного Ивана Щекина?» — «Под крыльцом, — отзовусь я, — заместо Шарика и Жучки лаю на разные басы».
Вася не утерпел, рассмеялся.
— Ты смеяться? — загремел старик. — Ты посольство править послан или зубы скалить?!
Рассердился и Вася:
— Что вы на меня разъехались, Иван Акимович? Если я посол, вам должно меня выслушать.
— Я хозяина-мироеда не слушался, а теперь не то время. И вот вам мой последний сказ: еще недельку потерплю. А в воскресенье приеду с этим вот березовым колом. Добром Федотко со двора не выплывет — палкой выгоню!
Ехал Вася домой, думал грустную думу: «Сам себя наш мастер хочет обесславить. А я ничего не скажу в артели. Будь что будет! Неделя — долгий срок: вдруг да обойдется стариковское сердце».
В деревне Вася сказал:
— Иван Акимович выздоровел. Посылает всем по низкому поклону. В воскресенье сам приедет.
Артельные развеселились. У Федота стала бойко заживать нога.
Дом и так содержался в порядке, но к приезду художника прибрались, будто к празднику. Ребята-ученики готовили встречу.
В воскресенье с раннего утра Вася караулил пароход, стоя на высоком берегу. С беспокойством ждал: скоро ли покажется дымок? Раньше Васи пароход увидели ребята. С криком: «Едет, едет дядюшка Иван!» — побежали к пристани. За ними поспевал Федот.
Иван Щека стоял у самого борта. В руках держал березовую палку. Одинокая фигура старика казалась мрачной.
«Наделал я делов!» — подумал Вася, медленно спускаясь вниз к реке.
Сидя у моря, Щека ждал, что к нему приедут на неделе с докладом, с приглашением. Подошло воскресенье, никто не явился. Увязав пожитки, ухватив березовый батог, старик сел на пароход. Всю дорогу сам себя горячил, стукал палкой в палубу. «Ладно, приятели… Я вам не нужен, так и вы мне не нужны. Вот я вас всех ужо…»
Показалась Гусиная Гора и пристань. Щека дивится:
«Кого же это народ встречает?… Федот в красной шелковой рубахе… Девица с букетом, парнишка с разрисованным листом. Ребята в два ряда… Не начальник ли какой в каюте едет?… Федот шапкой машет. Все кому-то радуются. На меня глядят!»
Пароход бросил причалы. Артельные ребята не стерпели, нарушили ряды. Бегут к Ивану да кричат:
— Дядюшка Иван Акимович, с приездом!
— Дядюшка Иван Акимович, с приездом!
Палка выпала из рук Ивана, гремя, покатилась по палубе… Девочка сует Ивану букет. Мальчик звонким голосом читает по листу:
— «Мы, ученики Гусиновской артели, приветствуем нашего художника…»
Иван сгреб в охапку зараз пятерых ребятишек и спрятал лицо в их головенках, чтобы не видно было его слез. Потом крепко обнялись с Федотом.
Было над чем радоваться Васе. Приметив его, Щека сказал:
— Васенька, пройдем в каюту. Сундучок пособишь снять.
В пустой каюте Иван спросил:
— Вася, ты им ничего не говорил? Они ничего не знают?
— Ничего не говорил, Иван Акимович. Они ничего не знают.
Старик поклонился Васе в ноги.
— Не я учитель, Васенька, а ты мой учитель!
Щека ходил по своему дому:
— Занавесочки, цветы, чистота… Пол-то платком носовым продери, платка не замараешь. А эта горница почто на замке?
— Тут твое именье, — объяснил Федот. — Сундук, постель, посуда. Как уехал, так все и лежит нетронуто.
Иван зашумел:
— Эх вы, распорядители! Теснятся тут, а комнату замкнули. Вынести мое барахлишко наверх: я в светелке буду помещаться. Федот останется внизу, а этот весь этаж под мастерскую.
Вася, лукаво прищурив глаз, шепнул Ивану:
— А я, в случае чего, к себе собрался перетаскивать артель-то.
Иван засмеялся:
— У тебя улица грязна, у тебя ворота не крашены, у тебя пол не метен.
До ночи Иван не отпускал народ, а на другой же день артель взялась за краски и за живопись. Работали — «с огня хватали»: выставка была не за горами.
Щека не попал и на собранье, где Гуля Большаков так славно помирил Губу с артелью. Но гусиновцы, которые ходили на Лебяжью Гору, не то что рассказывали, а в лицах представляли и Губу и Гулю. Щека слушал, и у него сияли глаза:
— Теперь Иван Егорович и меня не оттолкнет. Ты, Вася, и ты, Федот, махнем-ка завтра на Лебяжью.
В избе у Губы сидели артельные, любовались новыми блюдами. Вдруг хозяин, уставясь в окно, ахнул:
— Небывалый гость идет! Раскатись, моя поленница без дров!
Он бросился в сени, протянул обе руки Ивану Щеке.
— Ванька, — сказал Губа, — сколько годов мы друг по друге тужили?!
— Ванька, — отвечал Щека, — пускай лучше люди сочтут, сколько годов мы с тобой дружили.
Неспроста хвалились деревенские старухи, что в городе куют медали на сундучках мастеров. В октябре на выставке артели удостоились наград. На торжественном собрании сказала слово и река Лебяжья. Иван Щека говорил:
— Кто нас прежде знал да кому мы были надобны? Теперь нам от государства повелено быть у живописных дел. Бывало, никто и знать не хотел, что есть такой коробочник-ларечник Ванька Щекин. Теперь мне велено подписывать мои работы. Бывало, даже живопись такого мастера, как Иван Егорович Губин, валялась на базаре с ведрами, с лопатами. Теперь она в музее, под стеклом.
Бывало, мы бродили врозь, теперь нам настоящая дорога под ноги попала. Теперь мы на широкий шаг шагнули… Время покажет, успешно ли будет наше письмо у нового строительства.
Мне, старику, что-то тесно стало у коробочки-шкатулочки сидеть. Желаю этот потолок расписывать, на заводском театре кистью размахнуться. Чтобы не только птички да цветочки, а об устроении Земли, о войне и тишине рассказать.
Иван Губа говорил:
— Краше теплого лета эти осенние дни. Любо мне, деревенскому мастеру, быть на таком блестящем собрании. И при всех хочу назвать, и от всей Лебяжьей реки спасибо сказать нашим комсомольцам Гулию Большакову и Василию Меньшенину. Ты, Гуля Большой, и ты, Вася… стараясь для пользы деревни, вы погасили многолетнюю вражду.
Любя родное художество, какое вы показали терпение! Как дальновидно сказалось ваше поведение… Нас, старых мастеров, звали вы в учителя. И вот я, именуемый учитель, приехал в большой город. Хожу, смотрю, размышляю. И… почувствовал себя учеником.
Народные рассказы о Ленине
Пуговка
… К нам на завод приезжает Ленин. Мне кричат: «Наторова, ты примешь пальто…» В клубе жарко. Ленин стал говорить, скинул пальто на стул. Я схватила — да в гардеробную. Вижу, у левой полы средней пуговицы нет. Я от своего жакета оторвала да на ленинское пальто и пришила толстым номером, чтобы надолго. Он уехал, не заметил. А пуговка немножко не такая… И так мне это лестно, а никому не открываю свой секрет.
Тут порядочно времени прошло. Иду по Литейному, а в фотографии «Феникс» в окне увеличенный портрет Ленина. Пальто на нем то самое… Я попристальней вглядываюсь — и пуговка та самая, моя пуговка.
Он в эту же зиму и умер. Я достала в фотографии на Литейной заветный тот портрет…
Он у меня около зеркала в раме теперь.
Каждый день подойду, посмотрю да поплачу:
— А пуговка-то моя пришита…
(Слышал в Ленинграде, на Волковом кладбище, от приезжей из Архангельска Наторовой)
Как Федосья Никитишна у Ленина была
У нас папаша был кровельщик, работал в Смольном, да перед самой революцией и скончался. Так что и жалованье недополучено. Временное правительство явилось, мамаша пошла относительно денег, воротилась со стыдом, как с пирогом. Только и спросили: «А ты, бабка, видала, как лягушки скачут?»
Зима нас прижала, мамаша говорит:
— Все Ленина хвалят теперь: не сбродить ли мне в Смольный-то?…
Какое-то утро встаем — нету старухи. Думаем, у обедни, а она это в Смольный угребла… И подумайте-ка, ползала-ползала там по кабинетам да на Владимира Ильича и нарвалась… Пишет он, запивает конфетку холодным чаем…
Она нисколько не подумала, что это он сам, тогда портретов-то мало было, и спрашивает:
— Вы, сударь, на какой главы: на письме или на разборе?
Он россмехнулся:
— Как приведется, сударыня. Вам на что?
— Меня люди к Ленину натакали, ко Владимиру Ильичу.
Говорят: «Твое дело, Федосья Никитишна, изо всех начальников один Ленин может распутать…» А я гляжу на вас, как быстро пишете, и думаю: экой господин многограмотный, уж, верно, не из последних начальников… Где мне Ленина искать, не войдете ли в мое положение?…
Преспокойно уселась да вкратце и доложила. У Ленина глаза сделались веселы, расхохатыват…
— Верно, Федосья Никитишна… Без Ленина обойдемся.
Вызвал сотрудника, выметку из книжечки дал:
— Товарищ, срочно оборудуйте Федосье Никитишне ее дело.
… Мамаша домой приходит и деньги выкладыват.
— Все начальники в Смольном хороши! И без Ленина дело сделали.
А через месяц приносит с рынка фотографическую карточку:
— Вот купила начальника, с которым в кабинете-то сидела…
Мы взглянули, да и ахнули:
— Мамаша, ведь это Ленин и был!…
(Слышал в вагоне Северной железной дороги в 1928 году, рассказывала женщина, ехавшая из Архангельска в Ленинград к мужу)
***
Белые с Севера убежали, мы опять во свое место из Вологды вернулись.
У нас в учреждении порядочно стало местной молодежи служить.
Другой раз на них смотришь, думаешь: «Что-то у вас, ребята, в голове? Понимаете ли, в какое время живете?…»
Политпросветительная работа еще только налаживалась… Народ молодой, по службе дело отведут в пятом часу и домой полетят.
Пожалуй, всех бойчее из них Шкаторин был. Только такой: смехи да хи-хи. Я так считал: вовсе ты, парень, девичий пастух.
Я партийный, у меня сердце болело, что не вхожу в них, не внушаю, не объясняю о деле Ленина. На собраньях-то, конечно, много речей было сказано, да речи — что… И вдруг телеграмма: Ленин умер.
… Я иду с телеграфа-то, а уж к ночи. И мороз к сорока градусам небось… И кто-то меня с ног сбил… У меня слабы ноги-то. Я стал в таком направлении, смотрю: Шкаторин в одном пиджачишке, на одной ноге валенок, на другой калоша. Я говорю:
— Шкаторин, что с тобой?!
А он:
— Гаврило Василич, это правда, что Ленин умер?
Я заплакал:
— Умер наш Ленин… Откуда ты летишь-то?
— Из дому.
— Где живешь-то?
— В Слободке.
— Как же ты наг-то через весь город летел?
— А сказали, что Ленин умер. Я испугался, побежал сюда. Некогда тужурку было искать…
С этой поры больше родных детей ценю я и люблю нашу молодежь.
(Записано в Архангельске в 1927 г.)
***
… У нас ребята в газеты читали: за границей партия шла рабочих с пением в майский день. Полиция наскочила — и в тюрьму. Одного давно искали. Его в ту же ночь — застрелить… Он под дулом-то выхватил газету — майский номер, там Ленин во весь лист — и накрыл глаза… Солдаты ружьем брякнули, честь отдали: «Не можем в Ленина стрелять».
(Архангельск, 1927. Лесопильный завод на р. Маймаксе)
***
Нам иностранный матрос в Маймаксе рассказывал:
— … Они там у себя забастовку объявили, а полиция принудила работать. Привелось плашкот к пристани под водить. Они взялись по двенадцать человек на канат. Надо бы: «Разом сильно, разом вдруг», или там по-ихнему кричать, а они: «Раз, два, Ленин! Раз, два, Ленин!» Полиции не к чему придраться. Они ведь стали на работу…
(Архангельск, 1927. Лесопилки на р. Маймаксе)
***
… У нас доктор был в Ульяновске. Может, и сейчас жив. Его в Москву не раз приглашали. У него один был ответ: «Наш город не меньше Москвы: здесь Ленин родился».
(Москва)
***
… Вася ездил доверенным от Госторга из Архангельска в Норвегу. В городе Берген выбежали к пароходу дети. Русских увидели, стали кричать: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Худо выговаривают, а понять можно. Вася заговорил с ними по-русски, но они только одну эту речь выучили:
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
(Архангельск)
Б. В. Шергин
Поморские были и сказания
Милому внуку,
МИШЕНЬКЕ БАРЫКИНУ,
посвящает автор
эту книгу.
О книге Б. В. Шергина
С давних времен из Новгорода на Говор нашей страны, к Белому морю, переселились предки нынешних поморов. Они стали ходить за рыбой сначала по Двине и у морских берегов, а потом — все дальше в море на промысел за тюленями и моржами. Все шире расселялись новые пришельцы по морскому берегу; их так и назвали поморами.
Борьба с суровой природой выковала у поморов крепкий характер, уменье не теряться в трудных обстоятельствах, решительность и твердость духа.
В бурном, изменчивом морс одному человеку несдобровать, и поморы шли на промысел артелью, дружиной. Крепкая дружба, взаимная помощь связывали дружину. Помор всегда был готов выручить в беде товарищей: на промысел выйдешь — опирайся на товарища, но и сам помогай ему, береги, как себя, — это закон для помора.
Народ на Севере не знал унизительного гнета крепостного права, был грамотен и самостоятелен. Когда с берегов Белого моря Россия начала торговать с иностранными купцами, поморы первыми стали ходить с товарами на своих судах в Норвегию, Швецию, Англию, всюду заслуживая уважение за свою отвагу и честное отношение к делу.
На широкой Северной Двине, при самом впадении ее в Белое море, издавна возник город Архангельск. Это было удобное место для города: вниз по реке везли все, что давали русским густые северные леса, по морю приходили за нашим сырьем иноземные суда. Шумная, кипучая жизнь шла в Архангельске, у причалов, где слышалась и русская речь, и речь иностранцев, пришедших на своих судах.
Прекрасная природа Севера привлекала сердце тончайшими своими красками; суровая, она была родной, любимой матерью помору. Над широкими просторами Северного края летом стоит в небе «незакатимое» солнце, и в светлое летнее время, когда затихают над морем ветры, человек ищет поэтических слов, чтобы запомнить и передать людям свое понимание родной северной природы.
Помор, ушедший в море на промысел, любит вдали от берега послушать и сам рассказать о виденном — он тонкий ценитель искусства слова. Испокон веку у поморов были свои талантливые певцы, сказители. Люди большой поэтической одаренности и удивительной памяти, они не только могли спеть десятки давних, услышанных от старших, песен и старин (так поморы называют былины), рассказать множество сказок, но и сложить свои, новые песни, старины и сказки. В них отражались и исторические события, и труд помора на зверобойных и рыбных промыслах, а главное, тот высокий подъем духа, который веками выковывался у поморов в борьбе с суровой природой ледовитого моря, куда они первые прокладывали путь следующим поколениям.
Много наблюдений, примет, сведений о направлении морских течений, о льдах, ветрах, погоде, сохраненных памятью рассказчиков, оказались полезными, важными и в наши дни освоения Арктики. Когда в наше, советское время герои-полярники развертывают научно-исследовательские станции на льдинах, изучают природу Северного Ледовитого океана, то не раз, конечно, вспоминают они славных мореходцев прошлого, первых исследователей, заходивших на далекие острова и берега родного Севера. Немало таких смелых людей погибло в море, оставив по себе добрую память в поморских былинах и сказаниях.
Автор этой книги Борис Викторович Шергин вырос в Архангельске, среди трудовых людей: отец его, коренной помор, был корабельным мастером — строил морские парусные суда. С детства Борис Викторович постоянно видел работавших с отцом старых мореходцев и слышал их рассказы. Нельзя было надивиться, как искусно сплетались их замысловатые сюжеты, нельзя было наслушаться чистой, высокой речи рассказчиков. Воспитанный на сокровищах словесного творчества северных людей, будущий писатель навсегда сохранил в памяти и самих творцов этого сокровища.
Незабываемым наставником своим писатель называет Пафнутия Осиповича Анкудинова, замечательного мастера слова. Его рассказы Борис Викторович запомнил на всю жизнь и поэтическую основу их впоследствии донес до нашего времени. Он ярко, талантливо, по-своему написал эти старинные поморские былины, предания, сказки. Он рассказал нам о любимом своем Севере, о добрых, честных людях, мастерах своего дела, которых знал в детстве и юности.
Героический образ человека, которому честь дороже жизни, встает из старых преданий и былей, передававшихся от отцов к детям, от дедов — внукам. И герои произведений Шергина — самоотверженные, справедливые и умелые люди; из рук их никакая работа не выпадает, им можно доверить руководство любым промыслом, постройку и вождение морских судов. Они знают, что такое честное слово человека, с честью выполняют порученное им дело. Эти умные и талантливые люди стремятся не к собственному обогащению и почету, а к славе своей родины, для этого и сил и жизни не жалеют.
В рассказах Шергина и в переданных им старинных сказаниях с большой поэтической силой показана глубокая, крепкая связь поморов со своим «отеческим морем». «Уж ты кормишь, поишь, море синее, обуваешь, одеваешь, море соленое…» — поют поморы. Это та великая связь человека с природой, которую он устанавливает вековечным своим трудом и которая порождает горячую любовь к своему краю, к своей родине. Особенно ярко, своеобразно эта связь показана в сказаниях «Братанна» и «Гнев».
В сказании «Гнев» повествуется о том, как два брата жили в двинском устье, ходили на промысел к Новой Земле и «неубыточно правили торг у себя на Двине». Старший брат, Лихослав, нарушил «товарищество» — обязательное в морских походах правило справедливого и честного отношения кормщика к своей дружине: собственного брата Гореслава он бросил вместе с другими охотниками на необитаемом тогда берегу Новой Земли. Наказывает Лихослава за нечестный, коварный поступок сам «батюшко океан, Студеное море». В этом сказании честный труд человека прославлен с большой поэтической силой.
А несчастную, немую Братанну, которая «в лютый день» просит защиты от несправедливости людской у синего моря, «батюшко море, кормилец» спасает от гибели и болезни.
В произведениях Шергина сильно звучит поэтическое его слово. Великолепный, красочный северный язык украшает и картины природы, и диалоги действующих лиц; все его герои говорят кратко и сильно, выражая короткой, как пословица, фразой свое отношение к событию и черты собственного характера. «Остер топор, да и сук зубаст! Турью гору сворочу, а полечу в океан на своих крыльях!»— говорит Матюша Корелянин в рассказе «Матвеева радость».
Этот Матюша Корелянин с шести лет остался круглым сиротой, а с двенадцати лет уже начал тяжелую трудовую жизнь — отправился зуйком на Мурманские промыслы. Рано понял он, что помору «море — поилец, кормилец. Но море даст, что возьмешь. А чтобы взять, надо суденышко. Без своей посудины, хоть самой утлой, помор не добытчик, а раб богачу».
Чуть не с детских лет мечтал Матюша Корелянин о своем суденышке; брался за всякую работу, «не отдыхивал ни в праздник, ни в будни, ни зимой, ни летом», чтобы скопить на судно, вырваться из хозяйской кабалы, выбиться из бедности. Но только после Октябрьской революции, которая, по образному выражению автора, «подвела купеческие суда к бедняцкому берегу», исполнилась мечта Матвея Корельского. Его, известного всем своей честной трудовой жизнью, избирают председателем местного рыбопромышленного товарищества, и он получает в свое распоряжение отнятую у него когда-то шхуну купца Зубова. С какою любовью взялся Матвей, уже пожилой человек, за ремонт запущенной Зубовым посудины и назвал обновленный корабль «Радостью»…
О том новом, что появилось на Севере в наше время, о новых героях, о людях настоящего Б. В. Шергин пишет и в рассказе «В относе морском».
Шергин Борис » Сказы и сказки — читать книгу онлайн бесплатно

Конец
Книга закончилась. Надеемся, Вы провели время с удовольствием!
Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями:
Оглавление:
-
1
-
1
-
5
-
9
-
12
-
13
-
14
-
16
-
16
-
17
-
17
-
17
-
18
-
18
-
19
-
19
-
19
-
20
-
20
-
20
-
20
-
21
-
21
-
21
-
21
-
21
-
21
-
22
-
22
-
23
-
23
-
24
-
24
-
24
-
24
-
25
-
25
-
25
-
25
-
25
-
25
-
25
-
27
-
29
-
31
-
31
-
33
-
35
-
37
-
41
-
44
-
46
-
51
-
52
-
52
-
53
-
55
-
59
-
61
-
66
-
66
-
66
-
67
-
67
-
70
-
71
-
72
-
72
-
73
-
74
-
74
-
75
-
76
-
76
-
77
-
77
-
79
-
80
-
82
-
83
-
83
-
83
-
84
-
84
-
84
-
85
-
85
-
86
-
87
-
87
-
88
-
89
-
89
-
89
-
90
-
90
-
91
-
91
-
91
-
92
-
93
-
94
-
95
-
95
-
96
-
96
-
97
-
98
-
99
-
99
-
100
-
100
-
101
-
101
-
103
-
104
-
104
-
105
-
105
-
106
-
107
-
107
-
108
-
109
-
109
-
111
-
112
-
113
-
114
-
114
-
115
-
116
-
116
-
117
-
118
-
119
-
119
-
120
-
121
-
121
-
123
-
124
-
124
-
125
-
125
-
125
-
126
-
127
-
128
-
128
-
128
-
129
Б. В. Шергин
Поморские были и сказания
Милому внуку,
МИШЕНЬКЕ БАРЫКИНУ,
посвящает автор
эту книгу.
О книге Б. В. Шергина
С давних времен из Новгорода на Говор нашей страны, к Белому морю, переселились предки нынешних поморов. Они стали ходить за рыбой сначала по Двине и у морских берегов, а потом — все дальше в море на промысел за тюленями и моржами. Все шире расселялись новые пришельцы по морскому берегу; их так и назвали поморами.
Борьба с суровой природой выковала у поморов крепкий характер, уменье не теряться в трудных обстоятельствах, решительность и твердость духа.
В бурном, изменчивом морс одному человеку несдобровать, и поморы шли на промысел артелью, дружиной. Крепкая дружба, взаимная помощь связывали дружину. Помор всегда был готов выручить в беде товарищей: на промысел выйдешь — опирайся на товарища, но и сам помогай ему, береги, как себя, — это закон для помора.
Народ на Севере не знал унизительного гнета крепостного права, был грамотен и самостоятелен. Когда с берегов Белого моря Россия начала торговать с иностранными купцами, поморы первыми стали ходить с товарами на своих судах в Норвегию, Швецию, Англию, всюду заслуживая уважение за свою отвагу и честное отношение к делу.
На широкой Северной Двине, при самом впадении ее в Белое море, издавна возник город Архангельск. Это было удобное место для города: вниз по реке везли все, что давали русским густые северные леса, по морю приходили за нашим сырьем иноземные суда. Шумная, кипучая жизнь шла в Архангельске, у причалов, где слышалась и русская речь, и речь иностранцев, пришедших на своих судах.
Прекрасная природа Севера привлекала сердце тончайшими своими красками; суровая, она была родной, любимой матерью помору. Над широкими просторами Северного края летом стоит в небе «незакатимое» солнце, и в светлое летнее время, когда затихают над морем ветры, человек ищет поэтических слов, чтобы запомнить и передать людям свое понимание родной северной природы.
Помор, ушедший в море на промысел, любит вдали от берега послушать и сам рассказать о виденном — он тонкий ценитель искусства слова. Испокон веку у поморов были свои талантливые певцы, сказители. Люди большой поэтической одаренности и удивительной памяти, они не только могли спеть десятки давних, услышанных от старших, песен и старин (так поморы называют былины), рассказать множество сказок, но и сложить свои, новые песни, старины и сказки. В них отражались и исторические события, и труд помора на зверобойных и рыбных промыслах, а главное, тот высокий подъем духа, который веками выковывался у поморов в борьбе с суровой природой ледовитого моря, куда они первые прокладывали путь следующим поколениям.
Много наблюдений, примет, сведений о направлении морских течений, о льдах, ветрах, погоде, сохраненных памятью рассказчиков, оказались полезными, важными и в наши дни освоения Арктики. Когда в наше, советское время герои-полярники развертывают научно-исследовательские станции на льдинах, изучают природу Северного Ледовитого океана, то не раз, конечно, вспоминают они славных мореходцев прошлого, первых исследователей, заходивших на далекие острова и берега родного Севера. Немало таких смелых людей погибло в море, оставив по себе добрую память в поморских былинах и сказаниях.
Автор этой книги Борис Викторович Шергин вырос в Архангельске, среди трудовых людей: отец его, коренной помор, был корабельным мастером — строил морские парусные суда. С детства Борис Викторович постоянно видел работавших с отцом старых мореходцев и слышал их рассказы. Нельзя было надивиться, как искусно сплетались их замысловатые сюжеты, нельзя было наслушаться чистой, высокой речи рассказчиков. Воспитанный на сокровищах словесного творчества северных людей, будущий писатель навсегда сохранил в памяти и самих творцов этого сокровища.
Незабываемым наставником своим писатель называет Пафнутия Осиповича Анкудинова, замечательного мастера слова. Его рассказы Борис Викторович запомнил на всю жизнь и поэтическую основу их впоследствии донес до нашего времени. Он ярко, талантливо, по-своему написал эти старинные поморские былины, предания, сказки. Он рассказал нам о любимом своем Севере, о добрых, честных людях, мастерах своего дела, которых знал в детстве и юности.
Героический образ человека, которому честь дороже жизни, встает из старых преданий и былей, передававшихся от отцов к детям, от дедов — внукам. И герои произведений Шергина — самоотверженные, справедливые и умелые люди; из рук их никакая работа не выпадает, им можно доверить руководство любым промыслом, постройку и вождение морских судов. Они знают, что такое честное слово человека, с честью выполняют порученное им дело. Эти умные и талантливые люди стремятся не к собственному обогащению и почету, а к славе своей родины, для этого и сил и жизни не жалеют.
В рассказах Шергина и в переданных им старинных сказаниях с большой поэтической силой показана глубокая, крепкая связь поморов со своим «отеческим морем». «Уж ты кормишь, поишь, море синее, обуваешь, одеваешь, море соленое…» — поют поморы. Это та великая связь человека с природой, которую он устанавливает вековечным своим трудом и которая порождает горячую любовь к своему краю, к своей родине. Особенно ярко, своеобразно эта связь показана в сказаниях «Братанна» и «Гнев».
В сказании «Гнев» повествуется о том, как два брата жили в двинском устье, ходили на промысел к Новой Земле и «неубыточно правили торг у себя на Двине». Старший брат, Лихослав, нарушил «товарищество» — обязательное в морских походах правило справедливого и честного отношения кормщика к своей дружине: собственного брата Гореслава он бросил вместе с другими охотниками на необитаемом тогда берегу Новой Земли. Наказывает Лихослава за нечестный, коварный поступок сам «батюшко океан, Студеное море». В этом сказании честный труд человека прославлен с большой поэтической силой.
А несчастную, немую Братанну, которая «в лютый день» просит защиты от несправедливости людской у синего моря, «батюшко море, кормилец» спасает от гибели и болезни.
В произведениях Шергина сильно звучит поэтическое его слово. Великолепный, красочный северный язык украшает и картины природы, и диалоги действующих лиц; все его герои говорят кратко и сильно, выражая короткой, как пословица, фразой свое отношение к событию и черты собственного характера. «Остер топор, да и сук зубаст! Турью гору сворочу, а полечу в океан на своих крыльях!»— говорит Матюша Корелянин в рассказе «Матвеева радость».
Этот Матюша Корелянин с шести лет остался круглым сиротой, а с двенадцати лет уже начал тяжелую трудовую жизнь — отправился зуйком на Мурманские промыслы. Рано понял он, что помору «море — поилец, кормилец. Но море даст, что возьмешь. А чтобы взять, надо суденышко. Без своей посудины, хоть самой утлой, помор не добытчик, а раб богачу».
Чуть не с детских лет мечтал Матюша Корелянин о своем суденышке; брался за всякую работу, «не отдыхивал ни в праздник, ни в будни, ни зимой, ни летом», чтобы скопить на судно, вырваться из хозяйской кабалы, выбиться из бедности. Но только после Октябрьской революции, которая, по образному выражению автора, «подвела купеческие суда к бедняцкому берегу», исполнилась мечта Матвея Корельского. Его, известного всем своей честной трудовой жизнью, избирают председателем местного рыбопромышленного товарищества, и он получает в свое распоряжение отнятую у него когда-то шхуну купца Зубова. С какою любовью взялся Матвей, уже пожилой человек, за ремонт запущенной Зубовым посудины и назвал обновленный корабль «Радостью»…
О том новом, что появилось на Севере в наше время, о новых героях, о людях настоящего Б. В. Шергин пишет и в рассказе «В относе морском».
Сам автор блестяще умеет рассказывать свои произведения. В его исполнении оживают и кормщики, и купцы, и жены поморов, и строители кораблей, выплывают зеленые острова на светлой поде, под незакатимым солнцем.
У Б. В. Шергина с детства были большие способности к рисованию. Еще мальчиком он рисовал многие возникавшие в памяти картины родной природы и после окончания архангельской Ломоносовской гимназии перешел в московское художественное Строгановское училище. Первые свои книги Б. В. Шергин иллюстрировал сам.
Печатать свои рассказы Борис Викторович начал с 1916 года. Им написано около десятка книг: «У Архангельского города, у корабельного пристанища», сборник сказок «Шиш Московский», «Архангельские новеллы», «Поморщина-корабельщина» и др.
В книге «Поморские были и сказания» юный читатель найдет рассказы о Двинской земле, о Северном море, о жизни людей Севера — моряков, охотников на морского зверя, рыбаков. Прочитает интересные дедовы сказания, старины и сказки, созданные автором на основе устного народного творчества поморов. Услышит красивую, яркую речь поморов, увидит природу нашего Севера.
Многие нарисованные Б. В. Шергиным образы поморов старого времени перекликаются с теми строителями нового, которые после революции пришли на Север, работают там, водят океанские пароходы в далекие рейсы и пересекают по океану Великий Северный морской путь.
И. Емельянова.
Моя юность
Двинская земля
Родную мою страну обходит с полуночи великое Студеное море — седой океан.
От Студеного океана на полдень развеличилось Белое море, наш светлый Гандвик. В Белое море пала Архангельская Двина. Широка и державна, тихославная та река идет с юга на полночь и под архангельской горой встречается с морем. Тут островами обильно: пески лежат и леса стоят
Где берег возвыше, там люди наставились хоромами. А кругом вода. Куда сдумал ехать, везде лодку, а то и караблик надо.
В летнюю пору, когда солнце светит в полночь и в полдень, жить у моря светло и любо. На островах расцветают прекрасные цветы, веет тонкий и душистый ветерок и как бы дымок серебристый реет над травами и лугами.
Приедем из города в карбасе* [1]. Крутом шиповник цветет, благоухает. Надышаться, наглядеться не можем. У воды на белых песках чайки ребят петь учат, а взводеньком* выполаскивает на песок раковицы-разиньки. Летят от цветка к цветку медуницы, мотыльки. Осенью на островах малина и смородина, а где мох, там обилие ягод красных и синих. Морошку, бруснику, голубель, чернику собираем натодельными* грабельками: руками — долго, и корзинами носим в карбаса. Ягод столько — не упомнишь земли под собой. От ягод тундры как коврами кумачными покрыты.
Где лес, тут и комара — в две руки не отмашешься.
В летние месяцы, как время придет на полночь, солнце сядет на море, точно утка, а но закатится, только снимет с себя венец, и небо загорится жемчужными облаками. И вся красота отобразится в водах.
Тогда ветры перестанут и вода задумается. Настанет в море великая тишина. А солнце, смежив на минуту
глаза, снова пойдет своим путем, которым ходит беспрестанно, без перемены.
Этого светлого летнего времени любим и хотим, как праздника ждем. С конца апреля и лампы не надо. В солнечные ночи и спим мало.
С августа месяца белые ночи меркнут. Вечерами сидим с огнем.
От месяца сентября возьмутся с моря озябные ветры. Ходит дождь утром рано и вечером поздно. В эти дни летят над городом, над островами гуси и лебеди, гагары и утки, всякая птица. Летят в полуденные края, где нет зимы, но всегда лето.
Тут охотники не спят и не едят. Отец, бывало, лодку птицы битой домой приплавит. Нищим птицей подавали.
По мелким островам и песчаным кошкам*, что подле моря, набегают туманы. Белая мара* морская стоит с ночи до полудня. Около тебя только по конец ружья видно; но в городе, за островами, туманов не живет.
Тогда звери находят норы и рыба идет по тихим губам*.
Холодные ветры приходят из силы в силу. Не то что в море, а на реке Двине такой разгуляется взводень, что карбаса с людьми пружит* и суда морские у пристаней с якоря рвет.
Помню, на моих было глазах: такая у города погодушка расходилась, ажно пристани деревянные по островам разбросало и лесу от заводов многие тысячи бревен в море унесло.
Дальше заведется ветер-полуночник, он дождь переменит на снег. Так постоит немного, да и пойдет снег велик днем и ночью. Если сразу приморозит, то и реки, станут, и саням путь. А упал снег на талую землю, тогда распута протяжная, по рекам тонколедица, между городом и деревнями сообщения нету. Только вести ходят, что там люди на льду обломились, а в другом; месте коней обронили. Тоже и по вешнему льду коней роняют.
Так и зима придет. К ноябрю дни станут кратки и мрачны. Кто поздно встает — и дня не видит. В школах, только на часок лампы гасят. В училище, бывало, утром бежишь — фонари на улицах горят, и домой в третьем часу дня ползешь — фонари зажигают.
В декабре крепко ударят морозы. Любили мы это время — декабрь, январь, — время резвое и гульливое. Воздух — как хрусталь. В полдень займется в синеве небесной пылающая золотом, и розами, и изумрудами заря. И день простоит часа два. Дома, заборы, деревья в прозрачной синеве, как сахарные: заиндевели, закуржавели. Дух захватывает мороз-то. Дрова колоть ловко. Только тюкнешь топором — береги ноги: чурки, как сахар, летят.
На ночь звезды, как свечи, загорят. Большая Медведица— во все небо.
Слушайте, какое диво расскажу.
В замороз к полночи начнет в синем бархате небесном пояском серебряным продергивать с запада до востока, а с севера заподымается как бы утренняя заря..
И вдруг все погаснет. Опять из-за моря протянутся пальцы долги без меры и заходят по небу. Да заря займется ужасная, как бы пожарная. И опять все потухнет, и звезды видать… Сиянье же обновится. Временем встанет как стена, по сторонам столбы, и столбы начнут падать, а стена поклонится. А то будто голубая река протечет, постоит да свернется, как свиток.
Бывало, спишь — услышишь собачий вой, откроешь глаза. По стенам бегают светлые тени, а за окнами небо и снег переливают несказанными огнями.
Мама или отец будили нас, маленьких, яркие-то сполохи-сияния смотреть. Обидимся, если проспим, а соседские ребята хвалятся, что видели.
У зимы ноги долги, а и зиме приходит извод. В начале февраля еще морозы трещат, звенят. В марте на солнышке пригреет, сосули с крыш. В апреле обвеют двинское понизовье верховые теплые ветры. Загремят ручьи, опадут снега, ополнятся реки водою. Наступят большие воды — разливная весна.
В которые годы вешнее тепло вдруг, тогда Двина и младшие реки кряду оживут и распленятся ото льда. Мимо города идет лед стенами-торосами.
Великое дело у нас ледоход. Иной год после суровой зимы долго ждем не дождемся. Вскроется река, и жизнь закипит. Пароходы придут заграничные и от Вологды. Весело будет… Горожане — чуть свободно — на угор*, на берег идут. Двина лежит еще скована, но лед посинел, вода проступила всюду… В школе — чуть перемена — сразу летим лед караулить. По дворам
лодки заготовляют, конопатят, смолят. И вот топот по всему городу. Народ табунами на берег валит. Значит, река пошла. Гулянья по берегам откроются. Не до ученья, не до работы. На городовых башнях все время выкидывают разноцветные флаги и шары; по ним горожане, как по книге, читают, каким устьем лед в море идет, где затор, где затопило.
Пригород Соломбала на низменных островах стоит, и редкий год их не топит. Улицы ямами вывертит, печи размокнут в низких домах. В городе как услышат— из пушек палят, так и знают, что Соломбала поплыла. Соломбальцы в ус не дуют, у них гулянье, гостьба откроется, ездят по улицам в лодках с гармонями, с песнями, с самоварами. А прежде — вечерами с цветными фонарями и в масках.
Лед идет в море торосами, стенами. Меж островов у моря льду горами наворотит, всё льдом заложит, не видно деревень.
Конец апреля льдина уйдет, а вода желтее теста, мутновата; потом и мутница и пенница сойдет, и река опадет, лето пойдет.
Город мой, родина моя, ты дверь, ты ворота в неведомые полярные страны. В Архангельск съезжаются, в Архангельске снаряжаются ученые испытывать и узнавать глубины и дали Северного океана. От архангельских пристаней беспрестанно отплывают корабли во все стороны света. На запад — в Норвегию, Швецию, Данию, Германию, Англию и Америку, на север — к Новой Земле, на Шпицберген, на Землю Франца-Иосифа. В наши дни
народная власть распахнула ворота и на восток, указала Великий Северный путь. Власть Советов оснастила воздушные корабли — самолеты. Власть Советов пытливым оком посмотрела и твердой ногой ступила на Северный полюс, куда прежде чаица не залетывала, палтус-рыба не захаживала.
«Архангельский город всему морю ворот».
Архангельск стоит на высоком наволоке*, смотрит лицом на морские острова. Двина под городом широка и глубока — океанские трехтрубные пароходы ходят взад и вперед, поворачиваются и причаливают к пристаням без всякой кручины.
С восточной стороны легли до города великие мхи. Там у города речки: Юрос, Уйма, Курья, Кузнечиха.
В подосень, да и во всякое время, у города парусных судов и пароходов не сосчитать. Одни к пристаням идут, другие стоят, якоря бросив на фарватере, третьи, отворив паруса, побежали на широкое студеное раздолье. У рынков, у торговых пристаней рядами покачиваются шхуны с рыбой. Безостановочно снуют между городом и деревнями пассажирские пароходики. Степенно, на парусах или на веслах, летят острогрудые двинские карбаса.
Архангельское мореходство и судостроение похваляет и северная былина:
… А и все на пиру пьяны-веселы,
А и все на пиру стали хвастати.
Толстобрюхие бояре родом-племенем,
Кособрюхие дьяки большой грамотой,
Корабельщики хвалились дальним плаваньем,
Промысловщики-поморы добрым мастерством:
Что во матушке, во тихой во Двинской губе,
Во богатой, во широкой Низовской земле
Низовщане-ти, устьяне* промысловые
Мастерят-снастят суда — лодьи* торговые,
Нагружают их товарами меновными
(а которые товары в Датской надобны).
Отпускают же лодьи-те за синё море,
Во широкое, студеное раздолыще.
Вспомнил я былину — и как живой встает перед глазами старый мореходец Пафнутнй Анкудинов.
«Всякий спляшет, да не как скоморох»*. Всякий поморец умел слово сказать, да не так красно, как Пафнутнй Осипович.
Весной, бывало, побежим с дедом Пафнутием в море. Во все стороны развеличилось Белое море, пресветлый наш Гандвик.
Засвистит в парусах уносная поветерь*, зашумит, рассыпаясь, крутой взводень, придет время наряду и час красоте. Запоет наш штурман былину:
Высоко, высоко небо синее,
Широко, широко океан-море,
А мхи-болота и конца не знай
От нашей Двины, от архангельской…
Кончит былину богатырскую — запоет скоморошину. Шутит про себя:
— У меня уж не запирается рот. Сколько сплю, столько молчу. Смолоду сказками да песнями душу питаю.
Поморы слушают, как мед пьют. Старик иное и зацеремонится:
— Стар стал, наговорился сказок. А смолоду на полатях запою — под окнами хоровод заходит. Артели в море пойдут, мужики из-за меня плахами лупятся. За песни да за басни мне с восемнадцати годов имя было с отчеством. На промысле никакой работы задеть* не давали. Кушанье с поварни, дрова с топора — знай пой да говори… Вечером народ соберется, я сказываю. Мужиков людно сидит, торопиться некуда, кабаков нет. Вечера не хватит — ночи прихватим… Дале один по одному засыпать начнут. Я спрошу: «Спите, крещеные?» — «Не спим, живем! Дале говори»…
Рассказы свои Пафнутий Осипович начинал прибауткой: «С ворона не спою, а с чижа споется». И закончит: «Некому петь, что не курам, некому говорить, что не нам».
Я охоч был слушать Пафнутия Осиповича, и складное, красовитое его слово нескладно потом пересказывал.
Детство в Архангельске
Мама была родом из Соломбалы. У деда Ивана Михайловича шили паруса на корабельные верфи. В мастерскую захаживали моряки. Здесь увидал молоденькую Анну Ивановну бравый мурманский штурман, будущий мой отец. Поговорить, даже познакомиться было трудно. Молоденькая Ивановна не любила ни в гости, ни на гулянья. В будни посиживала за работой, в праздники — с толстой рукописной поморской книгой у того же окна.
Насколько Аннушка была домоседлива скромна, настолько замужняя ее сестра и модница и любительница ходить по гостям. Возвратясь однажды с вечера, рассказывает:
— Лансье сегодня танцевала с некоторым мурманским штурманом. Борода русая, круговая, волосы на прямой пробор. Такой щеголь…
— Машка, ты это к чему?
— К тому, что он каждое слово Анной Ивановной закроет.
— Я вот скажу отцу, посадит он тебя парусину дратвой штопать. В другой раз не придешь ко мне с такими разговорами.
Вскорости деда навестил знакомый капитан, зашел проститься к дочери хозяина и подал ей конверт.
— Дозвольте по секрету, Анна Ивановна: изображенное в конверте лицо, приятель мой, мурманский штурман, уходит на днях в опасное плавание и…
Молоденькая Ивановна вспыхнула и бросила конверт на пол.
— Никакими секретами, никакими конвертами не интересуюсь!
Капитан сконфузился и убежал. Разгневанная Ивановна швырнула было пакет ему вслед, потом вынула фотографию, поставила перед собою на стол и до вечера смотрела и шила, смотрела и думала.
Прошло лето, кончилась навигация. По случаю праздника дедушка с дочкой сидели за чтением. В палисаднике под окном скрипнула калитка, кто-то вошел.
Молоденькая Ивановна взглянула, да и замерла. И вошедший — тот самый мурманский штурман — приподнял фуражку и очей с девицы не сводит.
Но и дед не слепой, приоткрыл раму:
— Что ходите тут?
— Малину беру.
А уж о Покрове. Снег идет.
Старик к дочери:
— Аннушка, что плачешь?
— Ох, зачем я посмотрела!
— Аннушка, люди-то говорят, ты ему надобна.
Вот дед с мурманским штурманом домами познакомились. Штурман стал с визитами ходить. Однажды застал Анну Ивановну одну. Поглядели разноцветные рисунки «Винограда российского»*, писанного некогда в Выгореции… Помолчали; гость вздохнул:
— Вы все с книгой, Анна Ивановна… Вероятно, замуж не собираетесь…
— Ни за царя, ни за князя не пойду.
Гость упавшим голосом:
— Аннушка, а за меня пошли бы?
Она шепотом:
— За тебя нельзя отказаться…
В Архангельском городе был у отца домишко подле Немецкой слободы, близко реки.
Комнатки в доме были маленькие, низенькие, будто каютки; окошечки коротенькие, полы желтенькие, столы, двери расписаны травами. По наблюдникам* синяя норвежская посуда. По стенам на полочках корабельные модели оснащены. С потолков птички растопорщились деревянные — отцово же мастерство.
… Первые годы замужества мама от отца не оставалась, с ним в море ходила. Потом хозяйство стало дома задерживать и дети.
У нас в Архангельске до году ребят на карточку не снимали, даже срисовывать не давали, и пуще всего зеркала младенцу не показывали. Потому, верно, я себя до году и не помню. А годовалого меня увековечили. Такое чудышко толстоголовое в альбоме сидит, вроде гири на прилавке.
Я у матери на коленях любил засыпать. Она поет:
Баю, бай да люли!
Спи-ко, усни
Да большой вырастай,
На оленя гонец,
На тетёру стрелец…
Ты на елке тетёрку имай,
На озерке гагарку стреляй,
Еще на море уточку,
На песочке лебедушку.
Мама на народе не пела песен, а дома или куда в лодке одна поедет — всё поет.
Отец у нас всю навигацию в море ходил. Радуемся, когда дома. Сестренка к отцу спрячется под пиджак, кричит:
— Вот, мамушка, у тебя и нету деушки, я ведь папина!
— Ну дак что, я тебе и платьев шить не буду.
— Я сама нашью, модных.
Сестрица шить любила: ей дадут готовую рубашонку и нитку без узла. Она этой ниткой весь день шьет. Иногда ворот у рубашки наглухо зашьет.
Отец нам про море пел и говорил. Возьмет меня на руку, сестру на другую, ходит по горнице, поет:
Корабли у нас будут сосновые,
Нашёсточки, лавочки еловые,
Весёлышки яровые,
Гребцы — молодцы удалые.
Он поживет с нами немножко и в море сторонится.
Если на пароходе уходит, поведет меня в машинное отделение. Машины я любил смотреть, только гулкого, громоносного свиста отправляющегося в океан парохода я, маленький, боялся, ревел. До свистка выгрузят меня подальше на берег. Я оттуда колпачком машу.
Осенью, когда в море наступят дни гнева и мрака и об отце вестей долго нет, не знала мама покоя ни днем, ни ночью. Выбежит на угор, смотрит к северу; на ответ только чайки вопят к непогоде.
Вечером заповорачиваются на крыше флюгера, заплачет в трубе норд-вест. Мама охватит нас руками:
— Ох, деточки, что на море-то делается! Папа у нас там!..
Я утешаю:
— Мамушка, я, как вырасту, дальше Соломбалы не пойду в море.
А Соломбала — часть того же Архангельска, только на островах.
Не одна наша мама печалилась. При конце навигации сидят где-нибудь, хоть на именинах, жены и матери моряков. Чуть начнут рамы подрагивать от морского ветра, сразу эти гостьи поблекнут, перестанут ложечки побрякивать, стынут чашки.
Хозяйка ободряет:
— Полноте! Сама сейчас бегала флюгера смотреть. Поветерь дует вашим-то. Скорополучно* домой ждите.
Зимой отец на берегу, у матери сердце на месте.
В листопад придут в город кемские* поморы, покроют реку кораблями.
Утром, не поспеет кошка умыться, к нам гости наехали.
Однажды ждали в гости почтенного капитана, у которого было прозвище Мошкарь. У нас всё прозвища придумывают, в глаза никогда не назовут, а по-за глаз дразнят. Мама с отцом, шутя, и помянули: «Вот ужо Мошкарь приедет».
Гость приехал и мне игрушку подарил. Я с подарком у него в коленях бегаю, говорю:
— Я тебя люблю. Тебя можно всяко назвать. Можно дядей, можно дядюшкой. Можно Мошкарем, можно Мошкариком…
Ребячьим делом я не раз впросак попадал из-за этих несчастных прозвищ.
Годов пяти от роду видел я чью-то свадьбу. Меня угостили конфетами, и все это мне понравилось.
На нашей улице был дом богача Варгасова, которого за глаза прозывали Варгас. Я думал, это его имя. Вот на другой день после моей гостьбы, вижу, он едет мимо на лошади. Я кричу из окна:
— Варгас, постой-ко, постой!
Он лошадь остановил, ждет, недоумевает…
Я выбежал за ворота.
— Варгас, вы, пожалуйста, вашу Еленку Варгасовну никому замуж не отдавайте. Я маму спрошусь, сам Еленку-то приду сватать.
А Еленке Варгасовой год ли, полтора ли от роду еще…
Помоложе Варгасовны была у нас с сестрой симпатия Ульяна Баженина. Ряд лет жили мы в деревне Уйме, где зимовали мурманские пароходы. Понравилось нам с сестрой нянчить соседскую дочку, шестимесячную Ульянку. Ульянкина зыбка висела на хорошей пружине. Мы дернем вниз да отпустим, дернем вниз да отпустим. Ульянка рявкнет да вверх летит, рявкнет да вверх летит. Из люльки девка не выпадет, только вся девка вверх тормашками — где нога, где окутка, где пеленка… Няньки-то были, вишь, немножко постарше Ульянки.
Весной по деревне проходили странники. А взрослых часто нет дома. Соберется нас, малышей, в большой Ульяниной избе много, посидим и испугаемся, что странники придут нас есть. Вот и выставим к двери лопаты да ухваты странников убивать. А чуть приви-дится что черное, летим кто под лавку, кто в подпечек, кто в пустой ушат. Сестренка дольше всех суетится:
— Я маленька, меня скоро съедят буки-ти!
По Уйме-реке лес. Там какой-то «орды»* боялись. Слыхали, что охотники орду находят, а какая она, не видали.
Ягоды поспеют — отправимся в тундру по морошку. Людно малых идет.
Вдали увидим пень, сажени полторы, как мужик в тулупе:
— Ребята, эвон де орда-та!
Испугаемся, домой полетим. А орда вся-та с белку, вся-та с векшу, пестрая. Орда не покажется людям, только собаки находят.
Конец зимы, уемляне все у корабельного, у пароходного ремонта. Мелкие с утра одни дома. Мы в Ульянкиной избе все и гостим, куча ребят трех — шести лет. Что у старших видели, то и мы: песни поем, свадьбы рядим — «смотренье, рукобитье, пониманье». Девчонки у матерей с кринок сливок наснимают, ходят, кланяются, угощают — честь честью, как на свадьбе…
Эти отдельные картинки раннего моего детства мне позже мама и тетка рассказывали. Ну, что позже творилось, сам номню.
Ко всему, что глаз видит и ухо слышит, были у нас, у ребят, присказки да припевки. И к дождю, и к солнцу, и к ветру, и к снегу, и к зиме, и ко всякой ползучей букашке и летучей птице.
Вот, к примеру, в зимние вечера, перед ночлегом, летают над городом стаи ворон. Ребята и приправят* кричать:
— У задней-то вороны пуля горит! Пуля горит!..
Мы уверены были, что именно эти наши слова производят среди ворон суматоху, так как ни одна не хочет лететь задней.
Я постарше стал, меня дома читать и писать учили.
Отец рисовать был мастер и написал мне азбуку, целую книжку.
В азбуке опять корабли и пароходы, и рыбы, и птицы — все разрисовано красками и золотом. К азбуке указочка была костяная резная.
Грамоте больше учила мама. Букву А называла «аз», букву Б — «буки», В — «веди», Г — «глаголь», Д — «добро». Чтоб я скорее запомнил, шутя говорила, что начертанья А и Б похожи на жучков, буква В — будто таракан, Г — крюк…
Для памяти я и декламирую:
Аз, буки — букашки,
Веди — таракашки,
Глаголь — крючки,
Добро— ящички.
И другие стишки про буквы:
Ер (ъ), еры (ы) — упал с горы.
Ер (ъ), ять (ять) — некому поднять.
Ер, ю — сам встаю.
Азбуку мне отец подарил к Новому, 1902 году, поэтому вначале было написано стихами:
Поздравляю тебя, сын, с Новым годом!
Живи счастливо да учись.
Ученый водит,
Неученый следом ходит.
Рано, весело вставай —
Заря счастье кует.
Ходи право,
Гляди браво.
Кто помоложе,
С того ответ подороже.
Будь, сын, отца храбрее,
Матери добрее.
Живи с людьми дружно,
Дружно, не грузно,
А врозь — хоть брось!..
Отец, бывало, скажет:
— Выучишься — ума прибудет.
Я таким недовольным тоном:
— Куда с умом-то?
— А жизнь лучше будет.
Весной выученное за зиму бегали писать на гладком береговом песке.
В городе я поступил в школу, уже хорошо умея читать и писать.
Больше всего успевал я, учась, в языках, совсем не давалась математика: из-за нее не любил я школы,
бился зиму, как муха в паутине. Жизнь была сама по себе, а наша школа сама по себе. Город наш стоял у моря, а ни о Севере, ни о родном крае, ни о море никогда мы в школе не слыхали. А для меня; это всегда было самое интересное.
С ребятами сидим на пристанях, встречаем, провожаем приходящие, уходящие суда да поем:
У папы лодку попросил.
Пала пальцем погрозил:
— Вот те лодка с веслами.
Мал гулять с матросами!..
Или еще:
Пойду на берег морской.
Сяду под кусточек.
Пароход идет с треской.
Подает свисточек.
Насколько казенная наука от меня отпрядывала*, настолько в море все, что я видел и слышал, льнуло ко мне, как смола к доске.
Рождение корабля
Именитые скандинавские судостроители прошлого века Хейнц Шифмейстер и Оле Альвик, рассмотрев и сравнив кораблестроение разных морей, много дивились искусству архангельских мастеров и сказали:
— Равных негде взять и не сыскать, и по всей России нет.
Вот какую себе наши плотники доспели честь, своей северной родине славу. А строили, бывало, без чертежей,
без планов, единственно руководствуясь врожденным архитектурным чутьем и навыком.
Но и в нашем Поморье не каждая деревня рождала славных мастеров. Как солнце и месяц перед звездами, гордились у нас перед другими деревнями Подужемье и Сума, Кемь и Уна, Лодьма, Емецк и Соломбала.
Если у мастера рука легкая и он строит корабли, какие море любит, походливые и поворотливые, такого строителя заказчики боем отбивали, отымом отымали; ежели занят, то, словом заручившись, по три года ждали. Дождавшись, мастеру досадить боялись — криво ли, право ли хозяйской мошной трясет.
Суда у нас строили: шкуны*, боты*, лихтеры*, кутера*, ёлы* мурманские, шнёки*, карбаса морские и речные.
Прежде были лодьи, бригантины*, кочи*, барки всё большие корабли; на них давно мода отошла.
На шнеке, древнем беспалубном судне, еще мои отец плавал в Датску — Норвегию.
Рассказывал, как придем в Стокгольм или Копенгаген на шнеках, профессора студентов приведут обмерять и рисовать наши суда — то-де корабли древних мурманов (норманнов).
Строили из сосны. На самой дешевой еловой посудине мачта, бушприт, стеньги— непременно сосновые. Ну, остальной рангоут* из ели. Ель на воде слабее сосны.
У Белого моря берега: Зимний, Летний, Кемский, Терский. И на каждом берегу те же суда строили своим манером.
Кому это дело в примету, тот, и в морекой дали шкуну усмотрев, не только какого она берега, но и каким мастером сработана назовет.
Красен в месяцах месяц май. Славен в корабельщиках Конон Иванович Тектон[2].
Он родился у Белого моря, на Кемском берегу, в бедной рыбацкой семье. Пройдя наше поморское судостроительство, уехал в Норвегию и Данию. Здесь изучал языки: английский, немецкий, норвежский, математику, навигацкие науки, морскую астрономию, рисование. Не покидая наук, работал на верфях. Вернулся на родину уже в зрелом возрасте. Рано овдовел, рано сыновей потерял: утонули зуйками на Мурмане.
В дни моего детства слава Тектона еще трубила на берегах Белого моря.
Конону Ивановичу было уже полсотни годов. Он обходил берега Ледовитого океана, строя шкуны, боты, бриги, гальоты и ёлы сшивая. Норвежане и датчане не раз пожалели, что отпустили из рук строителя, и не однажды докупались до Конона, манили деньгами, но он не покорыстовался и не поехал. А ведь сам во всю жизнь не имел ни кола ни двора. Что заработает, всё раздаст в долг — без отдачи.
Кому Конон дело делает, тот в его воле ходит.
Строил однажды Конон океанское судно богатому купцу. Была весна, и дело приходило к концу.
И у купца гостил брат, важный петербургский чиновник. Этот господин повадился кутить на постройке со своими приятелями. И мастер того не залюбил.
Однажды срядился Конон с подмастерьями, с Олафом да с Василем, в город. В городе они разошлись. Вечером мастер первый воротился на карбас и сел дожидаться ребят. Тут — не ждан, не зван — подкатил к карбасу на трех извозчиках хозяйский брат с веселой компанией; все пьяны и с песнями. Да начали нахально приказывать:
— Вези к новопостроенному судну! Нам угодно, там гулять будем.
И Конон отказал:
— А нам не угодно. И гулять там не будете.
Они не послушались, только пуще закуражились и полезли в карбас самосильно. А один, толстый, прискочил и сбил с Конона шапку, не зная его плотной силы.
Тогда Конон Иванович, губу закусив, поднял толстого за шиворот и огрузил в воду, чтобы его благородие прохладилось. И, опять тряхнув, бросил в карбас, так что и поддон* заговорил.
Гуляки — на Конона с кулаками:
— Утром мы тебя, хама, в тюрьму бросим, а теперь вези, куда приказываем!
И который с ружьем, учал палить и одному приятелю обжег ухо.
И Конон, бояся головщины*, открыл парус и сел за румпель. До судна бы ходу четверть часа, а уж карбас бежит и все три четверти. А те поют да играют — не понимают, что кормщик правит к дальнему пустому острову. Да и тот накрыло туманом.
Как на широком месте качнуло, хозяйский брат забранился:
— Ты пьян, мужик! Куда ты правишь? Почему долго едем?
И Конон ответ держит:
— К ночи вода кротка — мелка, а карбас от народа грузен. У постройки на мель сядем. Обойдем подальше, где берег глубже… — И тут, рулем покосив, Конон причалил к берегу: — Приехали!
Те выкарабкались на незнакомое место и опять взялись грозить и лаять, зачем стройки не видно. И охотник опять палит, как дикий! А Конон выкинул им корзины с вином и закусками, веслом отпихнулся — да и был таков…
Целую ночь бродили господа-те по песку в тумане. Судна наискались, перевозу накричались, куда попали, не понимают.
Ну, коньяков с собою было на залишке — небось не озябли.
А утром туман снялся, и они увидели себя на голой песчаной кошке. И судно новопостроенное видать не так далеко: стоит на другом острову за рекою.
Ах да руками мах, а на том не переедешь…
Вскоре подобрали их устьянские бабы-молочницы: плыли в город с молоком.
А кто прав остался?
А Конон.
Хозяин, бояся, как бы мастер на гневе работы не покинул, тот же день прибежал на стройку, по палубе за Кононом ходит. Брата с компанией всех приругал:
— Сами себе они, страдники*, страм доспели. Как ты их, дорогой мастер, выучил… Хы, хы!.. А у нас с тобой нету обиды. Нету!
Однако по жалобе петербургского чиновника губернатор хотел было выкинуть Конона Ивановича из города, да раздумал: кончилась Японская война, начались забастовки 1905 года.
В те дни и годы отобралось маленькое стадышко низовских моряков в артель, чтоб не кланяться хозяевам, не глядеть из чужих рук, а самим осилить постройку большого судна для океанского плавания. Моего отца выбрали артельным старостой и казначеем.
И отец загодя припас лес, и приплавил к городу на остров, и распилил, и кокоры обтесал.
Товарищи матерьял осмотрели, благодарили и спросили:
— Каким думаешь мастером строить?
А отец и говорит:
— У меня один свет в очах — Конон Второушин, да он сейгод в Кеми завяз…
Было, подумали на Пигина, кронштадтского мастера, он давно насватывался, но помянули, что Пигин человек зависимый, ему Немецкая слобода* только палец покажет — он артельное дело бросит… Нет уж, без Конона Ивановича нам не сняться.
И, надеясь на прежнюю дружбу, что он прежде к нам хаживал, хлеба едал, квасу пивал, послался отец к Конону Ивановичу с письмецом:
«Любезный мастер и друг! Охота видеть твоего честного лица и сладких речей слушать. А мы тебе в Архангельском городе делов наприпасали. Воля ваша, а большина наша!»
Старая любовь не ржавеет.
Мастер дела в Кеми довершил и на олешках через Онегу приехал в Архангельск. Стал на постой в Соломбале и дал знать отцу.
Как мы обрадовались! Долго ждав, думали — не в Норвегу ли мастер убрался.
Тот же вечер отец собрал артельных:
— Как рассудите? Деды наши с осени строили, чтобы,
зимой закончив, на вешнюю большую воду спускать.
А тут мастер прибыл при конце зимы.
Все зашумели:
— Радоваться надо, что прибыл, и всё тут!
Отцу давно хорошо. Утром он засряжался в Соломбалу, запряг самолучшие санки. Взял и меня с собой.
Я говорю:
— Что бы мастеру-то самому к нам приехать!
— Так не водится. Он художник, он строитель.
В Соломбале едем по Бессмертной улице, не знаем, который дом. А мастер сам нас укараулил, в окно сбарабанил.
Как зашли в комнату, справили Конону Ивановичу челобитье. И он равным образом, выйдя из-за стола, бил челом.
Потом поздоровались в охапочку. И которые с Кононом Ивановичем сидели два сличные* молодца, тоже встали и поклонились. Один быстрый, темноглазый, другой светловолосый, конфузливый. Тогда прошли за стол, стали беседовать и друг на друга, смотреть. А Олаф да Василь — подмастерья — опять сели красить на листах разным цветом: синим, зеленым, красным. Нарисованы корабли, как их погодой треплет. Я сам рисовать до страсти любил и уж тут все глаза растерял.
Невдолги отец домой сторонился, и я с дива пропал, что о деле ни слова не сказано.
Дорогой я не утерпел:
— Про кораблик-то уж нисколько не поговорили…
— Что ты, глупой! Ведь мы с визитом.
— Неужели они, папа, троима* трехмачтовый корабль поставить могут? Подмастерья-то вовсе молоды.
Годы молодые, да руки золотые. А Конон! Нет таких дел человеческих, чтобы ему не под силу. Конечно, станут и артельные время от времени помогать.
Рекой едучи, отец всё свою думу думал, а я свою, только как стали к дому подыматься, я еще спросил:
— Папа, тебе любо ли?
— Как не любо! Пускай-ко наши толстосумы* поскачут. Они Кононка-то, никак, четвертый год добывают… А второе мне любо, что ты его художества насмотришься и золотых наслушаешься словес.
На масленице Конон Иванович у нас гостил. Его ждали — по крыльцу, по сеням половики стлали новотканые, по столам скатерти с кистями.
Я заметил, он ел малёхонько, редёхонько и пил — только прилик принимал. Потом ушли в отцову горницу. Там сразу поставили разговор на копылья*. Мастер начал спрашивать, кто да кто в артели, очень ли купечество косится, на какой реке и давно ли лес для стройки ронили, и какая судну мера, на сколько тысяч груза.
И отец ему учал сказывать:
— Лес сосновый, рубили на Лае-реке, зимой, два года назад. Дерева — ни кривулины, ни свили*, ни заболони*, — настоящая корабельщина. Ноне все пилено и тесано, мастера дожидается.
На полу мелом накинули план, и по этому чертежу мастер повел умом. Пошла беседа на долгой час.
Наконец дело отолковали, и порядились, и руку друг другу дали. Значит, надежно с обеих сторон.
Я тут же в сторонке сидел, помалкивал. Охота была спросить, почему художники Олаф да Василь не пришли, да не посмел.
На следующей неделе отец с Кононом многажды ездили на место стройки. Вечерами говорил матери:
— Ты, моя хозяюшка, мастера наблюдай, пироги ему пеки да колобы. Мне его моряки поручили… А вы, робятки, будьте до Конона Ивановича ласковы, чтобы вас полюбил.
Того же месяца за Соломбальским островом начал строиться наш корабль «Трифон».
На острове на песке лежали дерева золотые, прямотелые, дельные. И мне дивно было, как из этого лесу, кокорья и тесин, судно родится.
Вот как дело обначаловал Конон Иванович Тектон.
На гладком, плотном песке тростью вычертил план судну, вымеряя отношение частей. Ширину корабля клал равной трети длины. А половина ширины — высота трюма. На жерди нарезал рубежки и такой меркой рассчитал шпангоуты. Чертил на песке прямые углы и окружности все без циркуля, на глаз, и все без единой ошибки.
По этому плану сколотили лекалы*. Тогда приступили к постройке.
Выбрав дерево самое долгое, гладкое, крепкое, ровное, положили матицу, или колоду, то есть основание корабля — киль.
На киль легла спина корабля, поддон. Продолжение киля — упруги или штевни; к носу — форштевень, к корме — ахтерштевень.
Как у тела человеческого на хребте утверждены ребра, так в колоду, в хребет вростили ребра корабель-ные — шпангоуты. Они в ряд, как бараны, рогами вверх уставились.
Как на кости у нас наведены жилы и кожа, так остов корабельный обшивали изнутри и снаружи широкими сосновыми досками.
Чтобы обшивка льнула к шпангоутам, доски парили. Была сделана печь с водяным котлом. Пар валил в длинную протянутую у земли деревянную трубу. В трубе и держали тес до гибкости.
Как кожу дратвой, прошивали корпус вересовым* корнем и железом и утверждали дубовыми гвоздями — нагелями.
Концы у нагелей расклинили и расконопатили, и железные наружные болты внутрь загнали и внутри расклепали.
Потом всё проконопатили и просмолили.
Не на час, не на неделю — на век строил мастер Конон Тектон! В то время распута прошла и ожили реки.
С борта на борт перекинул Конон Иванович перешвы— бимсы, на них постлал палубу. А в трюм, в утробу, на поддон намостили подтоварье — ставни из тонких досок, чтобы груз не подмокал.
Шла работа — только топор посвечивал. С утра, со всхожего и до закатимого стукоток стоит под Кононову песню. Далеко слышно по воде-то.
А пошло время к лету — и три мачты кондового лесу поднялись над островом. Три мачты ставят, когда судно на дальнее, океанское плаванье; если на ближнее, в своем море, то две.
Передняя — фок — мачта, средняя — грот — мачта и задняя бизань.
С носа от форштевня уставился бушприт.
И как скрипичный мастер струны настраивает, а они гудят и звенят, так Тектонова искусная рука протянула снасти к мачтам и реям, к штевням и бортам.
И оснастке весь стоячий такелаж* завели по-богатому — из четырехпрядной чесаной пеньки, только такелаж бегучий — из обыкновенной, трехпрядной.
Да в ту же оснастку корабельную блоков одношкивных и двушкивных с железной оковкой не меньше полусотни штук. От скул к носу, где хлюсты — ноздри корабельные, навернули цепи и якоря. Якорь в семнадцать пудов да якорь в пятнадцать пудов. Цепь в шестьдесят пять сажен да цепь в пятьдесят сажен. И белыми полотняными парусами нарядили грот-мачту и фок-мачту с реями; и на бизань — косые паруса.
Много было дела у корабля, и редкий день у мастеров не работали добровольные помощники из артели. По бортам, по мачтам у рангоута все ковано железом, и дверцы, и ободверины* покованы медью. И оконцами посветить «Трифону» не забыл Конон Иванович. И печку сложили. И помпы в трюме — воду откачивать.
Потом судно до ватерлинии* окрасили красно, а побочины* — ярью зеленою и белилами. А у носа и по корме золотыми литерами — имя «Трифон».
Кратко сказать, все было крепко и прочно, дельно и хитро. Кораблик как сам собою из воды родился.
Кто посмотрит, глаз отвести не может.
А медь сияет на солнце!..
Осенью, когда начал лист на лесу подмирать, и судно было готово.
Последний день августа завелась у нас стряпня, и первого сентября утром, когда обрадовалась ночь зоре, а заря — солнцу, поплыли артельные к острову, где «Трифон» строился. И увидели: стоит корабль к востоку, высоко на городках, у вод глубоких, у песков рудожелтых, украшен как жених, а река под ним как невеста.
…Мастер Конон сошел по сходням, стал на степени* и поклонился большим обычаем*. У него топор за поясом, как месяц, светит.
И мы на ответ кланялись равным образом.
Артельного старосту, отца моего, мастер взял за правую руку и повел вокруг судна и обойдя, поднялся на палубу. Следом шли все.
В то время вода за прибыла, стала на мерную степень, да пал ветерок береговой.
Тогда Конон с Олафом сходят на землю и берут в топоры два бревна, держащие судно на городках, над водами.
В то время у старосты пуще всех сердце замерло… И внизу треснуло, и судно дрогнуло да прянуло с городков в воду. И я носом о палубу стегнулся, да и все худо устояли.
А отец смеется:
— Что ты, воронье перо, вострепещился?
Мастер, поднявшись на палубу и став на степень, говорил:
— В чем не уноровил и не по вашему обычаю сделал, на том простите.
Все к нему стали подходить и поздравляться в охапочку. А «Трифон» покачивался на волнах — видно, и ему любо было.
Тогда отдали тросы и отворили паруса. В паруса дохнул ветер. И пошел наш корабль, как сокол ширяся на ветрах.
Все песню запели:
Встаньте, государи,
Деды да бабы:
Постерегите, поберегите
Любимое судно,
Днем под солнцем,
Под частыма дождями,
Под буйныма ветрами.
Вода-девица,
Река-кормилица!
Моешь пни, и колодья,
И холодны каменья.
Вот тебе подарок:
Белопарусный кораблик!
И обошли кораблем далече по солнцу. А паруса обронив, бросили якоря у того же острова на живой воде.
На палубе накрыт был стол со всякой едой, рыбной и мясной, с пирогами и медами. За столом радовались
до вечера. Таково напировались, ажно в карбас вечером погрузились не без кручины. Егор Осипович с Иван Петровичем, старые капитаны, в воду пали, мало не потонули. Куда и хмель девался. Домой плыли, — только мама да Конон, да еще трое — четверо гребли. Остальные вовсе в дело не годились. А к берегу причалили и на гору взойти наши гости не могут, заходили по взъезду на коровушках. Вот сколь светлы были!
Конец сентября отец отвел «Трифона» в деревню Уйму, города выше десять верст, на зимовку.
А придет весна красна, и побежит наше суденышко на Новую Землю по моржа и тюленя, пойдет на Терский берег за семгой, в Корелу за сельдями. Повезет в Норвегу пеньку и доски, сало и кожу. Воротится в Архангельск с трескою и палтусом.
Годы судов называются у нас водами. Шкуна, прожившая три года, плавающая четвертую навигацию, называется «шкуна трех вод», или «шкуна на четвертой воде».
Мурманские зуйки
Зуек, или зуй, — наша северная птичка вроде чайки. Где рыбная ловля, где чистят рыбу, там кружатся зуйки. Зуйками называют в Поморье и мальчиков, идущих на Мурман в услужение— обед готовить, посуду мыть, рыболовные снасти сушить. Работы много, работа тяжелая, и больше всего в зуйки шли сироты, у кого отца нет. В Поморье мурманские тресковые промыслы — самое главное. И вот у бедной матери была одна забота: чтобы сынишка в семье помог и к работе привык. Хорошего, опытного промышленника мать со слезами просит взять сына поучиться тяжелому делу мурманскому.
Плата бывала зуйку за лето, кроме содержания — еды и одежды, — пятьдесят рублей деньгами, десять пудов рыбы соленой, пять пудов сушеных тресковых голов.
Хорошо, если распоряжается на судне дядя или иной кто, близкий мальчику, а у чужих людей трудно. Лет с девяти, с десяти повезут в море работать навыкать. Ходили зуйки и у отца и брата на корабле. Таким полдела.
Корабли поморские в море идут, когда оно очистится от льда. Перед походом, дома, — отвальный стол, проводинный обед. Накануне зуек бегает, зазывает гостей. Зайдет в избу, поклонится и скажет:
— Хозяин с хозяюшкой, пожалуйте к нам на обед. Милости просим! Милости просим!
Во время пированья зуйки стольничают и чашничают с шитыми полотенцами через плечо. Стольники режут хлеб и угощают, чашники разносят братыни с квасом и брагой. Обедает зуек с хозяйкой после гостей.
Во время стола кто-нибудь в котелок, в дно, постучит, скажет:
— Батюшко, припади!
Это просят ветра посильнее припасть, дунуть.
Перед последней переменой мать, в первый раз провожающая сына в море, прощается с ним. Не знает, как назвать, как пожалеть. Тихонько гладит мальчика по голове шелковым платочком п плачет и поет:
Сизенький мой соколочек,
Миленький голубочек,
Скатна моя жемчужина,
Желанное мое дитятко!
Беззаботные годочки прокатились.
Беспечальные денечки миновались!
Не в доцвете трапу шелкову
С поля убираю,
Не в доросте моего рожоного
В работушку провожаю…
Всхожее ты мое солнышко.
Свеча ты моя воскоярова!
Твоя молоденька головушка заподумывает,
Ребяческо сердечушко запобаливает!
Вспомнит мать и младенческие годы сына:
Ты спал у меня, высыпался.
Ты ждал, дитя, дожидался
От отца веселого покликаньица.
От матери тихого побужаньица.
От брателка ключевой воды.
От сестрицы полотенышка.
У наших поморов слово слово родит, третье само бежит. Слушая мать, и парнишка всплакнет.
После обеда на жальник сходят — на кладбище — с родными проститься.
На пристань идут, каждому нищему подают:
— Нате-ко на поветерь.
И все встречные и поперечные отъезжающим поветери — попутного ветра — желают.
Зайдут на корабль, сходни уберут, якоря выкатают, ветер паруса наполнит. Сделает рулевой поворот кораблем на восток в честь солнца, и зашумят, рассыпаясь, встречные волны.
Брызнет зуйку в лицо крепким морским рассолом — и вся грусть забудется. Которая слеза и катилась, то назад воротилась. В море простор, ширь, свет. Любо в море!
Матрос песню запоет, в гармонь заиграет; смотришь, за кораблем тюлень молодой плывет. Головочка у него черненькая, взгляд умильный, ручками он перебирает, песни слушает. Под самым носом корабля белуха белобрюхая, зверь морской ростом с корову, любит перевертываться да играть. Пробку свою оттыкает, из зашейка фонтаны водяные пускает, что кит. Чайки долго за кораблем в море летят, провожают. Это поморы любят, хлеб им бросают. К хорошей погоде чайка в голомень* летит.
Бежит корабль, воздух веселый, паруса говорят, чайки кричат. Зуйки уж за работой, канат старый для конопатки щиплют, снасти разбирают… В далях морских другой кораблик блеснет парусом, ровно чайка крылом. Надо с ним поморским обычаем поздороваться. Капитан берет медную, посеребренную трубу-рупор и кричит:
— Путем-дорогой здравствуйте!
Те отвечают:
— Здорово, ваше здоровье, на все четыре ветра!
Мы опять:
— Куда путь-дорогу правите?
Ответ уж издалека донесет:
— Из Стокольма в Архангельской!..
Какой-нибудь матрос-молодожен схватит трубу да,
крикнет тем, идущим в Архангельск:
— Агафье моей расскажите, что меня встретили.
Зуйки опять за делом: медные котлы начищают. Чайки на берег воротились. Кругом небо да вода.
Летом благодать в море, а осенью, в туман, страшно. Туман такой навалит, хоть топором руби. В океане, где временем иностранных судов много, бывают и столкновения. Когда поморы в шнеках плывут — в чугунную доску бьют, а заслышав стук машины или свисток, кричат со всей силы:
— Не сгубите-е!!!
Тошно в море — земля и небо стонут.
Самое опасное место в туманы Горловина — выход Белого моря в океан. Тут всегда волненье, толкунцы.
Выбежит шкуна из Белого моря, тут во все стороны Ледовитый океан. Когда корабль идет на Печору или на Новую Землю, поворачивают направо, на восток. А Мурман пойдет на запад, влево. Мурманский берег скалистый. Горы черные, древние, как медведи, лежат. Тут взводень, вал морской, горой ходит, песок со дна воротит. Кораблик в океане, как чаечка маленькая. И подвигается на него «девята» — девятый вал, что всех больше. Вал черный, гребень белый — кружево белое на черном бархате. Ну, думаешь, сейчас закроет, и все тут… Ан нет! Подымет кораблик этим валом, качнет на гребне, как мать ребенком поиграет, да и спустит вниз. Только сердце ёкнет да в животе холодно. А впереди другой вал, тоже с дом величиной. Как кони вороные с седыми гривами, валы летят по океану.
Это кораблику не беда, когда ветер попутный, в затылок, — горе, если со всех румбов заповертывает.
В такую немилостивую погодушку корабельная команда по нескольку суток не спит и не ест.
Кудлатый долгобородый помор-капитан и тут не ударит в грязь лицом. Он ревет у руля медведем на молодых помощников:
— К снастям, други, к снастям!.. Что полтинники-то на меня выкатили? Крепче кливер*. Рочи* шкот!.. Ух, керосином бы вас облить да сжечь! Ух, вы-ы!..
Среди зуйков бывали тоже продувные ребята, во всяких положениях выгоду себе находили. Таков бывал Владимирко Бельских. Он плавал у старого Сувора Окладникова на гальоте.
В непогодушку, когда старик-океан в тысячу труб трубит и кипит валами, Владимирко непременно подвернется разъяренному Сувору под руку. Ясно, хорошую затрещину и заработает. Кончится шторм, юнга Вельских ходит с подвязанной щекой.
Сувор к нему:
— Ты что, Владимирко?
— «Что»! Глаз-то худо заоткрывался…
— Ну?.. Сгоряча-то, вишь, не разберешь. По шее бы надо.
— Себя бы бил по шее-то!
— Любя ведь, леший…
— «Любя»… Теперь как на берег сойду? Ни погулять, ни девкам показаться. Никотора на меня не обзарится.
— На экого винограда чтобы не обзарились! Да ты первый парень по деревне.
— «Первый парень»!.. А где наряды-то? Ты много ли нашил?
— Ужо, не ругай, подарю тебе манишку норвецку голубу.
Этот Окладников «хороший» был, а случалось на бедовых налетать. В шапке зуек в каюту не зайди. Со старшим первый речь не заводи. Жди, когда заговорят.
Самодуры бывали среди поморов-судовладельцев. Вовсе загоняют мальчугана. В свободный часок взгрустнется ему, он и запоет печальную, долгую песню:
В чужих-то людях рано будят,
На работушку гонят до зари.
С той-то работушки рученьки
Болят по плечам.
Со воздыханьица грудь болит…
По Мурману богато становищами — фиордами. В каждой такой бухте есть поморский стан — летний поселок, где промышленники, прибежавшие на кораблях и пароходах с разных концов Архангельской губернии, ночевали и отдыхали. Взрослое население дни проводит в океане, добывая рыбу. Зуйки в океан выходят редко, их работа на берегу. Надо хлеб испечь, кашу сварить и уху, да и квас чтобы был. Вот идет у бедных ребят стряпня — рукава стряхни. Замараются, припотеют, а всё с песнями:
Сам толку,
Сам мелю,
Сам и по воду хожу.
Кашеварничаю,
Пивоварничаю!
Хлебы зуй катает — поет:
Уж и сею я муку
На полатях на боку!
Уж я по полу катаю,
По подлавочью валяю.
На печи в углу пеку,
Когти-ногти обожгу!
Растворяю на дрожжах,
Вынимаю на вожжах.
Всего хуже ребятам хлебы печь.
Знаменитый капитан, архангельский помор Владимир Иванович Воронин, рассказывал: будучи зуйком, пришлось ему ставить хлебы в море на шкуне. Квашню емкостью в несколько ведер взгромоздил на полку, а завязал худо. Ночью пала непогода, шкуну закачало, ржаной опарой и начало устилать спящих промышленников, накатало и в их сапоги.
В другой раз у Володи Воронина хлебы вышли как утюги, хоть ножи о них точи. Володя испугался, что дядя, хозяин шкуны, забранит, и потихоньку уплавил ковриги в море. А дядя и наехал на хлебы-то. Плывут ковриги рядышком, и чайки летят, поклевывают. Так грех и открылся.
В мурманских станах живут временно, одни мужчины. За чистотой должны следить зуйки. В праздник, бывало, стряпают из белой муки, а выйдет вроде ржаного — лапы у поварят в саже. А всё с песнями. Один поет:
Три дня печи не топил,
Много сору накопил.
Ложки вымыл,
Во щи вылил!
Другой припевает:
Косяки скребу,
Пироги пеку…
Ну, частенько ругаются, обижаются тоже, что работы много:
Кисни, квас,
С полу грязь.
Капитану
Вырви глаз!
Помню, в море дело было, на корабле. Капитан достался ребятам строжающий. Каково мальчишкам взаперти сидеть, когда старшие гуляют! Зато как привезут этого капитана с берега мертвецки пьяного да повалят спать, ребята тихонечко танцуют около и припевают:
Как за эту выслугу,
Что нас на берег не выпустил,
Тебя трясло бы потряхивало,
Выше печи бы подбрасывало,
Под семью одеялами,
Под тремя покрывалами.
Тебе сквозь печь бы провалитися,
Во щах заваритися,
Пирогом подавитися!
В глаза-то ведь не посмеют сказать ничего — хоть, так, бедные, душу отведут.
Приход шнёк и ёл в становище возвещают своим криком чайки. Зуйки это слышат и торопятся, ног под собой не чуют. Как старшие с делами покончат, зуйки кричат с порога поварни:
— Кормщики с рядовыми, пожалуйте хлеба ись!
Надо вежливо звать. Летает этакий чумазый кок по становищу, ищет своих, рвется в куски, горячится, что обед остынет, а кричит честно:
— Господа промышленники наши, милости просим обедать!
Про себя-то всего насулит…
Стол обихаживать надо тоже умеючи. Со стен сажа, а без чистой, хотя бы холщовой, скатерти помор за стол не сядет. Пока из-за стола не встали, нельзя из чашек, мисок лить в поганое. Ужасно, если хлебная крошка упала на пол; ее скорей с поклоном поднимут. Во внеобеденное время посуда с едой должна быть покрыта, а порожняя опрокинута. Перед едой помор трижды окатывает руки водой. Руки поморы моют ежеминутно. Есть и бани в становищах, где моются раз или два в неделю. Баню тоже зуек обязан истопить. У иного дровишки худящи, мозглящи, не горят, а только тышкаются. Другому воду носить лихо из горной речки или водопада.
Дразнят друг друга:
Витька баню топит,
Ситом воду носит.
Решето-то розно,
Он принес, — порозно!*
Хуже всего тюки отвивать. Тюк — часть яруса океанской рыболовной снасти. В тюке четыреста метров длины. Тридцать связанных тюков составляют ярус, который и опускается в океан. После лова ярус опять развивается на тюки. Тут много дела и зуйкам. Тысячи лёсок — форшней, тысячи крючков надо распутать. Руки ветром да морским рассолом ест, крючья остры, снасти мокры, скользки, ярусу конца нет. Сосчитай-ка, сколь долог ярус, если в ярусе тридцать тюков, а в тюке четыреста метров…
Отдыхают зуйки в дни океанского шторма. Суда вытащены на берег, взрослые спят или, бывало, выпивают, беседы собирают, песни поют, а зуйки в бабки, в городки играют, гуляют. Без песен тоже не живут. Много у зуйков забавных припевок:
Я вставал поутру-ввечеру,
На босу ногу топор надевал,
Топорищем подпоясывался.
Не путем, не дорогой шел —
Возле лыка гору драл.
Увидал на утке озеро,
Топором в нее шиб — не дошиб;
Другой раз шиб — перешиб.
В третий раз попал, да мимо!
Утка всколыбалась, озеро улетело.
А то запоет кто-нибудь один:
Небылица в лицах, небывальщина.
Небывальщина, неслыхальщина.
По поднебесью сер медведь летит.
Он ушками, ланками помахивает,
Он черным хвостом принаправливает.
И все дружно подхватывают припев:
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.
А с горы корова на лыжах катится,
Ноги росширя, глаза выпуча.
Небылица в лицах, небывальщина.
Небывальщина, неслыхальщина.
На дубу свинья гнездо свила.
Гнездо свила, деток вывела.
Небылица в лицах, небывальщина.
Небывальщина, нсслыхальщина.
Малы деточки поросяточки
По сучкам сидят, по верхам глядят.
По верхам глядят, улететь хотят.
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.
Таракан гулял сорок лет за печью,
Вдруг да выгулял он на белый свет.
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.
Увидал таракан в лохани воду:
— А не то ли, братцы, море синее?
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.
Увидал таракан, из чашки ложками хлебают:
— А не то ли, братцы, корабли бегут?
Корабли бегут, на них гребцы гребут?
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина…
Мужики-поморы в свободный час тоже запоют. Выйдет к океану человек сорок эких бородачей, повалятся на утес, заложат руки за голову и подымут на голоса песню богатырскую. А седой океан будто пуще загремит, затрубит, подпевать человеку примется. Кто это слыхал да видал, не забудет:
Ох, да во синем-то да во широком-то раздольице,
Ох, да подымалася погодушка немилостива.
А и плыли туры по синю морю,
Ох, да выходили туры на белы пески.
Ох, да им навстречу турица златорогая:
«Уж вы здравствуйте, туры,
Где вы были, что вы видели?» —
«А мы видели диво-дивное:
Не грозна туча затучилась
И не вихри в поле солеталися,
Ох, да подымался Батый с Золотой Ордой
И со всею своею силою несметною…»
На мурманских пахтах — утесах — гнездятся тысячи тысяч птиц: гагар, чаек. У зуйков особый промысел и статья дохода — собирать гагачий пух. Весной гагара сядет на каменный карниз, нащиплет у себя с груди пуху и в пух снесет яйца. Этот пух можно взять, гагара второй раз гнездо пухом своим выстелит. И второй пух можно собрать, гагара в третий раз нащиплет пуху. Этот пух нельзя тронуть: птица бросит все и навеки отсюда улетит.
Дома гагачий пух матери выпрядут на самопрялках и навяжут теплых платков, рубашек, колпачков, рукавиц.
Кроме пуху, собирают зуйки гагачьи яйца, большие, красивые, бледно-зеленые с крапинками. На вкус рыбой припахивают, не все любят.
И яйца брать, и пух собирать — промысел опасный. Скалы над океаном, как стены, стоят неприступны. Гнезда на узеньких карнизах, над глубокой пропастью, где кипит прибой. Как мухи по стене, ползают мальчуганы по утесам, через плечо мешок для пуху. И тут у гагар и чаек крику, стону, воплю — шума волн морских не слышно.
А дни — день за днем в работе, — как гуси, пролетают. Осень придет с темными ночами, холодными ветрами, и Мурман начнет пустеть. Летние гости — поморы поплывут на парусниках по домам.
Домой едучи, в праздную минуту удивляют зуйки кто как может. Вот что творят: на верхушке мачты есть шарик — клотик. Назначают состязание: кто повернется на клотике, тому приз. Ловкий парнишка доберется до верхушки, ляжет там животом на шпиль, раскинув для равновесия руки, ноги, и вскружится в такой вершине, на полном ходу корабля, при качке. Внизу, на палубе, героя ждет награда: баранка или копеечная конфетка. Иногда калач повесят на конец реи (пере-кладина у мачты), и зуйки один перед другим ползут по качающейся рее, добывают эту награду. Такие вырастут, ничего потом не боятся.
Множество поморов заезжало в Архангельск на сентябрьскую ярмарку. У города столько бывало кораблей, что волы не видно. Зуйки гуляют по архангельским улицам нарядные, в узорных вязаных рубахах или в синих матросках с шейными платками.
Якипажецка рубашка,
Норвецкой вороток;
Окол шеечки платок,
Словно розовый цветок!
Покончив дела в Архангельске, корабли плывут по деревням. Дома матери рады, сестры веселы. Собаки — Дружки, Бордики, Лыски, Копы — приезжим на грудь, скачут.
Миша Ласкин
Это было давно, когда я учился в школе.
Тороплюсь домой обедать, а из чужого, дома незнакомый мальчик кричит мне:
— Эй, ученик! Зайди на минутку!
Захожу и спрашиваю:
Тебя как зовут?
Миша Ласкин.
— Ты один живешь?
— Нет, я приехал к тетке. Она убежала на службу, велела мне обедать. Я не могу один обедать. Я привык.
на корабле с товарищами. Садись скорее, ешь со мной из одной чашки!
Я дома рассказал, что был в гостях у Миши Ласкина. Мне говорят:
— В добрый час. Ты зови его к себе. Слышно, что его отец ушел в дальнее плавание.
Так я подружился с Мишей.
Против нашего города река такая широкая, что другой берег едва видно. При ветре по реке катятся волны с белыми гребнями, будто серые кони бегут с белыми гривами.
Однажды мы с Мишей сидели на берегу. Спокойная река отражала красный облачный закат. С полдесятка ребят укладывали в лодку весла.
Старший из ребят кричал:
— Слушать мою команду! Через час всем быть здесь. Теперь отправляйтесь за хлебом.
И они все ушли.
Миша говорит:
— Это они собрались за реку на ночь. Утром будут рыбу промышлять. А домой не скоро попадут. Глупый ихний капитан не понимает, что если небо красно с вечера, то утром будет сильный ветер. Если говорить, они не послушают. Надо спрятать у них весла.
Мы взяли из лодки весла и запихали их под пристань, в дальний угол, так, что мышам не найти.
Миша верно угадал погоду. С утра дул морской ветер. Кричали чайки. Волны с шумом налетали на берег. Вчерашние ребята бродили по песку, искали весла.
Миша сказал старшему мальчику:
— Забрались бы вы с ночи на тот берег и ревели бы там до завтра.
Мальчик говорит:
— Мы весла потеряли.
Миша засмеялся:
— Весла я спрятал.
Как-то раз мы пошли удить рыбу. После дождя спускаться с глиняного берега было трудно. Миша сел разуться, я побежал к реке. А навстречу Вася Ершов. Тащит на плече мачту от лодки. Я не дружил с ним и кричу:
— Вася Ёрш, куда ползешь?
Он зачерпнул свободною рукой глины и ляпнул в меня. А с горы бежит Миша. Вася думает: «Этот будет драться» — и соскочил с тропинки в грязь.
А Миша ухватил конец Васиной мачты и кричит:
— Зачем ты в грязь залез, дружище? Дай я помогу тебе.
Он до самого верху, до ровной дороги, нес Васину мачту. Я ждал его и думал: «Миша только и глядит как бы чем-нибудь кому-нибудь помочь».
Утром взял деревянную парусную лодочку своей работы и пошел к Ершовым. Сел на крыльцо. Вышел Вася, загляделся на лодочку.
Я говорю:
— Это тебе.
Он улыбнулся и покраснел. А мне так стало весело, будто в праздник.
Мой отец был корабельный мастер. Однажды он строил корабль недалеко от города, и мы с Мишей ходили глядеть на его работу. В обеденный час отец угощал нас пирогами с рыбой. Он гладил Мишу по голове и говорил:
— Ешь, мой голубчик.
Потом нальет квасу в ковшик и первому подаст Мише:
— Пей, мой желанный.
Я всегда ходил на стройку вместе с Мишей. Но однажды я подумал: «Не возьму сегодня Мишку. Умею с кем поговорить не хуже его».
И не сказал товарищу, один убежал.
Корабль уже был спущен на воду. Без лодки не добраться. Я с берега кричу, чтобы послали лодку. Отец поглядывает на меня, а сам с помощниками крепит мачту. А меня будто и не узнает.
Целый час орал я понапрасну. Собрался уходить домой. И вдруг идет Миша. Спрашивает меня:
— Почему ты не зашел за мной?
Я еще ничего не успел соврать, а уж с корабля плывет лодочка. Отец увидел, что я стою с Мишей, и послал за нами.
На корабле отец сказал мне строго и печально:
— Ты убежал от Миши потихоньку. Ты обидел верного товарища. Проси у него прощенья и люби его без хитрости.
Миша захотел украсить место, где строят корабли. Мы начали выкапывать в лесу кусты шиповника и садить на корабельном берегу. На другое лето садик стал цвести.
Миша Ласкин любил читать и то, что нравилось, переписывал в тетради. На свободных страницах я рисовал картинки, и у нас получалась книга. Книжное художество увлекло и Васю: он писал, будто печатал. Нам дивно было, какие альбомы получаются у Миши из наших расписных листов.
Книги, и письмо, и рисование — дело зимнее. Летом наши думы устремлялись к рыбной ловле. Чуть зашепчутся весенние капели, у нас тут и разговор: как поплывем на острова, как будем рыбку промышлять и уток добывать.
Мечтали мы о легкой лодочке. И вот такая лодка объявилась в дальней деревушке, у Мишиных знакомцев. Миша сам туда ходил, еще по зимнему пути. Лодка стоила не дешево, но мастеру понравился Мишин разговор, Мишино желание и старание, и он не только сбавил цену, но и сделал льготу: половину денег сейчас, половину к началу навигации.
Отцы наши считали эту затею дорогой забавой, однако, доверяясь Мише, дали денег на задаток.
Мы с Васей ликовали, величали Мишу кормщиком и шкипером, клялись, что до смерти будем ему послушны и подручны.
Перед самой распутой зашли мы трое в Рыбопро-
мышленный музей. Любуемся моделями судов, и Вася говорит:
— Скоро и у нас будет красовитое суденышко!
Миша помолчал и говорит:
— Одно не красовито: снова править деньги на отцах.
Вздохнул и я:
— Ох, если бы нашим письмом да рисованием можно было заработать!..
Мы не заметили, что разговор слышит основатель музея Варпаховский. Он к нам подходит и говорит:
— Покажите мне ваше письмо и рисование.
Через час он уж разглядывал наши самодельные издания.
— Великолепно! Я как раз искал таких умельцев. В морском собрании сейчас находится редкостная книга. Ее надобно спешно списать и срисовать. За добрый труд получите добрую цену.
И вот мы получили для переписывания книгу стогодовалую, премудрую, под названием «морское знание и умение».
В книге было триста страниц. Сроку нам дано две недели. Мы рассудили, что каждый из нас спишет в день десять страниц. Трое спишут тридцать страниц. Значит, переписку можно кончить в десять дней.
Сегодня, скажем, мы распределили часы работ для каждого, а назавтра с Мишей Ласкиным стряслась оказия.
Он для спешных дел побежал к отцу на судно. У отца заночевал, а ночью вешняя вода сломала лед, и началась великая распута. Сообщения с городом не стало.
Люди — думать, а мы с Васей — делать.
— Давай, — говорим, — сделаем нашему шкиперу сюрприз, спишем книгу без него.
Так работали — недосуг носа утереть. Старая книга была замысловатая, рукописная, но вздумаем о Мише, и на уме станет светло и явится понятие. Эту поморскую премудрость втроем бы в две недели не понять, а мы двое списали, срисовали в девять дней.
Варпаховский похвалил работу и сказал:
— Завтра в морском собрании будут заседать степенные*, я покажу вашу работу. И вы туда придете в полдень.
На другой день мы бежим в собрание, а нам навстречу Миша:
— Ребята, я книгу разорил?
— Миша, ты не разоритель — ты строитель. Пойдем с нами.
В морском собрании сидят степенные, и перед ними наша новенькая книга. Миша понял, что работа сделана, и так-то весело взглянул на нас.
Степенный Воробьев, старичище с грозной бородищей, сказал:
— Молодцы, ребята! Возьмите и от нас хоть малые подарочки.
Старик берет со стола три костяные узорные коробочки, подает Мише, мне и Васе. В каждой коробочке поблескивает золотой червонец. Миша побледнел и положил коробочку на стол.
— Господин степенный, — сказал Миша, — эта кни-
га — труд моих товарищей. Не дико ли мне будет взять награду за чужой труд?
Этими словами Миша нас как кнутом стегнул. Вася скривил рот, будто проглотил что-то горькое-перегорькое, А я взвопил со слезами:
— Миша! Давно ли мы стали тебе чужие? Миша, отнял ты у нас нашу радость!
Все молчат, глядят на Мишу. Он стоит прям как изваяние. Но вот из-под опущенных ресниц у него блеснули две слезы и медленно покатились по щекам.
Старичище Воробьев взял Мишину коробочку, положил ему в руку, поцеловал всех нас троих и сказал:
— На дворе ненастье, дождик, холод, а здесь у нас благоуханная весна.
С тех пор прошло много лет. Я давно уехал из родного города. Но недавно получил письмо от Михаила Ласкина. В письме засушенные лепестки шиповника.
Старый друг мне пишет:
«Наш шиповник широко разросся, и, когда цветет, весь берег пахнет розами».
Морское знание
Отец мой всю жизнь плавал на судах по Северному океану. Товарищи у него были тоже моряки, опытные и знающие. Особенно хорошо помню я Пафнутия Осиповича Анкудинова. Он был уже стар. Когда собирался в гости, концы своей длинной седой бороды прятал за жилет.
Бывало, я спрошу его:
— Дедушка Пафнутий, вам сколько лет?
Он неизменно отвечал:
— Сто лет в субботу.
Отца моего Пафнутий Осипович иногда называл «Витька», или «Викторко». Я и пеняю отцу:
— Батя, у тебя у самого борода с проседью, какой же ты «Витька»?
Отец засмеется:
— Глупая ты рыба! Он мой учитель. Я в лодье Анкудинова курс морской науки начал проходить.
— Батя, как же он тебя учил?
— Мы, дитя, тогда без книг учились. Морское знание брали с практики. Я расскажу тебе о первом моем плавании с Пафнутием Анкудиновым. Ты поймешь, как мы учились…
— Пафнутий Анкудинов превосходно знал берега Новой Земли, где были промыслы на белого медведя, на песца. В эти дальние берега Анкудинов ходил на лодье — большом парусном трехмачтовом судне. На таком судне Анкудинов был кормщиком. Кормщику была «послушна и подручна» вся команда лодьи. Самым молодым подручным был я. Спутницей нашей лодьи всегда бывала лодья другого архангельского кормщика Ивана Узкого.
Однажды, возвращаясь с промысла, обе лодьи шли вдоль западного берега Новой Земли. Ветер с берега развел лихую непогоду. Наш кормщик успел укрыться в губу Пособную. Лодью Узкого стало отдирать от берега, и она потерялась из виду. Через четыре дня береговой восточный ветер сменился южным, «русским» ветром. Этот ветер держал нас в Пособной еще четыре дня. Русский ветер сменился ветром с севера. Тотчас Анкудинов подымает якоря, открывает паруса и отправляется искать Ивана Узкого.
Продолжая прерванный курс, Анкудинов опять шел вдоль берега. Поветерь была неровная. Временем накатывал туман. Мы убавляли паруса, шли тихо, по течению.
Я знал, что Анкудинов не пойдет домой, на Русь, без Ивана Узкого, и думал, что пойдем обыскивать все попутные заливы. Но кормщик наш подряд два дня и две ночи шел вперед, не обращая никакого внимания на берег, чуть видный сквозь туман. Я удивился еще больше, когда кормщик круто управил лодью в залив, ничем не отличный от пройденных. Не я один, и другие из команды говорили:
«Будто тебя, кормщик, кто за руку взял и повел в эту маловидную лахту»*.
Но, действительно, здесь, в этой лахте, Иван Узкий ждал Анкудинова.
Я удивился в третий раз, когда увидел, что нас ждали именно сегодня и Узкий с раннего утра велел готовить обед на тридцать человек, по числу команды двух лодей.
За обедом ученики Ивана Узкого говорят:
«Ты, Виктор, дивился на своего кормщика, а мы на своего. Как только мы забежали в эту лахту, Иван Узкий стал говорить, как по книге читать: „Мы сидим без дела здесь, Анкудинов тоскует там“. Дня через три кормщик говорит: „Сегодня Анкудинов выскочил из заключения и устремился к нам. То летит на крыльях, то ползунком ползет“. А вчера, в канун вашего прихода, высказал: „Завтра, в час большой воды*, можно ждать гостей“. Прямо как колдун читал по тайной книге».
Старшие обедали в молчании, и наш разговор был слышен. Иван Узкий рассмеялся и сказал:
«Кормщик Анкудинов, объясни моим ребятам наше колдовство».
Анкудинов стал объяснять:
«Как известно, мы в разлуке были десять дней. Первые четыре дня восточный ветер меня держал под берегом, а вас гонил открытым морем. В следующие четыре дня дул русский ветер. Он опять держал меня на месте, но вам позволил справить к берегу.
Как я, оставшись далеко, в Пособной, мог предугадать, где кинет якорь лодья Узкого?
Я знал, сколько верст в сутки могла проходить ваша лодья. За четыре дня, при ваших многотрудных обстоятельствах, вы сделали в направлении юго-запада четыреста верст. Этот счет мой сразу прекратился, когда ударил противный вам ветер с юго-запада. Немедленно, на всех парусах, вы устремились в берег.
Как мог я в точности определить место вашей стоянки?
Зная, что вы ушли на юго-запад и находитесь от Пособной на расстоянии четырехсот верст, я сообразил, какие бухты и заливы там имеются. А так как у меня и у Ивана Узкого один и тот же опыт, одни и те же мысли, я знал, что он выберет эту лахту.
Точно так же кормщик Узкий знал, что я в четыре дня берегового ветра, не двинусь из Пособной. Он знал, что и в следующие четыре дня дует ветер, не попутный для меня. В тот день, когда взялся северный ветер,
Иван Узкий сказал вам: «Сегодня Анкудинов выскочил из заключения».
Расстояние в четыреста верст, при попутном ровном ветре, можно одолеть за тридцать два часа. Иван Узкий учел, что за туманами мы шли без парусов, учел неровность ветра и для этих трудностей прибавил к нашему походу еще часиков двенадцать. Его расчет был точен.
День встречи и место встречи мы определили знанием ветра, знанием моря, знанием берегов, а не гаданьем и не колдовством…
На рассвете следующего дня лодьи Анкудинова и Узкого оставили Новоземельский берег и добрым порядком пришли домой, в Архангельск.
Новая Земля
Веку мне — «сто лет в субботу». Песнями да баснями, гудками* да волынками, присказками-сказками, радостью-весельем от старости отманиваюсь и людей от смерти-тоски отымаю. Архангельска страна, Двинская земля богатеет от моря. Угрюмо Студеное море — седой океан. И поморы, идучи на дальние промыслы, брали с собой на корабль песню и сказку.
Таковым-то побытом в молодые, давние годы подрядился я в двинскую артель идти на Новую Землю бить зверя и сказывать сказку в мрачные дни.
Из-за нас, мастеров-посказателей, артельные старосты плахами березовыми бились, дрались, боем отбивали, отымом отымали нас друг у друга.
Дула праматерь морская — пособная поветерь. Наша лодья от Двины до Новой Земли добежала в пятеры сутки. Зверя в тот год выстала несосветимая сила. Целое лето били тюленя, моржа, стреляли оленя. Такой задор одолел — гусли мои паутиной заткало, без них весело!
Осень пошла. Старики говорят: «Время обратно. На добычу задоримся, да кабы беды не дождаться!»
Здесь у ветров обычаи. Весной заведется ветер с юга — полудник. Очистит море от льда, угонит льдину на север, вдаль, в неведомый край, и держит льдину у полночи, в задвенной* стране. А осенью приходит день и час — полуденный ветер умолкнет. Волю возьмет ветер-полуночник. Погонит льдину обратно к Новой Земле. Смены летнего ветра на зимний не жди!
Вот этак с вечера спать завалимся: «Ребята, завтра домой непременно». А утро настанет — ветер вчерашний. Опять тебя так и подмывает: «Коли зверя-то, стреляй! Вей золото в клубок. Жёнок, невест с экой добычи в шелк и в бархат оденем!»
До бортов корабль нагрузили. Староста назначил час отхода.
Тогда артель раскололась надвое. Одиннадцать зашли на лодью. Мы, одиннадцать, толкуем свое: «Плывите, доставьте добычу домой. А за нами сюда другой кораблик немедля пошлите. Мы будем ждать, новый груз припасать. Сей год зима не торопится».
Староста нас и клял, и ругал. В последнюю минуту с нами остался:
— Я клятву давал вас, дураков, охранять! Слово дадено — как пуля стрелена. Твори, бог, волю свою. Вы с меня волю сняли.
Те убежали, мы опять промышляем, барыши считаем.
Прошла неделя, другая. Время бы за нами и судну быть. Тайно-то, про себя-то, тревожиться стали. На здвиженье* птица улетела. Лебеди, гуси, гагары — все потерялось. Полетели белые мухи; будто саван белый спустился. Тихо припало… Заболели сердца-ти у нас. Защемило туже да туже.
Как-то спросил я:
— Староста, почто ты с лодьи книги снес — Четьи-минеи*, зимние месяцы?
Он бороду погладил.
— Вдруг да кому, баюнок*, на Новой Земле зимовать доведется… Они нам за книги спасибо скажут.
— Староста, даль небесная над морем побелела. Это от снегов?
— Нет, дитя, от льдины… — И ласково так и печально поглядел мне в глаза. — А ты ладь, ладь гусли-ти. Ежели не на корабле, дак на песне твоей поедем.
Ночевали мы в избушке за горой. В пятую неделю ожиданья на заре пошел я к морю глядеть корабля. Иду и чувствую, что холодно, что ветер не вчерашний. Шапчонку сорвал, щеку подставил, а ветер-то норд-ост. полуночник… Ноги будто подрезал кто-то, присел даже. Однако усилился, вылез на глядень*. И море увидел: белое такое… Лед, сколько глазом достать, — все лед. Льдины — что гробы белые. И лезут они на берег, и стонут, и гремят. Жмет их полуночник-от… Воротился, сказываю. Только ахнули: месяц ждавши, с тоски порвались, а, каково будет девять месяцев ждать!
Помолились мы крепко, с рыданием, и зазимовали.
Староста говорит:
— Не тужи, ребята! Ни радость вечна, ни печаль бесконечна. Давайте избу на зиму налаживать.
Собрали по берегам остатки разбитых кораблей. Избу заштопали-зашили. Тут и снегом нас завалило до трубы. Сутки отгребались.
Стало тепло, а темно. И на дворе день потерялся: ночь накрыла землю и море. И в полдень и в полночь горят звездные силы, как паникадила.
Староста научил по созвездьям время читать, часы узнавать. В избе на матице* календарь на год нарезали: кресты, кружки, рубежи — праздники, будни, посты. Заместо свечи жирник горел денно-нощно…
Тут повадились гости незваные — белые медведи: рыбный, мясной запас проверить. В сени зашли, в дверь колотили; когтищами, будто ножами, свои письмена, по стенам навели. Мы десять медведей убили; семь-то матёрых. Перестали гостить. Они, еретики, пуще всего свистом своим донимали. В когти свистит столь пронзительно, ажно мы за сердце хватались.
Тут и всток-ветерок из-за гор приударил. По ветру льдина с камнем летела. По две недели мы за порог не ступали — как мыши в подполье, сидели. Счет дням по жирнику вели: приметили, сколько сала сгорит от полдня до полдня. Староста дышит мне: «Пуще всего,
чтобы люди в скуку не упали. Всякими манами ихние мысли уводи».
С утра мужики шить сядут, приказывают мне:
— Пост теперь, книгу читай. Да чтобы страх был!
Слушают, вздыхают… А оконце вдруг осветится
странным, невременным светом. Горят в небе сполохи, северное сияние. С запада оли* до востока будто река вся жемчужная, изумрудная свернется да развернется; то как бы руки златые по небу пойдут, перебирают серебряны струны…
Вечером ребята песню запросят. Староста строго:
— В песнях все смехи да хи-хи. Заводи, баюнок, лучше старину.
Сказываю Соловья Будимировича:
Из-за моря, моря студеного,
Выплывают корабли Будимировы.
Тридцать кораблей без единого,
Нос-корма по-звериному,
Бока взведены по-туриному.
А и вместо глаз было вставлено
По каменю было по яхонту,
Вместо бровей было прибито
По черному соболю сибирскому…
В пост на былину-старину разрешено, а уж как завыговаривает старинка про любовь да как зачнут мужики сгогатывать, так староста только головой вертит да руками машет:
— Ну, разлилась масленица, затопила великий пост!
Про Лира-короля слушать любили. По книжке у меня, было выучено.
— Ты, баюнок, мастер слезы выжимать. Поплачешь, оно и легче.
Был у меня в артели друг, подпеватель, Тимоша. Перед святками он замолчал.
Староста мне наказывает:
— Не давай ему задумываться!
Я заплакал:
— Тимоша моложе всех, что ему печалиться!
— То и горе. Стар человек, многоопытен — беды по сортам разбирает: это, мол, беда, это полбеды. А молодому уму несродно ни терпеть, ни ждать.
Я Тимошу отчаянно любил, жалел:
— Тимошенька, чем ты будешь зиму провожать, весну встречать? Давай сделаем гудок*.
На деревянную чашу натянули жилы оленьи, гриф из вереска — вот и гудок с погудальцем*.
Два коровьих рога, в чем иглы держали, то сопелки-свирели.
— Староста, нам до праздника надо сыгровку делать.
— Играть нельзя, а сыгровку можно.
«Во святых-то вечерах виноградчики стучат: виноградие красно-зеленое!»
В праздник всякий вечер ударим в гусли; запоет гудок девическим голосом, завизжат рожки. Учинится топот-хлопот, скаканье-плясанье. Зажиг от старосты пойдет: зачнет пудовыми сапожищами в половицы бухать, перстами щелкать, закружится…
У нас песни поют,
У нас гудки гудут.
Золотая труба трубит,
Переладец* разговаривает…
За старостой стар и млад, ажно ветер по избе. И Тимоша с нами. Только, я заметил, глаза у него блестели и губы рдели по-особому. Утром он не встал. И зачал наш Тимошенька таять, как снег.
Я обниму его, реву над ним:
— Тимошенька, не спи! Во снах тебя смерть схватит..
Он рассмехнется:
— Ты не отдавай меня смерти-то.
Нет, не укараулил я Тимошеньку, не сохранил, не уберег от смерти…
За Тимошей еще трое товарищей повалились в той же тоске. Сам староста перед ними в гудок играл и кружился. Все артельные попеременно плясали, смешили недужных. На Афанасьев день, января восемнадцатого, они рассмеялись и встали. Только Тимошеньку моего не мог я рассмешить… Положили его на глядень, откуда море видать. Графитной плитой накрыли и начертали:
Спит Тимоша-горожанин,
Ждет трубы архангеловы.
На Афанасьев-от день первый свет показался над Новой Землей. В полдень заря зарумянилась. Мы и ночник погасили на часок. На Аксинью-полузимницу* солнышко-батюшко как бы с красным фонариком прошло по горам.
В Сретеньев день* солнышка мы навидались. В полном лике оно над морем встало. Мы-то целовались, обнимались в охапку, по снегу катались, в землю кланялись солнцу-то красному:
— Здравствуй, отец наш родной, солнце пресветлое! При тебе теперь живы будем!
Да в землю ему, да в землю ему, солнцу-то красному.
Друг друга разглядываем:
— Ты, баюнок, обородател! А ты поседател!
— А это кто, негрянин черной?
— Ничего, промоюсь — краше вас буду!
И благовещенье, и пасху славить к морю выходили. В медные котлы звонили. Прогалинки ребячьими глазками в небо заглядели. Мох закудрявился. На радоницу в тысячу звонков-колокольчиков Новая Земля зазвенела — с гор ручьи побежали. На Егорьев день* гуся два, чайки две, гагары две прилетели, посидели, поглядели, поговорили — опять улетели. Передовые это были. На вешнего Николу* слышим сквозь сон: стон стоит на дворе. Выбежали — птица прилетела! И лебеди, и гуси, и гагары, и… все прилетели. Земли не видать, голосу человеческого не слышно. Лебедь кикает, гагара вопит, чайка кричит. Любо! Весело!
На Троицу в ночь будто орган заиграл, во вселенной будто трубы запели. Это ветры сменились. Ветры с полдня, южные, летние ветры ударили. Дрогнула льдина морская, заворотилась и ушла. Море по-всселому зашумело, волна разгулялась во все стороны света белого.
По горам шиповник зацвел. Березка, вся-то она ростом в аршин, притулилась за камешком, листочки по грошику, а тоже, как невеста, сережки надела. Тут и травочка маленька, и пчелка бунчит…
Мы, где это место увидим, падем на колени, руками охапим:
— Мать-земля благоцветущая! Мать сыра земля!
День тогда беззакатный стоит над Новой Землей, и ночи нет ни единого часу. А мы в солнечные-те ночи и сон и еду потеряли. Своих ждем, корабля ждем. Так и живем на берегу, на высоком-то гляденье. Так и едим глазами край-то морюшка, откуда кораблю быть…
Раз этак задремали о полдне. Вдруг староста кричит:
— Парус! Парус! Парус!
Подняло нас. Правда, парус! Да не один. Вон два кораблика, вон три соколика… Наши это! С Двины за нами идут…
Тут опять слезы. Только — ах! — сладкие это были слезы. Слаще их ничего не живет на земле.
Матвеева радость
На новой беломорской верфи расхвастались старые поморы, кто в жизни больше работы унес. Матвей Иванов Корельской сказывал:
— Родился я в Корельском посаде, на морском бережку. Отец был корелянин, мать русская. Род наш на Мурмане, у Семи островов, промышлял. Отец там и утонул. Матка стала поденщичать в людях. Года за два до смерти робить не замогла, по миру пошла и меня с собой повела.
Шести лет начал я скитаться по чужим дворам один-одинешенек. Лохмотья с плеч валятся, колени, в дыры выглядывают. О, горе сиротам! Каждому в глаза гляди, каждого надо бояться…
В такой маяте, в такой позоре и вырос. О празднике молодежь на улицу пойдет петь, гулять, играть, а я в лес побежу, чтобы моих трепков да грязи не увидели.
Весь я пристыдился. Так уж и привык, что мое счастье — дождь да ненастье.
Двенадцати годов ушел я на Мурман в зуйки. Ведь я не на смех родился. Работы я не боялся.
Три лета в зуйках ходил. Ушел па Мурман бос и наг, в три навигации стал на человека похож и голову поднял. Может, думаю, и я не хуже других.
И загорела у меня, у сиротины, душа в люди выбиться. Зачал я у вывозки, у выгрузки работу ломить.
У меня такой ум-от обозначился — нать* свое нажить.
Сверстные ребята наряжаются, а я убогой лопарской малицы не сменяю. Копейки, значит, выколачиваю. Молодой, а задорной стал; давно ли с сумой бегал, а, теперь задумал карбас, свою промысловую посудину, строить.
Нам, поморам, море- поилец, кормилец. Но море даст, что возьмешь. А чтобы взять, надо суденышко. Без своей посудины, хоть самой утлой, помор не добытчик, а раб богачу. Смала я это понял и терпеть не мог. Редкую ночь суденышко мое мне не снилось: вижу, будто промышляю на нем и рыбы- выше бортов.
Год за годом, двенадцать лет, медными копейками собирал Матюшка Корелянин, сколько нужно на карбас.
До тонкости у меня было все сосчитано, что возьмут за доски, за гвозди, за снасти, за работу. Насчет матерьяла с лонью* договорился, мастера в Коле нашел.
Люди строят к весне, а я, как деньжонки собрались, осенью построился. Карбас недолго сошить. Карбас работали, как именинницу сряжали. Я на работу как в гости ходил.
Время было к снегу, а молодой «хозяин» новым-то суденком подрядился триста пудов жита в Норвегу доставить. Моря бойся пуще осенью, а молодецкое сердце зарывчиво. Веку мне тогда стукнуло двадцать пять годов. Так бы карбас-то взял в охапку да пешком по водам бежал…
Погрузились. Поплыли океан-морем. Не доходя Тана-губы, пала несосветима, погодушка. Парус оборвало, мачту сломало, руль не послушался. Положило карбас вдоль волны, бортом воды зачерпнуло. Не поспели мешков выкидать, опружило кверху дном. Было народу пять человек, трое поспели за киль ухватиться, двоих отхватило прочь.
Сутки океан-батюшка нашим карбасом играл, как мячиком. Наигрался, в камни положил. Мы трое на гору выползли, а суденышко мое погибло. Я ноги и живот ознобил, идти не замог, послал товарищей объявить жителям, а сам еще двои сутки на этой горе волосы драл да рот открывал. Для чего я двенадцать лет силу складывал, недопивал, недоедал?! Прости, моя свобода..
Добры люди доставили меня на родину, в Корелу. От морской горькой погибели постигла меня болезнь. Ползимы день и ночь трясло, кабыть от морозу от большого, хотя на печке лежал. Одна вдова с молоденькой дочкой жалели меня, водились, как с родным. У них в избе я зиму огоревал.
Тут весна подошла. Лед из губы вынесло, дни заблестели.
Как-то хозяйка ушла карбас смолить. И вижу, на подоконник чайка села и закричала на меня по-своему: долго ли-де, мужик, бока править будешь?
Меня ровно кто на ноги поставил.
Вылез я на улицу, забрался на глядень и охнул: волны морские играют, шумят; стада лебединые под север летят, и облака небесные туда же плывут, и корабли белопарусные в ту же океанскую сторонушку… А свету! А солнца! А ветру!
И Матюшка Корелянин от болезни, как от сна, пробудился. Топнул ногой о камень да кричу:
— Остер топор, да и сук зубаст! Турью гору сворочу, а полечу в океан на своих крыльях! Да не на шнеке, а на шкуне!
Так я выздоровел. Опять, значит, работу, как бешеный, хватаю.
Часов шестнадцать подряд отработаю, сунусь отдохнуть, да как сдумаю, будто я на своем суденышке плыву и паруса, что снег, и я вольной промышленник, — дак и окутки в сторону, и постели прочь… И ночь не сплю, работу ворочаю.
Люди надо мной посмеиваются. «Пока, — говорят, — Матюша, твое солнце взойдет, роса очи выест».
Пожалуй, эта пословица не мимо дела. Работал я, в кабале у богатея. Главная-то отчего у нас кабала учинялась? Своего суденка нет — в ложке за море не поедешь. А у богача судно — да еще океанское, трехмачтовое. У него снасти из Норвегии да из Англин, у него все возможности…
Поморская земля нехлебородима; зима нас прижмет, вот и явимся к благодетелю: дай муки, дай хлеба, дай круп, дай денег, дай того-другого. Он добр, он даст в долг, чтобы летом у него на судах да на промысле отрабатывали.
Что же выходит? Товар-то свой по самой бессовестной цене поставит, а работу нашу оценит грошами. В одну навигацию зимнего долгу не отработаем, а другая зима подходит — в новые долги заберемся у того же хозяина. Одно остается петь:
Осудари наши,
Воля ваша!
Хоть дрова на нас возите,
Лишь не помногу кладите!
И то знай: этот твой хозяин — и единственный торговец на всю деревню. Кроме него, ни спичек, ни соли, ни мыла, ни аршина ситцу купить негде.
Теперь понимаете, как трудно копейку-то откладывать. А я откладывал. У меня, как звезда в ночи, как маяк в пути, свой-то кораблец, своя-то волюшка.
У какого дела надо втроем-вчетвером, я один берусь. Товарищи косо на меня глядят. Они на работе сидят, да лежат, да перевертываются, а я не могу тихо работать.
Чтобы люди дружны были, следует пить и других поить, а я над каждой копейкой трясусь, меня и не любят. Иродом зовут.
…Опять год за годом десять лет пробежало. Вижу, что не зря сказано: пока солнце взойдет, роса очи выест. Хозяину рубль, рабочему — нищие копейки; хозяин осенью в Архангельск едет бумажки на золото менять, а у меня те же медяки.
Тут я чуть было маленько с копыл не сбился.
Что такое, думаю: мне тридцать пять лет, а я не наряжался, не гуливал… Купил в Норвеге брюки клеш, синюю матроску с большим воротником, полотняну манишку, платок шейный шелковый и явился на родину, в Корелу. Парень я был высокий, плечистый, говорили, что и с лица красивый.
И… тут я большой шаг шагнул: женился на дочери той самой старухи, которая меня десять годов назад пожалела.
Женился и испугался: «О, зачем за себя баржу привязал? Мне ли гнездо разводить! Теперь не выбиться из бедности».
А пожил с Матреной и увидел в ней помощницу неусыпающую, друга верного. Она со мной заодно думу думала. При ней я на свои ноги начал вставать.
Я на Мурмане, жена дома, сельдь промышляет, сети вяжет, прядет, ткет, косит, грибы, ягоды носит. Матреша моя и мужскую работу могла. Тес тесала, езы* била, кирпичи работала…
Ребятишки родились — труднее стало. А Матреша, хоть какая беда, уж тихонько она сдумает, ладно скажет…
В шесть годов мы избу свою поставили. Вместе лес возили, стены рубили, вместе крышу крыли.
В эту пору я кинул якорь у Василия Онаньевича Зубова, нашей же Корелы у богатеющего купца: на Мурмане своя фактория*, промысловое оборудование, три шкуны, одна — что твой фрегат.
В море ли, на берегу ли работаю — все нет-нет да погляжу на чужие кораблики, как они плывут, брызги на стороны раскидывают. Погляжу да подумаю: «Ничего! Проведу и я свою борозду».
Деньжонки я усердно копил, а что строить буду не малую скорлупку, а заправскую шкуну, это я давно решил.
Семья в Корелах, я на Мурмане; что добуду, им оторву, остальное в кошель; на себя ни полушки. И кошель на груди носил.
Каждый рубль — что гвоздь на постройку моему желанному кораблю, каждым рублем я на волю выкупался сам и детей выкупал.
По праздникам на эту картину любовался. Любовался — не думал, не гадал, какая гроза над моей головой собирается.
Хозяин мой, Василий Зубов, в нас, в рабочих, не входил. Платит грошами, в зиму пропащей рыбой кормит — и ладно, думает, дородно им.
Покамест я у него в кулаке сидел, хоть и жужжал, да не рвался, он до меня ровным был. А как усмотрел, что Корельской на него встает, запосматривал на меня не мило.
Осенью, при конце промысла, не утерпел, скричал на меня при народе:
— Эй, любезный! Люди смеются, да и вороны каркают, будто кореляки собственные пароходы заводят. Ты не слыхал?
— Про людей не слыхал, — говорю, — может, и пароходы. А вот насчет шкуны я подумываю.
Он зубы оскалил:
— Подумываете? Ай да корельская лопатка! А по моему, спустить бы тебе на воду нищу коробку, с которой по миру бегал, а заместо паруса маткина нища сума. Экой бы корабль по тебе!
Это он меня да матерь мою нищетою ткнул…
Сердце у меня остановилось.
— Ты! Ты, который нас по миру с сумой пускаешь, ты сумой этой нас и укоряешь? Мироед! Захребетник мирской! Погоди, умоетесь вы, пауки, своею же кровью!..
Кругом народ, стоят молчат.
Уж не помню, чего я еще налягал языком; что было на сердце, все вызвонил. Хлопнул шапку о землю, побрел прочь.
Иду — шатаюсь, как пьяный. Сердце себе развередил.
Тут испугался: пожалуй, заарестуют меня. Урядник все слышал, он Зубову слуга… И до того мне Матрешку да ребят увидать захотелось!.. А мимо пристани гальот знакомого человека и плывет, в Ковду пошли. Ковда с Корелой рядом.
Взяли меня без разговоров. Ничего, что пассажир — без шапки.
Долгу за Васькой семь рублей с полтиной оставалось, я всего отступился.
Дома сельдь промышляю, а сердце все неспокойно. Не простит мне Васька Зубов. Через годик можно бы кораблик тяпать-ляпать, а тут как бы помеху какую Зубов не сунул…
Скоро и он сам домой пожаловал. Я мимо иду, он в окошко окликнул:
— Корельской, ты что, чудак, тогда от меня убежал? Кроме шуток: скоро ли шкунарку свою ладишь стряпать?
— Мне ведь не к спеху, Василий Онаньевич. Через год, через два…
Он воровски огляделся:
— Ну-ко, зайди в сени.
В сенях и шепчет:
— Хочешь, тебя со шкуной сделаю на будущую весну?
Я и глаза выпучил, а он:
— Ум у тебя дальновидный, ты опыт имеешь, практику знаешь. Пора, пора тебе, Матвей Иванович, в люди выходить.
Такой лисой подъехал. Я и растаял. Слушаю — как мед пью.
А Васька поет:
— Знакомый норвежский куфман* запутался в делах. Наваливает мне за гроши — за две тысчонки — новенький пароходик. А у меня деньги все в дело вложены. Денег нет. Ничего не решив с куфманом, поехал в Архангельск, а в Архангельске частная контора на упрос просит сосватать пароходик тысяч на восемь… Понимаешь, Матюша, — Васька-то говорит, — мы норвецкий пароходик и сбагрим им за восемь тысяч, а сами за него заплатим две. Барыш-то по три тысчонки на брата…
Я глазами хлопаю:
— Это кого же вы в братья-то принимаете?
— Как кого? Да тебя! Принимаю тебя, Корельской, в компаньоны. Тысячу рубликов я у себя наскребу. Тысчонку ты положишь.
Я заплакал:
— Не искушай ты меня, Василий Онаньевнч! Всего у меня капиталу семьсот семьдесят четыре рубля шестьдесят одна копейка.
— Давай семьсот семьдесят четыре рубля. Прибыль все одно пополам.
Я воплю:
— Дай до утра подумать!
Ночью с Матреной я ликую:
— Три тысячи барыша… Мне их в двадцать лет не выколотить. А тут сами в рот валятся. Три тысячи! Ведь это шкуна моя, радость моя, к моему берегу вплотную подошла: «Заходи, — говорит, — Матюша, берись за штурвал, полетим по широкому раздольицу…» Ох, какой человек Василий Онаньевич! Напрасно я на него обиделся!
Жена говорит:
— Может, так и есть. Только бумагу вы сделайте.
Утром сказываю свое решение Зубову, что согласен, только охота бумажку подписать у нотариуса. Он глазища опустил, потом захохотал:
— Правильно, Корельскои! Ты у меня делец!
Поехали на оленях в уезд. На дворе уж зима. Зубов к нотариусу пошел, долго там что-то вдвоем гоношили.
Потом меня вызывают. Чиновник бумагу сует.
А я неграмотный вовсе. Только напрактиковался чертить свою фамилию. Надо бы велеть прочитать, что в бумаге написано, а я где дак боек, а тут как ворона лесна.
Пакаракулил подпись, может, задом наперед, — и получил копию. Сложил Зубов мои денежки в сертук, во внутренний карман, и еще наказывает мне:
— Ты смотри, до времени языком не болтан и бумагу не показывай. Мы с тобой потихошеньку да поле-гошеньку.
Конец зимы Зубов в Колу на оленях уехал, оттуда хотел в Норвегу, а я дома поживаю в радужных мечтах. Барыши делю. Тысячи свои распределяю.
Началась навигация. Лето. Жена с ребятишками рыбешку добывает, а Матвей Корельской от компаньона телеграммы ждет.
Пришла весточка, что пароходик этот в Архангельске продан. Я телеграммы жду. И на Мурман это лето-я не пошел.
Весь распался что-то, весь поблек.
Жена уговаривает:
— Погоди ты падать духом. Мало ли какие в городах, в конторах да в банках, задержки. Может, Зубов и денег еще не получил.
А у меня сердце болит, в трубочку свивается.
Осень пришла, и Зубов домой прибыл. Приехал — ночью. Я с утра дорогого гостя ждал, обмирал.
В паужну* сам полетел.
Он разговаривает, расхохатывает, о деле ни слова. Может, думаю, семейные мешают? Шепчу:
— Мне бы с вами, Василий Онаньевич, по секрету…
А он на всю избу:
— Что? Какие у нас с тобой секреты?
— А дельце наше, Василий Онаньевич?
— У Василия Зубова с Матюшкой Кореляком дела?!
— А пароход-то!
— Что пароход? Скорее, Корельской! Мне некогда.
— Да ведь деньги-то у меня брали…
— Что? Я у тебя, у голяка, деньги? Ха-ха-ха!
Я держусь обеими руками за стол, все еще думаю — он шутит.
— Василий Онаньевич, бумагу-то нотариальную забыли?
— Какую бумагу?
— Зимой делали.
— Мало ли я зимой бумаг сделал! Неси ее и приведи писаря.
Слетал домой за бумагой, добыл писаря. А руки-то, и колени-то трясутся.
Зубов рявкнул:
— Читай Корельскому его бумагу!
Писарь читает:
— «Я, крестьянин такой-то волости, Матвей Иванов Корельской, сим удостоверяю, что промышлял на купца Василия Ивановича Зубова на обычных для рядового мурманского промышленника условиях. Договорную плату деньгами и рыбой получил сполна и никаких претензий не имею. В чем и подписуюсь.
М. Корельской».
Не хочу рассказывать плачевного дела! Две недели я без языка пролежал. Опомнюсь — клубышком катаюсь, поясом вьюсь. Мне сорок годов, я до кровавого поту работал — и все, все прахом взялось!
Всё отнял Зубов, оставил с корзиной…
Тут праздник привелся. Я вытащил у жены остатные деньжонки, напился пьян, сделался как дикой. Полетел по улице да выхлестал у Зубова десять ли, двенадцать ли рам. Меня связали, бросили в холодную…
После я узнал, что в тот же вечер мужики всей деревней приступили к Ваське Зубову, просили мои деньги отдать. Он от всего отперся.
— Пусть подает в суд. Вы ставаете свидетелями?
Мужики ответили:
— Не знаем, Зубов, не знаем, можно ли, нет ли на тебя в суде доказать. По делам твоим тебе давно бы камень на шею, безо всякого суда. Помни, Зубов, собачья твоя совесть, что придет пора, ударит и час. Мы тебе Матюшкино дело нарежем на бирку!
Спасибо народу, заступились за меня, не дали мне духом упасть. Я не спился, не бросил работать и после Зубова лихорадства*, только… радость моя потерялась, маяк мой померк, просвету я впереди не увидел. Годы мои далеко, здоровье отнято. Больше мне не подняться.
Да я бы так не убивался, кабы одинокий был. Горевал из-за ребят, из-за жены.
С воплем ей говорю:
— Ох, Матреша! Мне бы тебя в землю запихать да робят в землю, вот бы я рад сделался, что не мучаетесь вы!
Она рядом сядет, мою-то руку себе на голову тянет:
— Матюша, полно-ко, голубеюшко! Мы не одни, деревня-та как за нас восстала… Это дороже денег! Гляди, мужики с веслами да с парусами несутся: видно, сельдь в губу зашла, бежи-ко промышляй!
Однако я в море не пошел, поступил в Сороку на лесопилку.
Мужики ругают меня:
— Эдакой свой опыт морской под ногу Ваське хочешь бросить! Мало ли хозяев, кроме Зубова…
Все хозяева с зубами.
Доски пилю — в море не гляжу, обижусь на море. Сколько уж в сонном видении но широкому раздольицу поплаваю… Сердце все как тронуто. Я в Корелу не показываюсь, фрегата Васькиного видеть не могу.
Копейки, конечно, откладываю. Не на корабль — кораблем батраку Матюшке не владеть, — откладываю ребятам на первой подъем, чтобы не с нищей корзиной жизненный путь начинали. Дети мои зачали подыматься, об них мое сердце заболело. Боюсь, не хочу, чтобы дети к Зубовым в вечну работу попали.
После Зубовой беды еще пятнадцать лет я не отдыхивал ни в праздник ни в будни, ни зимой ни летом. Было роблено… Сердита кобыла на воз, а прет его и под гору, и в гору.
В одном себя похваляю: грамоте выучился за это время, читать и писать.
Матрешке моей тяжело-то доставалось. Ухлопается, спину разогнуть не заможег, сунется на пол:
— Ребята, походите у меня по спине-то…
Младший Ванюша у ей по хребту босыми ногами и пройдет, а старшие боятся:
— Мама, мы тебя сломаем.
Тяжелую работу работаем, дак позвонки-ти с места сходят. Надо их пригнетать.
Матрена смолода плотная была, налитая, теперь выпала вся. Мне ее тошнехонько жалко:
— Матрешишко, ты умри лучше!
— Что ты, Матвей! Я тебе еще рубаху стирать буду…
Пятнадцать годов эдак. Всю жизнь так!..
Что же дальше? Дальше германская война пошла… Два сына кочегарами на пароходе ходят, я на заводишке-дергаюсь; только и свету, что книжку посмотрю.
А потом — что день, то новость. В Петербурге революция, у нас бела власть. Про свободу сказывают, а Зубов в Учредительное собрание срядился.
Преполовилась зима девятьсот двадцатого года. В одно прекрасное утро бреду с завода, а в Сороке переполох. Начальники и господа всяких чинов летят по железной дороге, кто под север, кто под юг… Что стряслось?
— Бела власть за море угребла. Красна Армия весь Северный край заняла.
Наутро мне из Корелы повестка с нарочным — явиться спешно в сельсовет. Все как во сне. Бежу домой, а сам думаю: «Судно зубовско где? Красна власть отобрать посмела ли? Вдруг да Васька на меня из-за лесины, как тигра, выскочит…»
С женкой поздороваться не дали, поволокли на собранье. Собранье народа в Васькиных палатах идет вторы сутки..
Сажусь у дверей, меня тащат в президиум и кричат всенародно:
— Товарищи председатели! Матвей Иванов Корельской здесь!
Над столом красны флаги и письмена, за столом товарищи из города, товарищи из уезда. Тут и мое место. Васька бы меня теперь поглядел…
Шепчу соседу:
— Зубов где?
А председатель на меня смотрит:
— Вы что имеете спросить, товарищ Корельской?
Я встал во весь рост:
— Василий Онаньевич Зубов где-ка?
Народ и грянул:
— О-хо-хо-хо! Кто о чем, а наш Матюша о Зубове сохнет! О-хо-хо-хо!
Председатель в колокольчик созвоннл:
— Увы, товарищ Корельской! Оставил нас твой желанный Василий Онаньевич, усвистал за границу без воротиши.
— А судно-то егово? Это не шутка, трехмачтово океанско судно!
— Странный вопрос, товарищ Корельской. Вы — председатель местного рыбопромышленного товарищества, следовательно, весь промысловый инвентарь, в том числе и судно бывшего купца Зубова, в полном вашем распоряжении…
— Я?.. В моем?..
— Да. Вчера общее собрание Корельского посада единогласно постановило просить вас принять председательство во вновь организованных кооперативных промыслах, как человека исключительного опыта.
Я заплакал, заплакал с причетью:
— Я думал, мой корабль — о шести досках, думал, до погосту мое плаванье, а к моему плачевному берегу радость на всех парусах подошла: «Полетим, — говорит, — по широкому морскому раздольицу!» Сорок восемь годов бился ты, батрак Матюшка Корельской, в кулацких сетях, а кто-то болезновал этим и распутывал сеть неуклонно, неутомимо…
И чем больше реву, тем пуще народ в долони плещут да вопиют:
— Просим, Матвей Иванович! Просим!
Ну, и я на кого ни взгляну, слезы утирают. И вынесли меня на улицу и стали качать:
— Ты, Матвеи, боле всех беды подъял, боле всех и чести примай!
…Кому до чего, а кузнецу до наковальни: запустил Зубов, до краю заездил свой фрегат — и я по уши в ремонт ушел. Сам с робятами лес рубил для ремонта, сам тесал, сам пилил. Сам машину до последнего винта разобрал, вычистил, собрал. Сам олифу на краску варил. Перво охрой сплошь грунтовал, потом разукрасил наше суденышко всякими колерами. До кильватера — сурик, как огонь, борта — под свинцовыми белилами, кромки — красным валом, палубу мумией крыл по-норвецки, каюты — голубы с белыма карнизами.
Обновленный корабль наименовали мы «Радостью». На носу, у форштевня, имя это навели золотыми литерами: «Радость». И на корме надписали: «Радость. Порт Корела».
За зиму кончил я ремонт. Сам не спал и людям спуску не давал. В день открытия навигации объявили и нашу «Радость» на воду спутать. Народушку скопилось со всего Поморья. Для народного множества, торжество на берегу открылось.
Слушавши приветственны речи, вспомнил я молодость, вспомнил день выздоровления моего после морской погибели… Сегодня, как тогда, чайка кричит и лебеди с юга летят, как в серебряны трубы трубят, и сияющие облака над морем проплывают. Все как тридцать пять годов назад, только Матюшка Корелянин уж не босяком бездомным валяется, как тогда, а с лучшими людьми сидит за председательским столом. Я уж не у зубовского порога шапчонку мну да заикаюсь, а слово взявши, полным голосом всенародно говорю:
— Товарищи! Бывала у меня на веку любимая пословка: «Ничего, доведется и мне, голяку, свою песенку спеть». Вы знали эту мою поговорку и во время ремонта, чуть где покажусь, шутили: «Что, Матвей Иванович, скоро свою песню запоешь?»
Я отвечал вам: «Струны готовы, недалеко и до песни».
И это не я пою — моими устами тысячи таких, как я, бывших голяков, поют и говорят…
Двенадцати годов я начал за большого работать. В двадцать пять годов ударила меня морская погибель. Сорок пять лет мне было, когда меня — Зубов в яму пихнул. Шестьдесят лет мне стукнуло, когда честная революция надунула паруса купецких судов не в ту сторону и подвела их к бедняцкому берегу. Наши это корабли. Все наше воздыхание тут. Каждый болт — наш батрацкий год. Каждая снастиночка нашим потом трудовым просмолена. Слушай, дубрава, что лес говорит: теперь наша Корела не раба, ейны дети — не холопы! Уж очень это сладко. Не трясутся наши дети у высоких порогов, как отцы тряслись; не надо им, как собачкам, хозяевам в рот глядеть.
Уж очень это любо!
Мое сказанье к концу приходит. Ныне восьмой десяток как на свете живу. Да годы что: семьдесят — не
велики еще годы. Десять лет на «Радости» капитаном хожу.
Как посмотрю на «Радость», будто я новый сделаюсь, как сейчас из магазина. При хозяевах старее был.
Оногды земляная старуха, пустыньска начетчица, говорит мне:
— Дикой ты, старик, — все не твое, а радуиссе!
А я ей:
— Дика ты, старуха, — оттого и радуюсь, что все мое!
В относе морском
Про нашу жизнь промысловую послушаешь, так удивишься, удивишься и устрашишься. Расскажу про себя, про сынишку моего и про брата, как мы на промысел пошли и в какую беду попали.[3]
Беды терпеть да погибнуть помору не диво. Море — измена лютая. Спроси того-другого робенка в Поморье: «Где тата?» Скажет: «Вода взяла».
Море нас поит, кормит, море и погребает… А мы вот от морской напасти спаслись, и таким ли дивом спаслись, так всю жизнь на другую сторону повернуло.
Мы — Белого моря, зимнего берега народ. Коренные зверобои-промышленники, тюленью породу бьем. В тридцатом году от государства предложили промышлять коллективами. Предоставят-де и ледокольный пароход, и с самолетом.
Условия народу были подходящи. Зашли кто в артель, а кто на ледокол.
А я да брат старший Егор Иванович не то что на ледокол, а из своей артели убежали.
Сынишко мой Олександр в колхоз бы любил, да отчишку с дядей перечить не посмел.
Стретьева дня дождались: стали флюгера полунощник-ветер сказывать, норд-ост. Зачали наши деревни на промысел снаряжаться. Тюленьи женки в эту пору детей народят, стада звериные на отдых повалятся, и это богатство полунощник к нашему берегу на льдинах притянет.
Мы, значит, втроем срядились. Лодочку доспели на креньях*, погрузили дровец, хлеба, котелок, пики, обулись, оделись по-промысловому, с племенем простились и поволоклись.
Сутки берегом шли, други сутки принаем береговым. На льду и огонек разведем, поедим и выспимся, лодочкой накрывшись. Путь вороны казали: на зверя же летели. На третий день береговой лед кончился, пошла раздельная льдина. Беда беду родит — встречу полу-нощнику из-за горы побережник-ветер выскочил. Зачали друг другу в лицо мокрым снегом плевать.
Опасен в ату пору побережник, он лед от берега отдирает, нашего брата в море уносит…
Остановились, глядим на своего юровщика*:
— Егор Иванович, что велишь?
Он шапку снял, ветер пытает, то ту, то другую щеку подставит. А ветер явно с горы, в спину. И Егор командует:
— Заворачивай обратно! Сей день напромышлялись.
А Олексишко забежал на торос на высокой и вопит:
— Дядя! Татка! Юрово! О, коль велико!
Мы охотники природны. Петухом сердца-ти запели. Выстали на льдину, а в полуверсте зверя-то — как дров! И любо на них глядеть: посередине матки лежат с робятами. Как бабы в бане, гладят их, моют, плавать учат. Ежели ребенок капризит, мамка его и круто на, море роет. Кругом, как стена нерушима, ограда крепка самцы-лысуны…
— Егор Иванович, что велишь?
— Играть давайте!
Значит, надо нам зверины ухватки принять, зверем притвориться. Он нас видит, пущай на своих думает.
Лезем на юрово, по душу его морскую, рукавицами гребем, задом подхватываем, головами покачиваем — как есть тюлени! Спину ломит, колени отпали, а любо это и весело!..
Вот мы приехали. Душина от них! Глядят, говорят меж собой, что-де ихнего полку прибыло… Тут мы прянули на зверя, как волки. Пика свистнула, да кровь пробрызнула. Песню поморским обычаем запели:
Сила земна,
Сила водяна,
Земна толщина,
морска глубина!
Зверь идет,
Зверя ведет!
Четыре ветра,
Четыре вихря.
Ходит сила
Из жилы в жилу.
Зверь идет,
Зверя ведет!
День с ночью,
Медь с кровью.
Стрела калёна,
Тетива шелкова.
Зверь идет,
Зверя ведет!
Тюлень упал, и другой — твой, и третий опрокинулся. Любо это и весело. Зверь ревет, мы поем, охота нами овладела. Знай железо блестит, кровь свистит, да туши ложатся…
И тут как пологом побоище завесило, снег стеной повалил.
Опомнились:
— Егор Иванович, что велишь?
А ветер-от с горы да с горы. Не знаем, когда он полунощника одолел. И льдина под ногами завизжала, не любит тоже в море идти.
Егор кричит:
— Кидай все, попадай к горе на пиках!
Не бежим — летим. И чуем — не стоит лед-от, гонит его разбойный ветер. Полынью перемахнули, другу перескочили — и аминь… Поперек разводье легло велико, широко, как река. Вода чернил чернее, а мы бумаги белее. Где стояли, тут и пали. Конец нам…
И мой Олександр затрясся и меня с дядей — черной бранью… Последнее слово кинул:
— Пошто с народом не пошли? От людей бы нас унесло — телеграмм бы наподавали на ледокол, по маякам!
Егору нельзя духом падать, он юровщик.
— Еще не ревите, еще не конец! Буде во своем море останемся, всяко нас к тому ли, к другому берегу прикачает.
До вечера ни единым словом меж себя не перещелконули.
Ночь передремали, утром по окольным льдинкам с полдесятка зверя нашли убитого, тюленины пожевали: душная она, рвало нас. Заместо воды — снег. А тюленьи тушки — и постель и окутка.
На другой день показало Летние горы.
Лодкой достали бы берега, а лодка ведь на берегу осталась.
На третий день мы наревелись — желанненьки Зимние горы в глазах были. Чалились мы за лед, всяко к берегу прибарахтывались. Да где тут…
Потом трои сутки — лед, да небо, да вода. Лед, да небо, да вода… Всего семь дней, семь ночей в Белом море кружило.
Дале туманами шли сутки, не знали где. А ночь привелась звездна, по звездам прочитали, что шествие льда — на полночь, в океан. Опять Олексишко воет, опять на меня тоска, опять Егор утешает:
— Еще не тужите, еще не конец, еще не смерть! Па свету Горлом* пойдем, должны нас с маяков оприметить.
Утро серое взялось со снегом. Влево Лопский берег чернел. Мы до сумерек кричали. На пику рубаху повесили, махали. Никто не услышал, никто не увидел. Только нерпы в воду булькают. Брат лысуна заколол, в распоротом брюхе ноги грели.
Мы с братом каждый про себя знали, что чем скорей замерзнуть, тем бы краше, но ради парнишки показывали вид надежды.
В Горловине заторами неволило нас пять ден. А лед мелок, не несет человека. Беда беду родит: ноги натекли, у рук персты опухли, с тюленины душу воротит, знобит, — все бы спал. Докучаю брату:
— Это конец. Цинга пришла, черна смерть…
Он как стукнет меня по шее:
— Это простуда! Еще не смерть, еще не конец!
На двенадцатые сутки бедствия вынесло нас в Ледовитый океан. А нам все одно — только бы крепче заснуть. И уснули бы вечным сном, да двинуло торосом становым. Наша льдина лопнула. Тут разбудились, прянули на ноги.
— Е гор Иванович, что велишь?
Он огляделся: во все стороны развеличился океан-батюшко…
Снял наш кормщик шапку и выговорил:
— Брат, племянник! Смерточка пришла!..
Подает из сумки сверток мне, парню, себе:
— Хранил для торжественного дня. Сей день приходит.
Развертываем. У каждого рубаха смертная долгая, саван с куколем, венец на голову, лестовка полотняная.
Я заплакал, кланяясь:
— Благодарствую, братец Егор Иванович, что подумал да позаботился, срядил нас в жизнь бесконечную.
А Олександр недоумевает:
— Дядя, разве ты знал, что мы помрем?
Брат говорит:
— Дитя, вековечной это поморской обычай — смертную одежду в море брать.
Умылись мы, волосы, бороды расчесали, обрядились в рубахи, в саваны, в венцы. Поклонились под южной ветер в родиму сторонушку, с желанными простились…
Великим падежом нал Олексишко да запричитал:
— Мила моя мамушка, знаешь ли, что сына во гроб наладили? Желанна невеста Катенька, осталась у нас с тобой игра не доиграна! Дорогой подруг Герман Олегович, песенка наша не допета!..
Обычай родительский — детищу своему жизни, здоровья хотеть, а я тогда сыну одинакому* смерточки скорой молил. Стали мы друг другу в очи глядеть на последнее прощание. Нагляделись, тогда — обычаем мертвых — глухо заокутали себе лица саванным наголовьем. Легли. И учало нас затягивать в смертные сны.
Часы прошли или минуты, услышал я звон явно, близко. Говорю:
— Брат, слышишь звон?
Он как со сна:
— Это тебе к смерти, брат. Помирай дале.
Дале я забылся… да вдруг в самые уши гремит, гудит!.. Дрогнул я, сдернул кукуль, а над головами-то… аероплан!!! Не блазнит* ли? Не привиденье ли? Нет, кружит, трещит… Схватил я пику, машусь да реву:
— Пособите! Пособите!
И парнишко мой:
— Батюшки миленькие, пособите!
А оно скружило над нами два накона и потерялось… О, горе взяло! Лучше бы не казался, надеждой не манил.
Эту ночь наборолся я с Олександрушком моим.
Кричит:
— Дядя или тата, заколите меня пикой!
Топиться лез. И бил я его, и обнимал, и опять бил, и плакал над ним.
А о полдень, как рог серебряный, запел над нами аероплан.
Мы скакать, мы реветь:
— Помогите!.. Пособите!..
Что же далее?.. Кружит машина ниже да ниже, да надлетела над нами и выронила посылку.
Мы опять:
— Товарищи! Возьмите нас!
Они не слышат. Улетели птичкой.
Посылка в воду пала, пикой добыли. Там консервов две коробки, в каждой фунта по три, сухарей кил пять, мазь какая-то, морошки банка. Вот сколь люди внимательны, — морошечки послали! И письмо! Письмо сто раз на дню читали:
«Товарищи! Мы вчера оприметили вас и опять прилетели с ледокола, который подвигается теперь в вашу сторону. На аэроплан принять вас не можем для того что льдина мала для разгону. Но мы вас не оставим».
Ну, ожили мы, воскресли. Шабаш помирать-то. Хлебу рады, письму рады. Холоду опять оберегаемся, больших торосов хранимся, орудуем пиками сидя да лежа. Ногами уж так себе владели. Однако ждать да погонять — нет того хуже: разводьем плывем — боимся, что от парохода утеряемся: в затор попадем — тужим, что пароходу не пробиться.
Однажды как бы стрельбу услышали, еще машину чули. С той поры без отдыха блазнило: то дымом пахнет, то мотор стучит. Без дня неделю этак… Извелись!
В последнюю ночь сменной ветер пал. Торос на торос лезет, визгу, грому… Тут и свисток донесло, и дымом запахло. И метелица нас заносит. Остатню силушку собираем, чтобы не угаснуть.
Но как обутрело, тишина стала в мире, и мы головы подняли из-под снегу. Пароход стоит саженях во ста…
Обезумели от радости. Кричим, как на лошадь:
— Тиру! Тиру!
Да ползунком по льдинам-то. И с парохода нас увидали, свисток дали, трап спустили.
Пароходские нас под руки принять хотят, а мы «ура» кричим и им в ноги падаем.
По трапу сами взняться не могли, нас носком занесли. Тут раздели, тут в тепло положили, рому поднесли норвецкого. Сам капитан Владимир Иванович Воронин обихаживал за доктора. Он воспитывал нас и беспокоился нами, как отец родной.
Дён через десяток я с сынишком помогали, чем могли, на пароходе. Брат Егор до весны в Мурманской больнице немог. На другой год мы втроем на этот ледокол в коллектив зашли.
Всего погибали мы в относе морском восемнадцать дён. Семь дён в Белом море, пять дён в Горловине, шесть дён в океане.
Дедовы сказания
Любовь сильнее смерти
У Студеного моря, в богатой Двинской земле, жили два друга юных, два брата названых, Кирик да Олеша. И была у них дружба милая и любовь заединая. Столь крепко братья крестовые друг друга любили — секли стрелою руку, кровь точили в землю и в море. Мать сыру землю и синее море призывали во свидетели. Кирик да Олеша — они одной водою умывались, одним полотенцем утирались, с одного блюда хлебы кушали, одну думу думали, один совет советали — очи в очи, уста в уста.
Отцы их по любови морскою лодьею владели и детям то же заповедали. Кирик, старший, стал покрут обряжать, на промысел ходить, а Олеша прилежал корабельному строению.
Пришло время, и обоим пала на ум одна и та же дева Моряшка. И дева Моряшка с обоими играет, от обоих гостинцы берет. Перестали крестовые друг другу в очи глядеть.
В месяце феврале промышленники в море уходят, на звериные ловы. Срядился Кирик с покрутом, а сам думает: «Останется дома Олеша, его Моряшка опутает». Он говорит брату:
— Олешенька, у нас клятва положена друг друга слушати: сряжайся на промысел!
Олеша поперек слова не молвил, живо справился. Якоря выкатали, паруса открыли… Праматерь морская — попутная поветерь была до Кирика милостива. День да ночь — и Звериный остров в глазах. Круг острова лед. На льдинах тюленьи полежки. Соступились мужи-двиняне со зверем, учали бить.
Богато зверя упромыслили. Освежевали, стали сальное шкурье в гору волочить. На море уж отемнело, и снег пошел. А Олеша далеко от берега забежал. Со льдины на льдину прядает; знай копье звенит, головы зверины долу клонятся. Задор овладел. Старый кормщик и обеспокоился:
— Олеша далеко порато ушел. Море на часу вздохнет, вечерняя вода тороса от берега понесет…
Побежал по Олешу Кирик. Бежит по Олешу, ладит его окликать, да и вздумал в своей-то голове: «Олешу море возьмет, девка Моряшка моя будет». И снова крикнуть хочет и опять молчит: окаменила сердце женская любовь. И тут ветер с горы ударил. Льдина зашевелилась, заворотилась, уладилась шествовать в море, час ее пробил.
И слышит Кирик вопль Олешин:
— Кирик, погибаю! Вспомни дружбу-ту милую и любовь заединую!..
Дрогнул Кирик, прибежал в стан:
— Мужи-двиняне! Олеша в относ попал!
Выбежали мужики… Просторно море. Только взводень рыдает… Унесла Олешу вечерняя вода…
Того же лета женился Кирик, Моряшка в бабах как лодья соловецкая под парусом: расписана, разрисована. А у мужа радость потерялась: Олешу зажалел.
Заказал Кирик бабам править по брате плачную причеть, а все места не может прибрать.
В темную осеннюю ночь вышел Кирик на гору, на глядень морской, пал на песок, простонала
— Ах, Олеша, Олешенька!..
И тотчас ему с моря голос Олешин донесло:
— Кирик! Вспомни дружбу-то милую и любовь заединую!
В тоске лютой, неутолимой прянул Крик с вершины вниз, на острые камни, сам горько взопил:
— Мать земля, меня упокой!
И буде кто его на ноги поставил. А земля провещилась:
— Живи, сыне! Взыщи брата: вы клятву творили, кровь точили, меня, сыру землю, зарудили!
По исходе зимы, вместе с птицами, облетела Поморье весть, что варяги-разбойники идут кораблем на Двину, а тулятся за льдиной, ожидают ухода поморов на промысел. Таков у них был собацкий обычай: нападать на деревню, когда дома одни жены и дети.
И по этим вестям двиняне медлили с промыслом. Идет разливная весна, а лодейки пустуют. Тогда отобралась дружина удалой молодежи:
— Не станем сидеть, как гнус в подполье! Варяги придут или нет, а время терять непригоже!
Старики рассудили:
— Нам наших сынов, ушкуйных голов, не уговорить и не постановить. Пущай разгуляются. А мы, бородатые, здесь ополчимся навстречу незваным гостям.
Тогда невесты и матери припадают к Кирику с воплем:
— Господине, ты поведи молодых на звериные ловы! Тебе за обычай.
Кирик тому делу рад: сидячи на берегу, изнемог в тосках по Олеше. Жена на него зубами скрипит:
— Чужих ребят печалуешь, а о своем доме нету печали!..
Мужская сряда недолгая. На рассвете кричала гагара, плакали женки. Дружина взошла на корабль. У каждого лук со стрелами, копье и оскорд — булатный топор. Кирик благословил путь. Отворили парусы, и Пособная поветерь, праматерь морская, скорополучно направила путь…
Не доведя до Звериного острова, прабаба-поветерь заспорила с внуками — встречными ветерками. Зашумела волна. А молодая дружина доверчиво спит. Кирик сам у руля. И была назавтра Олеше година.
Студеное море на волнах стоит, по крутому взводню корабль летит. И Кирик запел:
Гандвиг— отец,
Морская пучина,
Возьми мою
Тоску и кручину…
В том часе покрыла волну черная тень варяжской лодьи. И варяги кричат из тумана:
— Куры фра? Куры фра?[4]
Кирик струбил в корабельный рог грозно и жалобно. Дружина прянула на ноги. И тянут лук крепко и стреляют метко. Поют стрелы, гремят долгомерные копья. Кирик забыл тоску и печаль, отдал сердце в руки веселью. Зовет, величает дружину:
— Мужи-двиняне! Не пустим варягов на Русь! Побьемся! Потешим сердца!..
Корабли сошлись борт о борт, и двиняне, как взводень морской, опрокинулись в варяжское судно. Песню радости поет Кириково сердце. Блестит булатный оскорд. Как добрый косец траву, косит Кирик вражеские головы…
Но при последнем издыхании варяжский воевода пустил Кирику в сердце стрелу…
Красное солнце идет к закату, варяжское трупье плывет к западу. Сколько двиняне празднуют о победе, о богатой добыче, друга — столько тужат о Кирике. Он лежит со смертной стрелою в груди, весел и тих. На вечерней воде стал прощаться с дружиной:
— Поспешайте на Русь, на Двину, с победною вестью. Оставьте меня и варяжское судно в благодарную жертву Студеному морю.
И дружина, затеплив по бортам жертвенной лодьи воскояровы свечи, с прощальною песней на своем корабле убежала на Русь.
В полночь вздохнуло море, затрепетало пламя свечей, послышался крик гусиный и голос Олешин:
— Здрав буди, Кирик, брате и господине!
Ликует Кирик о смертном видении:
— Олешенька, ты ли нарушил смертные оковы? Как восстал ты от вечного сна?…
Снова пронзительно вскричали гуси, затрепетали жертвенные огни, прозвенел Олешин голос:
— Я по тебя пришел. Сильнее смерти дружеская любовь.
Две тяжкие слезы выронил Кирик:
— Люто мне, люто! Я нарушил величество нашей любви!..
В третий раз гуси вскричали, как трубы огремели, колыхнулось пламя жертвенных свечей, и Кирик увидел крестового брата. Глядят очи в очи, устами к устам. И голос Олешин, что весенний ручей и свирель:
— Кирик! Подвигом ратным стерта твоя вина перед братом. Мы с тобой поплывем в светлый путь, в Гусиную белую землю, где вкушают покой души добрых и храбрых. Там играют вечные сполохи, туда прилетают легкокрылые гуси беседовать с мертвыми.
Там немолчно рокочут победные гусли, похваляя героев…
Завязалась праматерь морская — поветерь и взяла под крыло варяжский корабль, где Кирик навек позабыл печаль и тоску человеческую…
О былина, о песня, веселье поморское! Проходят века, а Двинская земля поет, поминает под гусли Олешу и Кирика.
Смерть не все возьмет-только свое возьмет.
Гнев
В двинском устье, на острове Кег, стоял некогда двор Лихослава и брата его Гореслава.
На Лихослава пал гнев Студеного моря. По той памяти место, где был «двор Лихославль», до сих пор называется Гневашево.
Лихослав был старший брат, Гореслав младший. Под рукою батьки своего, мореходца, оба возросли в добром промысле. Остарев, отец надежно отпускал сыновей к Новой Земле. Также неубыточно правили они торгу себя на Двине. Лихослава и Гореслава одна матерь спородила, да не одной участью-таланом наградила.
Гореслав скажет:
— В морском ходу любо, а в мирском торгу люто! Лихослав зубы ощерит:
Нет! В торгу любо, а в море люто.
Отец нахмурится и скажет Лихославу:
— Хотя ты голова делу, но блюдись морскому гневу. По смерти отца Лихослав отпихнул брата от лодейного кормила. Перешерстил* всю лодейную службу, ни в чем не стал с дружиною спрашиваться:
— Я-де на ваше горланство добыл приказ!
И лодейная дружина не любила Лихослава, но боялась его.
Люди ближние и дальние говорили Гореславу:
— Что ты молчишь брату? Зачем ты знание свое морское кинул ему под ногу? Разделись с братом. Батько дом оставил на двоих.
Эти речи Лихослав знает и зубами скрипит:
— Ай, братец! Костью ты мне в горле встал.
Таким побытом братья опять пришли на Новую Землю.
Добыли и ошкуя* и песца. Ждали попутных ветров, чтобы подняться на Русь. А Гореслав с товарищем еще побежал, на остатках, по медвежьему следу. И в этот час с горы пала поветерь, пособная ходу в русскую сторону.
Закружились белые мухи: снег лепит глаза. Гореслав и дружинник кинулись к берегу — берег потерялся из виду. И бежать грубо: в камне одну ногу сломишь, другую выставишь: и мешкать нельзя: знают, что в лодье их ждут и клянут.
А старший брат видит, что в берегах непогода, и скаредного своего веселья скрыть не может: «Я с тобой сегодня, братец, учиню раздел! Ты сам за своей погибелью пошел».
И Лихослав начал взывать к дружине:
— Сами видите, друзья, какое лихорадство учинил мой братец. Нароком он гулять отправился, чтобы меня здесь удержать да уморить. А что вы домой торопитесь, на это он плюет и сморкает.
Дружина смутилась. Некоторые сдались на эти речи. Но которые бывали в здешних берегах, те говорят:
— Непогода пала вдруг. Это здесь в обычай. Заблудиться может всякий. Надо в рог трубить и ждать. А не выйдут, надобно идти искать.
Кормщик затрубил в рог.
Лихослав освирепел:
— Ребята, у них затеяно с Гореславом против нас! Не поддадимся нашим супостатам!
Доброчестные дружинники говорят:
— Господине, это ты затеял что-то. А мы без хитрости. По уставу надобно искать потерянных до последнего изможения.
Лихослав кричит:
— Не слушайте, ребята! Они хотят вас под зимовку подвести. По уставу я ответчик за дружину. Не дам вас погубить. Они и в рог-то трубят — свои воровские знаки подают… Эй, выбирайте якоря! Эй, вздымайте паруса! Бежим на Русь!
В лодье вопль, мятеж. А погода унялась. Над землей, над морем выяснило. Гореслав с товарищем выбежали на берег и смотрят это буйство в лодье…
Лихослав управил лодью к морю, кормщик отымает управленье и воротит к берегу. Одни вздымают паруса, другие не дают.
Гореслав и закричал:
— Братцы, не оставьте нас! Доброхоты, не покиньте!
Лихослава этот крик будто с ног срезал: чаял, потеряется да околеет там, а он стоит как милый.
В злобе Лихослав забыл всю смуту в лодье. Он хватает лук и пускает в брата одну за другой три стрелы. Первая стрела, пущенная Лихославом в брата, утонула в море. Вторая жогнула Гореслава в голенище у бахил*. Третья стрела прошила рукавицу и ладонь, когда Гореслав в ужасе прикрыл глаза рукою.
Сказанье говорит, что, видя это злодеянье, оцепенели море и земля, окаменели люди в лодье. А Гореслав, добрый, кроткий, стал престрашен. Он грозно простер окровавленные руки к морю и закричал с воплем крепким:
— Батюшко Океан, Студеное море! Сам и ныне рассуди меня с братом!
Будто гром, сгремел Океан в ответ Гореславу. Гнев учинил в море. Седой непомерный вал взвился над лодьей, подхватил Лихослава и унес его в бездну.
Утолился гнев Студеного моря. Лодья опрямилась, и люди опамятовались. Дивно было дружине, что все они живы и целы.
Гореслав ждал их, сидя на камне, с перевязанной
рукой. Дружинники, от мала до велика, сошли на берег, поклонились Гореславу в землю и сказали:
— Господине, ты видел суд праведного Моря. Теперь суди нас.
Гореслав встал, поклонился дружине тем же обычаем и сказал:
— Господо дружина! Все суды прошли, все суды кончились. А у меня с вами нету обиды.
С этой дружиной Гореслав и промышлял до старости. Дружина держала его в чести, а он их — в братстве.
Братанна
Гандвик — Студеное море,
Светлое, печальное раздолье,
Солнышко в море уходит.
Вечерняя заря догорает.
Маменька помирает,
Сына и дочь благословляет:
Ухожу к заре подвосточной,
Ухожу к звезде полуночной.
Се тебе, милому сыну.
Промысел морской оставляю,
Отецкой лодьей благословляю.
Где руки отцовы трудились.
Туда и тебе, сыну, ходити.
Сестра тебе в материно место,
Братанна в доме хозяйка.
Мир тебе, доченька родная,
Речь у тебя не людская,
Да велика кротость-терпенье.
Велико по дому раденье.
Поживите, деточки, в совете.
А кто совет ваш нарушит,
Кляну того морем и землею!
Земля на того и море!
Услышь меня, синее море!
Поблюди моего милого сына.
Подроди* немую Братанну!
И солнышко закатилось,
Вечерняя звезда восходила,
Маткины очи затворила.
И днем поют попы-дьяки,
Ночью брат с сестрой плачут.
После этого быванья
Брат с сестрой зажили в совете.
Он в море пойдет — простится,
С промысла придет — доложится.
И брата Братанна хвалит,
По головушке его гладит.
Только речь у ней не постатейно.
Говоря* у Братанны непонятна.
А брата, как мать, жалеет,
День и ночь по дому радеет.
После этого быванья
Возрастные годы приходят.
Тут брат сестру не спросился,
Молодой женой оженился.
Глаза у ней с поволокой,
Роток у ней с позевотой.
Молодая жена Горожанка
Немую золовку невзлюбила,
Остуду в семье заводила,
Гарчит*, что лихая собака:
— Ахти, безголосая рыба,
Ахти, камбала криворота,
Оборотень деревенский,
За что тебе ключи и пояс?
Я тебя, дуры, не меньше!
Тебе надо мной не смеяться!
В зимнюю безвременную пору
Грубость Горожанка согрубила:
Лодейные паруса сгноила, Амбарному гнусу стравила,
Подвела на немую Братанну.
И брат на сестру в кручине,
А жену от брани унимает:
— Не твое дело, жена Горожанка,
Парусы — материны статки*,
Не твои, не мои нажитки!
Лютая зима окротеет,
Перед красным летечком смирится,
А людской-то злобе краю нету.
Злая жена Горожанка
В погодливо время, в распуту.
В глухую, безлюдную ночку
У Братанны ключи отвязала,
К лодейному прибегищу сходила,
Причальные цепи отомкнула.
Тут великая невзгода учинилась:
Лодью водой. повернуло,
Заторными льдами зажало,
Якори рвало самосильно.
Беда на Братанну упала —
Подвела на нее Горожанка
Воровским своим поклёпом и подмётом.
И брат на сестру опалился,
Тяжко на Братанну оскорбился.
Перестал с сестрой говорити,
К столу сестры не стал звати.
Не так-то жили при матке,
За одним столом, в одном хлебе…
После этого быванья
Горожанка на Братанну, как пес, гарчит,
А Братанна, как стена, молчит.
Знай горькие слезы проливает,
Их правой ногою заступает,
Чтобы не было брату укоризны.
И в ту пору, в то время
Горожанка младеня породила,
А злобы своей не отложила.
Коль матери любы дети!
Горожанка и о том не умилилась,
Пуще на злобу устремилась.
О празднике было о вешнем,
Недельный день осветился,
С промыслу хозяин воротился.
Дома у ворот поколотился.
Брата сестра услыхала,
Поскорёшеньку отворяла,
На шею желанному напала,
Птичкой воронкой кричала,
Кукушицей куковала.
И брат на сестру умилился,
Что камень от сердца откатился.
Недолга немая беседа.
Горожанка в окно усмотрела,
Пуще лютой змеи освирепела,
Что ровня она бешеной собаке:
Душегубное дело учинила:
Младеня из зыбки схватила,
Золовкиным ножом заколола,
Шибла золовке на постелю.
Выбежала к мужу космата,
В ногах закаталась безобразно:
— Увы тебе! Люто, люто!
Сестра твоя лиходейка,
Убила нашего младеня!
И отец видит страшное дело.
Затрясся, кабыть от морозу,
Пришла на него озноба люта.
Сгорстал сестру за руки,
Ей руки отсек по запястья.
Повисли ручки, как рукавички.
Этого страху мало,
Этой смерти недостало.
Своего убитого младеня
Брат сестре навязал на локти.
Выгонил сестру за ворота.
И почто с кручины смерть не придет,
С печали душу не вынет!
Боса, кровава, космата,
Без памяти Братанна ступает.
Светлого деничка не видит.
Не путем бредет, не дорогой
Черным лесом дремучим.
Белым мохом зыбучим.
Уж некуда Братанне деваться.
Ей бы заживо в землю закопаться!
Кабы мать-то земля расступилась,
Она живая бы в землю схоронилась.
И тут как свет осветило,
Как на волю двери отворило:
Развеличилось отеческое море
От запада до востока!
Тут волны, как белые кони,
Тут шум, как конское ржанье.
К камню Братанна припадает,
К морю кричит и рыдает:
— Батюшко море, кормилец.
Матка у нас помирала,
Морю нас поручала!
Батюшко синее море,
О тобою живу, помираю,
В лютый день припадаю!
Услышь меня, синее море:
Нет на земле упокоя,
Некуда деться от злобы! —
В камень немая припадает,
В море младеня простирает.
Море убогую слышит,
Море убогую видит.
Страшно стало у моря:
Гром, и облак, и сумрак,
Трубные звуки, и буря!
В бурях гора затряслася,
В море Братанна урвалася.
И море Братанну подхватило,
В бездонных пучинах огрузило.
Еще речью море говорило:
— Кто с морем в любви и совете.
Кому на земле управы нету.
Тому от моря управа.
Пригожается сердце морское
Ко всякой человеческой скорби!
И в ту пору, во то время
Диво славно и ужасно:
Пала Братанна в море.
Рученьки мертвы висели, —
Пала с мертвым младенем.
Пала нема, полумертва,
Встала цела и здрава.
Волнами ее подхватило,
В сердце морском переновило.
С костью кость сошлася,
С жилой жила свилася.
Дивны у моря угодья!
Руки целы и здравы.
Живой воды немая поглотила.
Запела и заговорила.
Выговаривает светло и внятно.
Поет постатейно* и красно:
— Мир тебе, синее море!
Слава морю до веку! —
А море, как лев, рыкает,
С младенем, как мать, играет.
И ожил дитя, засмеялся,
По-ребячьи в волнах заплескался.
Вышла Братанна из моря,
Как ново на свет родилась.
Она славу морю припевает,
На руках-то младенец играет.
Слава синему морю,
Мир тебе, сердце морское!
После этого быванья
Брата сестра вспомянула:
— Птичка бы я была, воронка.
Домой бы я полетела,
На окошечке бы посидела,
Брата бы я поглядела!
Дойду я до братнева дома,
Покажусь вдовой-побирухой,
По речам меня не признати,
По рукам на меня не подумать:
Я ушла безъязыка, безрука.
По-вдовьи Братанна повязалась.
Опоясалась по-старушьи,
Младенца в пазуху склала.
Сажей лицо замарала.
Солнце пришло на запад,
Белый день на закате.
К дому Братанна подходит.
В доме песня и плясня.
Говорит Братанна кухарке:
— Здравствуешь, тетенька-голубка!
Всё ли у вас по-здорову?
Что у вас за пир, за веселье?
Статны и внятны вопросы,
Сладки и светлы разговоры,
И кухарка Братанну не узнала.
— Здравствуй и ты, сиротинка!
А пляшет и поет Горожанка,
Этому дому лиходейка.
Брата с сестрой разлучила.
Нашу хозяюшку сгубила.
Ишь, собака, скачет да смеется,
А ей золовкина слеза отольется!
Уж Братанна ей не внимает.
Она в горницу гостину доступает.
Гости сидят за столами,
За яствами, за питьями.
Горожанка перед ними дробно ходит.
Золотым перстнем прищелкнет.
Серебряным каблуком притопнет.
А хозяин выше всех посажен.
Пуще всех хозяин печален.
Без сестры у него пиру нету.
А сестра стоит, поклоны правит:
— Здравствуйте, хозяин с хозяйкой!
Горожанка Братанну не признала:
— Уваливай, нищая коробка!
Здесь не монастырь, не поминки:
Господские песни да пляски!
Отвечает странница хозяйке:
— Тут-то меня и надо!
Я песни петь разумею.
Былинами душу питаю. —
Не туча с дождем прошумела,
Хозяин в углу отозвался:
— Садись-ка, тетка, на лавку,
Сказывай старину-былину,
Разгони мою тоску-кручину! —
В горнице говоря замолчала,
Странница младеня закачала,
Запела сама, заговорила:
— Маменька помирала,
Сына да дочь благословляла:
«Живите, деточки, в совете,
Сестра, обихаживай брата,
Будь ему в материно место.
Брателко, не обидь сестрицы.
К морю пойдешь — простися,
С моря придешь — доложися.
Клятвою вас заклинаю,
Во свидетели море призываю».
Тут вечерняя звезда восходила,
Маткины очи затворила.
И брат с сестрой зажили советно,
Однодумно они, однолично.
А сестра говорить не умела.
А горазда на всякое дело.
После этого быванья
Брат сестры не спросился.
Молодой женой оженился.
Молода жена Горожанка
Немую золовку невзлюбила,
Что дом приказан золовке,
А молодка у ней под началом.
Стало все не в честь да не в радость.
Все не в доброе слово.
Лихорадство Горожанка учинила:
Лодейные парусы сгноила,
Подвела под немую золовку…
Горожанка сделалась в лице переменна:
— Врака, врака, врака всё!
А брат слушает, дивится, а сам на сестру не подумал, что ушла нема и увечна: эта цела и здрава, в речах с ладка и успешна.
А странница сидит, как свеча горит.
Слово говорит, что рублем дарит:
— … Да… парусы в зиму сгноила.
И этой напасти мало,
Этой беды недостало.
Молодая жена Горожанка
Мужневых трудов не пощадила.
Промысловую лодью погубила.
Подвела на немую золовку
Ябедой, поклёпом и подмётом…
Горожанка опять зубы явило:
— Враки, враки, враки! Ябеду сказывает и врет!
А муж говорит:
— Не сбивай, со врак пошлин не берут.
Странница эта опять поет:
— …Да… промыслову лодью погубила.
И этой кручины мало,
Этого горя недостало.
Коль матери любы дети!
Горожанка дитя не пожалела:
Дитя свое заколола,
Золовкино сголовье зарудила,
Душегубством золовку уличила.
И брат сестре казнь придумал:
Без суда, без сыску, без управы
Руки сестре изувечил,
Навязал на локти младеня
И выгонил сестру за ворота…
Горожанка схватила со стены ловецкое копье да шибла в певицу. Муж копье перехватил на лету, бросил в угол, а сам заплакал:
— Правда, правда! И у нас то!
И опять стала тишина, только странница поет:
— …Да… выгонил сестру за ворота.
Побрела кровава, космата.
Шла, пришла на край моря
И к морю немая возопила.
Смерти себе запросила.
На море волны встали.
Как лист, земля затряслася
В море немая урвалася.
Как сноп, ее море носило
И в сердце морском переновило:
Была нема и увечна,
Стала цела и здрава,
Запели уста, заговорили,
Руки младеня подхватили.
В живой воде дитя заплавал.
По-ребячьи дитятко заплакал…
Дивны у моря угодья!
И бабой-старухой срядилась,
К брату на праздник явилась.
Братанна платок-то сдернула да сажу стерла. Больше слов не надо.
Брат сестру узнал, тут радость неудержимая. Упал сестре в ноги, целует ей руки, уста и очи, к сердцу жмет свое детище. А Горожанка заскакала собакой да прянула в окно, только пыль свилась в след. Больше Горожанку здесь никто не видал. Да и кто ее рад видеть!
И после этого быванья
Брат с сестрой зажили в совете.
Он в море пойдет — простится.
С моря придет — доложится.
А Братанна племянника хвалит. По головушке его гладит.
Дивны у моря угодья!
Слава сердцу морскому!
О кормщике Устьяне Бородатом
Чудские боги
Шел Устьян Бородатый на кочмаре с Двины к Печоре и за встречным ветром остался у Канской речки. Рядовые спросились сходить по морошку и вовремя вернулись. Весельщик Ладошка не пришел и к паужне. Устьян повелел струбить в рог. По рогу Ладошка вышел к судну. С палой водой кочмара уноровила взойти в море.
Еще берег не закрылся, от переднего корга проплакало по-гагачьи:
— Кык-куим! Я к бабушке хочу!
И от заднего корга отвылось — как бы гагара:
— Баба, нингад няна! Отыми у Ладошки!..
К ряду несхожий ветер погонил кочмару в береговую сторону.
Устьян выговорил:
— Чудской кудес! Весельщик, за что тебя назвали?
Ладошка пал дружине в ноги:
— Государи! Я занес на судно двух болванцев идольских. Бравши ягоды, я заблудился, набрел на халмеры, на погребенье. Тут кол одет в бабью малицу. Старуха сделана. В пазухе у ней болванцы, дети или внуки. Я их взял, принес на судно и запрятал в коргах. По той вере, что морскому ходу будет спех.
Ладошка плачется, а черная сила кочмару в берег тянет.
Якорь кинули, и Устьян кричит:
— Давай сюда болванов!
Ладошка сползал в судно и вынес две деревянные образины.
Устьян их излучинил топором и зажег на медном листе.
Из черного дыму вылетели с воем две гагары и пропали в тундре.
Тогда снялись с якорей, открыли паруса. Паруса надунул добрый ветер, и кочмара пошла своим путем.
Слово кормщика
Кормщик Устьян Бородатый стал на якорь в Нежилой губе. Дружина говорит:
— Не худо бы сбродить на мох, добыть оленя. Приелась соленая-то рыба.
Устьян говорит:
— Ступайте. Только не стреляйте важенку — матку с детенышем не убейте.
Вот дружинники стоят на мшистой горбовине с луками. Видят непуганых оленей стадо. Маточка оленья со своим теленком ходит ближе всех. Самолучший стрелец тянет лук крепко и стреляет метко, прямо в эту важенку. В тот же миг крепкий лук крякнул и переломился.
Дружинник ударил этими обломками о землю и сказал:
— Не сломался бы ты, мой гибкий, тугой лук, ежели бы не переступил я слово кормщика!
Русское слово
Шел Устьян Бородатый на промысел в летних судах. Встречная вода наносила лед. Тогда Устьяновы кочи притулились у берега. Довелось ждать попутную воду у Оленницы. Здесь олений пастух бил Устьяну челом, жаловался, что матерый медведь пугает оленей.
Устьян говорит:
— Дитятко, некогда нам твоего медведя добывать: вода не ждет. Но иди к медведю сам и скажи ему русской речью: «Русский кормщик повелевает тебе отойти в твой удел. До оленьих участков тебе дела нет».
В тот же час большая вода сменилась на убыль, и Устьяновы кочи тронулись в путь.
А олений пастух пошел в прибрежные ропаки, где полеживал белый ошкуй. Ошкуй видит человека, встал на задние лапы. Пастух, мало не дойдя, выговорил Устьяново слово:
— Русский кормщик велит тебе, зверю, отойти в твой удел. До оленьих участков тебе, зверю, дела нет.
Медведь это слово отслушал с молчанием, повернулся и пошел к морю. Дождался попутной льдины, сел на нее и отплыл в повеленные места.
Устьян и купец
Устьян стоял при море, у Двины, ждал попутных ветров сверху. К тому же острову пристало поврежденное погодами купеческое судно. Купец повыгрузил товар и с работными людьми отправил вверх, а Устьянова дружина стала поновлять бока купеческой лодье. Трудились за спасибо и за хлеб за соль. О деньгах разговору не было. Устьян готов был на отлет во всякий час, только бы сменился ветер. Дела у починки-поправки оставалось уж немного. Дружина конопатит да смолит… И ударил дождь. Устьян кричит:
— Ребята, повремените с делом! Не делайте по мокрому!
Работные скидали пеньковое прядево под лодью, а сами стали от дождя в укрытие.
Купец это увидел и прискочил к дружине с бранью:
— Вижу, только у питья да у еды вы мастера-то, а у дела только бы стоять да спать!
Устьян говорит с гневом:
— Ты на кого разъехался, купец? Мы тебя ничем: зовем и ни во что кладем: горланишь, а дела не смыслишь. Видишь, дождь валит! Судовой припас нельзя мочить: проку не будет.
Купец свое:
— Твоя дружина у меня вторые сутки по две выти в день пьет-ест! Велю работать, будь хоть потоп!
Устьян говорит:
— Хоть потоп? Ладно, будь потоп.
Устьян твердым шагом зашел на свое судно, взял рог и заиграл грозно и жалобно. На ответ далеко в море будто шум сшумел. На берег накатился взводень и смыл купецкую лодью. Купец опамятовался от ужаса и забегал на коленках вкруг Устьяновой лодьи:
— Господине, убавь воды! Господине, не сгуби мое суденко!
Устьян говорит:
— Это не от нас. А судно против ветра никуда не убежит. Гляди, волна несет его обратно.
Устьянова дружина поставила купцово судно на отстой. А сами с поветерью ушли в море.
Устьян и олени
Устьян шел берегом в становище, тянул промышленную снасть и чунку с хлебом. Увидел оленей-дикарей и скричал:
— Подойдите которые-нибудь!
Три оленя подошли. Устьян впряг их в чунку, и снасть положил, и сам сел. Куда повелел, туда побежали. Этот Устьян смолоду был знатлив.
Промысел оставит несоблюдно. Медведь-ошкуй подойдет, песец — понюхают и уйдут. Устьян хоть через месяц взять придет — все цело, неврежоно.
О кормщике Маркеле Ушакове
Русский Север долго хранил устную и письменную память о морской старине, замечательных людях Поморья. Сказания о морской старине бытовали в морском сословии Архангельска и передавались из поколения в поколение. Включенные в данный раздел рассказы являются художественным осмыслением слышанного и записанного мною в молодых годах, запечатленного в памяти от тех ушедших времен.
Примечательными представителями «поморских отцов» были Маркел Ушаков, Иван Порядник (Рядник), Федор Вешняков.
Маркел Иванович Ушаков (годы его жизни: 1621–1701) видится нам типичным представителем старого Поморья. Он имел чин кормщика и, кроме того, был судостроителем. С дружиной своей он жил «однодумно, односветно», поэтому и товарищи его были ему «послушны и подручны». Сведения об Ушакове и Ряднике взяты мною из сборника поморского письма XVIII века «Малый Виноградец». В начале двадцатых годов сборник этот принадлежал В. Ф. Кулакову, маляру и собирателю старины, проживавшему в ту пору в Архангельске. В рассказах я старался сохранить эпизодическую форму повествования и стиль речи поморского автора, избегая излишней витиеватости и славянизмов, сохраняя отблески живой разговорной речи того времени.
Мастер Молчан
На Соловецкой верфи юный Маркел Ушаков был под началом у мастера Молчана. Первое время Маркел не знал, как присвоиться к этому учителю, как его понять. Старик все делает сам. По всякую снасть идет сам. Не скажет: принеси, подай, убери.
Маркел старался уловить взгляд мастера — по взгляду человека узнают. Но у старика брови, как медведи, бородища из-под глаз растет — поди улови взгляд. Маркел был живой парень, пробовал шутить. Молчан только в бороду фукнет, усы распушит.
— Морж, сущий морж! — обижался Маркел.
Однажды Маркел сунулся убрать щепу около мастера.
Тот пробурчал:
— Что, у меня своих рук нету?
Маркела горе взяло:
— Что ты, осударь, мне все грубишь? Тебе должно учить меня, крошку, а не прыскать в бороду, как козел! Тебе неугодно, что я тут, и ты скажи, когда не угодно…
— Угодно, мое дитя. Угодно, милый мой помощник.
Тяжелая рука мастера нежно гладила непокорные кудри Маркела, старик говорил:
— Не от слов, а от дел и примера моего учись нашему художеству. Наш брат думает топором. Утри слезки, «крошка». Ты ведь художник. Твоего дела тесинку возьмешь, она как перо лебединое. Погладишь — рука как по бархату катится.
Наконец-то уловил Маркел взгляд мастера: из-под нависших бровей старика сияли утренние зори.
Рядниковы рукавицы
Между матерой землей и Соловецкими островами зимою ходят ледяные тороса. Ходят непрерывно, неустанно. Соловецкий трудник Ушаков водил суда меж лед бойко и гораздо.
Братия спросили:
— Чем тебя, Маркел, почествовать за экой труд?
Маркел ответил:
— Повелите выдать мне Рядниковы рукавицы.
Все удивились:
— Что за рукавицы?
Кожаный старец объяснил:
— Хаживал к игумену Филиппу некоторый Рядник— мореходец. Сказывал игумену морское знанье. И однажды забыл рукавицы. Филипп велел прибрать их: «Еще-де славный мореходец придет и спросит…» Сто годов лежат в казне. Не идет, не спрашивает Рядник рукавиц.
— Сегодня пришел и стребовал! — раздался голос старого Молчана. — Хвалю тебя, Маркел, — продолжал Молчан. — Не золото, не серебро — Рядниковы рукавицы ты спросил, в которых Рядник за лодейное кормило брался на веках, в которых службу морю правил. Ты, Маркел, отцов наших морских почтил. Молод ты, а ум у тебя столетен.
Маркел и стал хранить эти рукавицы возле книг. Надевал в особо важных случаях.
Из-за Рядниковых рукавиц попали в плен свеи-находальники.
Но расскажем дело по порядку.
Однажды в соловецкой трапезной иноки «московской породы» сели выше «новгородцев». «Новгородская порода» возмутилась. Маркел втиснулся меж теми и теми и так двинул плечом в сторону московских, что сидящие с другого края лавки «московцы» посыпались на пол.
Баталия случилась в праздник, при большом стечении богомольцев. Маркела в наказание за бесчинство и послали в Кандалакшу, к сельдяному караулу.
В безлюдное время, в тумане, с моря послышался стук весел и нерусская речь. Маркел говорит подручному:
— Каяне идут. За туманом сюда приворотят. Бежи в деревню! Нет ли мужиков…
…К Маркелу в избу входят трое каянских грабежников. Двое захватили его за руки, третий стал снашивать в лодку хлебы, рыбу и одежду.
Маркел стоит — его держат эти двое. Наконец третий, оглядев стены, снял с гвоздя заветные Рядниковы рукавицы.
Маркел говорит:
— Это нельзя! Повесь на место!
Тот и ухом не ведет.
Тогда Маркел тряхнул руками, и оба каянца полетели в разные углы. Вооружась скамьей, Маркел тремя взмахами «учинил без памяти» наскакивающих на него с ножами грабежников. Сам выскочил в сени, прижал двери колом.
Те ломятся в двери, а он стоит в сенях и слушает: не трубит ли рог в деревне?
И деревенские, как пали в карбас, сразу загремели в рог.
А в лодке еще трое каянцев. Вопли запертых слышат и дальний рог слышат. Один выскочил из лодки и бежит к свеям на помощь. С ним Маркел затеял драку, чтобы не подпустить к избе. Но рог слышнее да слышнее. Показался русский карбас с народом. В свалке один грабежник утонул. Пятеро попали в плен.
За такую выслугу Маркелу с честью воротили чин судостроителя.
Кошелек
На Молчановой верфи пришвартовался к Маркелу молодой Анфим, к делу талантливый, но нравом неустойчивый. Сегодня он скажет:
— Наш остров — рай земной. И люди — ангелы. А в миру молва, мятеж, вражда…
Завтра поет другое:
— Здесь ад кромешный, и люди — беси. А в миру веселье: свадьбы, колесницы, фараоны, всадники…
Молчан наказывал Маркелу:
— Ты поберегай этого Анфимку. Он тебе доверяется всем сердцем. И ты за него ответишь.
Маркел удивился:
— Значит, и ты, осударь, отвечаешь за меня?
— Да. Как отец за сына.
Как-то, за безветрием, стояло у Соловков заморское судно. Общительный Анфим забрался туда и всю ночь играл с корабельщиками в зернь и в кости. Днем на работе пел да веселился, вечером наедине сказал Маркелу:
— Маркел, я деньги выиграл. Хватит убежать в Архангельск. Пойдем со мной, Маркел. В Архангельске делов найдется.
Маркел говорит:
— Значит, бросить наше дело и науку, оскорбить учителя Молчана и бежать, как воры?
Анфим твердит свое:
— Не запугивайся, друг! В кои веки выпало такое счастье. Попросимся на то же судно, где игра была, и уплывем.
При ночных часах Анфим с Маркелом пришли к судну. С берега на борт перекинута долгая доска. На палубе храпел вахтенный. Маркел говорит:
— давай, Анфимко, деньги. Я зайду на судно, разбужу кептена, заплачу за проезд и позову тебя.
Сунув за пазуху кошелек, почему-то неуверенно перекладывая ноги, Маркел шел по доске… Тут оступился, тут бухнул в воду… Это бы не беда — Маркел через минуту выплыл, вылез на берег. Беда, что кошелек-то с деньгами утонул.
— Обездолил я тебя, Анфимушко! — тужил Маркел, выжимая рубаху.
— Я одного не понимаю, — горячился Анфим, — ты свободно ходишь по канату с берега на судно, а с трапника упал…
Простодушному Анфиму было невдомек, что Маркел в воду пал нарочно и кошелек утопил намеренно. Иначе нельзя было удержать Анфима от безумного намерения.
Ворон
Ходил Маркел по лопской тундре, брал ягоду-морошку. На руке корзина, у пояса серебряный рожок призывный. Ягоды берет и стих поет о тишине и о прекрасной Матери-Пустыне. А заместо тишины к нему бежит мальчик-лопин:
— Господине, не видал оленя голубого?
— Не видал, — говорит Маркел.
— О, беда! — заплакал мальчик. — Я пас оленье стадышко и уснул. Прохватился — оленя голубого нет.
— Веди меня к тому месту, где ты оленей пас, — говорит Маркел.
Вот они идут по белой тундре край морского берега. А под горою свеи у костра сидят, в котле еду варят.
— Они варят оленье мясо, — говорит Маркел.
— Нет, господине, — спорит лопин. — Я видел, у них в котле кипит рыбешка.
— Рыбешка для виду, для обману. Они кусок оленины варят, а туша спрятана где-нибудь поблизости.
И Маркел, отворотясь от моря, зорко смотрит в тундру. А тундра распростерлась, сколько глаз хватает. И вот над белой мшистой сопкой вскружился черный ворон. Покружил и опустился в мох с призывным карканьем.
— Там закопана твоя оленина, — сказал Маркел.
К белому бугру пришли, ворона сгонили, мох, как одеяло, сняли: тут оленина.
А свеи из-под берега следят за лопином и Маркелом. Как увидели, что воровство сыскалось, и они котел снимают, лодку в воду спихивают. А Маркел в ту пору приложил к устам серебряный рожок и заиграл. Свеи рог услышали, в лодку пали, гонят прочь от берега; только весла трещат — так гребут. Их корабль стоял за ближним островом. Так спешно удалились, что котел-медник на русском берегу покинули.
Этот котел Маркел присудил оленьему пастуху. Пастух не в убытке: котел-медник дороже оленя.
Художество
Маркел Ушаков насколько был именитый мореходец, настолько опытный судостроитель. В молодые свои годы он обходил морские берега, занимаясь выстройкой судов. Знал столярное и кузнечное дело; превосходно умел чертить и переписывать книги. Все свои знания Маркел объединял словом «художество».
Спутник и ученик Маркела, Анфим Иняхин, спросил Маркела:
— Когда же мы сядем на месте, дома заниматься художеством?
Маркел отвечал:
— Кто же теперь отнимет у нас наше художество? Художество места не ищет.
Маркел говаривал:
— Пчела куда ни полетит, делает мед. Так и художный мастер: куда ни придет, где ни живет, зиждет доброту (создает красоту).
У работы Маркел любил петь песню. Скажет, бывало:
— Сапожник ли, портной ли, столяр ли — поют за работой. Нам пример — путник с ношей. Песней он облегчает труд путешествия.
Ничтожный срок
Корабельные мастера и работные люди от пяти берегов Двинской губы собрались в Соломбальской слободе выслушать отчет своих выборных людей и воочию увидеть Лисестровскую верфь — любимое детище всех пяти берегов.
Собрались не в раз и не в час. Кого держала непогода, кто намелился, кого водило в лесах. Наконец скопились сполна. К началу собрания подоспел Пан-крат Падиногин, артельный стряпчий, отъезжавший в Поморье.
Выборные люди стали докладываться, всяк по своей части. Каждый из них тут же получал оценку своей деятельности. Григорий Гневашев докладывал:
— Я удоволил лисестровские анбары дорогим припасом, красным лесом. Хватит на два года при большом расходе.
Собрание спрашивает:
— За какое время ты управил это дело?
Григорий отвечает:
— Начал с осени, по первому снегу. Завершил с началом навигации.
Собрание говорит:
— Значит, девять месяцев. Срок немалый. Благодарим, но ничего выдающегося тут нет.
Петр Сухой Лоб докладывал:
— Я обеспечил Лисестровскую верфь столярским и плотницким струментом. Итого двести наборов. Вот что я доспел!
Собрание спрашивает:
— Сколько времени ты хлопотал?
— Сколько Гневашев, столько и я. Всю зиму этим беспокоился. Итого девять месяцев.
Собрание говорит:
— Что же… Ты исполнил свою должность. Но ни чего восхитительного тут нет… «Девять ден, девять верст, как сокол летел».
Докладчик Панкрат Падиногин спросил собрание:
— Известен ли вам художественный мастер и мореходец Маркел Ушаков?
Собрание отвечает:
— Ты бы еще спросил, известны ли нам отцы наши и матери! Мореходные и судостроительные чертежи Маркела Ушакова друг у друга отымаем.
— Я уговорил Маркела Ушакова принять во свое смотрительное руководство нашу Лисестровскую верфь. Придет сюда на постоянное житье. Но чтобы расположить Маркела, мне понадобился долгий срок…
— Сколь долгий? — спрашивает собрание.
— Девять лет…
Собрание, триста человек, как один, всплеснули руками, встали, закричали:
— Мало, совсем мало времени потратил ты, Панкрат Падиногин! Для столь полезного успеха девять лет — ничтожный срок.
Видение
Как-то Маркел с Анфимом жили в Архангельске. У корабельной стройки взяли токарный подряд. Маркел и жил на корабле, Анфим — в городе. Редко видя учителя, Анфим соблазнился легкой наживой-торговлей. Запродал даже токарную снасть. Маркел этого ничего не знает.
Но вот, рассказывают, пробует он маховое колесо у станка и видит будто, что заместо спиц в колесе вертится Анфимко Иняхин.
Опамятовавшись от видения, Маркел прибежал к Анфиму:
— Друг, с тобой все ли ладно?
— А что же, Маркел Иванович? — удивился Анфим.
— Ты сегодня в видении передо мной колесом ходил.
— Ужели? — простонал Анфим и заплакал: — Ты меня, отец, правильно обличил. Торговлишка меня соблазнила. Я задумал художество наше бросить.
Ушаков и Фома Кыркалов
Ушаково мастерство Маркелово было рассудительно и с любопытством, а не только по старым извычаям.
Ушаковские суда заморские обдуманы по чертежу. Лодья уж на воду спущена — мастер еще примечает, смекает и на догадку берет. Заботился, чтобы шито было прочно; беспокоился, насколько будет красовито на ходу, под парусами. Ушаков был ученик не худых учителей. И не хотел уважить иноземным кораблям. Однако их рассматривал испытанно, чая пользы своему любезному художеству.
Бывало, поручит Ушаков помощнику опробовать новопостроенную лодью, а сам выбежит на пристань, чтобы «из-под ручки посмотреть» на свое новорожденное.
Этак однажды привелся на пристани Фома Кыркалов[5], поздоровался с Маркелом и говорит насмешливо:
— Все ходишь, Маркел Иванович? Все любуешься на суда свои? Наглядеться, налюбоваться не можешь?…
— Нет, нет, Фома Онаньевич, — горестно и гневно отвечал Маркел. — Досадовать хожу, горячиться сам на себя хожу. Гляжу, ошибки свои считаю. Косность ума своего обличаю.
Кыркалов снял шапку и поклонился Ушакову в пояс:
— Когда так, Маркел Иванович, — ты настоящий, истинный художник!
Достояние вдов
Ушаков отлично умел делать модели кораблей. А приобучился этому в Соловецком монастыре. В монастыре не ужился: нрав имел строптивый и язык — как бритва.
Изба Маркела в Архангельске вся была заставлена маленькими кораблями. В долгие зимние вечера мастер сидел обычно на низеньком сосновом чурбане и при свете сальницы оснащал игрушечный корабль. Около Маркела всегда множество детей. Он любил рассказывать о своих удивительных путеплаваниях. В праздники Маркел ходил ругаться со всякими начальниками.
Приехавший с Петром Первым[6] знатный барин заказал Маркелу модель голландского корабля. Жена этого барина, увидев готовую модель, сказала:
— Мастер, не бери у мужа денег за эту игрушку. Я возьму их в пользу вдов и сирот.
Маркел отвечает:
— Не твое, сударыня, дело о бедняках печалиться.
— Ах ты пьяница! — вспыхнула барыня. — Я, слабая здоровьем, и то беспокою себя ради голодранцев…
— Нет, ты не слабая, — перебил Маркел. — Ты богатырка. Ты, сударыня, носишь на плечах достояние бесчисленных вдов и сирот. И не чувствуешь этого.
Плечи знатной барыни украшены были драгоценностями.
Долг
Молодой промысловец занял у Маркела денег на перехватку. Отдавать явился, а Маркел в море ушел. Так и побежало время: то Маркела на берегу нет, то у должника денег нет.
Оба встретились на Новой Земле. Хотя в разных избах, да в одном становище зимовали две артели. Маркел говорит:
— Что уж, парень, ни разу меня не окликнул?
Парень снял шапку:
— Не смею и глядеть на тебя, осударь. Должен тебе.
Маркел говорит:
— Провались концом! Какие меж нас долги?
— Хотя бы работой какой отработать дозволили, Маркел Иванович…
Маркел говорит:
— Ладно. Всякий вечер приходи в нашу избу. Дела найдутся.
На зимовьях народ поужинают да повалятся. Должник пришел к Маркелу. Маркел не спит, живет у книги при огне. Книга — азбука, писана и рисована художной ушаковской рукой. Маркел стал показывать гостю буквы. Часа два учились. Во столько-то недель детина понял все «азы» и «буки». Когда полная тьма накрыла Новую Землю, ученик вытвердил титла.
Время катится, дни торопятся, — сколько парень радуется науке, столько тревожится: «Когда же я начну долг отрабатывать?»
Когда свет завременился над Новой Землей, паря читал по складам. При конце зимы читал по толкам. Наконец, стал с пением говорить по книгам четкого Маркелова письма.
Маркел говорит:
— Ну, друг, дошла промышленная пора. Но ты всякий день урви хоть малый час для книжного чтения.
Ученик возопил:
— Благодарствую, Маркел Иванович! Ты мне бесценное добро доспел — книгам выучил. Но когда я долг-то буду отрабатывать? Маркел говорит:
— Сколько ты должен?
— Без двух гривен пять рублей.
Маркел говорит:
— Пускай так. Теперь считай: буквы ты учил — трудился. Значит, из твоего долга сорок алтын долой. Титла изучил — другие сорок алтын долой. Склады-слоги складывал — еще сорок алтын из долга вон. По толкам ты читал усердно — остальных сорок алтын отработал. Ты за эту зиму, дитя, сполна твой долг отработал. И больше ты мне ни о каких долгах не смей поминать.
Понятие об учтивости
Деревня Лодьма славна была изготовлением изящных корабельных моделей. Здесь подолгу живал Маркел Ушаков.
…Царский чиновник едет мимо ряда лодемских крестьян, сидящих на бревнах.
— Эй, борода! — кричит чиновник.
— Все с бородами, — усмехнулись крестьяне.
— Кто у вас тут мастер? — сердится чиновник.
— Все мастера, кто у чего, — отвечают крестьяне.
— Я желаю купить здешнюю игрушку — кораблик!
— За худое понятие об учтивости ничего не купишь, — слышится спокойный ответ.
Это сказал Маркел Ушаков, который по виду ничем не отличался от любого мужика-помора.
Маркел Ушаков и Василий Кекин
Любомудрые годы неутомленной старости своей Маркел провожал в Койде.
В это время молодой судостроитель в городе[7], Василий Кекин, добивался на учительный разряд.
Городовые мастера сказали:
— Домогаешься высокой степени. Но похвалит ли Маркел Иванович на Койде? Спросишь его. Мы ему писали о тебе.
Кекин в Койду прибыл. Старый мастер его встретил с усмешкой:
— Пишут о тебе: строишь карбасы, а корма-то розна. Еще не знаю, годишься ли в ученики. Возьми полено, сделай в образец лодейку.
Кекин сделал образец художно, с вымыслом. Старый мастер поморщился:
— Изукрашенье ни к чему. Отдай эту игрушку ребятишкам. Сделай проще.
Кекин сделал просто. Старый мастер говорит:
— Поживи да поучись на Койде года три. Хлебы мои, одежа твоя… Тебе любо ли, Василий Кекин?
Кекин говорит:
— Любо, Маркел Иванович! Хотя бы тридцать лет метлой стоять, только бы у ваших учительных дверей!
Это все Маркел испытывал Василия. Вскоре Маркел послал в город грамотку, к городовым мастерам на верфи. А следом пустил и Кекина.
В городе на верфях Кекина встречают честно; разрядные мастера сказали:
— Пишет о тебе Маркел Иванович: умеешь-де ты повиноваться и учиться. Знатно, что сумеешь и начальствовать.
Треух
Пристрастие Петра Первого к кораблям и к морю заставило Маркела Ушакова полюбить преобразователя России. По рекомендации Афанасия Холмогорского Маркел был вызван к корабельному строению на Неве и Ладоге.
Тут душа старого помора начала рваться на куски. Сочувствуя Петру, Маркел негодовал на преклонение перед Западом без разбору.
— Бывало, в северных морях иноземец русским в рот глядел, ждал слова. А теперь извольте стулом становиться под голландца или шведа!
На заседании «приказных господ и членов» произошел скандал. Ушаков вылез вперед, вывернул свой лисий треух наизнанку, поставил тульей себе на голову и сидит так, помавая лисьими хвостами. Все вытаращили глаза. Председатель прервал речь. В публике раздался шум и хохот.
Тогда Маркел Иванович стукнул кулаком о стол «и рек, аки гром грянул»:
— Иноземец всех нас кверху дном поставил. Всех на обезьянин лик поворотил. И это вам не дико. А я только то и сделал, что шапку свою навыворот надел, и все смутились, все оскорблены.
«Притворя себе болезнь», Маркел вернулся в Архангельск.
Вера в ложке
Ушаков и товарищи пришли в Сумский посад. Был праздник, и сумляне пригласили их к столу. Маркелов подкормщик говорит:
— Какой страх — со всеми есть и пить, а не знаем, кто какой веры! У меня и ложки с собой нет.
Маркел говорит:
— Какой страх людей обижать! В ложку ты свою веру собрал.
Пиво
Трое молодых ребят на лодье повадились тайно пробовать пьяное пиво, которое хранилось в бочке на случай праздника.
Маркел это заметил, позвал ребят к себе в казенку и говорит:
— Ребята, что-то вы поблекли. Чем вас развеселить? Или пивком угостить?
Ребята покраснели, как брусника, и старший выговорил:
— Прости, дядюшка Маркел Иванович. Вперед таковы не будем.
Ушаков и Яков Койденский
Маркел относился к делу своему и к людям страстно и пристрастно. Но людей тянуло к Маркелу, как железо на магнит. Где бы ни кидала якорь Маркелова лодья, везде являлись у него друзья и ученики. А потом оставалась незабытная память.
Маркел искал и находил людей, призванием которых было мореходство. За таких людей он полагал свою душу.
Когда Маркел пришел на Койду и срядился плыть на Новую Землю, в лодейную дружину вступил Яков Койдянин, подросток-сирота. В нем Маркел нашел ученика, потом и ревностного помощника в судостроении.
Старый мастер веселился сердцем и умом: есть кому оставить наше знанье и уменье.
Но хмель молодости начал разбирать верного Маркелова помощника. Яков стал одолевать Маркела неотступным разговором:
— Уйду в российские города. Здесь тесно.
— Яков, у Студеного ли моря тесно? Что ты будешь делать в городах? Не отпущу тебя. Погубишь мастерство, потеряешь и себя. Ты не вернешься сюда.
Яков говорит:
— Я вернусь сюда, если ты, мастер Маркел, пойдешь вместе со мной. С тобой и я вернусь. А не пойдешь со мной, останусь там.
И старый Ушаков, тревожась и болезнуя о судьбе талантливого ученика, оставляет свой дом, свой промысел и идет за Яковом неведомо куда.
Но скитались они недолго.
Однажды Яков пал мастеру в ноги с воплем и со слезами:
— Господин мой, доброхот мой! Непостижно велика печаль твоя обо мне. Не стою я тебя. Но если можешь ты простить меня, если в силах ты глядеть на меня, то вернемся в нашу Койду, к нашему светлому морю, к нашему доброчестному промыслу.
Как-то при людях Маркел почествовал Якова, назвав его мастером… Люди подивились:
— Столь молодого ты называешь мастером…
Маркел отвечал:
— Дела его говорят, что он мастер.
Кондратий Тарара
Слышано от неложного человека, от старого Константина.
У нас на городской верфи состоял мастер железных дел Кондрат Тарара. Он мог высказывать мечтательно о городах и пирамидах, будто сам бывал. Сообразно нрав имел непоседливый и обычай беспокойный. Смолоду скитался, бросал семью.
Столь мечтательную легкокрылость Маркел ухитрился наконец сдержать на одном месте двадцать лет.
Удивительнее то, что и память о Маркеле держала Тарару на месте другие двадцать лет.
А хитрость Маркела Ивановича была детская.
Весной не успеет снег сойти и вода сбежать, Кондрат является в приказ:
— Прощай, Маркел Иванович. Ухожу.
— Куда, Кондраша?
— По летнему времени на Мурман или на Мезень. Может, к промыслам каким пристану.
Маркел заговорит убедительно:
— Кондраша, навигация открылась. В якорях, в цепях никто не понимает. Именно для летнего времени невозможно нам остаться без тебя.
— Ладно, Маркел Иванович. До осени останусь.
Значит, трудится на кузнице до снегов. Работает отменно. Только снег напал — кондратий в полном путешественном наряде опять предстает пред Маркелом:
— Всех вам благ, Маркел Иванович. Ухожу бесповоротно.
— Куда же, Кондратушко?
— Думаю, на Вологду. А там на Устюг.
Маркел руки к нему протянет:
— Кондрат! В эту зиму велено уширить кузницу, поставить новых три горна. Не можем оторваться от тебя, как дитя от матери.
— Это верно, — скажет Тарара. — Зиму проведу при вас.
Весной Кондратьева жена бежит к Маркелу:
— Пропали мы, Маркел Иванович! Тарара в поход собрался. Уговори, отец родной!
Приходит Тарара:
— Ухожу. Не уговаривайте.
— Где тебя уговорить… Легче железо уварить. Прощай, Кондрат… Конечно, этим летом повелено ковать медных орлов на украшение государевой пристани… Ну, мы доверим это дело Терентию Никитичу.
— Вы доверите, а я не доверю! Ваш Терентий Никитич еще в кузнице не бывал и клещей не видал…
Вот так-то год за годом удерживал Маркел милого человека.
В которые годы Маркела не было в Архангельске, Тарара все же сидел на месте:
— Воротится Маркел Иванович из Койды, тогда спрошусь и уйду.
Но Маркел Иванович из Койды отошел к новоземельским берегам и там, поболев, остался на вечный спокой.
А Кондрат Тарара остался в Архангельске:
— Мне теперь не у кого отпроситься, некому сказаться.
Корабельные вожи
В устье Северной Двины много островов и отмелей. Сила вешних вод перемывает стреж-фарватер. Чтобы провести большое судно с моря к городу Архангельску или от города до моря, нужны опытные лоцманы. В старину эти водители судов назывались корабельными вожами.
Когда Архангельский посад назвался городом, в горожане были вписаны корабельные вожи Никита Звягин и Гуляй Щеколдин. Звягин вел свой род от новгородцев, Щеколдин — от Москвы. Курс «Двинского знания» оба проходили вместе с юных лет. Всю жизнь делились опытом, дружбой украшали домашнее житье-бытье. Гостились домами: приглашали друг друга к пирогам, к блинам, к пиву.
Но вот пришло время, дошло дело — два старинных приятеля поссорились как раз на пиру.
Вожевая братчина сварила пиво к городскому празднику шестого сентября. Кроме братчиков в пир явились гости отовсюду. Обычно в таких пирах каждая «река» или «город» знали свое место: высокий стол занимала Новгородская Двина, середовый стол — Москва и Устюг, в низких столах сидели черные, или чернопахотные, реки.
После званого питья у праздника в монастыре Звягин поспешил веселыми ногами к вожевому пиву. Здесь усмотрел бесчинство. Братчина и гости сидели без мест. Молодшие реки залезли в большой стол. Великая Двина безмятежно пировала в низком месте.
— Прибавляйся к нам, Никита! — кричал Щеколдин из высокого стола. — Пинега, подвинь анбар, новгородец сядет.
— Моя степень повыше, — отрезал Звягин.
— Дак полезай на крышу, садись на князево бревно! — озорно кричал Щеколдин.
Чернопахотные реки бесчинно загремели-засмеялись.
Звягин осерчал:
— Ты сам-то по какому праву в высокий стол залез, московская щеколда?
— Я от царственного города щеколда, а вы мужичий род, крамольники новгородские!
— Не величайся, таракан московский! — орал Звягин. — Твой дедушко был карбасник, носник. От Устюга до Колмогор всякую наброду перевозил. По копейке с плеши брал!
— А твой дедко барабанщик был! Люди зверя промышляют — Звягин в бочку барабанит: «Пособите, кто чем может! По дворам ходил, снастей просил — не подали».
Поругались корабельные вожи, разобиделись и рассоветились. Три года сердились. Который которого издали увидит, в сторону свернет.
Звягин был мужик пожиточный, Щеколдин поскуднее: ребят полна изба. Звягин первый прираздумался и разгоревался: «Из-за чего наша вражда? За что я сердце на Щеколдина держу? Завидую ему? Нет, кораблей приходит много, живу в достатке».
Задумал Звягин старого приятеля на прежнюю любовь склонить. Он так начал поступать: за ним прибегут из вожевой артели или лично придет мореходец, иноземец или русский: «Сведи судно к морю», — у Звягина теперь ответ один:
— Я что-то занемог. Щеколдина зовите. Щеколдин первый между нами, корабельными вожами.
Еще и так скажет:
— Нынче Двина лукавит, в устьях глубина обманная. Корабли у вас садкие. Доверьтесь опыту Щеколдина.
Корабельщики идут к Щеколдину. Он заработку и достатку рад. Одного понять не может: «За что меня судьба взыскала? Кто-нибудь в артели доброхотствует. Надобно сходить порасспросить».
В урочный день Щеколдин приходит в артель платить вожевой оброк. Казначей и говорит:
— Прибылей-то у тебя, Щеколдин, вдвое против многих. Недаром Звягин знание твое перед всеми превозносит. Мы думали, у вас остуда, но, видно, старая любовь не ржавеет.
У Щеколдина точно пелена с глаз спала: «Конечно, он, старый друг, ко мне людей посылал!»
Щеколдин прибежал к Никите Звягину, пал ему в ноги:
— Прости, Никита, без ума на тебя гневался!
Звягин обнял друга и торжественно сказал:
— Велика Москва державная!
Ваня Датский
(Архангельская быль)
У Архангельского города, у корабельного пристанища, у лодейного прибегища, в досельные годы торговала булками честна вдова Аграфена Ивановна. В летнюю пору судов у пристани- воды не видно; народу по берегам — что ягоды морошки по белому мху; торговок-пирожниц, бражниц, квасниц — будто звезд на небе. И что тут у баб разговору, что балаболу! А честну вдову Аграфену всех слышней. Она со всем рынком зараз говорит и ругается. Аграфена и по-аглицки умела любого мистера похвалить и обложить.
Горожане дивились на Аграфену:
— Ты, Ивановна, спишь ли когда? Утром рано и вечером поздно одну тебя и слыхать. Будто ты колокол соборный.
— Умрем, дак выспимся, — отвечала Аграфена. — Я тружусь, детище свое воспитываю!
Был у Аграфены одинакий сын Иванушко. И его наравне с маткой все знали и все любили. Не только своя Русь, но и гости заморские. Не поспеет норвецкое суденышко кинуть якорь, Иванушка является с визитом, спросит: по-здорову ли шли? Его угощают солеными «бишками» — бисквитами, рассказывают про дальние страны.
Иванушко рано запросился у матери в море. Четырнадцати лет приступил вплотную:
— Мама, как хошь, благослови в море идти! Мама заревела, как медведица:
— Я те благословлю поленом березовым! Мужа у меня море взяло, сына не отдам!
— Ну, я без благословенья убежу.
Ваня присмотрел себе датский корабль, покамест тот стоял у выгрузки-погрузки. Явился к капитану:
— Кэптен, тэйк эброд! (Возьмите с собой!)
У капитана не хватало матросов… Бойкий парень понравился.
— Хайт ин зи трум! (Ступай в трюм!)
Ваня и спрятался в трюме. Таможенные досмотрщики не приметили его. Так и уплыл Аграфенин сын за море.
Аграфена не удивилась, что сын не пришел ночевать. Не очень беспокоилась и вторую ночь. «На озерах с ребятами рыбу ловит». Через неделю она выла на весь рынок:
— Дитятко Иванушко! В Датску упорол, подлец!
И не было об Аграфенином сыне слуху двадцать лет…
Нету слез против матерних. Нет причитанья против вдовьего. По утренним лазорям Аграфена выходила на морской бережок и плакала:
Гусем бы я была, гагарой,
Все бы моря облетела,
Морские пути оглядела,
Детище свое отыскала.
Зайком бы я была, лисичкой,
Все бы города обскакала,
Кажду бы дверь отворила,
В каждо бы оконце заглянула,
Всех бы про Иванушка спросила…
А Иванушко за эти годы десять раз сходил в кругосветное плаванье. В Дании у него жена, родилось трое сыновей. Ребята просили у отца сказок. Он волей-неволей вспоминал материны песни-былины. Видно, скопились старухины слезы в перелетную тучку и упали дождем на сыновнее сердце.
Припевая детям материны перегудки, Ваня слышал материн голос, мать вставала перед ним как живая…
А Ивану было уже тридцать четыре года. Тут по весне напала на него печаль необычная. Идет Иванушко по набережной и видит-грузится корабль. Спрашивает:
— Куда походите?
— В Россию, в Архангельский город.
Забилось сердце у нашего детинушки: «Маму бы повидать! Жива ли?..» И тут же порядился с капитаном сплавать на Русь и обратно в должности старшего матроса.
Жена с плачем собрала Ваню в путь:
— Ох, Джон! Узнает тебя мать — останешься ты там..
— Не узнает. И я не признаюсь, только издали погляжу.
Дует пособная поветерь. Шумит седой океан. Бежит корабль, отворив паруса. Всплывают русские берега.
На пристанях в Архангельском городе людно по-старому Точно вчера Иванушко бегал здесь босоногим мальчишкой. Теперь он идет по пристани высокий, бородатый. Идет и думает: «Ежели мама жива, она булочками торгует»
Он еще матери не видит, а уж голос ее слышит
— Булочки мяконьки! По полу катала, по подлавочью валяла!
Люди берут, хвалят. И сын подошел, купил у матери булочку. Мать не узнала. Курчавая борода, одет не по-русски.
У пристани трактир. Ваня у окна сидит, чай пьет с маминой булочкой, на маму глядит…
Неделю корабль стоял под Архангельском. Ваня всякий день булочку купит, в трактире у окна чай пьет, на маму смотрит У самого дума думу побивает: «Открыться бы! Нет, страшно она заплачет, мне от нее не оторваться А семья как?»
В последний день, за час до отхода, Ваня еще раз купил у матери булочку и, пока Аграфена разбиралась в кошельке сунул под булки двадцать пять рублей.
Так, не признавшись, и отошел в Данию.
Аграфена стала вечером выручку подсчитывать — двадцать пять рублей лишних! Зашумела на всю пристань
— Эй, жёнки-торговкй! Кто-то мне в булки двадцать пять рублей обронил! Может, инглишмен какой полоротой! Твенти файф рубель!
Никто не спросил ни завтра, ни послезавтра.
После этого быванья прошла осень грязная, зима протяжная. Явилась весна разливна-красна. Закричала гагара за синим морем. Повеяли ветры в русскую сторону.
Опять Иванушко места прибрать не может: «Надо сплавать на Русь, надо повидать маму».
Опять жена плачет:
— Ох; Джон! В России строго: узнает мать-не от пустит.
— Не узнает. Я не скажусь ей, только издали погляжу
Опять он порядился на корабль старшим матросом и приплыл к Архангельскому городу. Идет в народе по пристани. И мамин голос, как колокольчик:
— Булочки-хваленочки: сверху подгорели, снизу подо прели!
Ваня подошел, купил. Потом в трактире чай пьет, из окна глядит на маму. И жалко ему: постарела мама, рученьки худые… Упасть бы в ноги! Может бы, и простила и отпустила!.. Нет, страшно!
Неделю корабль находился в порту, каждодневно сын у матери булочки покупал, а не признался. Только в последний день, перед отходом, сунул ей в короб пятьдесят рублей и ушел в Данию.
Аграфена стала вечером выручку подсчитывать — пятьдесят рублей лишних! Все торговки подивились:
— Что же это, Аграфена! Прошлый год ты у себя в булках двадцать пять рублей нашла, сейчас пятьдесят. Почто же мы ничего не находим? Уж не сын ли тебе помогает?
— А и верно, сын! Больше некому! — И заплакала. — Дитятко мое роженое, почто же ты не признался! Поглядела бы я на тебя… Верно, уж большой стал. Дура я, детища своего не узнала! Теперь каждому буду в руки смотреть.
Таковым побытом опять год протянулся, с зимою, с морозами, с весною разливной. Веют летние ветры, кричит за морем гагара, велит Иванушке на Русь идти, мамку глядеть. Плачет жена:
— Ох, Джон. Я не держу тебя, только знай: не так я беспокоилась, когда ты на полгода уходил в Америку, как страшусь теперь, когда ты плывешь одним глазом взглянуть на мать…
Дует веселый вест, свистит в снастях Иванова кораблика. Всплывают русские берега… Вот сгремели якоря, опустились паруса под городом Архангельском. На. горе стоят, как век стояли, башни Гостиного двора. Под горой сидит как век сидела, булочница Аграфена. Теперь она зорко глядит в руки приезжим морякам: не сунет ли кто денег в булки?
Иванушко тоже свое дело правит: у мамы булку купит, в трактире чай пьет, на маму глядит.
И в последний раз, как булку купил, сует матери в корзину сто рублей. А старуха в кошельке роется, будто сдачу ищет, а сама руки покупателя караулит.
Как он деньги-то пихнул, она ястребом взвилась да сцапала его за руки и разинула пасть от земли до неба:
— Кара-у-ул! Грабя-ят!!
Ване бы не бежать, а он побежал. Его и схватили, привели в полицию.
Аграфена тихонько говорит приставу:
— Это не грабитель, это мой сын. Он мне сто рублей подарил. Он двадцать три года терялся. Я хочу, чтобы он сознался.
Пристав подступил к Ване:
— Признавайтесь, вы ей сын?
— Ноу, ноу! Ноу андестенд ю!
Аграфена закричала с плачем:
— Как это «но андерстенд»! Не поверю, чтобы можно было отеческу говорю забыть… Иванушко, ведь я тебя узнала, что же ты молчишь!
Ваня молчит, как бумага белый. И все замолчали. А народу множество набилось. По рынку, по пристани весть полетела, что Аграфена сына нашла. А она снова завопила:
— Ежели так, пущай он рубаху снимет! У него на правом плече три родимые пятнышка рядом.
Пристав приказывает Ивану:
— Раздевайтесь!
Тогда Ваня пал матери в ноги:
— Маменька, я твой сын! Только не губи меня, отпусти! У меня в Дании жена и трое сыновей. Вот тебе все мои деньги пятьсот рублей. Возьми, только отпусти!
Аграфена застучала кулаком по столу:
— Убери свои деньги! Мне не деньги — мне сын дорог. Я без сына двадцать три года жила. Я о сыне двадцать три года плакала…
Заплакал и Ваня:
— Мама, пожалей своих внучат! Пропадут они без отца.
Заревели в голос и торговки:
— Аграфена Ивановна, отпусти ты его!
Аграфена говорит:
— Ладно, дитя, я тебя прощаю и отпускаю тебя. Только ты сними с божницы Спасов образ, сними своими руками и поклянись мне, что на будущий год сам приедешь и старшего внука мне на погляденье привезешь.
Действительно, на другой год привез старшего сына. Аграфена внука и зимовать оставила:
— Я внученька русской речи, русскому обычаю научу. Мальчик пожил у бабушки год и уезжать не захотел. Ваня привез среднего сына. И этот остался у бабки, не пожелал лететь из теплого русского гнездышка. Тогда приехала жена Ванина с младшим сыном. И полюбилась кроткой датчанке мужнева мать:
— Джон! Останемся тут! Здесь такие добрые люди. Аграфена веселится:
— Вери гут, невестушка. Где лодья не рыщет, а у якоря будет.
Аграфенины внуки-правнуки и сейчас живут на Севере, на Руси.
По имени Вани, который бегал в Данию, и фамилия их — Датские.
Поморские старины
О Сухмане Непровиче
У кануна у праздника
Угощает князь Сеславьевич
Свою дружину хоробрую.
Ходит чаша рядовная,
Гости пьют, похваляются
Кто могутною силою,
Кто красой молодецкою.
А Сухман-то Непровьевич
Испивает по-малёхоньку,
Говорит по-редёхоньку.
Князь по гридне* похаживает,
У Сухмана выспрашивает:
— Что сидишь не улыбнешься?
Али чара шла не по ряду?
Али место не по отчине? —
Ответ держит молодой Сухман:
— Та и чаша чиновная,
Я котору ко устам несу.
То и место степенное,
На котором я сижу.—
Говорит князь Сеславьевич:
— Не спесиво ли высловил,
А не хвастливо ли вымолвил?
Ты о чем ладишь хвастати?
Богатырской ли силою
Али красой молодецкою? —
Ответ держит молодой Сухман:
— Моя сила не вам чета,
Моя красота не вам ровня.
А похвастаю силою:
Оснастишь ты, князь Сеславьевич,
Боевые лодьи мерные,
Зайдешь в лодьи с дружиною,
Со конями, со сбруями,
Я лодьи те повыздыму,
Во сине море вынесу.
А в мою-то во красоту
Поглядит солнце красное,
Полюбуются звезды частые.
Говорит князь Сеславьевич:
— Нам догадку высказываешь,
Нам загадку загадываешь.
То ведь кудесы* заветные,
То волшба, хитромудрая,
Вещим бабам показана,
Старикам заповедана.
А твои возрасты ранние,
Твои степени молодшие.
Дам тебе службу сверстную:
Ты сгуляй ко Непре-реке,
Настреляй гусей-лебедей,
Серых малых утёнышей
Во дворы-ти во княжие,
Нам в потребы домовные.
А и Сухман не ослышится.
Он и едет Непрой-рекой,
На реку-то дивуется,
У реки-то выспрашивает:
— Гой ли, мати Непра-река,
Что течешь не по-старому?
Что волной разгулялася,
Во песках замутилася? —
Отвечает Непра-река:
— Мне ведь как не мутитися.
Во песках не мешатися?
К моему-то ко берегу,
С полуденную сторону,
Подошли злы татаровья,
Семь полков, орда Синяя*.
Они мосты-то вымащивают.
Через меня-то, Непру-реку,
Переходы выкладывают.
Что они в день-то повымостят,
Что во дни-то повыстроят,
То я ночью повырою,
То я ночью повымою.
Я из сил-то повыбилась…
А идут-то татаровья
Ко княжому ко городу,
Ладят город на дым пустить,
Старых-малых повыгубить.
А и тут молодой Сухман,
Он и гонит добра коня
В полудённую сторону.
Красно солнце на закате,
Красна солнца не видети,
Что от духу татарского,
Что от поту ордынского.
А и тут молодой Сухман,
Он хватал сыр матёрый дуб
Со корнями из берегу.
А не гроза-то накатится
И не туча навалится,
А ударил молодой Сухман
На полки-то татарские.
Он здымал сыр матёрый дуб.
Выше плечи могучие,
Он и жахнул ко-западу,
Отмахнул на восточную.
То-то писку татарского,
То-то визгу Ордынского!
А и бил молодой Сухман,
Как косец-то траву косил.
А и ложатся татаровья,
Ложатся увалами,
Лежат перевалами.
А и мати Непра-река
Со постели* повыстала,
На орду-то опружилась.
Она мыла татаровей,
Уносила поганыих
Во поддоны — желты пески.
То-то ноченька грозная,
То-то ноченька светлая.
Заря-то вечерняя
С зарею со утренней
Как сестра с сестрой сойдутся.
На заре той, на утренней,
Заходил молодой Сухман
На гору на Окатову,
Он оглядывал к северу,
Отслушивал к западу.
А ни писку, ни голосу,
А ни визгу, ни шороху.
Лежит орда Синяя,
Как*трава-то покошена.
А- в живых-то осталися,
Остались три татарина.
Они под гору укрылися,
В кусты схоронилися.
А Сухман-то Непровьевич
На горе постаивает,
Сымает золотой шелом,
Расстегнул латы булатные,
Отирает кровавый пот
По трудех-то великиих.
А и три-то татарина
Тянут туги луки,
Пустили три стрелы.
Ударили три стрелы
Во крепку грудь Сухманову,
Во сердце ретивое.
То-то ноченька грозная,
То-то ноченька светлая.
Говорит Непра-река:
— Родимое мое дитятко,
Не вынимай каленой стрелы
Из сердца ретивого!
Дождись зари утренней,
Простись со дружиною.
А во ту пору времени
Во своем-то во городе
Не спит князь Сеславьевич,
С дружиною советует:
— Что без ветру река шумит?
За рекой будто гром гремит.
То не туча грозовая,
Не гроза разгулялася,
Тамо сеча кровавая,
Тамо бой-драка великая!
А и нет ли невзгодушки
Над молодым-то Непровичем?
А и князь со дружиною
На добрых коней падают,
А и гонят Непрой-рекой
В полудённую сторону.
А и тут становилися,
А и тут острашилися:
Круг горы-то Окатовы
Лежит орда Синяя,
Лежат злы татаровья,
Как трава-то покошена.
А и скачет князь с дружиною
На гору Окатову.
Стоит молодой Сухман,
О коня ослоняется,
Говорит таковы слова:
— Здравствуй, князь со дружиною!
Я служил службу раннюю
По моим малым возрастам,
По молодшим по степеням.
Набил гусей-лебедей,
Серых малых утёнышей.—
Говорит князь Сеславьевич:
— Уж ты гой еси, Непровьевич,
Богатырь святорусский!
Мне-ка чем тебя жаловать?
В города ли воеводою
Аль несчетной золотой казной? —
Ответ держит молодой Сухман:
— Уж воеводить мне некогда
И казна стала ненадобна.
А и тут молодой Сухман,
Он правой-то рученькой
Выхватывал калену стрелу
Из своего-то сердечушка…
И не белой снежочек пал —
Непрович с ног упал.
Он упал, упал; лежит.
Белый снег на лицо бежит.
Из груди-то Сухмановой
Ударили три ключа.
Три ключа, воды светлые
Во потоки свивалися,
Большой рекой разбежалися.
Объявилась Сухман-река.
От очей-то Сухмановых
По той же Сухман-реке
Объявились два озера,
Воды синие, светлые.
Налетели тут гуси-лебеди,
Серы малы утёныши.
От костей-то Сухмановых
Поднялись круты береги.
От кудрей-то Сухмановых
По той ли Сухман-реке
Верба раскудрявилась.
А от уст-то румяныих
Расцвели цветы алые.
А в красу-то Сухманову,
В воды чистые, светлые
Днем глядит солнце красное,
А в ночи — звезды частые.
А дошла пора времени,
Оснастил князь Сеславьевич
Боевы лодьи мерные;
На лодьи зашел с дружинами,
Со конями, со сбруями.
Подымала их Сухман-река,
Понесла во синё море.
Емшан — Трава
Емшан-трава благоухает,
Песню и уста мои влагает.
Деялось в стародавние годы:
Князь Владимир — Грозные Очи[8]
Дружил с половецкой ордою;
В гости звал князей половецких,
Братьев Отрока и Сырчана.
И на пиру братьев обидел —
Обнес круговою чашей:
Почтил перво Юнду, чудина.
И Сырчан на князя оскорбился:
— У Владимира-князя правды нету,
В гости звал, величал сыновьями,
А чествовал ниже холопа. —
И Отрок Сырчана унимает:
— Не по делу крамолишься*, брате.
Со всеми Володимир ровно грозен,
С боярином грозен и со смердом.
А мы не князю — мы Киеву дружим.
С Киевом у нас нету обиды. —
Сырчан на то рассмехнулся;
— Ты и наймися Киев караулить.
Повесь на бедро колотушку,
Ходи по улицам, стукай!
А моя голова не поклонна,
Я надвое сердце разбиваю:
Родимые степи покидаю,
А с Владимиром-князем мне тесно! —
И ушел Сырчан на чужбину,
С родимою степью простился,
С травами, со цветами…
— Прости и ты, милый брате.
У меня с тобой нету обиды!
И после этого быванья
Черкесские горы и долы
Родиной Сырчан называет,
Стоит за них честно и грозно,
Мечом и щитом обороняет.
И после этого быванья
За годами проходят годы,
И грозный Сырчан-воевода
Царем на горах учинился,
Надел золотую шапку,
Принял серебряный посох,
Сел на высоком троне.
Позабыл родимые степи
Со травами, со цветами,
С вешними ручейками…
И после этого быванья
За годами проходят годы.
Умер в Киеве князь Володимир,
Закрыл свои грозные очи…
И Отрок гонца снаряжает:
— Поспешай в Черкесские горы,
Сказывай кончину Мономаха,
Домой зови брата Сырчана,
Пой ему половецкие песни.
А если не послушает несен,
Подай ему пучок травы емшана,
Подай вот эту горсть травы душистой..
И гонец в дорогу напустился.
Горные дороги протяжны,
Емшан в пути завял и высох,
Но живет его благоуханье,
Сладкое степей воспоминанье.
И после этого быванья
Гонец доступает до Сырчана.
Сырчан с дружиной пирует.
На челе золотая шапка,
В руках медвяная чаша.
— Здравствуй, гонец половецкий!
Сказывай вести от брата.
И звенят половецкие гусли,
Под гусли гонец держит слово:
— Вернись домой, господине!
Умер грозный князь Володимир,
Закрылись орлиные очи.
Вернись домой, господине!
Новый князь любителен и ласков. —
Сырчан на то усмехнулся:
— Что мне до княжеской ласки!
Я царь над тремя городами,
Над всею Черкес-горою!
Я Киевского князя не меньше. —
Но звенят половецкие гусли
Перелетных птиц голосами,
Весенними ручейками:
— Вернись домой, господине!
Помяни половецкие степи.
У нас реки, озера разлилися,
Лебеди и гуси — будто пена.
И Сырчан хмурит грозные брови:
— Добро, игрец половецкий!
Мне мать певала эти песни.
Вспомнил я голоса степные…
Да мне домой не вернуться,
С золотою клеткой не расстаться,
Не сменить дворца на кибитки.
Тогда гонец половецкий
Подает царю пучок емшана,
Подает пучок травы душистой.
И царь берет траву, дивяся,
И к лицу пучок травы степной подносит.
И стряслося дивное диво:
Грозный царь прикрыл глаза рукою
И, пучок степной травы целуя, плачет.
Жмет к устам пучок травы душистой,
И по грозной бороде струятся слезы…
Нежное травы благоуханье,
Сладкое степей воспоминанье…
И Сырчан не видит гор, теснин угрюмых.
Степь перед ним бескрайная сияет,
Половецкие кибитки вереницей,
Мать поет, емшан-траву сбирает;
Та трава печали отымает…
И молчит разгульная дружина,
И дивит на слезы господина…
А Сырчан встает тих и весел.
С головы сложил царскую шапку,
Царский посох в угол поставил;
Надевает сукман* половецкий,
Пастушью шапку баранью,
Меч по бедре опоясал.
Сел на коня и молвил:
— Прощайте, живите, други!
Зовет меня милая отчизна.
Ухожу в половецкие степи,
В родимую землю навеки!..
И после этого быванья
Два всадника правят дорогу,
Правят под северный ветер.
Сырчан и гонец половецкий
В милую едут отчизну,—
Едут денно и ночно,
Синие дали соглядают:
Не блеснут ли реки степные,
Не сбелеют ли шатры кочевые.
Ссора Ильи Муромца с князем Владимиром
Что во городе во Киеве,
У князя Володимира,
Заводился почестен пир.
Тут все-то созваны Князья, и бояре,
И могучие богатыри:
Добрыня Никитич свет,
Алеша Попович млад,
И Дюк Степанович,
И Василий Буслаевич.
Только нету матерого старика.
Только нету Ильи Муромца,
Не позвали Ивановича.
Илье то Муромцу
Обидно палося.
Он с полатей спрядывает,
Шелковы портки подтягивает.
На крылечко выхаживает.
Тугой лук натягивает,
Калену стрелу накладывает…
Полетела калена стрела.
Отшибала маковки
У хором-то боярскиих,
У домов-то купецкиих.
Илья-то Иванович
По улке похаживает,
Кричит во всю голову:
— Эй вы, голи кабацкие,
Доброхоты царские!
Собирайте золоты коньки,
Хрустальные маковки,
Волоките во царевы кабаки,
Пропивайте на зеленом на вине,
Поминайте Ильи Муромца
Обиду великую!
Эти голи кабацкие.
Все горькие пьяницы,
Собирали золоты коньки.
Хрустальные маковки.
Потащили во царевы кабаки.
Пропивали на зеленом на вине.
Эти голи кабацкие.
Они будут во полупьяне.
Илья-то Иванович
По кабакам-то похаживает.
Умильно выговаривает:
— Вы, други любезные,
Голи кабацкие,
Не оставьте старого
Старичонка убогого,
Илейку-то Муромца
На обиде великия[9].
Пойдем на княжий двор,
Володимира повыгоним,
Со княжа стола* повысадим! —
Говорят голи кабацкие:
— Илья Иванович,
Твое пили-кушали,
Тебя и слушаем!
Эти голи кабацкие,
Все горькие пьяницы,
Они валят по городу,
Идут по Киеву,
Бежат на княжий двор.
Володимир стольно-киевский
Увидал, закручинился:
— Охти, тошнёхонько!
Илья-то Муромец
Сосбирал голей кабацкиих.
Идут меня выгонити,
Со стола-то повысадити!
Ты, Добрыня Никитич свет,
С Ильей-то Муромцем
Вы братья крестовые.
Ты Илью поуговаривай,
Не ходил бы на мой-то двор
Со голями кабацкими*.
И Добрыня Никитич свет
Добывал Илью Муромца,
С головы ронил шапоньку,
Умильно выговаривал:
— Илья Иванович,
Крестовый брателко!
Мы крестами менялися,
Поясами поясалися,
У нас клятва положена
Друг друга слушати.
Не ходи ты на княжий двор
Со голями кабацкими.—
Говорит Илья Муромец:
— Я князя ничем зову,
Я Владимира не слушаю,
Но я слушаю Добрынюшку,
Крестового брателка:
Нейду на княжий двор,
Не велю голям кабацкиим.
Что со этой-то радости
Володимир стольно-киевский
Принадвинул белодубовых столов,
Принабавил питей-кушаний.
Говорит Добрынюшке:
— Ступай, Никитич млад,
Зови-тко Муромца
Ко мне на княжий пир,
Ко мне во княжий стол.
И Добрыня Никитич свет
Добывал Илью Муромца,
С головы ронил шапочку,
Умильно выговаривал:
— Илья Иванович,
Крестовый брателко!
Мы крестами менялися,
Поясами поясалися.
У нас клятва положена
Друг друга слушати:
Пожалуй во княжий пир,
Пожалуй во княжий стол.—
Говорит Илья Муромец:
— А я князя ничем зову,
А я князя ни во что кладу,
Но я слушаю Добрынюшку,
Крестового брателка:
Приду во княжий стол,
Приду во княжий пир.
Будет пир во полупире,
Княжий стол во полустоле.
А и тут песни поют,
А и тут гудки гуднут,
Тогда Илья пожаловал.
И Владимир стольно-киевский.
Он прядал со лавицы,
Илье в пояс кланялся,
Умильно выговаривал:
— Что уж гость-от идет не по нам,
Не по нашим достаточкам.
Илью-то Ивановича,
Гостенька самолучшего,
Я чем буду потчевати,
Я как буду чествовати? —
Говорит Илья Муромец:
— Ты хитёр, Володимир-князь,
Догадался кого послать
По Илейку-то Муромца.
Кабы не Добрынюшка,
Не его речи умильные,
Тебе не быть бы во городе,
Не сидеть на княжом столе.
Старина стародавняя,
Былина, быль досельная*
Морю на утишенье,
Добрым людям на услышанье.
Об Авдотье Рязаночке
Зачинается доброе слово
Про Авдотью-женку, Рязанку.
Дунули буйные ветры,
Цветы на Руси увяли,
Орлы на дубах закричали,
Змеи на горах засвистали.
Деялось в стародавние годы.
Не от ветра плачет сине море,
Русская земля застонала.
Подымался царище татарский
Со своею Синею ордою,
С пожарами, со смертями.
Города у нас на дым пускает,
Пепел конским хвостом разметает,
Мертвой головой по земле катит.
И Русь с Ордой соступилась,
И были великие сечи…
Кровавые реки пролилися,
Слезные ручьи протекали.
Увы тебе, стольный Киев!
Увы, Москва со Рязанью!
В старой Рязани плач с рыданьем:
Носятся страшные вести.
И по тем вестям рязанцы успевают,
Город Рязань оберегают:
По стенам ставят крепкие караулы,
В наугольные башни — дозоры.
Тут приходит пора-кошенина.
Житье-то бытье править надо.
Стрелецкий голова с женою толкует,
Жену Авдотью по сено сряжает:
— Охти мне, Дунюшка-голубка,
Одной тебе косить приведется.
Не съездить тебе в три недели,
А мне нельзя от острога* отлучиться,
Ни брата твоего пустить с тобою,
Чтобы город Рязань не обезлюдить.
И Авдотья в путь собралася,
В лодочку-ветлянку погрузилась.
Прощается с мужем, с братом,
Милого сына обнимает:
— Миленький мой голубочек,
Сизенький мой соколик,
Нельзя мне взять тебя с собою:
У меня работа будет денно-нощна,
Я на дело еду скороспешно.
После этого быванья
Уплыла Авдотья Рязанка
За три леса темных,
За три поля великих.
Сказывать легко и скоро,
Дело править трудно и долго.
Сколько Авдотья сено ставит,
Умом-то плавает дома:
«Охти мне, мои светы,
Всё ли у вас по-здорову?»
А дни, как гуси, пролетают,
Темные ночи проходят.
Было в грозную ночку —
От сна Авдотья прохватилась,
В родимую сторонку взглянула:
Над стороной над Рязанской
Трепещут пожарные зори…
Тут Авдотья испугалась:
— Охти мне, мои светы!
Не наша ли улица сгорела? —
А ведь сена бросить не посмела:
Сухое-то кучами сгребала,
Сучьем суковатым пригнетала,
Чтобы ветры-погоды не задели.
День да ночь работу хватала,
Не спала, не пила, не ела.
Тогда в лодчонку упала,
День да ночь гребла, не отдыхала,
Весла из рук не выпускала.
Сама себе говорила:
— Не дрожите, белые руки,
Не спешите, горючие слезы! —
Как рукам не трястися,
Как слезам горючим не литься?
Несет река головни горелы,
Плывут человеческие трупы.
На горах-то нет города Рязани*
Нету улиц широких,
Нету домовного порядка.
Дымом горы повиты,
Пеплом дороги покрыты.
И на пеплышко Авдотья выбредала.
Среди городового пепелища
Сидят три старые бабы,
По мертвым кричат да воют,
Клянут с горя небо и землю.
Увидели старухи Авдотью:
— Горе нам, женка Авдотья!
Были немилые гости,
Приходил царище татарский
Со своею Синею ордою,
Наливал нам горькую чашу.
Страшен был день тот и грозен.
Стрелы дождем шумели,
Гремели долгомерные копья.
Крепко бились рязанцы,
А татар не могли отбити.
Города Рязани отстояти.
Убитых река уносила,
Живых Орда уводила.
Увы тебе, женка Авдотья,
Увы, горегорькая кукуша!
Твое теплое гнездышко погибло,
Домишечко твое раскатилось,
По камешку печь развалилась.
Твоего-то мужа и брата,
Твоего-то милого сына
В полон увели татары!
И в те поры Авдотья Рязанка
Зачала лицо свое бити,
Плачем лицо умывати,
Она три дня по пеплышку ходила,
Страшно, ужасно голосом водила,
В ладони Авдотьюшка плескала.
Мужа и брата кричала,
О сыне рыдала неутешно.
Выплакала все свои слезы,
Высказала все причитанья.
И после этого быванья
Вздумала крепкую думу:
— Я пойду вслед Орды, вслед татарской,
Пойду по костям по горелым,
По дорогам пойду разоренным.
Дойду до Орды до проклятой,
Найду и мужа и брата,
Найду своего милого сына!
Говорят Авдотье старухи:
— Не дойти тебе Орды за три года.
Пропадешь ты, женка, дорогой,
Кости твои зверь растащит,
Птицы разнесут по белу свету.
Говорит Авдотья старухам:
— То и хорошо, то и ладно!
Дожди мои косточки умоют,
Буйные ветры приобсушат,
Красное солнце обогреет. —
Говорят Авдотье старухи:
— В Орде тебе голову отымут,
Кнутом тебе перебьют спину.
— Двум смертям не бывати,
А одной никому не миновати!
И пошла Авдотья с Рязани:
Держанный на плечах зипунишко,
На ногах поношены обутки.
И поминок добыла своим светам:
Пояса три да три рубахи.
— Найду их живых или мертвых,
В чистые рубахи приодену.
Шла Авдотья с Рязани,
Суковатой клюкой подпиралась.
Шла она красное лето,
Брела она в грязную осень,
Подвигалась по снегу, по морозу.
Дожди ее насекают,
Зимние погоды заносят.
Страшно дремучими лесами:
В лесах ни пути, ни дороги.
Тошно о лед убиваться,
По голому льду подаваться.
Шла Авдотья с Рязани,
Шла к заре подвосточной,
Шла в полуденные страны,
Откуда солнце восходит,
Смену несла своим светам:
Три пояска да три рубахи.
Шла, дитя называла,
Мужа и брата поминала.
Тогда только их забывала,
Когда крепким сном засыпала.
Шла Авдотья близко году,
Ела гнилую колоду,
Пила болотную воду.
До песчаного моря доходила.
Идут песчаные реки,
Валится горючее каменье,
Не видать ни зверя, ни птицы;
Только лежат кости мертвых,
Радуются вечному покою.
В тлящих полуденных ветрах,
В лютых ночных морозах
Отнимаются руки и ноги,
Уста запекаются кровью.
И после этого быванья
Веют тихие ветры.
Весна красна благоухает,
Земля цветами расцветает.
Женочка Авдотья Рязанка
На высокую гору восходит,
Берега небывалые видит:
Видит синее широкое море,
А у моря Орда кочевала.
За синими кудрявыми дымами
Скачут кони табунами,
Ходят мурзы-татаре,
Ладят свои таборы-улусы.
Тут-то Авдотью увидали,
Врассыпную от нее побежали:
— Алай-булай, яга-баба!
— Алай-булай, привиденье! —
Голосно Авдотья завопила:
— Не бегайте, мурзы-татаре!
Человек я русского роду.
Иду в Орду больше году,
Чтобы вашего царя видеть очи. —
И в ту пору и в то время
Авдотью к царищу подводят.
Блестят шатры золотые,
Стоят мурзы на карачках,
Винькают в трубы и в набаты,
Жалостно в роги играют,
Своего царища потешают.
Сидит царище татарской
На трех перинах пуховых,
На трех подушках парчовых.
Брови у царища совины,
Глаза у него ястребины.
Усмотрел Авдотью Рязанку,
Заговорил царище, забаял:
— Человек ты или привиденье?
По обличью ты русского роду.
Ты одна-то как сюда попала?
Ты не рыбою ли реки проплывала,
Не птицей ли горы пролетала?
Какое тебе до меня дело?
И женка Авдотья Рязанка
Его страшного лица не убоялась:
— Ты гой еси, царище татарский,
Человек я русского роду,
Шла к тебе больше году,
Сквозь дремучие леса продиралась,
О голые льды убивалась,
Голод и жажду терпела,
От великой нужды землю ела.
Я шла к тебе своей волей,
У меня к тебе обидное дело:
Приходил ты на Русь со смертями,
С пожарами, с грабежами,
Ты разинул пасть от земли до неба,
Ты Рязань обвел мертвою рукою.
Катил по Рязани головнею,
Теперь ты на радости пируешь…
Ей на то царище рассмехнулся:
— Смело ты, женка, рассуждаешь,
Всего меня заругала!
Не слыхал я такого сроду.
А не будем с тобою браниться,
Давай, Рязанка, мириться.
Какое тебе до меня дело? —
Говорит Авдотья Рязанка:
— Ты увел в полон моего мужа и брата,
Унес моего милого сына.
Я ночью и днем их жалею,
Покажи их живых или мертвых.
Я одену их в чистые рубахи,
Поясами их опояшу,
Покричу над ними, поплачу,
Про запас на них нагляжуся.
И царь на Авдотью дивится:
— Орда молодцов видала,
Такого образца не бывало!
Не князь, не посол, не воин —
Женочка с Рязани, сиротинка,
Перешла леса и пустыни.
Толкучие горы перелезла,
Бесстрашно в Орду явилась…
Гой вы, мурзы-татаре,
Приведите полонянников рязанских,
Пущай Авдотья посмотрит,
Жив ли муж ее с братом,
Тут ли ее милое чадо!
И полон рязанский приводят,
И Авдотья видит мужа и брата,
Живого видит милого сына.
И не стрела с тугого лука спрянула,
Не волна о берег раскатилась,
С семьей-то Авдотьюшка свидалась.
Напали друг другу на шею,
Глядят, и смеются, и плачут.
Говорит царище татарский:
— Жалую тебя, женка Авдотья,
За твое годичное хожденье:
Из троих тебя жалую единым,
Одного с тобою на Русь отпущаю.
Хочешь, бери своего мужа,
Хочешь, бери себе сына,
А хочешь, отдам тебе брата.
Выбирай себе, Рязанка, любого.
И в ту пору и в то время
Бубны, набаты замолчали,
Роги и жалейки перестали.
А женка Авдотья Рязанка
Горше чайцы морской возопила:
— Тошно мне, мои светы!
Тесно мне отовсюду!
Как без камешка синее море,
Как без кустышка чистое поле!
Как я тут буду выбирати,
Кого на смерть оставляти?!
Мужа ли я покину?
Дитя ли свое позабуду?
Брата ли я отступлюся?..
Слушай мое рассужденье,
Не гляди на мои горькие слезы:
Я в другой раз могу замуж выйти,
Значит, мужа другого добуду.
Я в другой раз могу дитя родити.
Значит, сына другого добуду.
Только брата мне не добыти,
Брата человеку негде взяти…
Челом тебе бью, царь татарский,
Отпусти на Русь со мною брата!
И в то время женка Рязанка
Умильно перед царищем стояла,
Рученьки к сердцу прижимала,
Не мигаючи царю в очи глядела,
Только слезы до пят протекали.
Тут не на море волна прошумела,
Авдотью Орда пожалела,
Уму ее подивилась.
И царище сидит тих и весел,
Ласково на Авдотью смотрит,
Говорит Авдотье умильно:
— Не плачь, Авдотья, не бойся,
Ладно ты сдумала думу,
Умела ты слово молвить.
Хвалю твое рассужденье,
Славлю твое умышленье.
Бери себе и брата, и мужа,
Бери с собой и милого сына.
Воротися на Русь да хвастай,
Что в Орду не напрасно сходила.
На веках про Авдотью песню сложат,
Сказку про Рязанку расскажут…
А и мне, царищу, охота,
Чтобы и меня с Рязанкой похвалили,
Орду добром помянули.
Гей, рязанские мужи и жены,
Что стоите, тоскою покрыты?
Что глядите на Авдотьину радость?
Я вас всех на Русь отпущаю.
Гей, женка Авдотья Рязанка!
Всю Рязань веди из полону,
И будь ты походу воевода.
И в те поры мурзы-татаре
Своего царища похваляют,
Виньгают в трубы и в роги,
Гудят в набаты, в бубны.
И тут полонянники-рязанцы
Как от тяжкого сна разбудились,
В пояс Орде поклонились,
Молвили ровным гласом:
— Мир тебе, ордынское сердце,
Мир вашим детям и внукам!
И не вешняя вода побежала,
Пошла Рязань из полону.
Понесли с собой невод и карбас
Да сетей поплавных — перемётов,
Чем, в дороге идучи, питаться.
Впереди Авдотья Рязанка
С мужем, с братом и с сыном,
Наряжены в белые рубахи,
Опоясаны поясами.
После этого быванья
Воротилась Рязань из полону
На старое свое пепелище,
Житье свое управляют,
Улицы ново поставляют.
Были люди, миновались,
Званье, величанье забывалось.
Про Авдотью память осталась,
Что женка Авдотья Рязанка
Соколом в Орду налетала,
Под крылом Рязань уносила.
Об Иване Грозном и его сыне Федоре
Высоко, высоко небо синее,
Широко, широко океан-море,
А мхи-болота — конца им нет
От нашей Двины, от Архангельской.
Заволакивает небо в темны тучи.
Остеклело широко океан-море,
Надо мхами-болотами метель метет.
Та ли осення непогодушка.
Заводилась немогода у синя моря,
Доносило непогоду до Святой Руси.
На Святой Руси, в каменной Москве.
В каменной Москве, в Кремле-городе,
У царя у Ивана у Васильевича
Было пированье, почестен стол.
Все на пиру пьяны-веселы,
Все на пиру стали хвастати.
Прирасхвастался Иван Грозный царь:
— Я взял Казань, взял и Астрахань.
Я повывел измену изо Пскова,
Я повывел измену из Новагорода,
Я повыведу измену из каменной Москвы!
Говорит же тут его молодший сын,
Молодший сын Федор Иванович:
— Вы слыхали ли, бояре, такову беду.
Что сей ночи, со полуночи,
Москва-река течет кровию,
Той ли кровью княженецкою?
А на крутых бережочках не камешки,
А валяются головушки боярские… —
А и гости-то царевичу перстом грозят,
Поют-ревут, его унять хотят.
А расслушал же Малюта Скуратов сын,
Говорит Малюта царю Грозному:
— Хоть ты взял Казань, взял и Астрахань,
Хоть повывел измену изо Пскова,
Хоть повывел измену из Новагорода,
Тебе не вывести измену из каменной Москвы:
С тобой измена за столом сидит,
С одного с тобой блюда хлебы кушает,
Из одной ендовы пива-меду пьет.
Твой-то сын Федор Иванович
Сказывает боярам таковы слова:
«Москва-де река течет кровию,
Той ли кровью неповинною.
А на крутых берегах лежат не камешки —
Валяются головушки християнские».
И Грозный царь распрогневался,
Скачет царь на резвы ноги.
От того поскоку ретивого
Белодубовы столы пошаталися,
В ендовах питья расплескалися,
Хлебы ситны колесом покатилися,
Браны скатерти в трубу завивалися.
Кричит же царь зычным голосом:
— Вы гой, палачи немилостивы,
Имайте царевича за белы руки,
Тащите его за Москва-реку,
На то на Болото на Торговое,
Кладите на плаху на липову,
Секите ему буйну голову!
И все палачи приустрашились,
И все палачи приужаснулись….
Один Малюта не ужаснулся,
Один Скуратов не устрашился.
Хватал царевича за белы руки,
Поволок его за Москва-реку,
На то на Болото на Торговое.
Кладет его на плаху на дубовую,
Ладит сечь буйну голову.
А и эта весточка престрашная,
Что царь казнит своего сына, —
Летит эта вестка по всей Москве,
По той ли улице Никитския.
Тут стоят хоромы высокие,
Живет царевичев дядюшка,
Боярин Никита Романович.
И дядюшка приужаснулся,
Прядал с постели со мягкия,
Сапожки насунул на босу ногу,
Шубоньку на одно плечо,
Шапоньку на одно ушко.
Ему некогда седлать добра коня,
Он падал на клячу водовозную.
Он гонит клячу через всю Москву;
Он застал Малюту на замахе.
Схватил любезного племянника,
Спрятал племянника за пазуху,
Застегнул на пуговки серебряны,
Кричит, зычит таковы слова:
— Собака, вор ты, Скуратов сын,
Мироед ты, съедник, переел весь мир!.-
Сплыви, собака, за Москву-реку,
Поймай в чистом поле татарина,
Ссеки ему буйну голову,
Снеси царю саблю кровавую,
И царь тому делу поверует. —
И дядюшка Никита Романович
Увез племянника во свой во двор,
Спрятал во покои во особые,
Созвал скоморохов веселыих
Утешати опального царевича,
Поколь утолится отецкий гнев.
А Малюта сплыл за Москву-реку,
Поймал в чистом поле татарина,
Срубил ему буйну голову,
Принес к царю саблю кровавую.
И Грозный царь зажалел сына.
Снимал с головы золотой венец*,
Заокутал лицо во черной клобук;
Свои же он ризы царские
Заокутал манатьёй чернеческой*.
Засветил лампаду негасимую,
Отворил книгу псалтырь великую
И заплакал по сыне по Федоре:
— Белопарусной кораблик ушел за море,
Улетела чаица за синее.
Кудрявая елиночка посечена,
Золота верба весенняя порублена.
Нет у меня сына милого,
Я казнил свое детище любимое… —
И плачет царь ровно шесть недель.
Шестинедельная панихида миновалася,
Незатворна псалтырь затворялася,
Негасима лампада погашалася.
Поехал царь за потехами,
За утками поехал, за лебедями.
А и надо ехать через всю Москву.
По той ли улице Никитския.
А у дядюшки Никиты Романовича
Песни поют и гудки гудут,
Играют скоморохи удалые,
Веселят опального царевича.
И грозный царь распрогневался,
Позвал дядю на красно крыльцо,
Ему ткнул копье во праву ногу,
А сам говорит таковы слова:
— Ты старая курва, седатой пес!
Что у тебя за пир такой?
Что у тебя за весельице?
Не знаешь ли ты, не ведаешь,
Что померкло у нас солнце красное,
Погасла звезда раноутренняя?
Ведь казнил я своего сына милого,
Ведь нет в живых твоего племянника!
Так всегда в каменной Москве:
По всяком по воре по боярине,
По всяком князе-изменнике
Много на Москве плачу-жалобы.
По моем только по милом но детище
Никого в Москве нету жалобного.
В те поры Никита Романович
Бежит во покои во особые.
Он выводит к царю сына Федора
Жива, здрава, невредимого.
И грозный царь Иван Васильевич
Падал дяде в праву ножечку:
— Ты от смерти спас мое детище,
Ты от муки спас мою душу грешную!
Я как тебя, дядя, буду чествовать?
Я чем тебе буду благодарствовать? —
Говорит Никита Романович:
— Садись-ко, царь, на ременчат стул,
Пиши-ко ярлык скорописчатый,
Даруй льготу нерушимую
Для нашей улицы Никитския:
«Кто-де на улицу Никитскую
От царского гнева укроется,
Не тронуть того царским приставам,
Не задеть того лютым опричникам».
Поморские сказки
Дивный гудочек
У отца, у матери был сынок Романушко и дочка — девка Восьмуха. Романушко — желанное дитятко, его хоть в воду пошли. А у Восьмухи руки загребущие, глаза завидущие.
У отца, у матери был сынок Романушко и дочка — девка Восьмуха. Романушко — желанное дитятко, его хоть в воду пошли. А у Восьмухи руки загребущие, глаза завидущие.
Пришло красное лето. Кругом деревни лежат белые оленьи мхи. родятся ягодки красные и синие. Стали брат с сестрой на мох ходить, ягодки брать.
Матка им говорит однажды:
— Тятенька из-за моря поясок привез атласный лазорева цвету. Кто сегодня больше ягод принесет, тому и пояс.
Пришли ребята на мох, берут ягоду-морошку. Брателко все в коробок да в коробок, а сеструха все в рот да в рот.
В полдни стало жарко, солнечно.
У Романушки ягод класть некуда, а у Восьмухи две морошины в коробу катаются и те мелки и зелены.
Она и сдумала думку и говорит:
— Братец, солнце уж на обеднике! Ляг ко мне на колени, я тебе головушку частым гребешком буду учесывать.
Романушко привалился к сестре в колени. И только у него глазки сошлись, она нанесла нож да и ткнула ему в белое горлышко… И не пуховую постелю постилает, не атласным одеялом одевает, — положила брателка в болотную жемь, укутала, укрыла белым мохом. Братневы ягодки себе высыпала. Домой пришла, ягоды явила:
— Без расклонки брала, выдать мне-ка атласный пояс!
— Романушко где-ка?
— Заблудился. Его лесной царь увел.
Люди в лес побежали, Романушку заискали, в колокол зазвонили… Романушко не услышал, на звон колокольный не вышел. Только стала над ним на болотце расти кудрявая рябина.
Ходят по Руси веселые люди — скоморохи, народ утешают песнями да гуслями. Поводырь у скоморохов свет Вавило. И пришли они на белые оленьи мхи, где Романушко лежит. Видит Вавило рябинку, высек тесинку, сделал гудок с погудалом. Не успел погудальце на гудок наложить, запел из гудочка голосок жалобно, печально:
Скоморохи, потихоньку,
Веселые, полегоньку!
Зла меня сестрица убила,
В белый мох положила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный!
Продрожье взяло скоморохов:
— Эко диво, небывалое дело! Гудок человеческим языком выговаривает!
А Вавило-скоморох говорит:
— В этом гудке велика сила и угодье.
Вот идут скоморохи по дороге да в ту самую деревню, где Романушкин дом. Поколотились, ночь перележать попросились:
— Пусти, хозяин, веселых людей — скоморохов!
— Скоморохи, здесь не до веселья! У нас сын потерялся!
Вавило говорит:
— На-ко ты, хозяин, на гудке сыграй. Не объявится ли тебе какого дива.
Не поспел отец погудальце на гудок наложить, запел из гудочка печальный Романушкин голосок:
Тятенька, потихоньку,
Миленький, полегоньку!
Зла меня сестрица убила,
В белые мхи положила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный!
Мать-то услыхала! Подкосились у нея с колен резвы ноженьки, подломилися с локот белы рученьки, перепало в груди ретиво сердце:
— Дайте мне! Дайте скорее!..
Не поспела матерь погудальце на гудок наложить, запел гудок, завыговаривал:
Маменька, потихоньку,
Родненька, полегоньку!
Зла меня сестрица убила,
В белый меня мох положила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный!
Пала мать на пол, клубышком закаталась… И почто с печали смерть не придет, с кручины душу не вынет!
Сошлась родня и вся порода, собрались порядовные соседи. Ставят перед народом девку Восьмуху и дают ей гудок:
— На-ко, ты играй!
Побелела Восьмуха, как куропать. Не успела погудальце на гудок наложить, и гудок поет грозно и жалобно:
Сестрица, потихоньку,
Родненька, полегоньку!
Ты меня убила,
В белые мхи схоронила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный!
Восьмуха шибла погудальце об пол. Вавило подхватил да стегнул девку в пояс. Она перекинулась вороной, села на подоконник, каркнула три раза и вылетела оконцем.
Скоморохи привели родителей и народ на болото. Вавило повелел снять мох под рябиной…
Мать видит Романушку, бьет ладонями свое лицо белое.
А Вавило говорит:
— Не плачьте! Ноне время веселью и час красоте! Заиграл Вавило во гудочек, а во звончатый во переладец, и народ запел:
Грозная туча, накатися,
Светлы дожди, упадите!
Романушко, убудися,
На белый свет воротися!
И летает погудало по струнам, как синяя молния. Гременул гром. Над белыми мхами развеличилось облако и упало светлым дождем на Романушку. И ожил дитя, разбудился, от мертвого сна прохватился. Из-под кустышка вставал серым заюшком, из-под белого мха горностаюшком. Людям на диво, отцу-матери на радость, веселым людям — скоморохам на славу.
Пойга и Лиса
Жил юный Пойга Корелянин. Жил житьем у вершины реки. Наехала на него шведка Кулимана[10], дом и оленей схватила. Пойга и пошел вниз по реке. У Лисьей горы изготовил ловушку и пошел умыться. Видит — на воде карбас, в нем спят. На берегу девица, не спит. Ночь летняя, сияющая.
Пойга испугался красоты этой девицы:
— Ты не звезда ли утренница?
Она засмеялась:
— Если я звезда, ты, должно быть, месяц молодой. По сказкам, он гоняется за утренней звездой.
— Чья же ты?
— Я дочь вдовы Устьянки. В карбасе моя дружина, пять уверенных старух. Плавали по ягоды по мамкину указу.
Пойга взмолился к ней:
— Девица, подожди здесь! Я тебе гостинец принесу, лисичку.
Он к ловушкам поспешил к своим — туда залезли Лисьи дети. Он обрадовался: «Не худой будет подарок для девицы».
И тут прибежала Лисья мать. Стала бить челом и плакаться:
— Пойга, милый, отдай мне моих детей!
Он говорит:
— На что много плачешь, Лиса? Мне твое горе внятно. Меня самого шведская Кулимана обидела. Возьми детей.
Пока Лиса да Пойга разговаривали, старух на карбасе заели комары. Устьянкина дочь и уплыла домой…
Пойга опять идет вниз по реке.
На новый месяц догоняет его Лисья мать. Пойга удивился:
— Ты на кого детей-то бросила?
Лисица говорит:
— Есть у меня родни-то. Это ты один, как месяц в небе. Я тебя женю на дочери вдовы Устьянки. За твое добро тебе добро доспею.
Вот они дошли до Устья. Тут сделали шатер из белого моху. Лисица говорит:
— Пойга, нет ли у тебя хоть медной денежки?
— У меня серебряных копеек пять.
Лисица прибежала в дом к Устьянке и говорит:
— Государыня Устьянка, Пойга, мой сынок, просит мерку-четверик: хочет жито мерить.
— Возьми.
Лисина принесла мерку в шатер, запихала в заклеп две серебряные денежки и несет мерку обратно:
— Государыня Устьянка, дай меру побольше — четвериком мерить долго.
Вдова дала Лисе полмеру и говорит дочери:
— Гляди, в четверике-то серебро застряло. Вот какое «жито» меряют, хитряги!
Лиса опять там в полмеру за обруч влепила три серебряных копейцы и несет обратно. Устьянка опять приметила серебро, однако виду не подала, спрашивает:
— Для какого случая зерно-то меряли?
— Жениться собирается.
— Пожиточному человеку что собираться? Посватался — и все.
— Государыня Устьянка, я ведь и пришла твою дочку сватать.
Вдова говорит:
— Надобно жениха-то в лицо поглядеть.
Ведет Лисица Пойгу на смотрины и думает: «Не гораздо ты, жених, одет. В чем зверя промышляем, в том и свататься идем». А идут они через болото, по жерди ступают. Лиса и подвернулась Пойге под ноги, он и слетел в болото.
На сухое место выбрался, заплакал:
— Испугается меня теперь невеста. Скажет, черт из болота вылез…
А Лиса над ним впокаточку хохочет:
— Сохни тут, тетеря косолапая! Я хорошую одежу принесу.
Лисица к Устьянке прилетела:
— Как быть, государыня? С женихом-то смех и горе! К вам на смотрины торопился, на болоте подопнулся и ляпнул в грязь. Обиделся, назад пошел.
Вдова зашумела на Лису:
— Как это назад пошел?! Глупая ты сватья! Возьми вот мужа моего одежу. Пусть переоденется да к нам, к горячим пирогам.
Вот Пойга в дом заходит. Невеста шепнула ему украдкой в сенях:
— Ты виду не показывай, что мы встречались.
Пойга за столом сидит, ни на кого не глядит, только на себя: глянется ему кафтан василькового сукна, с серебряными пуговками.
Вдова и шепчет Лисе:
— Что это жених-то только на себя и смотрит?
Лисица отвечает:
— Он в соболях, в куницах ведь привык ходить. Ему неловко в смирном-то кафтанчике.
Вдова и говорит Пойге:
— Ну, добрый молодец, сидишь ты — как свеча горишь. Не слышно от тебя ни вздора, ни пустого разговора. Ты и мне и дочке по уму, по сердцу, Однако, по обычаю, надо съездить посмотреть твой дом, твое житье— бытье.
Пойга смутился: как быть? Ведь дом-то шведка схватила.
А Лиса ему глазком мигает, чтобы помалкивал, и говорит:
— Обряжай, Устьянка, карбас. Возьми в товарищи уверенных людей, и поплывем смотреть житье женихово. Не забудь взять в карбас корабельный рог.
Вот плывет дружина в карбасе: Устьянка с дочкой, Пойга, да Лиса, да пять уверенных старух. Подвигались мешкотно: по реке пороги каменные; однако до вершины добрались.
На заре на утренней Лисица говорит:
— Теперь до нашего житья рукой подать. Я побегу по берегу, встречу приготовлю. А вы, как только солнышко взойдет, что есть силы в рог трубите. Гребите к нашему двору и в рог трубите неумолчно.
Лисица добежала до Пойгина двора и залезла в дом. Шведка Кулимана еще спит-храпит. По стенам висит и по углам лежит Пойгино добро: шкуры лисьи, куньи, беличьи, оленьи.
В эту пору из-за лесу выглянуло солнце. И по речке будто гром сгремел — затрубили в рог. Кулимана с постели ссыпалась, ничего понять не может.
А Лисица верещит:
— Дождалась беды, кикимора? Это Русь трубит!
Кулимана по избе бегает, из угла в угол суется, лисиц, куниц под печку прячет:
— Ох, беда! Я-то куда? Я-то куда?
Лиса говорит:
— Твои слуги-кнехты где?
Кулимана вопит:
— Кнехты мне не оборона! У стада были, у оленей, а теперь, как русский звук учуяли, побежали в запад. Так летят, что пуля не догонит.
Лиса говорит:
— Тебе, чертовка, надо спрятаться. Я при дороге бочку видела. Лезь в эту бочку.
Кулимана толста была, еле запихалась в бочку. Лисица сверху крышку вбила:
— Хранись тут, Кулимана, в бочку поймана. Не пыши и не дыши. Я потом велю тебя в сторонку откатить.
А Пойга с гостями уж по берегу идет и невесту свою за руку ведет. Лиса к нему бежит:
— Гостей ведешь почетных, а на дороге бочка брошена. Ну— ка, гостьюшки-голубушки, спихнем эту бочку в воду, чтоб не рассохлась.
Пять уверенных старух мигом подкатили бочку к берегу и бухнули с обрыва.
Кулимана ко дну пошла. Больше никого пугать не будет.
Устьянка с Пойгой по дому ходит, дом хвалит:
— Дом у тебя как город! И стоит на месте на прекрасном. Моя дочка будет здесь хозяюшка и тебе помощница.
Вот сколько добра доспела Пойге Лисья мать за то, что он ее детей помиловал.
Умная Дуня
Были Саня и Дуня, брат и сестра. Саня в городе работал, Дуня дома хозяйничала, в деревне.
Вот она от брата записку получила: «Завтра приеду домой на побывку».
Дунюшка обрадовалась: «Чем буду братца угощать?.. Ах, братец котлеты любит!»
Котлету большую замесила, с тарелку, поставила жарить. «Ох, забыла: братец уксус любит!»
В подпол спустилась, стала из бочки уксус цедить* «Ох, котлета сгорит!»
В избу полетела, котлету на окно поставила студить. «Ох, забыла кран завернуть, уксус выбежит!»
А уж уксус выбежал: во весь пол лужа. «Ах, меня братец забранит: сырость развела!»
В углу мешок муки стоял. Дунюшка мешок в охапку взяла, давай эту лужу мукой посыпать. По полу ходит, грязь месит. «Вот теперь сухо, хорошо… Ох, кошка котлету съест!»
Бежит в избу, а уж кот давно котлету съел. Нет ни муки, ни уксусу, ни котлеты.
А брат приехал веселый, не стал браниться:
— Дуня, я поеду на завод насчет железа, крышу крыть. А деньги вот, в сундук кладу.
Дуня говорит:
— Деньги бывают золотые и серебряные, а тут бумажки пестрые.
— Ладно, не толкуй.
Брат ушел, Дуня села у окна покрасоваться. Мимо горшечник едет:
— Эй, красавица, горшков не надо ли?
— Надо, только денег настоящих нет, а всё бумажки пестрые.
— Покажи.
Она деньги из сундука вынула, показывает. Деньги как деньги: рублевки, трешницы, пятишницы. Горшечник видит — девка глупая.
— Ладно, деньги мои, посуда твоя.
Дунюшка посуду в избу носит, всю избу заставила. На окнах кринки, на лавках кринки, на столах, на полках…
Брат приходит, глаза вытаращил:
— Дуня, это что?
— Посуда.
— Где взяла?
— Купила.
— Где деньги взяла?
— Я не деньги, я твои бумажки пестрые отдала.
— Авдотья, ты меня разорила! Опять надо в город на заработки идти. И ты со мной пойдешь. Собирайся.
Саня и видит: Дуня дверь с петель снимает, тяжелую, дубовую.
— Куда ты с дверью-то?
— А может, в чистом поле будем ночевать. Я без двери боюсь.
Брат идет, и Дунюшка за ним пыхтит, дверь прёт.
Вечер. Темень. На перекрестке сосна матёрая.
Саня говорит:
— Залезем на эту сосну, ночь пересидим на сучьях. Безопасно будет.
Брат на сосну лезет, и Дунюшка за ним с дверью мостится. Расположила дверь на сучьях и легла.
А давишний горшечник домой едет мимо этой сосны. «Эх, я неладно сделал, глупую девку обманул. Надо ее деньги сосчитать».
С телеги слез, под сосну сел, стал считать Дунины деньги: рубль… три рубля… девять… двенадцать…
Дунюшка сквозь сон слышит этот счет. На край двери привалилась, чтобы поглядеть. Дверь перекувырнулась, Дунюшка и полетела, загремела с дверью вниз.
Горшечник рявкнул со страху, пал в телегу, лошадь настегал да домой без оглядки.
Брат с сосны слез, видит — деньги лежат.
— Дуня! Мои деньги!
Сосчитал — все до копеечки целы.
— Ну, Дуня, пойдем домой хозяйствовать. Нет нужды в город идти.
Судное дело Ерша с Лещом
Зачинается-починается сказка долгая, повесть добрая.
Ходило Ершишко, ходило хвастунишко с малыми ребятишками на худых санишках о трех копылишках по быстрым рекам, по глубоким водам. Прожился Ерш, проскудался. Ни постлать у Ерша, ни окутаться, и в рот положить нечего.
Приволокся Ерш во славное озеро Онего. Володеет озером рыба Лещ. Тут лещи — старожилы, тут Лещова вотчина и дедина со всем родом-племенем. Закланялось Ершишко рыбе Лещу. Ерш кланяться горазд: он челом бьет, затылком в пол колотит:
— Ой еси, сударь рыба Лещ! Пусти меня, странного человека, на подворье ночь переночевать. За то тебя бог не оставит, родителям твоим царство небесное…
Пустил Лещ Ерша ночь обночевать.
А Ерш ночь ночевал, и две ночевал… Год жил, и два жил!.. И наплодилось в озере Онеге ершей втрое, впятеро против лещей. А рыба ерш ростом мала, да щетина у ей, как рогатины. Почали ерши по озеру похаживати, почали лещей под ребра подкалывати. Три года лещи белого свету не видали, три года лещи чистой воды не пивали.
С этой напасти заводилась в озере Онеге бой-драка великая. Бились-дрались лещи с ершами от Петрова до покрова. И по этой лещовой правде взяли лещи Ерша в полон, рот завязали, к судье привели.
Судья — рыба Сом с большим усом — сидит нога на ногу.
Говорит Лещ:
— Вот, господин судья… Жили мы, лещи, в озере Онежском, ниоткуда не изобижены. Озеро Онего век было Лещова вотчина и дедина. Есть у меня на это письма, и грамоты, и судные записи. Откуль взялся в озере Онеге Ершишко Щетинников, не ждан, не зван? Лисий хвост подвесил, выпросился у меня в Онеге ночь перележать. И я за его сиротство, ради малых ребят на одну ночь пустил. А он, вор, ночь ночевал, и две ночевал. Год жил, и два жил… И теперь ершей в озере впятеро больше против нас, лещей. Да та худа рыба ерши ростом мала, а щетина у их, что лютые рогатины. И они по озеру нахвально похаживают, лещей под ребра подкалывают. Наши деушки-лещихи постатно себя ведут, постатно по улочке идут, а ерши наших девок худыми словами лают. С этой беды заводилась у нас с ершами драка немилостива, и по моей Лещовой таланести взяли мы Ершишко Щетинникова в полон и к тебе привели: сидите вы, судьи, на кривде, судите по правде!
Говорит судья — рыба Сом:
— Каки у тя, Леща, есть свидетели, что озеро ваше, лещово?
Лещ говорит:
— Нас, лещей, каждый знает. Спроси рыбу Семгу да рыбу Сига. Живут в озере Ладожском.
Спрашивает судья Ерша:
— Ты, ответчик Ерш, шлесся ли на таковых Лещовых свидетелей, Семгу да Сига?
Ерш отвечает:
— Слаться нам, бедным людям, на таковых самосильных людей, Семгу и Сига, не мочно. Рыба Семга да рыба Сиг люди богатые. Вместе с лещами пьют и едят. И хотят они нас, малых людей, изгубить.
Судья говорит:
— Слышишь, истец Лещ. Ерш отвод делает… Еще какие у тебя есть свидетели-посредственники?
Лещ говорит:
— Еще знают мою правду честна вдова Щука да батюшко Налим. Живут в Неве-реке, под городом Питером.
Спрашивает судья Сом:
— Честна вдова Щука да батюшко Налим тебе, Ершу, годны ли в свидетели?
Ерш в уме водит: «Рыба Налим — у его глаза малы, губища толсты, брюхо большо, ходить тяжело, грамотой не доволен. Он не пойдет на суд. А Щука — она пестра, грамотой востра, вся в меня, в Ерша. Она меня не выдаст».
И Ерш говорит:
— Честна вдова Щука да батюшко Налим-то общая правда, на тех шлюся.
Посылает судья — рыба Сом — Ельца-стрельца, пристава Карася, понятого Судака по честну вдову Щуку, по батюшку Налима.
Побежали Елец-стрелец, пристав Карась, понятой Судак из Онега-озера на Ладогу, с Ладоги на матушку Неву-реку. Стали щупать, нашли Щуку. Учали батюшку Налима искать. День искали и два искали, не пили не ели и спать не валились. На третьи сутки — день к вечеру, солнце к западу — увидали под островом Васильевским колодину. Колодину отворотили — под колодиной батюшко Налим сидит.
Елец— стрелец, пристав Карась, понятой Судак челом ударили:
— Здравствуешь, сударь-батюшко Налим! Зовет тебя судья — рыба Сом с большим усом — во славное озеро Онего во свидетели.
— О-о, робята! Я человек старой, у меня брюхо большо, мне идтить тяжело, язык толстой, непромятой, глаза малы — далеко не вижу, перед судьями не стаивал, у меня речь не умильна… Нате вам по гривенке. Не иду на суд!
Привели на суд Щуку.
Суд завелся.
Вот судья — рыба Сом — сгремел на Ерша:
— Сказывай, ответчик Ерш, каки у тя на Онежское озеро есть письма и крепости, памяти и грамоты?
И Ерш ответ держит:
— У моего-то папеньки была в озере Онежском избишка, в избишке были сенишки, в сенишках была клетишка, а в клетишке сундучишко под замчишком. В этом сундучишке под замчишком были у меня, доброго человека, книги, и грамоты, и судные записи, что озеро Онего — наша, ершова вотчина. А когда, грех наших ради, наше славное Онего горело, тогда и тятенькина избишка, и сенишки, и клетишка, и сундучишко под замчишком, и книги, и грамоты, и судные записи — все сгорело, ничего вытащить не могли.
В те поры Леща, и Щуку, и всех добрых людей, которые рыбы из озера Онега, горе взяло:
— Врешь ты, страхиля! Нища ты коробка, кисла ты шерсть! Наше славное озеро Онего на веку не гарывало, а у тебя, у бродяги, там избы не бывало!
А Ерша стыд не имет. Он заржал не по-хорошему да опять свое звонит:
— Был у моего тятеньки дворец на семи верстах, на семи столбах. На полатях бобры, под полатями ковры — и то все пригорело… А нас, ершей, знают в Питере, и в Москве, и в Соломбальской слободе, и покупают нас, ершей, дорогою ценою. И варят нас с перцем и с шафраном, и великие господа, с похмелья кушавши, поздравляют…
И честна вдова Щука не стерпела:
— Нищая ты копейка! На овчине сидишь, про соболи сказываешь! Тридцать ты лет под порогом стоял, куски просил. А кто тебя, Ерша, знает да ведает, тот без хлеба обедает. Останется у голи кабацкой от пропою копейка, дак на эту копейку вас, ершей, сотню купят. А и уху сварят — не столько наедят, сколько расплюют.
И Ерш к Щуке подскочил и ей плюху дал:
— Вот тебе раз! Другой бабушка даст!
И Щука запастила во весь двор:
— Караул, убивают! А озеро Онего век было Лещово, а не Ершово! Лещово, а не Ершово!
Судья возгласил:
— Быть по сему! Получай, Ерш, приказ от суда: уваливай из озера Онега.
Ерш в ответ:
— На ваши суды плюю и сморкаю!
И Ерш хвостом вернул, головой тряхнул, плюнул в глаза всей честной братии, только его и видели.
Пошел Ершишко, пошел хвастунишко на худых санишках о трех копылишках с малыми ребятишками по быстрым рекам, по глубоким водам. По пути у Леща в дому все окончательно выхвостал…
Из Онега-озера Ерш на Белоозеро, с Белаозера в Волгу-реку.
Река Волга широка и долга.
Стоит в Волге-реке Осетер. Тут Осетрова вотчина и дедина.
Закланялось Ершишко рыбе Осетру, челом бьет, затылком в пол колотит:
— Ой еси, рыба Осетер! Пусти меня в Волге-реке одну ночь перележать. За то тебя бог не оставит. Родителям вашим царство небесное…
А рыба Осетер хитра и мудра. Она знает Ерша.
— Не пущу!
Ерш на него с кулаками. Ерша схватили, с крыльца спустили.
Ерш придумывает: «Рыба Осетер хитра-мудра, а если будет вода мутна, Осетер в гости пойдет и невода не минует».
Начал Ерш Волгу-матушку со дна воротить, с берегов рыть. Волга-река замутилась, со желтым песком смешалась.
Стали люди поговаривать:
— О, сколько рыбы поднялось! Воду замутили…
Люди невод сшили, стали рыбу промышлять. А рыба Осетер хитра-мудра: видит, вода мутна — и она дома сидит, в гости не ходит.
Это Ершу хуже ножа. Он мимо Осетровых хором свищет, рад оконцы выстегать.
— Эй ты, Осетрина, старая корзина! Отпирай окна и двери, будем драться четыре недели. И я тебе голову оторву. Схожу сейчас пообедаю и приду тебя, Осетра, убивать.
Пошел Ершишко обедать да и попал в невод. Из невода в медный котел. Уху из Ерша сварили, хлебать стали. Не столько съели, сколько расплевали. А хоть рыба костлива, да уха хороша… Сказка вся, больше врать нельзя.
Сказки о шише
Наш пострел везде поспел
Дом был, стоял добрым порядком и на гладком месте, как на бороне. В дому отец жил с сыновьями.
Старших и врать не знай, как знали, а младшего все Шишом ругали.
Время ведь как птица: летит — его не остановишь. Вот Шиш и вырос. Братья — мужики степенные, а он весь — как саврас без узды. Такой был Шиш: на лбу хохол рыжий, глаза как у кошки. Один глаз голубой, другой как смородина. Нос кверху.
Начнет говорить, как по дороге поедет: слово скажет — другое готово.
А ловок был в рот заедет, да и поворотится.
Рано Шиш начал шуточки зашучивать. У них около деревни, в лесу, барин с барыней землю купили. Домок построили, садик развели. До людей жадные и скупые были, а между собой жили в любви и согласье, всем на удивленье. Оба маленькие, толстые, как пузыри. По вечерам денежки считали, а днем гуляли, сады свои караулили, чтобы прохожие веточки не сорвали или; травки не истоптали. У деревенских ребят уши не заживали все лето — старички походя дрались, а уж друг с другом одни нежности да любезности.
Шиш на них давно немилым оком смотрел:
— Ужо я вам улью щей на ложку!
И случай привелся. Забралась в лес старушонка из дальней деревни за грибами. Ползала, ширилась, да и заблудилась. И заревела:
— О-о! Волки съедят!
Шиш около шнырял:
— Бабушка, кто тебя?
— У-у, заблудилась!
— Откуда ты?
— Из Горелова.
— Знаю. Выведу тебя, только ты мне сослужи службу…
Шиш и привел ее к барской усадебке:
— Видишь, в окне баринок сидит, спит за газетой?
— Ну, не слепая, вижу.
— Ты постучи в окно. Барин нос выставит, ты тяпни по плеши да скажи: «На! Барыне оставь!»
— Как же это я благородного господина задену? Они меня собаками затравят!
— Что ты! Они собак не держат, сами лают.
— Ну, что делать, не ночевать в лесу…
Побежала старуха к дому, стукнула в раму:
— Барин, отворьте окошко!
Толстяк высунулся, кряхтит:
— Кто там?
Старушонка плюнула в ладонь, размахнулась да как дернет его по плеши:
— На! Барыне оставь!
А сама от окна — и ходу задала.
Ну, ее Шиш на Русь вывел.
Этот баринок окошко захлопнул, скребет затылок, а барыня уж с перины ссыпалась:
— Тебе что дали?
— Как — что дали?..
— Я слышала, сказали: «На, барыне оставь».
— Ничего мне не дали!
— Как это ничего? Давай, что получил.
— Плюху я получил.
Плюшечку? Какую? Мяконькую?
— Вот какую!
И началась тут драка. Только перья летят.
Вот что Шиш натворил.
Доход не живет без хлопот
Вот отец пристарел. Братья волю взяли, дом на себя и скот на себя отобрали. Отцу говорят:
— При твоем худом здоровье первое дело свежий воздух. Ты теперь ночуй в сарае, а день гуляй по миру. Под одним окошечком выпросишь, под другим съешь.
А Шишу дали коровку ростом с кошку, удоя с ложку:
— Вот это тебе, братец, наделок. И вообще — люби нас, ходи мимо.
Отец сидит на крыльце, не смеет в избу зайти. У Шиша в сердце как нож повернулся. Он отца в охапку:
— Тятенька, давай заодно жить! Есть — пополам, и нет — пополам. А братцам дорогим я отсмею насмешку, припасу потешку!.. Тятенька, ты меня дожидайся, а я пойду эту коровенку продавать.
Шиш лесом идет, а дело к вечеру. И гроза собралась, близко громыхнуло. На ночь мокнуть неохота, Шиш и сунулся в боковую тропиночку, в дебрь, где бы лесину, ель погуще найти. Он в лесу не боится. Шагов сотню ступил — в ельнике дом стоит. Еле доколотился. —
Старуха открыла:
— О, куда ты, парень, попал! Уваливай, пока жив.
— Бабинька, пусти, где коровке хоть перестоять грозу.
— Дитятко, уходи: разбоем хозяева-то живут.
А к воротам еще двое бегут. Шиш сразу узнал — два богатея из соседнего села. Кричат:
— Эй, бабка, где тут дождь переждать?
Что будешь делать! Старуха и спрятала всех в подполье:
— Только уж чтобы ни кашлянуть, ни дохнуть, ни слова не сказать, как хозяева придут. Убьют и меня с вами.
Под полом Шиш их спрашивает, будто не знает:
— Вы чьи? Куда?
Те не смотрят на него:
— Со всяким сбродом не разговариваем!
Тут над головами затопали, заходили… Разбойники приехали.
Там у них питье пошло, еда. Напились пьяны, песню запели: «Не шуми, мати-дубравушка…»
Тут Шиша как шилом подняло:
— Ах, люблю! Даже до слез! Запою и я с ними..
Купцы его в охапку:
— С ума тебя скинуло, собаку?
— Заткни глотку! Убьют!
— Ох, не осудите меня! Я певец природный. Запою!..
— Молодой человек, не сгубите! Возьмите деньгами! По десятке дадим!
— А уж по сотне не дадите?
— Подавись сиротским! На!
Шиш деньги убрал в карман, сел в уголок, будто спит.
Не успели купцы кисеты завязать, наверху плясовую грянули — «барыню».
Ух, барыня, не могу!
Комар ступил на ногу…
Шиш к купцам:
— Рабы божьи, теперь не вытерплю! Я на то родился, чтобы плясать. Ух!..
Ходи, хата, ходи, хата!
Ходи, курица хохлата!..
Купцы у пего на ногах повисли:
— Возьми что хошь, пожалей не нас — сироток наших! Благодетель, не погуби!
— Так уж, чтобы вам не обидно, еще по сотне с человека.
Вот у Шиша четыреста рублей, да всё золотыми.
А наверху-то и учуяли, что под полом неладно. Дрогнули разбойники:
— О, согрешили, грешники! Бесы в доме завелись! Не будет боле удачи…
Старуха слышит — на ней каждый трепок трясется:
— Я, хозяева, бесов-то выживать туда человека запустила..
— Какой человек?
Шиш это услышал, он всех смелее, и лезет из подполья.
Разбойники к нему:
— Ну что? Благополучно ли? Всех ли бесов-то выжил?
Шиш и смекнул:
— Пятерых выжил, двое остались больших. Те там подпольем ушли, этих надо избой выпускать…
— Молодец, выведи эту напасть! Отблагодарим тебя.
— Не стоит благодарности. Давайте кудели да огонька. Сами зайдите на печь, чтобы, как полетят, вас не задело.
Сам Шиш спустился под пол.
— Ну, купцы, я с вас внял по два ста, а разбойники вас найдут и душу вынут. А за ваши деньги я вас отблагодарю.
Вот Шиш обоих купцов куделей замотал по одежде:
— Как я вас подожгу, вы и летите избой да на улицу.
Чиркнул спичкой, вспыхнула куделя. Взвились купцы по лесенке, да в избу, да в сени, да на улицу. А там после грозы лужа. Они в эту лужу. Даже одежда не затлела. Да скорее в лес, да домой.
А разбойники не скоро в себя пришли:
— О, молодой человек! И не видали мы на веку такого страху…
— О, коль страшно у бесов огненно-то видение! О, погубили мы свои душеньки, уготовали себе вечный огонь!..
— Руку даю, что эти черти боле к вам не прилетят, не досадят.
— Тебя как благодарить-то?
— Да вот строиться собрался…
— Держи сотенную. За такую услугу сто рублей плёвое дело.
А коровку Шиш старухе ихней подарил.
Шиш домой пришел. Деньги на стол, считать начал. Сбился, опять снова. Братья около, рот раскрыли, стоят…
— Шиш, откуда таково богатство?
— А прихожу на рынок, а у меня коровенку из рук рвут. Пять сот за шкуренку дали.
Братья в хлев. От жадности трясутся. Коров колют и шкуры с них дерут. Запрягли пару коней да в город с кожами. Стояли-стояли в кожевенном ряду… Кто-то подошел:
Почем шкура?
— Сто…нет, триста… пятьсот рублей!
Покупатель глаза выпучил да бегом от них.
Народ собрался, пальцами кажут:
— Глядите-ко, безумные приехали. За коровью шкуру сотни просят…
Вернулись братья домой да на Шиша с кулаками:
— Обманыва-а-ать?!
— Да что с вами? Что?
— Да ведь нас весь рынок дураками почтил!
— Да вы в каком ряду стояли?
— Как в каком? В кожевенном!
— А я в галантерейном.
Братья на другой день в галантерейном стояли. Публика ходит чистая. Барыни братьев ругают, городовые их гонят.
Один кто-то спросил опять:
— Да почем шкура-то?
— А вот третьего дня за маленькую шкуренку пятьсот давали, дак уж у нас неужели дешевле!
Тут уж их в шею натолкали. До самой заставы с присвистом гнали. Кричат мальчишки:
— Самашеччих везут! Самашеччих везут!
Прикатили братья домой, кони в мыле.
— Подать сюда злодея, всегубителя, разорителя!..
Не успел Шиш увернуться. Бочка во дворе стояла.
Шиша в нее заколотили, да с берега в реку и ухнули. Пронесло бочку с версту, да к берегу и прикачало.
Шиш и слышит, что по берегу кто-то с колокольчиком едет. Шиш и заревел:
— О-о-о! Ни читать, ни писать, ни слова сказать, а в начальники ставят!
А с колокольцем-то ехал становой с бедной деревни подати выколачивать. Он с тройки да под угор:
— Я знаю читать, и писать, и слово сказать! И в начальники годен. Кто здесь?
— Я! В бочке сижу.
Становой дно выбил. Шиш вылез.
— В начальники силом ставят, а я бы другому уступил.
— Возьми отступного. Я в начальники горазд.
— А давай меняться. Вы в бочку залезете — в начальники вас направят на мою должность, а я ваших лошадок с кибиточкой — себе.
— Согласен. Хлебна ли должность та?
— Обзолотиться можно.
Заколачивай скорее. Жив-во!
Забил днище Шиш да как пнет бочку ту! Ух, она в воду полетела, поплыла…
А Шиш домой на тройке подкатил.
Братья под кровати лезут:
— У-у, утопленничек, не ешь нас!
— Что вы, дикие! Глядите-ко, мне там каких лошадок выдали!
— Где выдали-то?
— Куда меня спихнули, там.
Братья коней гладят. От зависти руки трясутся.
— Шишанушка! У нас вон бочка порожняя…
— Ну, порожняя, вижу.
— Мы бы в бочку ту… да в речку ту… Не откажись. Тоже хоть по конику бы!
— Дак что ж, можно. Неужели для братьев единоутробных пожалею?
О, сколь тяжело было бочку ту катить! А те там сидят — торопят:
— Кати круче! Всех хороших-то упустим.
Опять с горы как дунет их Шиш…
Поехали братаны вниз по матушке по Волге, по широкому раздолью. Выплеснуло их в Нижнем, у ярмарки. Лавку там себе поставили. В домашнюю сторону и смотреть перестали.
А Шиш с отцом зажил. Он до отца хороший стал, ласковый. Отец его залюбил.
Шиш и трактирщица
По свету гуляючи, забрел Шиш в трактир пообедать, а трактирщица такая
вредня была, видит: человек бедно одет — и отказала:
— Ничего нет, не готовлено. Один хлеб да вода.
Шиш и тому рад:
— Ну, хлебца подайте с водичкой.
Сидит Шиш, корочку в воде помакивает да посасывает. А у хозяйки в печи
на сковороде гусь был жареный. И одумала толстуха посмеяться над голодным
прохожим.
— Ты, — говорит, — молодой человек, везде, чай, бывал, много народу
видал, не захаживал ли ты в Печной уезд, в село Сковородкино, не знавал ли
господина Гусева-Жареного?
Шиш смекнул, в чем дело, и говорит:
— Вот доем корочку, тотчас вспомню…
В это время кто-то на хорошем коне приворотил к трактиру. Хозяйка
выскочила на крыльцо, а Шиш к печке; открыл заслонку, сдернул гуся со
сковороды, спрятал его в свою сумку, сунул на сковороду лапоть и ждет…
Хозяйка заходит в избу с проезжающим и снова трунит над Шишом:
— Ну что, рыжий, знавал Гусева-Жареного?
Шиш отвечает:
— Знавал, хозяюшка. Только он теперь не в Печном уезде, село
Сковородкино, живет, а в Сумкино-Заплечное переехал.
Вскинул Шиш сумку на плечо и укатил с гусем. Трактирщица говорит гостю:
— Вот дурак мужик! Я ему про гуся загадала, а он ничего-то не понял…
Проходите, сударь, за стол. Для благородного господина у меня жаркое
найдется.
Полезла в печь, а на сковороде-то… лапоть!
Шиш показывает барину нужду
Зима была лютая. Выскочил Шиш однажды на улицу, выдернул жердь из огороды и стал рубить. А мимо проезжают барин с барыней на тройке:
— Эй, мужик! Зачем забор на дрова рубишь?
— Не я рублю — нужда рубит!
— Что значит нужда?
— Неужто нужды но видали?
— А она что, где?
— Где? В чистом поле, под горкой.
— Мы желаем посмотреть. Проводи нас туда заместо прогулки.
Люди бы за ум, а Шиш за дело.
Уселся в господские сани и поехал в чисто поле.
Ехал, ехал, дале надоело.
Остановил коней:
— Дальше конями не проедешь. Ежели угодно, полем пройдитесь пешком. Нужда — она вон где: вправо, четверта горочка слева, куда галка полетела…
Господа из саней вылезают:
— Эй, мужик! Мы прогуляемся туда, а ты покарауль тройку.
— Пожалста.
Вот и полезли барин с барыней по снегу. К горке подойдут, другу завидят, эту осмотрят, вдали четверта блазнит. А нужды этой кабыть не сидит нигде…
Ну, они бродят, а Шиш свое дело правит. Тройку выпряг, на коренника сел да с конями в свою деревню ускакал. Сани в поле на дороге покинул.
А барин с барыней бродят по колено в снегу да по пояс ныряют. Умаялись, упыхались. К вечеру еле-еле по старым своим следам на дорогу к саням выгреблись.
Сани-то на месте, а лошадей нет.
И поругались, и поплакали… Вот где нужда-та!
Барин говорит:
— Придется вот что: ты за одну оглоблю возьмись, я за другую. Так и повезем сани!
Барыня не слушает:
— Ни за какую оглоблю я браться не намерена! Хочешь, так впрягайся, а я, в крайнем случае, сбоку, впристяжку.
Делать нечего, впрягся барин в корень, а барыня впристяжку. Поволокли сани. Подвезут да отдохнут, подъедут да посидят.
Заблудилися в великих снегах.
Очень хорошо они теперь нужду узнали!
Рифмы
Шиш по своим делам в город пошел. Дело было летом, жарко. Впереди едет дядька на лошади. Шиш устал, ему хочется на лошадке подъехать. Он и кричит этому дядьке:
— Здравствуйте, Какой-то Какойтович!
Дядька не расслышал, как его назвали, только понял, что по имени и отчеству. Он и кричит Шишу:
— Здравствуйте, молодой человек.
А Шиш опять:
— Как супруга ваша поживает, как деточки? Дядька говорит:
— Благодарим вас, хорошо живут. А если вы знакомый, так присаживайтесь на телегу, подвезу вас.
Шишу то и надо, сел рядом с дядькой. А Шиш молча сидеть не может. Он только тогда молчит, когда спит.
Он говорит:
— Дяденька, давайте играть в рифмы.
— Это что такое — рифмы?
— А давайте так говорить, чтоб складно было.
— Давай.
— Вот, дяденька, как твоего папашу звали?
— Моего папашу звали Кузьма.
Шиш говорит:
— Я твоего Кузьму
За бороду возьму!
Дядька говорит:
— Это зачем же ты моего папашу за бороду брать будешь?
Шиш говорит:
— Это, дяденька, для рифмы. Ты скажи, как твоего дедушку звали.
— Моего дедушку звали Иван.
Шиш говорит:
— Твой дедушка Иван
Посадил кошку в карман.
Кошка плачет и рыдает,
Твово дедушку ругает.
Дядька разгорячился:
— Это зачем мой дедушка будет кошку в карман сажать? Ты зачем такие пустяки прибираешь?
— Это, дяденька, для рифмы.
— Я вот тебе скажу рифму: тебя как зовут?
— Меня зовут… Федя.
Дядька говорит:
— Если ты Федя,
То поймай в лесу медведя.
На медведе поезжай,
А с моей лошади слезай!
— Дяденька, я пошутил. Меня зовут не Федя, а Степан.
Дядька говорит:
— Если ты Степан,
Садись на аэроплан.
На аэроплане и летай,
А с моей лошади слезай!
— Дяденька, это я пошутил. Меня зовут не Степан, а… Силантий.
Дядька говорит:
— Если ты Силантнй,
То с моей лошади слезантий!
— Что ты, дяденька, такого и слова нет — «слезантий».
— Хотя и нет, все равно слезай!
Шишу и пришлось слезть с телеги. Так ему и надо. Если тебя добрый человек везет на лошадке, ты сиди молча, а не придумывай всяких пустяков.
Чистота
Идет Шиш перелеском. Время позднее, надо где-то переночевать. Меж деревьев огонек блеснул, избушка стоит. Шиш в ворота стучится:
— Укройте странника от темной ночи!
Хозяин впустил Шиша в избу и говорит:
— Я тебе сделаю экзамен. Если будешь правильно отвечать, тогда спи-лежи. Если соврешь, буду тебя бить по шее.
Вот они залезли на полати. Хозяин бороду с полатей свесил и показывает пальцем на котенка:
— Это как называется — на полу сидит, лапой моется?
Шиш говорит:
— Кошка.
Хозяин раз его по шее:
— Не кошка! Это чистота. А как называется, что у меня в печи горит?
Шиш говорит:
— Огонь.
Хозяин стук его по шее:
— Не огонь! Это светлота. А мы на чем лежим, как называется?
Шиш говорит:
— Полати.
Хозяин опять его по шее:
— Не полати! Это высота. А что у меня в ведрах налито?
Шиш говорит:
— Вода.
Хозяин стук его по шее:
— Не вода! Это благодать…
Мы ведь там не были — не знаем, сколько оплеух Шиш в эту ночь насобирал. Он плакать не плачет, а слеза бежит.
Утро настало, хозяин на улицу вышел. Шиш с полатей соскочил, кошке на хвост кудельку привязал, кудельку спичкой подсветил, куделька загорелась. Кошка на полати заскочила, на полатях всякое тряпье стало тлеть. Дым пошел под потолок. Шиш на крыльцо выскочил и кричит:
— Хозяин, твоя чистота схватила светлоту, занесла на высоту! Неси благодать, а то ничего не видать!
Вот вы сказки любите, а Шишу однажды из-за сказок беда пришла. Дело было осенью, время к ночи, и дождь идет. По дороге деревня. Надо где-то переночевать. Шиш в один дом постучался — не открывают. В другой дом поколотился — не пускают. Шиш в третью избу стучится:
— Пустите ночь переночевать!
Хозяин говорит:
— А ты сказки сказывать мастер?
Шиш говорит:
— Слыхал маленько.
Хозяин говорит:
— Маленько нам ни к чему. А если разговору на всю ночь хватит, тогда заходи. А нет — до свиданья.
Шишу деваться некуда. Зашел в избу. Хозяин постелился на лавке; хозяйка залезла на печку; работник ихний на полу. А Шишу, извольте радоваться, поставили середи избы стул — сиди рассказывай всю ночь…
Мы бы с вами загоревали, а Шиш деловой человек. Он говорит:
— Ладно, буду сказывать всю ночь, только под таким условием: кто меня хотя одним словом перебьет, тому и сказку дальше говорить. Согласны?
Все ответили:
— Согласны, согласны!
Шиш начал:
— Как у нас на селе мужики поголовно все дураки. Как у нас на селе мужики поголовно все дураки. Как у нас на селе мужики поголовно все дураки… Говорил, говорил — раз двести это слово повторил.
Хозяин терпел-терпел, далее разгорячился:
— Невежа ты, невежа! Я тебя ночевать пустил, а ты нас дураками называешь!
Шиш говорит:
— Хозяин, ты меня перебил, тебе и сказку дальше говорить.
Хозяин начал сказку:
— Чур, не перебивать… Дурак будет тот, кто тебя ночевать пустит, а я тебя никогда не пущу.
Дурак будет тот, кто тебя ночевать пустит, а я тебя никогда не пущу.
Дурак будет тот, кто тебя ночевать пустит, а я тебя никогда не пущу…
Говорил, говорил — раз двести эту речь повторил. Хозяйка на печи разбудилась, заругалась:
— Беда с вашими сказками! Ночью спокою нету… Хозяин за жену сграбился:
— Ты меня перебила, тебе и сказку говорить.
Не могла старуха отдуться, сказку заговорила:
— Каков хозяин дурак, такого и ночлежника пустил. Каков хозяин дурак, такого и ночлежника пустил. Каков хозяин дурак, такого и ночлежника пустил… Говорила, говорила — раз сотню это слово повторила.
Работник на полу разбудился, забранился:
— День на вас работай, и ночью от вас спокою нету!..
Хозяйка на него мухой пала:
— Ты меня перебил, тебе и сказку говорить.
Работник сказку заговорил:
— Как не спали мы с вечера, так не спать нам и до свету: скоро надо на работу идти.
Как не спали мы с вечера, так не спать нам и до свету: скоро надо на работу идти.
Как не спали мы с вечера, так не спать нам и до свету: скоро надо на работу идти…
До рассвета работник эго слово говорил.
Шиш заметил, что в оконцах утро синеет, светло стало, схватил шапку да бегом из этого дома. Часа два без оглядки бежал. Долго потом сказок не рассказывал.
Шишовы напасти
Жили в соседях Шиш Московский да купец.
Шиш отроду голой, у его двор полой, скота не было, и запирать некого. Изба большая, — на первом венце порог, на втором — потолок, окна и двери буравчиком провернуты. Сидеть в избе нельзя, да глядеть на ей гоже! Шиш в эдако окошечко глаз впялит да и любуется.
Именья у Шиша — для штей деревянный горшок да с табаком свиной рожок. Были липовых два котла, да сгорели дотла.
Зато у купчины домина! Курицы на крышу летают, с неба звезды хватают. Я раз вышел в утрях на крыльцо, а петух полмесяца в зубах волочит.
У купца свинья живет,
двести пудов сала под шкурой несет
да пудов пятьдесят соли в придачу.
Все равно — совру наудачу —
и так никто не поверит…
У купца соха в поле сама о себе пашет,
а годовалый ребенок мельничный жернов
с ладошки на ладошку машет.
А две борзых суки мельницу на гору тянут,
а кляча ихну работу хвалит, себе на спину
мельницу валит, кряхтит да меня ругает.
— Мне, — говорит, — твое вранье досаждает!
Всего надобно впору,
а ты наплел целу гору!
Это, светы мои, присказка, а дело впереди.
Пришла зима, а дров у Шиша ни полена, и притянуть не на чем. Пришел к купцу, конается:
— Не даите ли коняшки в лес съездить?
Купец покуражился немного, однако лошадь отпустил.
— Бери, пейте мою кровь, летом отработаешь. Чувствуй, что я отец и благодетель. Что ише мнессе?
— Хомута, пожалста, не соблаговолите ли ише хомута?
— Тебе хомута?! А лаковой кореты ише не надо? А плюшево одеяло ножки накрыть не прикажете-с?
Так и не дал хомута.
Шиш привел кобылу домой, вытащил худы санишки о трех копылишках и поехал в лес. Нарубил дров, наклал большашшой воз, привязал кобыле за хвост да как зыкнет… Лошадь сгоряча хватила да себе хвост и оборвала. Сревел Шишанко нехорошим голосом, да нечего делать!
Повел кобылу к хозяину:
— Вот получите лошадку. Покорнейше благодарим-с!
Купец и увидел, что хвоста нет:
— Лошадку привел? Иде она, лошадка?
— Вот-с, извиняюсь…
— Это, по-вашему, лошадка? А я думал — зайчик, без фоста дак… Только и у зайчика намечен известной фостик, а тут фостика нет… Может, это ведьмедь?! Но мы ведьмедев боимся!..
В суд, в город, того же дня поташшил купец Шиша.
Надо идти по мосту. Железнодорожный мост матерушшой через реку. Ползет бедной Шишанушко, а у его дума думу побиват:
«Засудят… Сгноят в остроге… Лучше мне скорополучно скончачче, стукнучче об лед да…»
Разбежался, бедняга, да и ухнул вниз, через перила… А под мостом по льдю была дорога. И некоторой молодой человек на ту пору с отцом проезжал. Шишанко в окурат в сани к им и угодил да на один взмах отца-то до смерти и зашиб…
Несчастной сын сгреб Шиша — да тоже в суд.
Тут кряду отемнело, до городу не близко, приворотили и Шиш, и купец, и парень на постоялой, ночь перележать. Наш бедняга затянулся на полати. Ночью ему не спится, думы тяжелы… Ворочался да с полатей-то и оборвался. А под полатеми зыбка с хозяйским робенком. Робенка Шиш и задавил. Робенковы родители зажили, запели. И они на Шиша в суд. Теперь трое на его ногти грызут. Один за коня, другой за отца, третий за младеня.
Едет Шиш на суд. Грустно ему:
— Прости, прошшай, белой свет! Прошшайте, все мои друзья! Боле не видачче!
Не знат, что и придумать, чем оправдаться или чем пригрозить… На случай взял да и вывернул из шассе булыжник. Завернул в плат и спрятал за пазуху.
У судьи в приказе крык поднялся до потолка. Купец вылез, свое россказыват, в аду бедному Шишу места не дает…
Судья выслушал, зарычал на Шиша:
— Ты что, сопляк?! По какому полному праву хвост у их оторвал?
Шишанко вынул из-за пазухи камень в платке да на ладони и прикинул два-три раза. Судье и пало на ум: «Ух, золота кусок у мужика!.. Это он мне золото сулит…»
И говорит:
— Какой несимпатичный факт!.. Выдернуть у невинной животной фост… Ваше дело право, осподин купец! Пушшай оной Шиш Московской возьмет себе вашую кобылу и держит ее, докуль у ей фост выростет… Секлетарь, поставь печать! Купец и ты, Шиш Московской, получите копии решения.
Подкатился отецкой сын. Судья спрашивает:
— Ты пошто ревишь? На кого просишь?
— Все на их жа, на Шиша-с! Как они, проклятики, папу у меня скоропостыжно задавили.
— Как так?
— У нас, видите ли, папа были утлы, стары, в дело не гожи, дак мы везли их в город на комиссию сдавать. И токмо из-под мосту выехали, а они, дьявола, внезапно сверху пали на папу, папа под има скоропостыжно и скончались!
Судья брови насупил:
— Ты что это, Шиш голай? Родителей у проезжающих давить? Я тебя…
Шишанко опять камень в платке перед судьей и заподкидывал. Судья так понял, что опять золото судят.
И говорит:
— Да! Какой бандитизм! Сегодня папу задавил, завтра маму, послезавтра опять папу… Дак это что будет?! Опосле таких фактов из квартиры вытти страшно… Вот по статьям закона мое решенье: как ты, Шиш Московской, ихного папу кокнул, дак поди чичас под тот самой мост и стань под мостом ракообразно, а вы, молодой человек, так как ваше дело право, подымитесь на мост да и скачите на Шиша с моста, пока не убьете. Секлетарь поставит вам печать… Получите…
Безутешный отец выскочил перед судью:
— Осподин судья, дозвольте всесторонне осветить… Оной злодей унистожил дитятю. Рехал-рехал на полатях, дале грянул с вышины, не знай с какой целью, зыбку — в шшепы и, конечно, дитятю.
Шиш затужил, а платок с камнем судьи кажет. Судья ему мигат — понимаю-де, чувствую… И говорит:
— Этот Шиш придумал истреблять население через наскакивание с возвышенных предметов, как-то: мостов, полатей и т. п. Вот какой новой Жек Патрушитель! Однако Хемида не спит! Потерпевший, у тя жена молода?
— Молода, всем на завидось она!
— Дак вот, ежели один робенок из-за Шиша погиб, дак обязан оной Шиш другого представить, не хуже первого. Отправь свою молодку к Шишу, докуль нового младеня не представят… Секлетарь, ставь печати! Обжалованию не подлежит. Присутствие кончено.
Шишовы истцы стали открыто протестовать матом, но их свицары удалили на воздух. Шиш говорит купцу:
— Согласно судебного постановления дозвольте предъявить лошадку нам в пользование.
— Получи, гадюга, сотню и замолкни навеки!
— Не жалаю замолкать! Жалаю по закону!
— Шишанушко, возьми двести! Лошадка своерошшена.
— Давай четыреста!
Поладили.
Шиш взялся за отецкого сына:
— Ну, теперь ты, рева Киселева! Айда под мост! Я на льдю встану короушкой, на четыре кости, значит, а ты падай сверху, меня убивай…
— Братишка, помиримся!
— Желаю согласно вынесенного приговора!
— Голубчик, помиримся! На тебя-то падать с экой вышины — не знай, попадешь, нет. А сам-то зашибусе. Возьми, чем хошь. Мне своя жисть дороже.
— Давай коня с санями, которы из-под папы, дак и не обидно. Я папу в придачу помяну за упокой.
Сладились и с этим. Шиш за третьего взялся:
— Ну, ты сегодня же присылай молодку!
— Как хошь, друг! Возьми отступного! Ведь я бабу тебе на подержанье дам, дак меня кругом осмеют.
— Ты богатой, у тебя двор постоялой, с тебя пятьсот золотыми…
Плачет, да платит. Жена дороже. Только все разошлись, из суда выкатился приказной — и к Шишу:
— Давай скоре!
— Что давай?
— Золото давай скоре, судья домой торопится.
— Како золото, язи рыба?!
— А которо из-за пазухи казал…
— Вы что, сбесились? Откуль у меня быть золоту? Это я камнем судьи грозил, что, мол… так — да так, а нет — намеки излишны. Пониме?
Приказного как ветром унесло. Судье докладыват Шишовы слова… Тот прослезился:
— Слава тебе, осподи, слава тебе! Надоумил ты меня сохраниться от злодея!
Куричья слепота
Недалеко от Шишова дома деревня была. И была у богатого мужика девка. Из-за куриной слепоты вечерами ничего не видела. Как сумерки, так на печь, а замуж надо. Нарядится, у окна сидит, рожу продает.
Шиш сдумал над ней подшутить.
Как-то, уж снежок выпал, девка вышла на крыльцо.
Шиш к ней:
— Жаланнушка, здравствуй.
Та закланялась, запохохатывала.
— Красавушка, ты за меня замуж не идешь ли?
— Гы-гы. Иду.
— Я, как стемнеет, приеду за тобой. Ты никому не сказывай смотри.
Вечером девка услыхала — полоз скрипнул, ссыпалась с печки. В сенях навертела на себя одежи — да к Шишу в сани. Никто не видал.
Шиш конька стегнул — и давай крутить вокруг девкиного же дома. Она думает: ух, далеко уехала!
А Шиш подъехал к ее же крыльцу:
— Вылезай, виноградинка, приехали. Заходи в избу.
— Да я не знай, как к вам затти-то. Вечером так себе вижу.
— У нас все как у вас. И крыльцо тако, и сени… Заходи — да на печь, а я коня обряжу.
Невеста с коня, а Шиш дернул вожжами — да домой.
А девка на крыльцо, в сени, к печи… На! — все как дома…
Сидит на печи. Рада, ухмыляется. Только думает: «Что же мужня-то родня? По избе ходят, говорят, а со мной не здороваются…»
Домашние на нее тоже поглядывают:
— Что это у нас девка-та сегодня, как именинница?…
А она и спать захотела. Давай зевать во весь рот:
— Хх-ай да бай! Хх-ай да бай! Вы что молчите? Я за вашего-то парня замуж вышла, а вы, дики, ничего и не знаете?!
Отец и рот раскрыл.
— Говорил я тебе, старуха, — купи девке крес, а то привяжется к ней бес!..
Шиш приходит учиться
Шиш бутошников-рогатошников миновал, вылез на площадь. Поставлены полаты на семи дворах. Посовался туда-сюда. Спросил:
— Тут ума прибавляют?
— Тут.
— Сюда как принимают?
— Экзамен сдай. Эвон-де учителевы избы!
Шиш зашел, котора ближе. Подал учителю рубль. Учитель — очки на носу, перо за ухом, тетради в руках — вопросил строго:
— Чего ради семо прииде?
— Учиться в грамоту.
— Вечеру сущу упразднюся, тогда сотворю тебе испытание.
После ужина учитель с Шишом забрались на полати.
Учитель говорит:
— Любезное чадо! Грабисся ты за науку. А в силах побои терпеть? Без плюхи ученье не довлеет. Имам тя вопрошати, елика во ответах соврешь, дран будешь много. Обаче ответствуй, что сие: лапкой моется, на полу сидяще?
— Кошка!
Учитель р-раз Шиша по шее…
— Кошка — мужицким просторечием. Аллегорически глаголем — чистота… Рцы паки, что будет сей свет в пещи?
— Огонь!
Р— раз Шишу по уху:
— Огонь глаголется низким штилем. Аллегорически же — светлота. А како наречеши место, на нем же возлегохом?
Шиш жалобно:
— Пола-ати.
Р— раз Шиша по шее:
— Оле, грубословия твоего! Не полати, но высота!.. На конце восписуй вещь в сосуде, ушат именуемом.
— Вода.
Р— раз Шиша по уху:
— Не вода, но — благодать!
Я тут не был, не считал, сколько оплеух Шиш за ночь насобирал. Утром учитель на улку вышел, Шиш кошку поймал, ей на хвост бумаги навязал, бумагу зажег. Кошка на полати вспорхнула, на полатях окутка зашаяла, дыму до потолка… Шиш на крыльцо выскочил. Хозяин гряду поливат. Шиш и заревел не по-хорошему:
— Учителю премудре! Твоя-то чистота схватила светлоту, занесла на высоту, неси благодать, а то ничего не видать!!!
Сам ходу задал, — горите вы с экой наукой!
Праздник Окатка
Смолоду-то не все же гладко было у Шиша. Ну, беды мучат, да уму учат. Годов-то двадцати пришвартовался он к некоторой мужней жене. Муж из дома — Шишанко в дом.
Собрался этот муж в лес по бревна.
— Жена, с собой чего перекусить нет ли?
Она сунула корок сухих.
— Жена, неужели хлеба нету помягче, с маслицем бы?
— Ладно и так. Не маслена неделя.
Муж уехал, а к ней Шишанушко в гости. Засуетилась, блинов напекла гору, масла налила море, щей сварила.
А у мужа колесо по дороге лопнуло, он сторопился домой. Жена видит в окно:
— О, беда! Мой-то хрен без беды не ездит. Ягодка, ты залезь в кадку, она пустая… Он скоро колесо сменит…
Муж заходит:
— Колесо сменить вернулся… Ишь как у тебя дородно пахнет. Дай закусить.
Жена плеснула щей.
— Я блинка любил бы…
— Блины к празднику.
Взяла миску с блинами и выпружила в кадку спрятанному Шишу.
— Жена! Ты что?!
— Сегодня праздник Окатка — валят блины в кадку…
Муж и догадался. Схватил чугун со щами:
— Жена, ты блины, а я для праздника, для Окатка, щей не пожалею.
И чохнул горячими щами в кадку. Шишанко выгалил оттуда на сажень кверху — да из избы…
Бочка
В каком-то городе обзадорилась на Шиша опять мужня жена. Одним крыльцом благоверного проводит, другим Шиша запустит.
Однажды муж негаданно и воротился. Куда друга девать? А в избе бочка лежит. Туда Шиш и спрятался, да только сапоги на виду.
Муж входит — видит сапоги…
— Жена, это что?!
— А вот пришел какой-то бочку нашу покупать, залез посмотреть, нет ли щелей… Продадим ему, нам бочка без пользы… Эй, молодец! Ежели высмотрел, вылезай, сторгуйся с хозяином!
Муж не только что бочку продал, а и до постоялого двора домой нести Шишу пособил…
Шти
Одна Шишова любушка крепко его к другой ревновала. Бранить не бранила, а однажды с горя шуточку придумала.
Поставила ему шти с огня, кипячие.
Да забылась, хлебнула поваренку на пробу и рот обварила. Не стерпела — заревела.
Шиш дивится:
— Ты чего? Обожглась?
А эта баба крепка была:
— Не обожглась, а эдаки шти маменька-покоенка любила. Как сварю, так и плачу…
А Шишу в путь пора. Ложку полну хватил и… затряс руками, из глаз слезы побежали. Ехидна подружка будто не понимат:
— Что ты, желанный? Неуж заварился?
— Нет, не заварился, а как подумаю, что у такой хорошей женщины, как твоя была маменька, така дочка подла, как ты, дак слезы ручьем!
Тили-тили
Какой-то день прибежали к Шишу из волости:
— Ступай скоре. Негрянин ли, галанец приехал, тебе велено при их состоять.
Оказалось, аглицкой мистер, знающий по-русски, путешествует по уезду, записывает народные обычаи и Шишу надо его сопровождать. На Шише у всех клином свет сошелся.
Отправились по деревням. Мистер открыл тетрадку:
— Говорите теперь однажды!
Шиш крякнул:
— Наш первой обычай: ежели двоим по дороге и коняшку нанять жадничают, дак все одно пеши не идут, а везут друг друга попеременно.
Мистер говорит:
— Ол райт! Во-первых, будете лошадка вы. Я буду смотреть на часы, скажу «стоп».
— У нас не по часам, у нас по песням. Вот сядете вы на меня и запоете. Доколь поете, я вас везу. Кончили — я на вас еду, свое играю.
Стал Шишанушко на карачки. Забрался на него мистер верхом, заверещал на своем языке песню: «Длинен путь до Типперери…» Едут. Как бедной Шиш не сломался. Седок-от поперек шире. Долго рявкал. Шиш из-под него мокрехонек вывернулся. Теперь он порхнул мистеру на загривок.
— Эй, вали, кургузка, недалеко до Курска, семь верст проехали, семьсот осталось!
Заперебирал мистер руками-ногами, а Шиш запел:
Тили-тили,
Тили-тили,
Тили-тили!..
Мистер и полчаса гребет, а Шишанко все нежным голосом:
Тили-тили,
Тили-тили,
Тили-тили!..
У мистера три пота сошло. Кряхтит, пыхтит… На конце прохрипел:
— Вы будете иметь окончание однажды?
Шиш в ответ:
— Да ведь песни-то наши… протяжны, проголосны, задушевны!
Тили-тили,
Тили-тили,
Тили-тили!..
Бедный мистер потопал еще четверть часика да и повалился, — где рука, где нога:
— Ваши тили-тили меня с ног свалили!
Шиш пошучивает у царя
Всех Шишовых дел в неделю не пересказать. Про Шиша говорить — голова заболит. Про Шиша уж и собаки лают. Здесь я от большого мало возьму, от многа немножко расскажу.
Ходил Шиш, сапоги топтал, версты мерял. Надоело по деревням шляться. В город справил. Чья слава лежит, а Шишова вперед бежит. Где Шиш, там народу табун.
Это увидал из окна амператор:
— Что за народ скопивши?
— Это парнишка один публику утешает-с.
— Не Шиш ли?
— Так точно-с.
— Позвать сюда!
Шиша привели. Царь сразу над ним начал сгогатывать:
— Ты в татку ле в матку, в кого ты экой? Сшути-ко мне шутку позазвонисте. Выкради из-под меня да из-под моей супруги перину. Выполнишь задание — произведу тебя в жандармерию и твой патрет — во все газеты. Сплошаешь — в Сибири сгною!..
Только Шиш за двери — амператор своим караульщикам ружья выдал:
— Мы с Шишом Московским об заклад побились. Перину из-под меня придет воровать. Спальну нашу караульте день и ночь!
Шиш выбрал ночку потемнее и в щель дворцового забора стал охрану высматривать. Видит — дремлют под спальными окнами, вора ждут. Людей бы на ум, а Шиша на дело.
Он дунул на огороды, выдернул с гряды пугало, опять к тому же забору примостился, вызнял пугало кверху — и ну натряхивать…
Это караульщики и увидали:
— Ребята, не робей! Вор пришел! Через тын лезет…
— Рота-а, пли!!!
Шиш того сразу пугало удернул. Будто убили. А стража радехонька:
— Ну, ребята, мертвое тело оттуль завтра уберем. А теперь на боковую. Боле некого ждать.
Только они восвояси утянулись, Шиш через забор да в поварню. Стряпки спят. На печи в горшке тесто подымается, пузырится. Шиш с этой опарой да в царскую спальню окном.
Царь с царицей на перине почивают. Царь истолста храпит, царица тихонько носом выводит…
Шиш на перстышках подкрался да как ухнет им опару ту под бок…
Сам с подоконника — и в кусты…
Вот царица прохватилась:
— О-о, тошнехонько! Вставай-ка ты, омморок!.. Эво как обделался! Меня-то всю умарал!
— Нет, гангрена! Это ты настряпала!..
До третьих петухов содомили. Тут царица одумалась:
— Давай лучше выкинем перину-то на подоконник, на ветерок, а сами соснем еще часиков восемь.
Только они музыку свою завели — захрапели, Шиш перину в охапку да со двора. На извозчика да домой.
Навстречу бабы-молочницы:
— Шиш, куда полетел?
— У нас дома не здорово! Таракан с печи свалился.
Царица рано вскочила:
— Что я, одичала — сплю! Министры перину увидят — по всей империи ославят… На!!! Где перина-та???
Фрелины Машки, Дашки забегали, заискали.
Царя разбудили… Его и горе берет и смех долит.
— Полковник! Запрягай коня, скачи к Шишу. Он меня в дураках оставил… Ох, в землю бы я лег да укрылся!..
Полковник на добра коня — да пулей в деревню, к Шишову дому. Не поспел наш Шишанушко увернуться. Начальство на дворе.
Людей бы на ум, а Шиша на дело. Он в клеть, достал бабкин наряд: сарафан, жемчужную повязку, ленты — накрутился и — в горницы. Полковник там. Видит — девица заходит, личиком бела и с очей весела.
Шпорами брякнул:
— Вы… видно, сестра?
— Да… сестра Шишова…
Забыл полковник, зачем приехал. Около этой сестры похаживает, похохатывает. Шиш думает — пронеси бог тучу мороком…
— Вы бы по лесу его, прохвоста, искали…
— Хе-хе-хе! Мне и тут приятно-с!
Шиш бутылку откупорил: «Напьется пьян — убежу…»
А тот охмелел, хуже стал припадать:
— Желаю с вами немедленно законным браком.
О, куда от этого жениха деться?…
На шаг не отпускает. Сиди рядом. Стемнело.
Полковник велит постель стлать. Попал гвоздь под молот. Над другими Шиш шуточки шутит, а над собой их не любит.
Только у Шиша уверток — что в лесу поверток. Он давай руками сарафан ухлапывать.
— О, живот схватило! О; беда! На минутку выпустите меня…
— Убежишь?
— Что вы, у нас рядом! Вы даже для верности подол в дверях зажмите.
Полковник выпустил эту невесту в сени, а подолешко в притвор. Сидит ждет.
Шиш того разу из сарафана вывернулся да вместо себя козу и впряг в эти наряды. Сам шубенку на плечи, шапку на голову, котомку в руки — да и… поминай как звали.
Полковник слышит — коза у дверей топчется, думает — невеста:
— Милочка, ты что долго?
— Б-э-э-э!
… Двери размахнул, а в избу коза в сарафане. Полковник через нее кубарем — да на коня, да в город. Потом год на теплых водах от родимца лечился.
Словарь местных и специальных слов и выражений, объяснение собственных имен и названий
Аксинья-полузимница — двадцать четвертого января старого стиля.
Бахилы — сапоги, сшитые на прямую колодку.
Баюнок — сказочник; от слова «баять», сказывать.
Блазнить — мерещиться.
Большая вода — прилив; малая вода — отлив.
Бот — род лодки; ходит на веслах и под парусом. В наши дни приняты моторные боты.
Бриг, бригантина — типы или виды морских парусных судов; строились на Севере в XVIII и XIX веках.
Ватерлиния — линия, или полоса, наведенная краской по корпусу судна, от носа к корме. Глубже этой линии судно при погрузке товара не должно садиться в воду.
В з в о д е н ь — крутая, большая волна.
В е р е с — можжевельник.
Верфь — место, где строят корабли.
«Виноград (то есть сад) Российский». — Книга эта рассказывает о преследованиях со стороны церкви и царя, которым в конце XVIIи начале XVIII столетий подвергались староверы.
Автор — Андрей Денисов (1675–1730); он основал на реке Выг своего рода культурный центр Поморья. Отсюда название: Выгореция.
Выть — здесь: время еды и сама еда.
Г а р ч и т — хрипло лает (о собаке).
Г л я д е н ь — возвышенная часть берега, гора на берегу, откуда, открывается широкий вид на море.
Говоря — речь.
Г о л о в щ и н а — уголовщина, драка.
Голомень, голомя — открытое море.
Горло, Горловина — выход Белого моря в Северный океан.
Гридня — здесь: комната для приема гостей.
Гу б а — здесь: морской залив.
Гудок — древнерусский музыкальный инструмент, похожий на виолончель.
Д о с е л ьн ы й — старинный.
Егорьев день — двадцать третьего апреля старого стиля.
Езы — колья, вбитые в дно реки и переплетенные ивняком; служат перегородкой для ловли семги.
Ё л а — легкое на ходу беспалубное однопарусное судно с высоким носом и кормой. Употребляется ёла для промысла рыбы у мурманских берегов. Образец этого судна взят в Норвегии.
Заболонь — внутренний слой древесной коры.
З а д в е н н ы й — далеко задвинутый, удалённый.
Задеть — сделать.
Зарудить — окровавить, окрасить кровью.
Здвиженье — воздвиженье, церковный праздник 14 сентября старого стиля.
3 н а т л и в ы й — знахарь, ведун.
Зуёк — северная птичка вроде чайки. Зуйками поморы называли мальчиков, работавших на промысловых судах. Зуйки варили еду, сушили сети, помогали взрослым в их работе.
Ка р б а с — парусно-гребное судно древнерусского образца. Карбас легок, поворотлив на ходу и распространен на Севере до наших дней. Морские карбаса были с палубой.
Кемские п о м о р ы — жители западного берега Белого моря, где стоит город Кемь.
Кливер — косой, треугольный парус на бушприте (бугшпрнте) — передней мачте.
Клобук— головной убор у монахов.
К о п ы л ь я, к о п ы л ы — основа саней, стояки, вдолбленные в полозья саней. «Поставить разговор на копылья» — заговорить об основном.
Корела — Карелия, область на западном берегу Белого моря.
Кормщик — капитан судна.
Коча, кочмара — древнее парусное палубное судно. Устройство кочи сходно с лодьей, но размеры меньше. Коча известна была на Севере еще во времена Новгородского владычества.
Кошка — здесь: песчаная отмель.
К р а м о л и т ь с я — бунтовать.
К р е н ь я — полозья у лодки.
К у д е с ы — волшебство, чародейство.
К у л и м а н а, ш в е д к а К у л и м а н а. — В преданиях карелов сохранилась память о «свейских нагонах» (шведских набегах), которые бывали на Севере в XVI веке. Отсюда сказочная «шведка Кулимана».
Кутер — вид морского парусного судна: строились на Севере в XVIII и XIX веках.
К у ф м а н (норвежек.) — купец.
Л а х т а — небольшой залив.
Лекала — части деревянного чертежа, сколоченного на месте постройки судна. Расположение лекал определяет очертания будущего судна.
Лихорадство — лиходейство, злой умысел, злой поступок.
Л и х т е р — буксирное разгрузочное судно. Товары с боли-шого корабля выгружаются на лихтеры и так доставляются на берег.
Лодья — большое парусное трехмачтовое судно.
Лопь — древнее население Кольского полуострова.
Л о п и н — человек лопского племени.
Манатьёй чернеческой — мантией монашеской.
М а р а — густой туман.
Матица — балка, которая поддерживает доски потолка.
Наблюдник — полка, на которую ставят тарелки на ребро.
Наволок — часть берега, вдающаяся в море, озеро или реку.
Нать — надо.
Натодёльный — для того сделанный.
Немецкая слобода — район в городе Архангельске. Здесь с древних времен жили домами и дворами немцы, англичане и голландцы. До германской войны 1914 года Немецкая слобода слыла самой богатой частью города.
Несоблюдно — небрежно.
Николин день — девятое мая старого стиля.
О б о д в е р и н а — косяки у дверей.
Одинакий — единственный.
О л и — даже.
Орда — здесь: зверек из породы белок.
Орда Синяя — прозвище одного из татарских племен времен нашествия татар на Русь.
Острог — в старину так называли крепостную стену из вкопанных вплотную и заостренных кверху столбов.
От Петрова до Покрова — от Петрова дня — двадцать девятого июня до Покрова — первого октября.
Отпрядывать — отскакивать.
Ошкуй — белый медведь.
П а у ж н а — еда между обедом и ужином.
Переладец — набор колокольчиков, аккомпанирующих гудку. Перешерстить — перебрать, переменить.
Побочина — боковая обшивка у судна.
Поветерь — попутный ветер.
Погудальце — смычок для игры на гудке.
Поддон — настил в судне.
Подродить — прибавить, укрупнить, прибавить силы, здоровья.
П о ж и т о ч н ы й — имеющий много пожитков (имущества), зажиточный.
Поклониться большим о б ы ч а е м — поклониться в пояс.
Покрут — команда промыслового судна; покрут обряжать — набирать, вербовать команду.
П о р о з н о — порожно, пусто.
Постатейно — статно, прямо, с достоинством; постатейно поет — поет так, как подобает.
Постель реки — русло реки.
Прибегище — пристань, причал для кораблей.
Приправить — приняться.
Причеть — поэтические речи, распеваемые женщинами в торжественных случаях жизни.
П р о в е щ и л ась — высказалась; от слова «вещать».
Проскудался — обеднел; от слова «скудость».
П р о х в а т и л с я — спохватился.
Пру ж и т ь, о п р у ж и т ь — опрокидывать.
Прядать— прыгать, скакать.
П р я д е н о — пряжа.
Радеть — стараться.
Рангоут — общее название всех деревянных или стальных брусьев на судне: мачты, реп, стеньги, бушприта, на которых укреплены паруса.
Р о п а к и — нагромождение льда, сгрудившиеся глыбы льда.
Р о ч и т ь (мореходн.) — закрепить, привязать.
Румпель — рычаг для управления рулем.
Свеи — шведы.
Свиль — винтообразное расположение волокон в дереве, делающее его непригодным для обработки.
Скоморох — бродячий актер в древней Руси.
С к о р о п о л у ч н о — скоро и благополучно.
С л и ч н ы е — схожие друг с другом.
Соловецкое знание — уменье водить корабли в западной части Белого моря.
Сретеньев день — второе февраля старого стиля.
Становой — главный.
С т а т к и — остатки, наследство.
Стать на степени — стать на верхней ступени.
С т е п е н н ы е — здесь: члены правления.
Стол к н я ж о й — княжеский трон, престол; «со стола по-высадим» — лишим княжеской власти.
С т р а д н и к — бранное слово.
Странный человек — странник, путник.
С у к м а н — суконный кафтан.
Такелаж — веревочная оснастка судна; стоячий такелаж — снасти, которые удерживают в надлежащем положении мачты и прочие брусья, служащие для установки парусов; бегучий таке л а ж — снасти, посредством которых производится управление парусами.
Толкучие го р ы — беспорядочно расположенные горы.
Толстосумы — богачи.
Троим а — втроем.
Т у л и т ь с я — прятаться, укрываться.
Турья гора — гора на западном берегу Белого моря.
У г о р — возвышенный берег.
У с т ь я не — жители речного устья.
Ушкуйная голова — разбойная, отчаянная голова. Ушкуйниками в древней Руси назывались ватаги новгородцев, которые в больших лодках — ушкуях — ходили на далекие северные реки и занимались разбоем.
Фактория — пункт для скупки или обмена на другие товары добычи зверопромышленников.
Ч е р н о п а х о т н ы е реки — реки, по берегам которых преобладает земледельческое население, землепашцы.
Ч е т ь и-М и н е и — церковная книга.
Чунка — легкие сани с кузовом.
Шкуна — вид морского парусного судна; строились на Севере в XVIII–XIX веках. На шкунах поморы плавали почти до наших дней.
Шнека — принятое на Мурмане рыбацкое однопарусное судно. Образец этот был взят у древних норманнов. На шнеках поморы промышляли треску еще в начале XX века.
Ш т е в н и — носовой и кормовой брусья, сдерживающие концы досок, образующих обшивку судна. Поморекое название штевня — корч или упруг.
Ю р о в о — стадо морских зверей.
Ю р о в щ и к — вожак (от слова «юрово», стадо морского зверя)
(обратно)
Примечания
1
Объяснение слов, помеченных звездочкой (*) имеется в «Словаре местных и специальных слов и выражений…»
(обратно)
2
Фамилия мастера была Второушин, но более известен он под прозвищем Тектон, что значит строитель.
(обратно)
3
В основу рассказа положен действительный случай спасения унесенных на льдине зверопромышленников героем «Челюскина» капитаном В. И. Ворониным, который командовал тогда ледоколом «Седов».
(обратно)
4
Кто идет?
(обратно)
5
«Виноградец» примечает, что в начале царствования Алексея Михайловича Кыркалов и Ушаков ходили на Новую Землю и на Вайгач для отыскания серебряной руды, слюды и олова.
(обратно)
6
Петр Первый в молодости дважды бывал в Архангельске
(обратно)
7
подразумевается в Архангельске
(обратно)
8
Владимир Мономах (XII век).
(обратно)
9
Старинная форма предложного падежа в единственном числе.
(обратно)
10
Кулимана, шведка Кулимана — В преданиях карелов сохранилась память о «свейских нагонах» (шведских набегах), которые бывали на Севере в XVI веке. Отсюда сказочная «шведка Кулимана».
(обратно)
Оглавление
Двинская земля
Детство в Архангельске
Рождение корабля
Мурманские зуйки
Миша Ласкин
Морское знание
Новая Земля
Матвеева радость
В относе морском
Любовь сильнее смерти
Гнев
Братанна
О кормщике Устьяне Бородатом
Чудские боги
Слово кормщика
Русское слово
Устьян и купец
Устьян и олени
О кормщике Маркеле Ушакове
Мастер Молчан
Рядниковы рукавицы
Кошелек
Ворон
Художество
Ничтожный срок
Видение
Ушаков и Фома Кыркалов
Достояние вдов
Долг
Понятие об учтивости
Маркел Ушаков и Василий Кекин
Треух
Вера в ложке
Пиво
Ушаков и Яков Койденский
Кондратий Тарара
Корабельные вожи
Ваня Датский
О Сухмане Непровиче
Емшан — Трава
Ссора Ильи Муромца с князем Владимиром
Об Авдотье Рязаночке
Об Иване Грозном и его сыне Федоре
Дивный гудочек
Пойга и Лиса
Умная Дуня
Судное дело Ерша с Лещом
Наш пострел везде поспел
Доход не живет без хлопот
Шиш и трактирщица
Шиш показывает барину нужду
Рифмы
Чистота
Шишовы напасти
Куричья слепота
Шиш приходит учиться
Праздник Окатка
Бочка
Шти
Тили-тили
Шиш пошучивает у царя
В произведениях Бориса Шергина и Степана Писахова, созданных на основе древней фольклорной традиции, читатель найдет картины жизни и нравов жителей Северного края – поморов. Это и древние легенды, и бывальщины – рассказы о подлинных событиях, и сказки, блещущие искрометной фантазией.
-
Борис Шергин
-
Степан Писахов
Борис Шергин
Поморские были и сказания
Поморское Узорочье
Еще недавно жил среди нас писатель, который старательно реставрировал полувыцветшие страницы из большой историко-культурной летописи России.
И мастер, и мастерство его были особенными.
Всю свою прозу и поэзию он знал наизусть. Мог рассказывать и петь произведения, как бы листая невидимую книгу, слово в слово вторя печатному. Сказывание, впрочем, было не просто воспроизведением, а самим процессом творчества. И если возникали «разночтения» с опубликованными текстами, это не память ошибалась: при повторении старого хотелось пошлифовать, поправить уже отлитое типографами. Так рождались обновленные варианты известных произведений. Словно творил не писатель, а певец былин или старинный сказочник.
В даровитом, искушенном мастере единосущно жили сказитель и литератор. И пожалуй, всего более оба ценили слово говоримое. Когда приходилось сплавлять изустную молву и письменный слог, речь главенствовала над книжностью. Даже когда воспроизводился архаический стиль древней книги, автор, по собственному его признанию, и тут избегал «излишней витиеватости и славянизмов, сохраняя отблески живой разговорной речи».
Отдал он этому труду ни много ни мало — целую жизнь.
Имя писателя: Борис Викторович Шергин. Годы его жизни: 1896—1973.
На Белом море издревле жили потомки новгородцев — поморы.
Поморское племя ратоборствовало с Океаном и Севером. Оно сумело противопоставить слепой стихии свой разум, волю, силу товарищества, культурные традиции.
Характер и культура поморов ковались борьбой за жизнь, были неразделимы и оттого приобрели значение высокое, общенациональное: они пособляли утверждать русское имя на суровых берегах моря Мерзлого, осваивать земли каменно-неплодные, учили мужеству, запасали опыт.
Борис Шергин постигал этот характер и культуру Поморья с детства: он жил рядом с именитыми корабельными плотниками, капитанами, лоцманами, зверобоями-промышленниками, присматривался к их обычаям, прислушивался к разговорам.
В доме с маленькими комнатками-каютками, где на полках стояли сделанные отцом деревянные модели парусников, Боря Шергин с жаром рисовал виденные в порту рыбацкие, торговые, военные суда. С тщанием знатока вырисовывал детали оснастки.
Страсть разжигалась живописью: в каждом городском доме висели сработанные соловецкими богомазами картины с изображением кораблей, во флотском экипаже створки шкафов были расписаны изображениями верфей, морскими баталиями.
Становясь постарше, Шергин срисовывал орнаменты, заставки старинных книг, учился писать иконы в поморском стиле, расписывал утварь, копировал особый вид рукописного почерка — поморскую вязь.
В отроческие годы Шергину хочется успеть во всем. И, вслед за талантливыми сказителями архангелогородцем Анкудиновым и заостровской крестьянкой Бугаевой (она подолгу гостила у Шергиных, становясь их «домоправительницей»), он начал исполнять «легендарные истории, сказки, былины», записывать их печатными буквами в тетради, сшитые «в формате книг».
Едва ли мог себе представить гимназист Шергин всю серьезность этого своего увлечения — ведь гораздо больше времени и сил отдавалось рисованию. Приехавший в. Архангельск П. И. Субботин, директор художественной школы-мастерской в Подмосковье, педагог, человек большой культуры, увидев рисунки Шергина, советует ему бросить гимназию. Смущенный похвалами юноша отправляется летом 1911 года в Москву, в Строгановское училище, показать свои работы и слышит слово одобрения. После двух лет колебаний выбор сделан. С 1913 года Шергин становится студентом-строгановцем. Но, овладевая профессией художника, Шергин не может преодолеть влечение к северному слову. Молодой архангелогородец в Москве выступал на утренниках словесности, сказывал сказки Двинской земли.
И течение его профессиональной жизни изначально устремляется по руслам двух искусств, которые временами будут сливаться: три его книги оформлены им собственноручно. А тут еще археографический и библиофильский азарт Шергина, все расширяющееся стремление освоить возможно больше сведений об истории поморского Севера…
21 ноября 1915 года газета «Архангельск» (№ 260) опубликует «Письмо из Москвы» под названием «Отходящая красота» с описанием концерта пинежской былинщицы М. Д. Кривополеновой, подписанное инициалами Б. Ш. Как говорится: «Первую песенку зардевшись спеть». Первое выступление девятнадцатилетнего Шергина в печати.
«Письмо» исполнено восхищения «художественностью натуры» неграмотной русской крестьянки (увидев в Третьяковской галерее «Богатырей» Васнецова, певица «тут же к каждому из них спела соответствующую былину»). «Письмо» славит Север, «обетованную Землю всех ценителей русской красоты».
Тогда же Шергин выступает рядом с Кривополеновой в Обществе любителей российской словесности, а по приглашению видного фольклориста Юрия Соколова своим пением иллюстрирует его лекции о народной поэзии в Московском университете. Репертуар Шергина — преимущественно баллады, сказки — пользуется успехом. Но личный успех — исполнитель прекрасно сознает это — частный эпизод огромного резонанса северной народной культуры в столицах, свидетелем которого становится студент художественного училища: в течение полутора десятилетий XX века в Петербурге и Москве происходит новое открытие «края непуганых птиц». Выходят книги М. М. Пришвина, А. П. Чапыгина, Н. А. Клюева. Труды фольклористов развертывают богатейшую картину жизни северного фольклора. Сборники былин, сказок, песен, записанных от Беломорья до Перми А. В. Марковым, А. Д. Григорьевым, Н. Е. Ончуковым, Д. К. Зелениным, братьями Б. М. и Ю. М. Соколовыми, будут позднее названы классическими.
Через год Шергин, хорошо известный в кругах ученых — любителей «живой старины», командируется Академией наук в Архангельскую и смежные губернии для исследования местных говоров и записи произведений фольклора. Эта работа вновь окунает его в родную словесную стихию.
После установления Советской власти Шергин два года заведует художественной частью архангельской ремесленной мастерской, работавшей в холмогорской технике резьбы по кости. На основе поморских орнаментов создает для мастеров новые образцы. Вновь появляется вместе с Кривополеновой на эстраде в летних архангельских концертах 1921 года.
Его знают, ему горячо симпатизируют любители народной северной старины, удивленные обширностью эрудиции молодого человека (и книжность, и живопись, и история!), покоренные его певческим мастерством. Шергин встречается с маляром В. Ф. Кулаковым, который «избушку свою, и чердак, и подполье, и хлев, и поветь — все разными редкостями захламостил». Этот чудак, не заслуживший «во всю жизнь» до Октября «ничего, кроме ругани да смеху», — побывал у Ленина и удостоился похвалы вождя за то, что опередил с идеей музея народных промыслов «ученых профессоров». Среди редкостей Кулакова Шергин находит сборник поморского письма «Малый Виноградец», из которого делает извлечения. Подобные творческие заготовки — на много лет вперед — он делает из новгородских, псковских хроник, беломорских «морских урядников», лоций XVIII века, из записных тетрадей шкиперов, альбомов стихов, песенников.
Земляки станут привозить Шергину заветные «стогодовалые» книги с Севера и из Сибири в Москву, куда Шергин переезжает на жительство в 1922 году.
Около девяти лет Шергин в должности «научного работника первого разряда» Института Детского чтения Наркомпроса, а фактически — артистом пять дней в неделю появляется в разных аудиториях, пропагандируя северный фольклор.
Часть репертуара отражает вышедшая в 1924 году первая его книга — сборник старин «У Архангельского города, у корабельного пристанища», которая знакомит с мелодиями, напетыми матерью писателя, подлинными народнопоэтическими произведениями.
В программном предисловии, характеризуя издание как первую книгу в ряду намеченных Институтом Детского чтения новых публикаций подлинного русского фольклора, профессор А. К. Покровская писала: «В старом народном искусстве — родина наша. Родина во всем: и в пейзаже, и в домах, и в крестах на могилах, и в старине, и больше всего — в искусстве. Человек без родины — сирота. Потому что душа глубоко корнями уходит в родную почву, а если вырвать ее, — высохнут корни, будет перекати-поле… Надо сохранить хотя бы воспоминание о прошлом богатстве не в изуродованном и не в заспиртованном виде, а живым и действенным». Этой программе было вполне созвучно и вступление самого Шергина, в котором он клятвенно — на всю жизнь — формулировал главный творческий принцип: «Поючи держи в уме студено северно море, архангельски текучие дожжи и светлые туманы. Тогда станут былинные словеса поющим и слушающим не на час, не на неделю, — на век человеческий».
Песенно– эпические опыты настраивали на восприятие литературного искусства Шергина как строго серьезного. Тем неожиданнее «хохочущая», веселая книга 1930 года «Шиш Московский» — «скоморошья эпопея о проказах над богатыми и сильными». Мастер торжественно-печальных старин виртуозно владел грубовато-озорным юмором крестьянской бытовой прозы.
Вот он — Шиш, «прохвост», «румяный разноглазый, вертлявый», который «красным девушкам во сне снится»: ему «все рады»; завидев его, царь «сразу начал сгогатывать». Шиш бежит по сказкам с прискоком, и даже тучка подлинной печали (старшие братья Шиша, «мужики здоровенные, скопидомы», гонят его из дому: «При твоем худом здоровье первое дело свежий воздух… ночуй в сарае, а день гуляй по миру») лишь на миг омрачает физиономию находчивого героя, своей улыбкой солнечно озаряющего «московское царство». Вездесущий Шиш сегодня выпорет «дикого барина», у которого люди «упились бедами, опохмеляются слезами», завтра осрамит полицию, накормит краденым царским быком голь перекатную. Господам всех калибров, включая самого царя, солоно от Шиша. Когда же его кидаются искать через адресный стол, сыщикам остается только всплеснуть руками: местом жительства плута оказывается «угол Сливочной и Колбасной, а дому номер красный».
«Шишов разум всех перешиб», — резюмирует рассказчик историю похождений обманщика, действующего, в соответствии с поэтикой народной сатиры, среди гротескно-карикатурных персонажей — представителей социальных верхов («Фрелины песни поют, как кошек режут», у барина рожа вытягивается «по шестую пуговицу», генерала впору отправить «на салотопенный завод» и т. д.).
Самобытный дар автора «Шиша Московского» был признан именно в его литературном качестве: в год принятия в Союз советских писателей Шергин был делегирован на I съезд Союза от его столичного отделения. Между тем Шергин-писатель во многом еще только начинался.
В 1936 году выходят «Архангельские новеллы» — пестрая яркая книга. Лучшие ее страницы охвачены гераневым пожаром чувственной радости и воссоздают нравы старомещанского Архангельска. Стилизованные во вкусе популярных переводных «гисторий» XVII—XVIII веков новеллы посвящены скитаниям в Заморье и «прежестокой» любви персонажей из купеческой среды.
Первыми тремя книгами Шергин, с одной стороны, как бы восстанавливал прежний фольклорный репертуар столицы Двинской земли. С другой стороны, вторая и третья книги обнаружили столь большую импровизационную свободу автора, столь активную обработку народных сюжетов, что ссылка на фольклорный первоисточник в предисловии к «Архангельским новеллам» («новеллы и сказки… слышаны были мною дома, в городе Архангельске… в юности») должна быть воспринята как формула авторской скромности, и только. «Архангельские новеллы» — не фольклорный сборник, а сборник произведений писателя Шергина, который воскрешал в этих многократно перелицованных самим народом сюжетах то самое, за что их ценила староархангельская аудитория, — нравы Двинской земли. В сказках, балладах, скоморошинах, где действовали купеческие дети, «прынцы», лисы-исповедницы, резвые ершишки, слышался гомон ярмарочной, площадной толпы. Звучали сочные диалоги: там и тут, разомкнув малиновые уста, лихо бранились писаные кустодиевские красавицы (в новеллах тонко-ироничного Шергина что ни героиня — «толста, красна, красива», «Девка как Волга: бела-румяна, грудь высока, косы долги, а сама полна, мягка, ступит — дак половица гнется, по шкапам посуда говорит»).
«Архангельские новеллы» — эксперимент, который приближал писателя к созданию многослойно-синтетического образа Поморья. Очерки нравов, облеченные в фольклорные формы, помогали выработке стилизующих начал повествования, способствовали повышению пластичности языка. Шергин воспринимал историю Поморья через его искусство, красноречие, быт. Он уже находился на пороге непосредственного вторжения в историю. Создавая «Архангельские новеллы», одновременно писатель публиковал в журналах историко-биографические поморские рассказы (как свидетельствовали позднее Леонид Леонов, Константин Федин, Алексей Югов, они полюбились Горькому), собирал народные толки о вождях революции и замечательных людях страны, записывал легендарно-сказочные их биографии, естественно возникавшие «параллельно книжным, исторически точным». В значительной мере из этих произведений составлялась книга «У песенных рек» (1939), принадлежащая к числу наиболее выдающихся созданий Шергина.
Детально выписанная панорама Двинской земли, ее просторов, богатств, сочеталась в книге с проникновенным очерком уклада поморской жизни, с портретами товарищей детских лет, мурманских юнг-«зуйков», с волнующими рассказами о героическом труде поморов и поморок. Как поэмы воспринимались слово о жизни и смерти отца писателя, которому он был обязан всем «поморским» строем своей души («Поклон сына отцу»), очерк о создании океанского парусника («Рождение корабля»), пинежский рассказ о Пушкине. И почти во всех этих произведениях, а также в сказах и сказках о гражданской войне на Севере, в великолепном нравоописательном очерке «Старые старухи» подлинно классической высоты достигали «сила и угодье» шергинского слова. Все «изборники» Шергина, что выходят позже (собрания его сочинений пока нет), непременно включают основные произведения книги «У песенных рек»: в ней Поморье впервые по-настоящему распахивается своими просторами, душой, историей, рисуется хранителем гуманистических преданий, национальных заветов русского народа. И «Поморщина-корабельщина» (1947), и «Поморские были и сказания» (1947), и «Океан — море русское» (1959), и «Запечатленная слава» (1967) расширяют и уточняют объем наших знаний о Севере России как особом культурно-историческом регионе, игравшем внушительную роль в ее судьбах.
Поэма жизни Шергина — труд. Он составлял содержание каждодневного бытия самого мастера и был любимейшей областью его художественного изображения. В трудовой истории народа ищет писатель ответ на вопрос, откуда взялось русское Поморье. Труд для Шергина — инструмент ценностного познания личности, характеризующие возможности которого почти беспредельны.
Всякий труд выдвигает своих художников. Шергин верил в это столь же свято, как его предшественник Николай Лесков, как современник Павел Бажов.
С чувством преклонения рассказывается об искусстве морского кораблевождения. «Я знал, — говорит шкипер Егор Васильевич, — Студеное море, как любой человек знает свой дом. Ты идешь в темной комнате, знаешь, где скрипит половица, где порог, где косяк. Я судно в тумане веду. Не стукну о камень, не задену о коргу» («Егор увеселялся морем»). Кормщики Пафнутий Анкудинов и Иван Узкий, разлученные бурей в открытом море, ничего не ведавшие друг о друге несколько суток, точно предсказали своим командам день и место встречи с лодьями товарищей, потому что было у них «знание ветра, знание моря, знание берегов» и знание искусства собратьев по ремеслу.
Но и иные мастерства восхищают. Плотник Маркел Ушаков так обрабатывал дерево, что его тесинка становилась будто «перо лебединое»: «Погладишь — рука как по бархату катится» («Мастер Молчан»), Живописец по утвари Иван Щека так приготовлял краску, что она «не темнела, не линяла, не смывалась» («Лебяжья река»).
Труд — сфера высшего самопроявления таланта. Но еще важнее, что это школа жизни. Поведение в труде закладывает нравственные основы отношений человека с людьми.
Двинский мореход жертвует не одним заработком, но и добрым именем, лишь бы выкупить из долговой тюрьмы нечаянно-негаданно попавшего в беду датчанина. Корабельный мастер, привыкший на море к искреннему товариществу, без жалости наказывает родного сына, дружившего со сверстником не попросту, а с «хитростью». Старый кормщик Егор, стечением обстоятельств поставленный перед моральным выбором: погубить чужое счастье либо расстаться с юной женой, полюбившей молодого Егорова ученика, — «торжествует над собой пресветлую победу».
Герои Шергина равняются на кодекс чести «северного русского народа» (так именовал архангелогородцев Михаил Пришвин), сложившийся за время познания и покорения Ледовитого моря-океана, и это создает особенный моральный климат его прозы.
Творчество писателя богато формами, но две манеры повествования наиболее излюблены.
Первая — патетическая. Персонажи и внешностью, и повадкой, и речью, и всей судьбой близки к идеалу. Фоном фигур выступает подчеркнуто-величавая природа, ореол героев — завидные деяния. Широко используются идеализирующие стилистические средства, родственные стилю древнерусских житийных повестей или заимствованных из них, да еще из летописных сказаний, из эпических фольклорных произведений. Такие очерки, новеллы выступают в прямом смысле слова «иконографией» поморского племени.
Вторая манера повествования рисует не торжественные лики, а нимало не прикрашенные, будничные лица. Благородство, преданность, большое чувство выявляются по контрасту с положением и портретом человека. Они живы в тех, кто затерян в толпе. И если крупицы позитивно-идеализирующего стиля проникают в бытовую новеллу, очерк нравов, то лишь потому, что Шергин вообще не мыслит своего рассказа без подстариненно-узорчатой речи, без фольклорной подцветки языка.
Писатель в молодые годы был лично знаком с Кононом Ивановичем Второушиным. Но для него это носитель славы Тектона-Строителя, а значит, повествование не может свестись к бытовой зарисовке.
«Был Конон Тектон велик ростом, глазами светел и грозен, волосы желты, как шелк.
Он встречал меня тихим лицом, и много я от него узнал о греческих, римских, итальянских строителях и художниках. О Витрувии, Винчи, Микеланджело, Браманте, Палладио.
… И первого сентября утром, когда обрадовалась ночь заре, а заря солнцу, поплыли артельные к острову, где «Трифон» строился. И увидели: стоит корабль к востоку, высоко на городах, у вод глубоких, у песков рудожелтых, украшен, как жених, а река под ним, как невеста.
… Мастер Конон сошел по сходням, стал на степени и поклонился большим обычаем. У него топор за поясом, как месяц, светит».
«Был Конон Тектон велик ростом, глазами светел и грозен, волосы желты, как шелк.
Он встречал меня тихим лицом, и много я от него узнал о греческих, римских, итальянских строителях и художниках. О Витрувии, Винчи, Микеланджело, Браманте, Палладио.
… И первого сентября утром, когда обрадовалась ночь заре, а заря солнцу, поплыли артельные к острову, где «Трифон» строился. И увидели: стоит корабль к востоку, высоко на городах, у вод глубоких, у песков рудожелтых, украшен, как жених, а река под ним, как невеста.
… Мастер Конон сошел по сходням, стал на степени и поклонился большим обычаем. У него топор за поясом, как месяц, светит».
Все ровно-возвышенно, благолепо в этом летописно-размеренном ритме повествования. И подбор «желтых, как шелк», «рудожелтых», «светлых, как месяц», тонов озаряет героя лучистым сиянием величия, сближает образ помора с легендарным Витрувием и Браманте. И в эту минуту Поморье выглядит миром не просто особым, а искони и неколебимо противостоящим всему тому, превосходящим все то, что именовалось Россией царской.
Но вот Шергин переходит к рассказу о современнике Тектона — батраке Матвее Корелянине, жестоко побиваемом неудачами при попытках выбиться в люди, и манера изображения решительно меняется. «Оправу» жизни героя создают натуральные реалии «неочищенного» быта. И повествование уже идет не от имени автора, а строится как непосредственная исповедь Корелянина.
Он ли, Матвей, его ли жена не отдают все силы работе. Вот этот — буквально распинающий человека — труд.
«Матрешке моей тяжело-то доставалось. Ухлопается, спину разогнуть не заможет, сунется на пол:
— Робята, походите у меня по спине-то…
Младший Ванюша у ей по хребту босыми ногами и пройдет, а старшие боятся:
— Мама, мы тебя сломаем…
Тяжелую работу работаем, дак позвонки-ти с места сходят, надо их пригнетать».
«Матрешке моей тяжело-то доставалось. Ухлопается, спину разогнуть не заможет, сунется на пол:
— Робята, походите у меня по спине-то…
Младший Ванюша у ей по хребту босыми ногами и пройдет, а старшие боятся:
— Мама, мы тебя сломаем…
Тяжелую работу работаем, дак позвонки-ти с места сходят, надо их пригнетать».
И такая жизнь, оказывается, и требует от человека неиссякаемой любви, непрестанного нравственного подвига, притом неэффектного, невидного, не рассчитанного ни на какое признание со стороны:
«Матрена смолода плотная была, налитая, теперь выпала вся. Мне ее тошнехонько жалко:
— Матрешишко, ты умри лучше!
— Что ты, Матвей! Я тебе еще рубаху стирать буду!…»
«Матрена смолода плотная была, налитая, теперь выпала вся. Мне ее тошнехонько жалко:
— Матрешишко, ты умри лучше!
— Что ты, Матвей! Я тебе еще рубаху стирать буду!…»
Лишь самым большим художникам отпущено такое разумение «силы и смысла письма». С пронизывающим лаконизмом Шергина идет в сравнение разве немногословность одного из его прямых литературных учителей — Аввакума. Это на страницах читанного-перечитанного писателем «Жития» жена протопопа Марковна, находясь на пределе физического изнеможения, находит в себе силы поддержать мужа простыми, незабываемыми словами: «… добро, Петрович, ино еще побредем».
Матрена Корелянина принадлежит к тысячам женщин, кто был в супружестве «помощниками неусыпающими, друзьями верными», кто в дни отходничества мужей «сельдь промышлял, сети вязал, прял, ткал, косил, грибы, ягоды носил», а еще вершил мужское поделье: «тес тесал, езы бил (перегораживал реки для семужьего лова. — А. Г.), кирпичи работал» — кто безвестно созидал богатство России. Их, безымянных, обойденных «монографическим» вниманием историков Отечества, — их, никогда высоко не мысливших о себе и так и не узнавших (хотя слагали они песни, причитания, пели былины, сказывали сказки!), что они цвет земли нашей, — разыскивал в поморской стороне и воскрешал словом своим к долгой жизни Борис Викторович Шергин. Подвижничество, верил он, должно служить для людей вечным образцом.
Писатель не раз говорил, что все его искусство — заимствование из языкотворчества трудящихся людей, что он прошел огромную школу освоения народного слова: «Ряд лет я записываю разговорную речь, главным образом у себя на родине, в пределах бывшей Архангельской губернии. Промышляю словесный жемчуг „по морям и волнам“, на пароходах и на шхунах, по пристаням и по берегам песенных рек нашего Севера. Слушаю, как говорит народ и что говорит».
Шергин называл «северными художниками слова» рыбаков, лесорубов, заводских рабочих, в «картинную, насыщенную образами речь» которых писатель был влюблен.
Художественный мир Шергина заселен работниками разных ремесел, а потому профессиональные словари живут в языке Шергина. В очерке «Рождение корабля» от корабельщиков автор заимствует выражения: «Ель на воде слабее сосны», «Он обходил берега Ледовитого океана, строя шкуны… и елы сшивая», «отворили паруса», «паруса обронив, бросили якоря». Из лексикона плотников берет он образ для пейзажной картины: «птицы разом вскрикнули и поднялись над мелями в три, в четыре венца» («Для увеселенья»). По-мореходски уместно именует писатель путешествия «путеплаваниями» («Достояние вдов»). Шергин наглядно показывает, как обогащался национальный словарь лексикой, а слова оттенками в устах профессионалов. В новелле «Лебяжья река», посвященной труду мастеров росписи по дереву, приводятся рабочие (и вместе изысканнейшие!) эпитеты-термины, обозначающие колеры исключительной нежности: «светло-осиновый» и «тьмо-лимонный». В рассказе «Устюжского мещанина Василия Феоктистова Вопиящина краткое жизнеописание» маляр точнейше пользуется глаголами-терминами: «краска должна вмереть в дерево», «лубочные картины… цветил ягодным соком».
Писателем ценилась непраздность народного слова, несущего в себе отраженный свет породившей его психологической ситуации. Как подлинный гимн слову народному воспринимается рассказ «Для увеселения», где два брата Личутины, выброшенные предзимней бурей на камни, перед лицом неотвратимой гибели вырезают на обломке корабельной доски эпитафию себе.
Для читателя очевидно, что память Шергина стала вместилищем многообразных культурных ассоциаций, которые жили в сознании начитанных поморов на рубеже прошлого и нынешнего веков, — всего того, что было фактически народной культурой, и это создает поразительное богатство стилистики его произведений.
В исповедально-портретных монологах, где каждое слово, интонация были характеризующими, художник «до дна» раскрывал психологию героев («Рассказ Соломониды Ивановны», «Мимолетное виденье», «Митина любовь»).
При сравнительной оценке произведений мастера, уже переживших скоротечную славу некоторых сочинений его современников, припоминаются страницы шергинского «жизнеописания» маляра Василия Феоктистова Вопиящина. Оный Вопиящин рассказывал: «У иконного письма теперь такого рачения не видится, с каковым я приуготовлял тогда… дверцы и ставеньки про свое наивное художество. Которое, впрочем, художеством никто и не называл, но не более как расписные ложки и плошки. Господин Менк, пейзажист из превосходных, неоднократно удивлялся… процедуре нашего письма. Он говорил: „Теперь я понимаю, для чего моя картина, висящая в гостиной, помрачнела в десять лет. А дверь, которую здешний мещанин упестрил своей варварской кистью сорок лет назад, не утратила колоритов“.
Искусство Шергина не только долгие годы не утратит «колоритов» для поколений читателей, но и будет объектом всевозрастающего, пристального изучения со стороны новых поколений мастеров слова.
Работа Шергина над народным словом — это, как бы сказал Бажов, «дело мешкотное», а не рысистое. Но это дело прочное, надежное.
Ал. Горелов
Двинская земля
Родную мою страну обходит с полуночи великое Студеное море.
В море долги и широки пути, и высоко под звездами ходит и не может стоять. Упадут на него ветры, как руки на струны, убелится море волнами, что снег.
Гремят голоса, как голоса многих труб, — голоса моря, поющие ужасно и сладко. А пошумев, замкнет свои тысячеголосые уста и глаже стекла изравнится.
Глубина океана — страшна, немерна, и будет столь светла, ажно и рыбы ходящие видно.
Полуночная наша страна широка и дивна. С востока привержена морю Печора, с запада земли Кемь и Лопь, там реки рождают золотой жемчуг.
Ветер стонет, а вам — не печаль.
Вихри ревут, а вам — не забота. И не страх вам туманов белые саваны… Спокойно вам, дети постановных матерых берегов; беспечально вы ходите плотными дорогами.
А в нашей стране — вода начало и вода конец.
Воды рождают, и воды погребают.
Море поит и кормит… А с морем кто свестен? Не по земле ходим, но по глубине морской. И обща судьба всем.
Ростят себе отец с матерью сына — при жизни на потеху, при старости на замену, а сверстные принимаем его в совет и дружбу, живем с ним дума в думу.
А придет пора, и он в море путь себе замыслит велик.
… Парус отворят, якорь подымут, сходенки снимут… Только беленький платочек долго машется.
И дни побегут за днями, месяцы за месяцами. Прокатится красное лето, отойдут промысла. У людей суда одно по одному домой воротятся, а о желанном кораблике и слуха нет, и не знаем, где промышляет.
Встанет мрачная осень. Она никогда без бед не проходит Ударит на море погода, и морская пучина ревет и грозит, зовет и рыдает. Начнет море кораблем, как мячом, играть, а в корабле друг наш, материна жизнь…
О, какая тьма нападет на них, тьма бездонная!
О, коль тяжко и горько, печали и тоски несказанной исполнено человеку водою конец принимать! Тот час многостонен и безутешен, там — увы, увы! — вопиют, и нет помогающего.
Придет зима и уйдет. Разольются вешние воды А друга нашего все нету и нету. И не знаем, быть ему или не быть.
Мать — та мрет душою и телом, и мы глаз не сводим с морской широты.
А потом придет весть страшна и грозна:
— Одна бортовина с другою не осталась… А сына вашего, а вашего друга вода взяла.
Заплачет тут вся родня.
И бабы выйдут к морю и запоют, к камням припадаючи, к Студеному морю причитаючи:
Увы, увы, дитятко.
Поморской сын
Ты был как кораблик белопарусный
Как чаечка был белокрылая!
Как елиночка кудрявая
Как вербочка весенняя!
Увы, увы, дитятко,
Поморской сын!
Белопарусный кораблик ушел в море,
Улетела чаица за синее,
И елиночка лежит порублена,
Весенняя вербушечка посечена
Увы, увы, дитятко,
Поморской сын!
От Студеного океана на полдень развеличилося Белое море, наш светлый Гандвиг. В Белое море пала Архангельская Двина. Широка и державна, тихославная та река плывет с юга на полночь и под архангельской горой встречается с морем. Тут островами обильно: пески лежат, и леса стоят. Где берег возвыше, там люди наставились хоромами. А кругом вода. Куда сдумал ехать, везде лодку, а то и кораблик надо.
В летнюю пору, когда солнце светит в полночь и в полдень, жить у моря светло и любо. На островах расцветают прекрасные цветы, веет тонкий и душистый ветерок, и как бы дымок серебристый реет над травами и лугами.
Приедем из города на карбасе. Кругом шиповник цветет, благоухает. Надышаться, наглядеться не можем. У воды на белых песках чайки ребят петь учат, а взводеньком выполаскивает на песок раковицы-разиньки. Летят от цветка к цветку медуницы мотыльки. Осенью на островах малина и смородина, а где мох, там обилие ягод красных и синих. Морошку, бруснику, голубель, чернику собираем натодельными грабельками: руками — долго, — и корзинами носим в карбаса. Ягод столько — не упомнишь земли под собой. От ягод тундры как коврами кумачовыми покрыты.
Где лес, тут и комара, — в две руки не отмашешься.
Обильно всем наше двинское понизовье. На приглубистых, рыбных местах уточка плавает, гагара ревет, гусей, лебедей — как пены.
Холмогорский скот идет от деревень, мычит — как серебряные трубы трубят. И над водами и над островами хрустальное небо, беззакатное солнце!
Мимо деревень беспрестанно идут корабли: к морю один, к городу другие. И к солнцу парусами — как лебедь.
Обильная Двинская страна! Богата рыбой и зверем и скотом и лесом умножена.
В летние месяцы, как время придет на полночь, солнце сядет на море, точно утка, а не закатится, только снимет с себя венец, и небо загорится жемчужными облаками. И вся красота отобразится в водах.
Тогда ветры перестанут и вода задумается. Настанет в море великая тишина. А солнце, смежив на минуту глаза, снова пойдет своим путем, которым ходит беспрестанно, без перемены.
Этого светлого летнего времени любим и хотим, как праздника ждем. С конца апреля и лампы не надо. В солнечные ночи и спим мало. Говорим: «Умрем, дак выспимся», «Изо сна не шубу шить».
С августа белые ночи меркнут. Вечерами сидим с огнем.
От месяца сентября возьмутся с моря озябные ветры. Ходит дождь утром и вечером. В эти дни летят над городом, над островами гуси и лебеди, гагары и утки, всякая птица. Летят в полуденные края, где нет зимы, но всегда лето.
Тут охотники не спят и не едят. Отец, бывало, лодку птицы битой домой приплавит. Нищим птицей подавали.
По мелким островам и песчаным кошкам, что подле моря, набегают туманы. Белая мара морская стоит с ночи до полудня. Около тебя только по конец ружья видно; но в городе, за островами, туманов не живет.
Тогда звери находят норы, и рыба идет по тихим губам.
Холодные ветры приходят из силы в силу. Не то что в море, а на реке на Двине такой разгуляется взводень, что карбаса с людьми пружит и суда морские у пристаней с якоря рвет.
Помню, на моих было глазах, такая у города погодушка расходилась, ажно пристани деревянные по островам разбросало и лесу от заводов многие тысячи бревен в море унесло.
Дальше заведется ветер-полуночник, он дождь переменит на снег. Так постоит немного, да пойдет снег велик и будет сеяться день и ночь. Если сразу приморозит, то и реки станут и саням — путь. А упал снег на талую землю, тогда распута протяжная, по рекам тонколедица, между городом и деревнями сообщения нету. Только вести ходят, что там люди на льду обломились, а в другом месте коней обронили. Тоже и по вешнему льду коней роняют.
Так и зима придет. К ноябрю дни станут кратки и мрачны. Кто поздно встает — и дня не видит. В школах только на часок лампы гасят. В училище, бывало, утром бежишь — фонари на улицах горят, и домой в третьем часу дня ползешь — фонари зажигают.
В декабре крепко ударят морозы. Любили мы это время — декабрь, январь, — время резвое и гульливое. Воздух — как хрусталь. В полдень займется в синеве небесной пылающая золотом, и розами, и изумрудами заря. И день простоит часа два. Дома, заборы, деревья в прозрачной синеве, как сахарные, — заиндевели, закуржевели. Дух захватывает мороз-то. Дрова колоть ловко. Только тюкнешь топором — береги ноги: чурки, как сахар, летят.
На ночь звезды, как свечи, загорят. Большая Медведица — во все небо.
Слушайте, какое диво расскажу.
В замороз к полночи начнет в синем бархате небесном пояском серебряным продергивать с запада до востока, а с севера заподымается как бы утренняя заря. И вдруг все погаснет. Опять из-за моря протянутся пальцы долги без меры и заходят по небу. Да заря займется ужасная, как бы пожарная. И опять все потухнет, и звезды видать… Сиянье же обновится. Временем встанет как стена, по сторонам столбы, и столбы начнут падать, а стена поклонится. А то будто голубая река протечет, постоит да свернется, как свиток.
Бывало, спишь — услышишь собачий вой, откроешь глаза — по полу, по стенам бегают светлые тени. А за окнами небо и снег переливают несказанными огнями.
Мама и отец будили нас, маленьких, яркие-то сполохи-сияния смотреть. Обидимся, если проспим, а соседские ребята хвалятся, что видели.
У зимы ноги долги, а и зиме приходит извод. В начале февраля еще морозы трещат, звенят. В марте на солнышке пригреет, сосули с крыш. В апреле обвеют двинское понизовье верховые теплые ветры. Загремят ручьи, опадут снега, ополнятся реки водою. Наступят большие воды — разливная весна.
В которые годы вешнее тепло вдруг, тогда Двина и младшие реки кряду оживут и располонятся ото льда. Мимо города идет лед стенами-торосами.
Великое дело у нас ледоход. Иной год после суровой зимы долго ждем не дождемся. Вскроется река, и жизнь закипит. Пароходы придут заграничные и от Вологды. Весело будет… Горожане — чуть свободно — на угор, на берег идут. Двина лежит еще скована, но лед посинел, вода проступила всюду. В школе — чуть перемена — сразу летим лед караулить. По дворам лодки заготовляют, конопатят, смолят. И вот топот по всему городу. Народ табунами на берег валит. Значит, река пошла. Гулянья по берегам откроются. Не до ученья, не до работы. На городовых башнях все время выкидывают разноцветные флаги и шары; по ним горожане, как по книге, читают, каким устьем лед в море идет, где затор, где затопило.
Пригород Соломбала на низменных островах стоит, и редкий год их не топит. Улицы ямами вывертит, печи размокнут в низких домах. В городе как услышат — из пушек палят, так и знают, что Соломбала поплыла. Соломбальцы в ус не дуют, у них гулянье, гостьба откроется, ездят по улицам с гармонями, с песнями, с самоварами. А прежде — вечерами, с цветными фонарями и в масках.
Лед идет в море торосами, стенами. Между островов у моря льду горами наворотит, все льдом заложит, не видно деревень; на заводах снимает лес со штабелей. То одно, то другое устье запрет. Двине вздохнуть некак, выходу нет, она острова и топит. На этот случай дома в островных деревнях строили на высоких подклетях, крыльца и окна очень высоки. Около крайних домов бывали «обрубы» — бревенчатые городки: обороняют от больших весенних льдин.
Зимою наткут бабы полотен и белят на стлищах вокруг деревень. Как река шевелится, не спят ту ночь: моты, портна хватают. А проспят — все илом, песком занесет, а то и в море утянет.
Конец апреля льдина уйдет, а вода желтее теста, мутновата, потом и мутница и пенница сойдет, и река спадет, лето пойдет. Выглянет травка из-под отавы. В половине мая листок на березе с двугривенный. После первого грома ребята, бывало, ходят в лес, мастерят рябиновые флейты. По всему городу будет эта музыка. Велико еще весной удовольствие, когда Обводной канал со всеми канавами разольется. По улицам хоть в лодке поезжай. Тут ребята бродятся, один перед другим хвастают: у кого кораблик краше и лучше; пускают кораблики по бегучим каналам.
А летом везде дороги торны. От воды, от реки не отходим. Малыши в песке, в камешках, в раковинках разбираются, на отмелях полощутся, а ребята постарше в лодках, карбасах меж кораблями, пристанями, меж островами живут.
Вода в море и в реках не стоит без перемены, но живет в сутках две воды — большая и малая, или «полая» и «кроткая». Эти две воды — дыхание моря. Человек дышит скоро и часто, а море велико: пока раз вздохнет, много часов пройдет. И когда начнет подниматься грудь морская, наполняя реки, мы говорим: «Вода прибывает».
И подымается лоно морское до заката солнечного. А наполнив реки, море как бы отдыхает; мы скажем: «Вода задумалась». И, постояв, вода дрогнет и начнет кротеть, пойдет на убыль. Над водами прошумит слышно. Мы говорим: «Море вздохнуло».
Когда полая вода идет на малую, от встречи ходит волна «сувой».
С полдня много дорог пришло в полуночный и светлый Архангельский город. Тем плотным дорогам у нашего города конец приходит, полагается начало морским беспредельным путям.
Город мой, родина моя, ты дверь, ты ворота в недоведомые полярные страны. В Архангельск съезжаются, в Архангельске снаряжаются ученые испытывать и узнавать глубины и дали Северного океана. От архангельских пристаней беспрестанно отплывают корабли во все стороны света. На запад — в Норвегию, Швецию, Данию, Германию, Англию и Америку, на север — к Новой Земле, на Шпицберген, на Землю Иосифа. В наши дни народная власть распахнула ворота и на восток, указала Великий Северный путь. Власть Советов оснастила корабли на столь дальние плавания, о которых раньше только думали да гадали. Власть Советов пытливым оком посмотрела и твердой ногой ступила на такие берега, и земли, и острова, куда прежде чаица не залетывала, палтус-рыба не захаживала.
Люблю про тех сказывать, кто с морем в любви и совете.
С малых лет повадимся по пароходам и отступиться не можем, кого море полюбит.
А не залюбит море, бьет человека да укачивает, тому не с жизнью же расстаться. Не все в одно льяло льются, не все моряки. Людно народу на лесопильных заводах работает, в доках, в мастерских, на судоремонтных заводах, в конторах пароходских. В наши дни Архангельск первый город Северной области. Дел не переделать, работ не переработать. Всем хватит.
Улицы в Архангельском городе широки, долги и прямы. На берегу и у торгового звена много каменного строенья, а по улицам и по концам город весь бревенчатый. У нас не любят жить в камне. В сосновом доме воздух легкий и вольный. Строят в два этажа, с вышками, в три, в пять, в семь, в девять окон по фасаду. Дома еще недавно пестро расписывали красками, зеленью, ультрамарином, белилами.
Многие улицы вымощены бревнами, а возле домов обегают по всему городу из конца в конец тесовые широкие мостки для пешей ходьбы. По этим мосточкам век бы бегал. Старым ногам спокойно, молодым — весело и резво. Шаг по асфальту и камню отдается в нашем теле, а ступанье по доскам расходится по дереву, оттого никогда не устают ноги по деревянным нашим мосточкам.
Середи города над водами еще недавно стояли угрюмые башни древних гостиных дворов, немецкого и русского. Сюда встарь выгружали заморские «гости» — купцы — свои товары. Потом здесь была портовая таможня. Отсюда к морю берег густо зарос шиповником; когда он цветет, на набережных пахнет розами. Набережные покрыты кудрявой зеленью. Тут березы шумят, тут цветы и травы сажены узорами.
Город прибавляют ко мхам. Кто в Архангельске вздумает построиться, тому приходится выбирать место на мхах — в тундре. Он лишнюю воду канавами отведет и начнет возить на участок щепу, опилки, кирпич, песок и всякий хлам — подымает низменное то место. Потом набьет свай да и выстроится. Где вчера болото лежало, на радость скакухам-лягухам болотным, ныне тут дом стоит, как город. Но пока постройкой грунта не огнело да мимо тяжелый воз по бревенчатому настилу идет, дом-то и качнет не раз легонько. Только изъянов не бывает. Бревна на стройку берут толсты, долги, и плотники — первый сорт. Дом построят — как колечко сольют; однако слаба почва только на мхах, а у старого города, к реке, грунт тверд и постановен.
Строительный обычай в Архангельске: при закладке дома сначала утверждали окладное бревно. В этот день пиво варили и пироги пекли, пировали вместе с плотниками. Называется: «окладно».
Когда стены срубят до крыши и положат потолочные балки, матицы, опять плотникам угощенье: «матешно». И третье празднуют — «мурлаты», когда стропила под крышу выгородят. А крышу тесом закроют да сверху князевое бревно утвердят, опять пирогами и домашним пивом плотников чествуют, называется «князево».
А в домах у нас тепло!
Хотя на дворе ветер, или туман, или дождь, или снег, или тлящий мороз, — дома все красное лето! Всю зиму по комнатам в легкой рубашке и в одних чулках ходили. Полы белы и чисты. Приди хоть в кухню да пол глаженым носовым платком продерни — платка чистого не замараешь.
По горенкам, по сеням, по кладовкам, по лестницам, по крыльцам, и полы, и стены, и потолки постоянно моют и шоркают.
У печи составы: основание печное называется «нога», правое плечо печное — «печной столб»; левое плечо — «кошачий городок». С лица у печки — «чело», и «устье», и «подпечек», а с боков «печурки» выведены теремками. А весь «город» печной называется «тур».
«Архангельский город всему морю ворот». Архангельск стоит на высоком наволоке, смотрит лицом на морские острова. Двина под городом широка и глубока — океанские трехтрубные пароходы ходят взад и вперед, поворачиваются и причаливают к пристаням без всякой кручины.
С восточной стороны легли до города великие мхи Там у города речка Юрос, Уйма, Курья, Кузнечиха.
В подосень, да и во всякое время, у города парусных судов и пароходов не сосчитать. Одни к пристани идут, другие стоят, якоря бросив на фарватере, третьи, отворив паруса, побежали на широкое студеное раздолье. У рынков, у торговых пристаней рядами покачиваются шкуны с рыбой. Безостановочно снуют между городом и деревнями пассажирские пароходики. Степенно, на парусах или на веслах, летят острогрудые двинские карбаса.
Кроме «Расписания» и печатных лоций, у каждого мореходца есть записная книжка, где он делает отметки о времени поворота курса, об опасных мелях, об изменениях фарватера в устьях рек.
Непременно на каждом корабле есть компас — «матка».
Смело глядит в глаза всякой опасности и поморская женщина.
Помор Люлин привел в Архангельск осенью два больших океанских корабля с товаром. Корабли надо было экстренно разгрузить и отвести в другой порт Белого моря до начала зимы. Но Люлина задержали в Архангельске неотложные дела. Сам вести суда он не мог. Из других капитанов никто не брался, время было позднее, и все очень заняты. Тогда Люлин вызывает из деревни телеграммой свою сестру, ведет ее на корабль, знакомит с многочисленной младшей командой и объявляет команде: «Федосья Ивановна, моя сестрица, поведет корабли в море заместо меня. Повинуйтесь ей честно и грозно…» — сказал да и удрал с корабля.
— Всю ночь я не спал, — рассказывает Люлин. — Сижу в «Золотом якоре» да гляжу, как снег в грязь валит. Горюю, что застрял с судами в Архангельске, как мышь в подполье. Тужу, что забоится сестренка: время штормовое. Утром вылез из гостиницы — и крадусь к гавани. Думаю, стоят мои корабли у пристани, как приколочены. И вижу — пусто! Ушли корабли! Увела! Через двои сутки телеграмма: «Поставила суда в Порт-Кереть на зимовку. Ожидаю дальнейших распоряжений. Федосья».
Архангельское мореходство и судостроение похваляет и северная былина:
А и все на пиру пьяны-веселы,
А и все на пиру стали хвастати.
Толстобрюхие бояре родом-племенем,
Кособрюхие дьяки большой грамотой,
Корабельщики хвалились дальним плаваньем,
Промысловщики-поморы добрым мастерством
Что во матушке, во тихой во Двинской губе,
Во богатой, во широкой Низовской земле
Низовщане-ти, устьяне промысловые,
Мастерят-снастят суда — лодьи торговые,
Нагружают их товарами меновными
(А которые товары в Датской надобны)
Отпускают же лодьи-те за сине море,
Во широкое студеное раздольице.
Вспомнил я былину — и как живой встает перед глазами старый мореходец Пафнутий Анкудинов.
«Всякий спляшет, да не как скоморох». Всякий поморец умел слово сказать, да не так красно, как Пафнутий Осипович.
Весной, бывало, побежим с дедом Пафнутием в море. Во все стороны развеличилось Белое море, пресветлый наш Гандвиг.
Засвистит в парусах уносная поветерь, зашумит, рассыпаясь, крутой взводень, придет время наряду и час красоте. Запоет наш штурман былину:
Высоко– высоко небо синее,
Широко– широко океан-море,
А мхи– болота — и конца не знай
От нашей Двины, от архангельской…
Кончит былину богатырскую — запоет скоморошину. Шутит про себя:
— У меня уж не запирается рот. Сколько сплю, столько молчу. Смолоду сказками да песнями душу питаю.
Поморы слушают — как мед пьют. Старик иное и зацеремонится:
— Стар стал, наговорился сказок. А смолоду на полатях запою — под окнами хоровод заходит. Артели в море пойдут, мужики из-за меня плахами лупятся. За песни да за басни мне с восемнадцати годов имя было с отчеством. На промысле никакой работы не давали. Кушанье с поварни, дрова с топора — знай пой да говори… Вечером народ соберется, я сказываю. Мужиков людно сидит, торопиться некуда, кабаков нет. Вечера не хватит — ночи прихватим… Дале один по одному засыпать начнут. Я спрошу: «Спите, крещеные?» — «Не спим, живем! Дале говори…»
Рассказы свои Пафнутий Осипович начинал прибауткой: «С ворона не спою, а с чижа споется». И закончит: «Некому петь, что не курам, некому говорить, что не нам».
Я охоч был слушать Пафнутия Осиповича и складное, красовитое его слово нескладно потом пересказывал.
Детство в Архангельске
Мама была родом из Соломбалы. У деда Ивана Михайловича шили паруса на корабельной верфи. В мастерскую захаживали моряки. Здесь увидал молоденькую Анну Ивановну бравый мурманский штурман, будущий мой отец. Поговорить, даже познакомиться было некак. Молоденькая Ивановна не любила ни в гости, ни на гулянья. В будни посиживала за работой, в праздники — с толстой поморской книгой у того же окна.
Насколько Аннушка была домоседлива и скромна, настолько замужняя ее сестра — модница и любительница ходить по гостям. Возвратясь однажды с вечера, рассказывает:
— Лансье сегодня танцевала с некоторым мурманским штурманом. Борода русая, круговая, волосы на прямой пробор. Щеголь…
— Машка, ты это к чему?
— К тому, что он каждое слово Анной Ивановной закроет…
— Я вот скажу отцу, посадит он тебя парусину дратвой штопать… В другой раз не придешь ко мне с такими разговорами.
Вскорости деда навестил знакомый капитан, зашел проститься к дочери хозяина и подает ей конверт.
— Дозвольте по секрету, Анна Ивановна: изображенное в конверте лицо, приятель мой, мурманский штурман, уходит на днях в опасное плавание и…
Молоденькая Ивановна вспыхнула и бросила конверт на пол.
— Никакими секретами, никакими конвертами не интересуюсь…
Капитан сконфузился и убежал. Разгневанная Ивановна швырнула было пакет ему вслед, потом вынула фотографию, поставила перед собою на стол и до вечера смотрела и шила, смотрела и думала.
Прошло лето, кончилась навигация. По случаю праздничного дня дедушка с дочкой сидели за чтением. В палисаднике под окном скрипнула калитка, кто-то вошел.
Молоденькая Ивановна взглянула, да и замерла. И вошедший — тот самый мурманский штурман — приподнял фуражку и очей с девицы не сводит…
Но и дед не слепой, приоткрыл раму:
— Что ходите тут?
— Малину беру…
А уж о Покрове… Снег идет. Старик к дочери:
— Аннушка, что плачешь?
— Ох, зачем я посмотрела!…
— Аннушка, люди-то говорят — ты надобна ему…
Вот дед с мурманским штурманом домами познакомились. Штурман стал с визитами ходить. Однажды застал Анну Ивановну одну. Поглядели «лица» миньятюры «Винограда российского», писанного некогда в Выгореции… Помолчали, гость вздохнул:
— Вы все с книгой, Анна Ивановна… Вероятно, замуж не собираетесь?…
— Ни за царя, ни за князя не пойду!
Гость упавшим голосом:
— Аннушка, а за меня пошла бы?
Она шепотом:
— За тебя нельзя отказаться…
В Архангельском городе было у отца домишко подле Немецкой слободы, близко реки.
Комнатки в доме были маленькие, низенькие, будто каютки: окошечки коротенькие, полы желтенькие, столы, двери расписаны травами. По наблюдникам синяя норвежская посуда. По стенам на полочках корабельные модели оснащены. С потолков птички растопорщились деревянные — отцово же мастерство.
Первые годы замужества мама от отца не отставала, с ним в море ходила, потом хозяйство стало дома задерживать и дети.
У нас в Архангельске до году ребят на карточку не снимали, даже срисовывать не давали, и пуще всего зеркало младенцу не показывали. Потому, верно, я себя до году и не помню. А годовалого меня увековечили. Такое чудышко толстоголовое в альбоме сидит, вроде гири на прилавке.
Я у матери на коленях любил засыпать. Она поет:
Баю, бай да люли!
Спи– ка, усни
Да большой вырастай,
На оленя гонец,
На тетеру стрелец.
Бай, бай да люли!
Ты на елке тетерку имай,
На озерке гагарку стреляй,
Еще на море уточку,
На песочке лебедушку
Мама на народе не пела песен, а дома или куда в лодке одна поедет — все поет.
Годов-то трех сыплю, бывало, по двору. Запнусь и ляпнусь в песок. Встану, осмотрюсь… Если кто видит, рев подыму на всю улицу: пусть знают, что человек страдает. А если нет никого, молча домой уберусь.
Отец у меня всю навигацию в море ходил. Радуемся, когда дома. Сестренка к отцу спрячется под пиджак, кричит:
— Вот, мамушка, у тебя и нету деушки, я ведь папина!
— Ну дак что, я тебе и платьев шить не буду.
— Я сама нашью, модных.
Сестрица шить любила. Ей дадут готовую рубашонку и нитку без узла. Она этой ниткой весь день шьет. Иногда ворот у рубашки наглухо зашьет.
Отец нам про море пел и говорил. Возьмет меня на руку, сестру на другую, ходит по горнице, поет:
Корабли у нас будут сосновы,
Нашосточки, лавочки еловы,
Веселышки яровые,
Гребцы — молодцы удалые.
Он поживет с нами немножко и в море сторопится. Если на пароходе уходит, поведет меня в машинное отделение.
Я раз спросил:
— Папа, машина-то, она самородна?
Машины любил смотреть, только гулкого, громоносного свиста отправляющегося в океан парохода я, маленький, боялся, ревел. До свистка выгрузят меня подальше на берег. Я оттуда колпачком машу.
Осенью, когда в море наступят дни гнева и мрака и об отце вестей долго нет, не знала мама покоя ни днем, ни ночью. Выбежит наутро, смотрит к северу, на ответ только чайки вопят к непогоде.
Вечером заповорачиваются на крыше флюгера, заплачет в трубе норд-вест. Мама охватит нас руками:
— Ох, деточки! Что на море-то делается… Папа у нас там!
Я утешаю:
— Мамушка, я как вырасту, дальше Соломбалы не пойду в море.
А Соломбала — часть того же Архангельска, только на островах.
Не одна наша мама печалилась. При конце навигации сидят где-нибудь, хоть на именинах, жены и матери моряков. Чуть начнут рамы подрагивать от морского ветра, сразу эти гостьи поблекнут, перестанут ложечки побрякивать, стынут чашки.
Хозяйка ободряет:
— Полноте! Сама сейчас бегала флюгера смотреть. Поветерь дует вашим-то. Скорополучно домой ждите. Зимой отец на берегу, у матери сердце на месте.
В листопад придут в город кемские поморы, покроют реку кораблями.
Утром, не поспеет кошка умыться, к нам гости наехали.
Однажды ждали в гости почтенного капитана, у которого было прозвище Мошкарь. У нас все прозвища придумывают, в глаза никогда не назовут, а по-за глаз дразнят. Мама с отцом шутя и помянули: «Вот ужо Мошкарь приедет…» Гость приехал и мне игрушку подарил. Я с подарком у него в коленях бегаю, говорю:
— Я тебя люблю. Тебя можно всяко назвать. Можно дядей, можно дядюшкой. Можно Мошкарем, можно Мошкариком…
Ребячьим делом я не раз впросак попадался из-за этих несчастных прозвищ.
Годов пяти от роду видел я чью-то свадьбу. Меня угостили конфетами, и все это мне понравилось.
На нашей улице был дом богача Варгасова, которого за глаза прозывали Варгас. Я думал, это его имя. Вот на другой день после моей гостьбы вижу, что он едет мимо на лошади. Я кричу из окна:
— Варгас, постой-ко, постой!
Он лошадь остановил, ждет, недоумевает… Я выбежал за ворота.
— Варгас, вы, пожалуйста, вашу Елену Варгасовну никому замуж не отдавайте. Я маму спрошусь, сам Еленку-то приду сватать…
А Елене Варгасовой год ли, полтора ли от роду еще…
Помоложе Варгасовны была у нас с сестрой симпатия, Ульяна Баженина. Ряд лет жили мы в деревне Уйме, где зимовали мурманские пароходы. Понравилось нам с сестрой нянчить соседскую дочку, шестимесячную Ульянку. Ульянкина зыбка висела на хорошей пружине. Мы дернем вниз да отпустим, дернем вниз да отпустим. Ульянка рявкнет да вверх летит, рявкнет да вверх летит. Из люльки девка не выпадет, только вся девка вверх тормашками, где нога, где окутка, где пеленка… Няньки-то были, вишь, немножко постарше Ульянки.
Весной по деревне проходили странники. А взрослых часто нет дома. Соберется нас, малышей, в большой Ульяниной избе много, посидим и испугаемся, что странники придут нас есть Вот и выставим к двери лопаты да ухваты — странников убивать. А чуть привидится что черное, летим кто под лавку, кто в подпечек, кто в пустой ушат Сестренка дольше всех суетится:
— Я маленькая, меня скоро съедят буки-то.
По Уйме-реке лес. Там орды боялись. Слыхали, что охотники орду находят, а какая она, не видали.
Ягоды поспеют — отправимся в лес по морошку. Людно малых идет. Вдали увидим пень сажени полторы, как мужик в тулупе.
— Ребята! Эвон де орда-та!
Испугаемся, домой полетим. А орда вся-та с фунт, вся-та с векшу, пестрая. Орда не покажется людям, только собаки находят.
Конец зимы уемляне все у корабельного, у пароходного ремонта. Мелкие с утра одни дома. Мы в Ульянкиной избе все и гостим, куча ребят трех — шести лет. Что у старших видели, то и мы: песни поем, свадьбы рядим — смотренье, рукобитье, пониманье. Девчонки у матерей с кринок наснимают, ходят, кланяются, угощают, — честь честью, как на свадьбе, а на дворе пост великий… И тут увидит из соседей старик ли, старуха — с розгой к нам треплют… Ведь пост! Беда, если песни да скоромное!… Мы опять кто куда — в подпечек, на полати, под крыльцо. Час-два там сидим.
Эти отдельные картинки раннего моего детства мне позже мама и тетка рассказывали. Ну, что попозже творилось, сам помню.
Ко всему, что глаз видит и ухо слышит, были у нас, у ребят, присказки да припевки. И к дождю, и к солнцу, и к ветру, и к снегу, и к зиме, и ко всякой ползучей букашке, и летучей птице.
Вот, к примеру, в зимние вечера, перед ночлегом, летают над городом стаи ворон. Ребята и приправят кричать:
— У задней-то вороны пуля горит! Пуля горит!
Мы уверены были, что именно эти наши слова производят среди ворон суматоху, так как ни одна не хочет лететь задней.
Отец рисовать был мастер и написал мне азбуку, целую книжку
В азбуке опять корабли, и пароходы, и рыбы, и птицы — все разрисовано красками и золотом. К азбуке указочка была костяная резная. Грамоте больше учила мама. Букву А называла «аз», букву Б — «буки», В — «веди», Г — «глаголь», Д — «добро». Чтоб я скорее запомнил, шутя говорила, что начертанья А и Б похожи на жучков, буква В — будто таракан, Г — крюк.
Для памяти я декламирую:
Аз, буки — букашки,
Веди — таракашки,
Глаголь — крючки,
Добро — ящички
И другие стишки про буквы:
Ер (ъ) еры (ы) — упал с горы.
Ер, ять (ять) — некому поднять.
Ер, Ю — сам встаю.
А и Б сидели на трубе.
Азбуку мне отец подарил к Новому году, поэтому в начале было написано стихами:
Поздравляю тебя, сын, с Новым годом!
Живи счастливо да учись.
Ученый водит,
Неученый следом ходит
Рано, весело вставай —
Заря счастье кует
Ходи вправо,
Гляди браво.
Кто помоложе,
С того ответ подороже.
Будь, сын, отца храбрее,
Матери добрее.
Живи с людьми дружно.
Дружно не грузно.
А врозь — хоть брось!
Отец, бывало, скажет:
— Выучишься — ума прибудет!
Я таким недовольным тоном:
— Куда с умом-то?
— А жизнь лучше будет.
Весной выученное за зиму бегали писать на гладком береговом песке.
В городе я поступил в школу, уже хорошо умея читать и писать.
Больше всего успевал я, учась, в языках, совсем не давалась математика; из-за нее не любил я школы, бился зиму, как муха в паутине. Жизнь была сама по себе, а наша школа сама по себе. Город наш стоял у моря, а ни о Севере, ни о родном крае, ни о море никогда мы в школе не слыхали. А для меня это всегда было самое интересное.
С ребятами сидим на пристанях, встречаем, провожаем приходящие, уходящие суда да поем:
У папы лодку попросил,
Папа пальцем погрозил:
— Вот те лодка с веслами,
Мал гулять с матросами!…
Или еще:
Пойду на берег морской,
Сяду под кусточек.
Пароход идет с треской,
Подает свисточек.
Насколько казенная наука от меня отпрядывала, настолько в море все, что я видел и слышал, льнуло ко мне, как смола к доске.
Миша Ласкин
Это было давно, когда я учился в школе. Тороплюсь домой обедать, а из чужого дома незнакомый мальчик кричит мне:
— Эй, ученик! Зайди на минутку!
Захожу и спрашиваю:
— Тебя как зовут?
— Миша Ласкин.
— Ты один живешь?
— Нет, я приехал к тетке. Она убежала на службу, велела мне обедать. Я не могу один обедать. Я привык на корабле с товарищами. Садись скорее, ешь со мной из одной чашки!
Я дома рассказал, что был в гостях у Миши Ласкина. Мне говорят:
— В добрый час! Ты зови его к себе. Слышно, что его отец ушел в дальнее плавание.
Так я подружился с Мишей.
Против нашего города река такая широкая, что другой берег едва видно. При ветре по реке катятся волны с белыми гребнями, будто серые кони бегут с белыми гривами.
Однажды с Мишей сидели на берегу. Спокойная река отражала красный облачный закат. С полдесятка ребят укладывали в лодку весла.
Старший из ребят кричал:
— Слушать мою команду! Через час всем быть здесь. Теперь отправляйтесь за хлебом.
И они все ушли. Миша говорит:
— Это они собрались за реку на ночь. Утром будут рыбу промышлять. А домой не скоро попадут. Глупый ихний капитан — не понимает, что если небо красно с вечера, то утром будет сильный ветер. Если говорить, они не послушают. Надо спрятать у них весла.
Мы взяли из лодки весла и запихали их под пристань, в дальний угол, так, что мышам не найти.
Миша верно угадал погоду. С утра дул морской ветер. Кричали чайки. Волны с шумом налетали на берег. Вчерашние ребята бродили по песку, искали весла.
Миша сказал старшему мальчику:
— Забрались бы вы с ночи на тот берег и ревели бы там до завтра.
Мальчик говорит:
— Мы весла потеряли.
Миша засмеялся:
— Весла я спрятал.
Как-то раз мы пошли удить рыбу. После дождя спускаться с глиняного берега было трудно. Миша сел разуться, я побежал к реке. А навстречу Вася Ершов. Тащит на плече мачту от лодки. Я не дружил с ним и кричу:
— Вася Ерш, куда ползешь?
Он зачерпнул свободной рукой глины и ляпнул в меня. А с горы бежит Миша. Вася думает: «Этот будет драться» — и соскочил с тропинки в грязь.
А Миша ухватил конец Васиной мачты и кричит:
— Зачем ты в грязь залез, дружище? Дай я помогу тебе.
Он до самого верху, до ровной дороги, нес Васину мачту.
Я ждал его и думал: «Миша только и глядит, как бы чем-нибудь кому-нибудь помочь».
Утром взял деревянную парусную лодочку своей работы и пошел к Ершовым. Сел на крыльцо. Вышел Вася, загляделся на лодочку.
Я говорю:
— Это тебе.
Он улыбнулся и покраснел. А мне так стало весело, будто в праздник.
Однажды мой отец строил корабль недалеко от города, и мы с Мишей ходили глядеть на его работу. В обеденный час отец угощал нас пирогами с рыбой. Он гладил Мишу по голове и говорил:
— Ешь, мой голубчик.
Потом нальет квасу в ковшик и первому подаст Мише:
— Пей, мой желанный.
Я всегда ходил на стройку вместе с Мишей. Но однажды я подумал: «Не возьму сегодня Мишу. Умею с кем поговорить не хуже его».
И не сказал товарищу, один убежал.
Корабль уже был спущен на воду. Без лодки не добраться. Я с берега кричу, чтобы послали лодку. Отец поглядывает на меня, а сам с помощниками крепит мачту. А меня будто и не узнает.
Целый час орал я понапрасну. Собрался уходить домой. И вдруг идет Миша. Спрашивает меня:
— Почему ты не зашел за мной?
Я еще ничего не успел соврать, а уж с корабля плывет лодочка. Отец увидел, что я стою с Мишей, и послал за нами.
На корабле отец сказал мне строго и печально:
— Ты убежал от Миши потихоньку. Ты обидел верного товарища. Проси у него прощенья и люби его без хитрости.
Миша захотел украсить место, где строят корабли. Мы начали выкапывать в лесу кусты шиповника и садить на корабельном берегу. На другое лето садик стал цвести.
Миша Ласкин любил читать и то, что нравилось, переписывал в тетрадь. На свободных страницах я рисовал картинки, и у нас получилась книга. Книжное художество увлекло и Васю: он писал, будто печатал. Нам дивно было, какие альбомы получаются у Миши из наших расписных листов.
Книги, и письмо, и рисование — дело зимнее. Летом наши думы устремлялись к рыбной ловле. Чуть зашепчутся весенние капели, у нас тут и разговор: как поплывем на острова, как будем рыбу промышлять и уток добывать.
Мечтали мы о легкой лодочке. И вот такая лодка объявилась в дальней деревушке, у Мишиных знакомцев. Миша сам туда ходил, еще по зимнему пути. Лодка стоила не дешево, но мастеру понравился Мишин разговор, Мишино желание и старание, и он не только сбавил цену, но и сделал льготу: половину денег сейчас, половину — к началу навигации.
Отцы наши считали эту затею дорогой забавой, однако, доверяясь Мише, дали денег на задаток.
Мы с Васей ликовали, величали Мишу кормщиком и шкипером, клялись, что до смерти будем ему послушны и подручны.
Перед самой распутой зашли мы трое в Рыбопромышленный музей. Любуемся моделями судов, а Вася говорит:
— Скоро и у нас будет красовитое суденышко!
Миша помолчал и говорит:
— Одно не красовито: снова править деньги на отцах.
Вздохнул и я:
— Ох, если бы нашим письмом да рисованием можно было заработать!…
Мы не заметили, что разговор слышит основатель музея Верпаховский. Он к нам подходит и говорит:
— Покажите мне ваше письмо и рисование.
Через час он уж разглядывал наши самодельные издания.
— Великолепно! Я как раз искал таких умельцев. В Морском собрании сейчас находится редкостная книга. Ее надобно спешно списать и срисовать. За добрый труд получите добрую цену.
И вот мы получили для переписывания книгу стогодовалую, премудрую, под названием: «Морское знание и умение».
В книге было триста страниц. Сроку нам дано две недели. Мы рассудили, что каждый из нас спишет в день десять страниц. Трое спишут тридцать страниц. Значит, переписку можно кончить в десять дней.
Сегодня, скажем, мы распределили часы работы для каждого, а назавтра с Мишей Ласкиным стряслась оказия.
Он для спешных дел побежал к отцу на судно. У отца заночевал, а ночью вешняя вода сломала лед, и началась великая распута. Сообщения с городом не стало.
Люди — думать, а мы с Васей делать.
— Давай, — говорим, — сделаем нашему шкиперу сюрприз, спишем книгу без него.
Так работали — недосуг носа утереть. Старая книга была замысловатая, рукописная, но вздумаем о Мише — и на уме станет светло и явится понятие. Эту морскую премудрость втроем бы в две недели не понять, а мы двое списали, срисовали в девять дней.
Верпаховский похвалил работу и сказал:
— Завтра в Морском собрании будут заседать степенные, я покажу вашу работу. И вы туда придите в полдень.
На другой день мы бежали в собрание, а навстречу Миша:
— Ребята, я книгу разорил?
— Миша, ты не разоритель, ты строитель. Пойдем с нами.
В Морском собрании сидят степенные, и перед ними наша новенькая книга. Миша понял, что работа сделана, и так-то весело взглянул на нас.
Степенный Воробьев, старичище с грозной бородищей, сказал:
— Молодцы, ребята! Возьмите и от нас хоть малые подарочки.
Старик берет со стола три костяные узорные коробочки, подает Мише, мне и Васе. В каждой коробочке поблескивает золотой червонец. Миша побледнел и положил коробочку на стол.
— Господин степенный, — сказал Миша, — эта книга — труд моих товарищей. Не дико ли мне будет взять награду за чужой труд?
Этими словами Миша нас как кнутом стегнул. Вася скривил рот, будто проглотил что-то горькое-прегорькое. А я взвопил со слезами:
— Миша! Давно ли мы стали тебе чужие? Миша, отнял ты у нас нашу радость!
Все молчат, глядят на Мишу. Он стоит прям, как изваяние. Но вот из-под опущенных ресниц у него блеснули две слезы и медленно покатились по щекам.
Старчище Воробьев взял Мишину коробочку, положил ему в руку, поцеловал всех нас троих и сказал:
— На дворе ненастье, дождик, а здесь у нас благоуханная весна.
С тех пор прошло много лет. Я давно уехал из родного города. Но недавно получил письмо от Михаила Ласкина. В письме засушенные лепестки шиповника.
Старый друг мне пишет:
«Наш шиповник широко разросся, и, когда цветет, весь берег пахнет розами».
Новоземельское знание
Отец мой всю жизнь плавал на судах по Северному океану[1]. Товарищи у него были тоже моряки, опытные и знающие. Особенно хорошо помню я Пафнутия Осиповича Анкудинова. Он был уже стар. Когда собирался в гости, концы своей длинной седой бороды прятал за жилет.
Бывало, я спрошу его:
— Дедушко Пафнутий, вам сколько лет?
Он неизменно отвечал:
— Сто лет в субботу.
Отца моего Пафнутий Осипович иногда называл «Витька» или «Викторко». Я и пеняю отцу:
— Батя, у тебя у самого борода с проседью. Какой же ты «Витька»?
Отец засмеется:
— Глупая ты рыба! Он мой учитель. Я в лодье Анкудинова курс морской науки начал проходить.
— Батя, как же он тебя учил?
— Мы, дитя, тогда без книг учились. Морское знание брали с практики. Я расскажу тебе о первом моем плавании с Пафнутием Анкудиновым. Ты поймешь, как мы учились…
Пафнутий Анкудинов превосходно знал берега Новой Земли, где были промыслы на белого медведя, на песца. В эти дальние берега Анкудинов ходил на лодье — большом парусном трехмачтовом судне. На таком судне Анкудинов был кормщиком. Кормщику была «послушна и подручна» вся команда лодьи. Самым молодым подручным был я. Спутницей нашей лодьи всегда бывала лодья другого архангельского кормщика, Ивана Узкого.
Однажды, возвращаясь с промысла, обе лодьи шли вдоль западного берега Новой Земли. Ветер с берега развел лихую непогоду. Наш кормщик успел укрыться в губу Пособную. Лодью Узкого стало отдирать от берега, и она потерялась из виду. Через четыре дня береговой восточный ветер сменился южным, «русским» ветром. Этот ветер держал нас в Пособной еще четыре дня. Русский ветер сменился ветром с севера. Тотчас Анкудинов подымает якоря, открывает паруса и отправляется искать Ивана Узкого.
Продолжая прерванный курс, Анкудинов опять шел вдоль берега. Поветерь была неровная. Временем накатывал туман. Мы убавляли паруса, шли тихо, по течению.
Я знал, что Анкудинов не пойдет домой, на Русь, без Ивана Узкого, и думал, что пойдем обыскивать все попутные заливы. Но кормщик наш подряд два дня и две ночи шел вперед, не обращая никакого внимания на берег, чуть видный сквозь туман. Я удивился еще больше, когда кормщик круто управил лодью в залив, ничем не отличный от пройденных. Не я один, и другие из команды говорили:
«Будто тебя, кормщик, кто за руку взял и повел в эту маловидную лахту».
Но действительно, здесь, в этой лахте, Иван Узкий ждал Анкудинова.
Я удивился в третий раз, когда увидел, что нас ждали именно сегодня и Узкий с раннего утра велел готовить обед на тридцать человек, по числу команды двух лодей.
За обедом ученики Ивана Узкого говорят:
«Ты, Виктор, дивился на своего кормщика, а мы на своего. Как только мы забежали в эту лахту, Иван Узкий стал говорить, как по книге читать: „Мы сидим без дела здесь, Анкудинов тоскует там“. Дня через три кормщик говорит: „Сегодня Анкудинов выскочил из заключения и устремился к нам. То летит на крыльях, то ползунком ползет“. А вчера, в канун вашего прихода, высказал: „Завтра, в час большой воды, можно ждать гостей…“
Прямо как колдун читал по тайной книге».
Старшие обедали в молчании, и наш разговор был слышен. Иван Узкий рассмеялся и сказал:
«Кормщик Анкудинов, объясни моим ребятам наше колдовство».
Анкудинов стал объяснять:
«Как известно, мы в разлуке были десять дней. Первые четыре дня восточный ветер меня держал под берегом, а вас гонил открытым морем. В следующие четыре дня дул русский ветер. Он опять держал меня на месте, но вам позволил справить к берегу.
Как я, оставшись далеко, в Пособной, мог предугадать, где кинет якорь лодья Узкого?…
Я знал, сколько верст в сутки могла проходить ваша лодья. За четыре дня, при ваших многотрудных обстоятельствах, вы сделали в направлении юго-запада четыреста верст. Этот счет мой сразу прекратился, когда ударил противный вам ветер с юго-запада. Немедленно, на всех парусах, вы устремились в берег.
Как мог я в точности определить место вашей стоянки?
Зная, что вы ушли на юго-запад и находитесь от Пособной на расстоянии четырехсот верст, я вообразил, какие бухты и заливы там имеются. А так как у меня и у Ивана Узкого один и тот же опыт и те же мысли, я знал, что он выберет эту лахту.
Точно так же кормщик Узкий знал, что я в четыре дня берегового ветра не двинусь из Пособной. Он знал, что и в следующие четыре дня дует ветер, не попутный для меня. В тот день, когда взялся северный ветер, Иван Узкий сказал вам: «Сегодня Анкудинов выскочил из заключения».
Расстояние в четыреста верст, при попутном ровном ветре, можно одолеть за тридцать два часа. Иван Узкий учел, что за туманами мы шли без парусов, учел неровность ветра и для этих трудностей прибавил к нашему походу еще часиков двенадцать. Его расчет был точен.
День встречи и место встречи мы определили знанием ветра, знанием моря, знанием берегов, а не гаданьем и не колдовством».
На рассвете следующего дня лодьи Анкудинова и Узкого оставили Новоземельский берег и добрым порядком пришли домой, в Архангельск.
Новая Земля
Веку мне — «сто лет в субботу». Песнями да баснями, гудками да волынками, присказками-сказками, радостью-весельем от старости отманиваюсь и людей от смерти-тоски отымаю.
Архангельская страна, Двинская земля богатеет от моря. Угрюмо Студеное море — седой океан. И поморы, идучи на дальние промысла, брали с собой на корабль песню и сказку.
Таковым-то побытом в молодые, давние годы подрядился я в двинскую артель, идти на Новую Землю, бить зверя и сказывать сказку в мрачные дни.
Из-за нас, мастеров-посказателей, артельные старосты плахами березовыми бились, дрались, боем отбивали, отымом отымали нас друг у друга.
Дула праматерь морская — пособная поветерь. Наша лодья от Двины до Новой Земли добежала в пятеры сутки. Зверя в тот год выстала несосветимая сила. Целое лето били тюленя, моржа, стреляли оленя. Такой задор одолел — гусли мои паутиной заткало, без них весело!
Осень пошла. Старики говорят: «Время обратно. На добычу задоримся, да кабы беды не дождаться!»
Здесь у ветров обычаи. Весной заведется ветер с юга — полудник. Очистит море от льда, угонит льдину на север, вдаль, в неведомый край, и держит льдину у полуночи, в задвенной стране. А осенью приходит день и час — полуденный ветер умолкнет. Волю возьмет ветер полуночник. Погонит льдину обратно к Новой Земле. Смены летнего ветра на зимний не жди!
Вот этак с вечера спать завалимся: «Ребята, завтра домой непременно». А утро настанет — ветер вчерашний. Опять тебя так и подмывает: «Коли зверя-то, стреляй! Все золото в клубок. Женок, невест с экой добычи в шелк и бархат оденем!»
До бортов корабль нагрузили. Староста назначил час отхода.
Тогда артель раскололась надвое. Одиннадцать зашли на лодью. Мы, одиннадцать, толкуем свое: «Плывите, доставьте добычу домой. А за нами сюда другой кораблик немедля пошлите. Мы будем ждать, новый груз припасать. Сей год зима не торопится».
Староста нас и клял и ругал. В последнюю минуту с нами остался:
— Я клятву давал вас, дураков, охранять! Слово дадено — как пуля стреляна. Твори, бог, волю свою! Вы с меня волю сняли.
Те убежали, мы опять промышляем, барыши считаем. Прошла неделя, другая. Время бы за нами и судну быть. Тайно-то, про себя-то, тревожиться стали. На Здвиженье птица улетела. Лебеди, гуси, гагары — все потерялось. Тихо пропало… Заболели сердца-то у нас. Защемило туже да туже.
Как-то спросил я:
— Староста, почто ты с лодьи книги снес — Четьи-Минеи, зимние месяцы?
Он бороду погладил:
— Вдруг да кому, баюнок, на Новой Земле зимовать доведется… Они нам за книги спасибо скажут.
— Староста, даль небесная над морем побелела. Это от снегов?
— Нет, дитя, от льдины… — И ласково так и печально поглядел мне в глаза. — А ты, ладь, ладь гусли-то. Ежели не на корабле, дак на песне твоей поедем.
Ночевали мы в избушке за горой. В пятую неделю ожиданья на заре пошел я к морю, глядеть корабля. Иду и. чувствую, что холодно, что вечер не вчерашний. Шапчонку сорвал, щеку подставил, а ветер-то норд-ост, полуночник… Ноги будто подрезал кто-то, присел даже. Однако усилился, вылез на глядень. И море увидел: белое такое… Лед, сколько глазом достать, — все лед. Льдины — что гробы белые. И лезут они на берег, и стонут, и гремят. Жмет их полуночник-от… Воротился, сказываю. Только ахнули: месяц ждавши, с тоски порвались, а каково будет девять месяцев ждать!
Помолились мы крепко, с рыданием, и зазимовали.
Староста говорит:
— Не тужи, ребята! Ни радость вечна, ни печаль бесконечна. Давайте избу на зиму налаживать.
Собрали по берегам остатки разбитых кораблей. Избу заштопали, зашили. Тут и снегом нас завалило до трубы. Сутки отгребались.
Стало тепло, а темно. И на дворе день потерялся: ночь накрыла землю и море. И в полдень и в полночь горят звездные силы, как паникадила.
Староста научил по созвездьям время читать, часы узнавать. В избе на матице календарь на год нарезали: кресты, кружки, рубежи — праздники, будни, посты. Заместо свечи жирник горел денно-нощно…
Тут повадились гости незваные — белые медведи: рыбный, мясной запас проверять. В сени зашли, в дверь колотили; когтищами, будто ножами, свои письмена по стенам навели. Мы десять медведей убили; семь-то матерых. Перестали гостить. Они, еретики, пуще всего свистом своим донимали. В когти свистят столь пронзительно, ажно мы за сердце хватались.
Тут и всток-ветерок из-за гор приударил. По ветру льдина с камнем летела. По две недели мы за порог не ступали, — как мыши в подполье, сидели. Счет дням по жирнику вели: приметили, сколько сала сгорит от полдня до полдня. Староста дышит мне: «Пуще всего, чтобы люди в скуку не упали. Всякими манами ихние мысли уводи».
С утра мужики шить сядут, приказывают мне:
— Пост теперь, книгу читать. Да чтобы страх был!
Слушают, вздыхают… А оконце вдруг осветится странным, невременным светом. Горят в небе сполохи, северное сияние. С запада до востока, будто река вся жемчужная, изумрудная свернется да развернется; то как бы руки златые по небу пойдут, перебирают серебряные струны…
Вечером ребята песню запросят. Староста строго:
— В песнях все смехи да хи-хи. Заводи, баюнок, лучше старину.
Сказываю Соловья Будимировича:
Из-за морд, моря Студеного
Выплывают корабли Будимировы.
Тридцать кораблей без единого,
Нос-корма по-звериному.
Бока взведены по-туриному.
А и вместо глаз было вставлено
По камню было по яхонту.
Вместо бровей было прибито
По черному соболю сибирскому…
В пост на былину-старину разрешено, а уж как завыговаривает старинка про любовь да как зачнут мужики сгогатывать, так староста только головой вертит да руками машет:
— Ну, разлилась масленица, затопила великий пост!
Про Лира-короля слушать любили. По книжке у меня было выучено.
— Ты, баюнок, мастер слезы выжимать. Поплачешь, оно и легче.
Был у меня в артели друг, подпеватель, Тимоша. Перед святками он замолчал.
Староста мне наказывает:
— Не давай ему задумываться!
Я заплакал:
— Тимоша моложе всех, что ему печалиться!
— То и горе. Стар человек, многоопытен — беды по сортам разбирает: это, мол, беда, это полбеды. А молодому уму несродно ни терпеть, ни ждать.
Я Тимошу отчаянно любил, жалел:
— Тимошенька, чем ты будешь зиму провожать, весну встречать? Давай сделаем гудок.
На деревянную чашу натянули жилы оленьи, гриф из вереска — вот и гудок с погудальцем.
Два коровьих рога, в чем иглы держали, то сопелки-свирели.
— Староста, нам до праздника надо сыгровку делать.
— Играть нельзя, а сыгровку можно.
«Во святых-то вечерах виноградчики стучат: виноградие красно-зеленое!»
В праздник всякий вечер ударим в гусли: запоет гудок девическим голосом, завизжат рожки. Учинится топот-хлопот, скаканье-плясанье. Зажиг от старосты пойдет: зачнет пудовыми сапожищами в половицы бухать, перстами щелкать, закружится…
У нас песни поют,
У нас гудки гудут,
Золотая труба трубит,
Переладец разговаривает…
За старостой стар и млад, — ажно ветер по избе. И Тимоша с ними. Только я заметил, глаза у него блестели и губы рдели по-особому. Утром он не встал. И зачал наш Тимошенька таять, как снег.
Я обниму его, реву над ним.
— Тимошенька, не спи! Во снах тебя смерть схватит…
Он рассмехнется:
— Ты не отдавай меня смерти-то.
Нет, не укараулил я Тимошеньку, не сохранил, не уберег от смерти…
За Тимошей еще трое товарищей повалились в той же тоске. Сам староста перед ними в гудок играл и кружился. Все артельные попеременно плясали, смешили недужных. На Афанасьев день, января восемнадцатого, они рассмеялись и встали. Только Тимошеньку моего не мог я рассмешить… Положили его на глядень, откуда море видать. Графитной плитой накрыли и начертали:
Спит Тимоша-горожанин,
Ждет трубы архангеловы.
На Афанасьев-от день первый свет показался над Новой Землей. В полдень заря зарумянилась. Мы и ночник погасили на часок. На Аксинью-полузимницу солнышко-батюшко как бы с красным фонариком прошло по горам.
В Сретенев день солнышка мы навидались. В полном лике оно над морем встало. Мы-то целовались, обнимались в охапку, по снегу катались, в землю кланялись солнцу-то красному:
— Здравствуй, отец наш родной, солнце пресветлое! При тебе теперь живы будем!
Да в землю ему, да в землю ему, солнцу-то красному.
Друг друга разглядываем:
— Ты баюнок, обородател!
— А ты поседател!
— А это кто, негрянин черной?
— Ничего, промоюсь — краше вас буду!
И Благовещенье и Пасху славить к морю выходили. В медные котлы звонили. Проталинки ребячьими глазками в небо заглядели. Мох закудрявился. На Радоницу в тысячу звонков-колокольчиков Новая Земля зазвенела — с гор ручьи побежали. На Егорьев день гуся два, чайки две, гагары две прилетели, посидели, поглядели, поговорили — опять улетели. Передовые это были. На вешнего Николу слышим сквозь сон: стон стоит на дворе. Выбежали — птица прилетела! И лебеди, и гуси, и гагары, и… все прилетели. Земли не видать, голосу человеческого не слышно. Лебедь кикает, гагара вопит, чайка кричит. Любо! Весело!
На Троицу в ночь будто орган заиграл, во вселенной будто трубы запели. Это ветры сменились. Ветры с полдня, южные, летние ветры ударили. Дрогнула льдина морская, заворотилась и ушла. Море по-веселому зашумело, волна разгулялась во все стороны света белого. По горам шиповник зацвел. Березка, вся-то она ростом в аршин, притулилась за камешком, листочки по грошику, а тоже, как невеста, сережки надела. Тут и травочка маленька, и пчелка бунчит…
Мы, где эко место увидим, падем на колени, руками охапим:
— Мать-земля благоцветущая! Мать сыра-земля!
День тогда беззакатный стоит над Новой Землей, и ночи нет ни единого часу. А мы в солнечные-те ночи и сон и еду потеряли. Своих ждем, корабля ждем. Так и живем на берегу, на высоком-то гляденье. Так и едим глазами край-то морюшка, откуда кораблю быть…
Раз этак задремали о полдне. Вдруг староста кричит:
— Парус! Парус! Парус!…
Подняло нас. Правда, парус! Да не один. Вон два кораблика, вон три соколика… Наши это! С Двины за нами идут…
Тут опять слезы. Только — ах! — сладкие это были слезы. Слаще их ничего не живет на земле.
Морской устав живущий
Корабельные вожи
В устье Северной Двины много островов и отмелей. Сила вешних вод перемывает стреж-фарватер. Чтобы провести большое судно с моря к городу Архангельску или от города до моря, нужны опытные лоцманы. В старину эти водители судов назывались корабельными вожами.
Когда Архангельский посад назвался городом, в горожане были вписаны корабельные вожи Никита Звягин и Гуляй Щеколдин. Звягин вел свой род от новгородцев, Щеколдин — от Москвы. Курс «Двинского знания» оба проходили вместе с юных лет. Всю жизнь делились опытом, дружбой украшали домашнее житье-бытье. Гостились домами: приглашали друг друга к пирогам, к блинам, к пиву.
Но вот пришло время, дошло дело — два старинных приятеля поссорились как раз на пиру.
Вожевая братчина сварила пиво к городскому празднику шестого сентября. Кроме братчиков в пир явились гости отовсюду. Обычно в таких пирах каждая «река» или «город» знали свое место: высокий стол занимала Новгородская Двина, середовый стол — Москва и Устюг, в низких столах сидели черные, или чернопахотные, реки.
После званого питья у праздника в монастыре Звягин поспешил веселыми ногами к вожевому пиву. Здесь усмотрел бесчинство. Братчина и гости сидели без мест. Молодшие реки залезли в большой стол. Великая Двина безмятежно пировала в низком месте.
— Прибавляйся к нам, Никита! — кричал Щеколдин из высокого стола. — Пинега, подвинь анбар, новгородец сядет.
— Моя степень повыше, — отрезал Звягин.
— Дак полезай на крышу, садись на князево бревно! — озорно кричал Щеколдин.
Чернопахотные реки бесчинно загремели-засмеялись. Звягин осерчал:
— Ты сам-то по какому праву в высокий стол залез, московская щеколда?
— Я от царственного города щеколда, а вы мужичий род, крамольники новгородские!
— Не величайся, таракан московский! — орал Звягин. — Твой дедушка был карбасник, носник. От Устюга от Колмогор всякую наброду перевозил. По копейке с плеши брал!
— А твой дедко барабанщик был! Люди зверя промышляют — Звягин в бочку барабанит: «Пособите, кто чем может! По дворам ходил, снастей просил — не подали».
Поругались корабельные вожи, разобиделись и рассоветились. Три года сердились. Который которого издали увидит, в сторону свернет.
Звягин был мужик пожиточный. Щеколдин поскуднее: ребят полна изба. Звягин первый прираздумался и разгоревался: «Из-за чего наша вражда? За что я сердце на Щеколдина держу? Завидую ему? Нет, кораблей приходит много, живу в достатке».
Задумал Звягин старого приятеля на прежнюю любовь склонить. Он так начал поступать: за ним прибегут из вожевой артели или лично придет мореходец иноземец или русский:
— Сведи судно к морю.
У Звягина теперь ответ один:
— Я что-то занемог. Щеколдина зовите. Щеколдин первый между нами, корабельными вожами.
Еще и так скажет:
— Нынче Двина лукавит, в устьях глубина обманная.
Корабли у вас садкие. Доверьтесь опыту Щеколдина.
Корабельщики идут к Щеколдину. Он заработку и достатку рад. Одного понять не может: «За что меня судьба взыскала? Кто-нибудь в артели доброхотствует. Надобно сходить порасспросить».
В урочный день Щеколдин приходит в артель платить вожевой оброк. Казначей и говорит:
— Прибылей-то у тебя, Щеколдин, вдвое против многих.
Недаром Звягин знание твое перед всеми превозносит. Мы думали, у вас остуда, но, видно, старая любовь не ржавеет.
У Щеколдина точно пелена с глаз спала: «Конечно он, старый друг, ко мне людей посылал!» Щеколдин прибежал к Никите Звягину, пал ему в ноги:
— Прости, Никита, без ума на тебя гневался!
Звягин обнял друга и торжественно сказал:
— Велика Москва державная!
Грумаланский песенник
В старые века живал-зимовал на Груманте посказатель, песенник Кузьма. Он сказывал и пел, и голос у него, как река, бежал, как поток гремел. Слушая Кузьму, зимовщики веселились сердцем. И все дивились: откуда у старого неутомленная сила к пенью и сказанью?
Вместе со своей дружиной Кузьма вернулся на Двину, домой. Здесь дружина позвала его в застолье, петь и сказывать у праздника. Трижды посылали за Кузьмой. Дважды отказался, в третий зов пришел. Три раза чествовали чашей — два раза отводил ее рукой, в третий раз пригубил и выговорил:
— Не стою я таких почестей.
Дружина говорит:
— Цену тебе знаем по Груманту.
Кузьма вздохнул:
— Здесь мне цена будет дешевле.
Хлебы со столов убрали, тогда Кузьма запел, заговорил. Его отслушали и говорят:
— Память у тебя по-прежнему, только сила не по-прежнему. На зимовье ты, как гром, гремел.
Кузьма отвечал:
— На зимовье у меня были два великие помощника. Сам батюшка Грумант вам моими устами сказку говорил, а седой океан песню пел.
Рассказы о кормщике Маркеле Ушакове
Русский Север долго хранил устную и письменную память о морской старине, замечательных людях Поморья. Сказания о морской старине бытовали в морском сословии Архангельска и передавались из поколения в поколение. Включенные в данный раздел рассказы являются художественным осмыслением слышанного и записанного мною в молодых годах, запечатленного в памяти от тех ушедших времен.
Примечательными представителями «поморских отцов» были Маркел Ушаков, Иван Порядник (Рядник), Федор Вешняков.
Маркел Иванович Ушаков (годы его жизни: 1621—1701) видится нам типичным представителем старого Поморья. Он имел чин кормщика и, кроме того, был судостроителем. С дружиной своей он жил «однодумно, односоветно», поэтому и товарищи его были ему «послушны и подручны».
Сведения об Ушакове и Ряднике взяты мною из сборника поморского письма XVIII века «Малый Виноградец». В начале двадцатых годов сборник этот принадлежал В. Ф. Кулакову, маляру и собирателю старины, проживавшему в ту пору в Архангельске. В рассказах я старался сохранить эпизодическую форму повествования и стиль речи поморского автора, избегая излишней витиеватости и славянизмов, сохраняя отблески живой разговорной речи того времени.
Мастер Молчан
На Соловецкой верфи юный Маркел Ушаков был под началом у мастера Молчана.
Первое время Маркел не знал, как присвоиться к этому учителю, как его понять. Старик все делает сам. По всякую снасть идет сам. Не скажет: принеси, подай, убери.
Маркел старался уловить взгляд мастера — по взгляду человека узнают Но у старика брови, как медведи, бородища из-под глаз растет — поди улови взгляд. Маркел был живой парень, пробовал шутить. Молчан только в бороду фукнет, усы распушит.
— Морж, сущий морж! — обижался Маркел.
Однажды Маркел сунулся убрать щепу около мастера.
Тот пробурчал:
— Что у меня, своих рук нету?
Маркела горе взяло:
— Что ты, осударь, мне все грубишь? Тебе должно учить меня, крошку, а не пырскать в бороду, как козел! Тебе неугодно, что я тут, и ты скажи, когда неугодно…
— Угодно, мое дитя. Угодно, милый мой помощник.
Тяжелая рука мастера нежно гладила непокорные кудри Маркела; старик говорил:
— Не от слов, а от дел и примера моего учись нашему художеству. Наш брат думает топором. Утри слезки, «крошка». Ты ведь художник. Твоего дела тесинку возьмешь, она, как перо лебединое. Погладишь — рука, как по бархату, катится.
Наконец-то уловил Маркел взгляд мастера: из-под нависших бровей старика сияли утренние зори
Рядниковы рукавицы
Между матерой землей и Соловецкими островами зимою ходят ледяные тороса. Ходят непрерывно, неустанно. Соловецкий трудник Ушаков водил суда меж лед бойко и гораздо.
Братия спросили:
— Чем тебя, Маркел, почествовать за экой труд?
Маркел ответил:
— Повелите выдать мне Рядниковы рукавицы.
Все удивились:
— Что за рукавицы?
Кожаный старец объяснил:
— Хаживал к игумену Филиппу некоторый Рядник-мореходец. Сказывал игумену морское знанье. И однажды забыл рукавицы. Филипп велел прибрать их: «Еще-де славный мореходец придет и спросит…» Сто годов лежат в казне. Не идет, не спрашивает Рядник рукавиц.
— Сегодня пришел и стребовал! — раздался голос старого Молчана. — Хвалю тебя, Маркел, — продолжал Молчан. — Не золото, не серебро — Рядниковы рукавицы ты спросил, в которых Рядник за лодейное кормило брался на веках, в которых службу морю правил. Ты, Маркел, отцов наших морских почтил. Молод ты, а ум у тебя столетен.
Маркел и стал хранить эти рукавицы возле книг. Надевал в особо важных случаях.
Из– за Рядниковых рукавиц попали в плен свеи-находальники.
Но расскажем дело по порядку.
Однажды в соловецкой трапезной иноки «московской породы» сели выше «новгородцев». «Новгородская порода» возмутилась. Маркел втиснулся меж теми и теми и так двинул плечом в сторону московских, что сидящие с другого края лавки «московцы» посыпались на пол.
Баталия случилась в праздник, при большом стечении богомольцев. Маркела в наказание за бесчинство и послали в Кандалакшу, к сельдяному караулу.
В безлюдное время, в тумане, с моря послышался стук весел и нерусская речь. Маркел говорит подручному:
— Каяне[2] идут. За туманом сюда приворотят. Бежи в деревню! Нет ли мужиков…
… К Маркелу в избу входят трое каянских грабежников. Двое захватили его за руки, третий стал снашивать в лодку хлебы, рыбу и одежду.
Маркел стоит: его держат эти двое. Наконец третий, оглядев стены, снял с гвоздя заветные Рядниковы рукавицы.
Маркел говорит:
— Это нельзя! Повесь на место!
Тот и ухом не ведет.
Тогда Маркел тряхнул руками, и оба каянца полетели в разные углы. Вооружась скамьей, Маркел тремя взмахами «учинил без памяти» наскакивающих на него с ножами грабежников. Сам выскочил в сени, прижал двери колом.
Те ломятся в двери, а он стоит в сенях и слушает: не трубит ли рог в деревне?
И деревенские, как пали в карбас, сразу загремели в рог.
А в лодке еще трое каянцев. Вопли запертых слышат. Один выскочил из лодки и бежит к свеям на помощь. € ним Маркел затеял драку, чтобы не подпустить к избе. Но рог слышнее да слышнее. Показался русский карбас с народом. В свалке один грабежник утонул. Пятеро попали в плен.
За такую выслугу Маркелу с честью воротили чин судостроителя.
Кошелек
На Молчановой верфи пришвартовался к Маркелу молодой Анфим, к делу талантливый, но нравом неустойчивый. Сегодня он скажет:
— Наш остров — рай земной. И люди — ангелы. А в миру молва, мятеж, вражда…
Завтра поет другое:
— Здесь ад кромешный, и люди — беси. А в миру веселье: свадьбы, колесницы, фараоны, всадники… Молчан наказывал Маркелу:
— Ты поберегай этого Анфимку. Он тебе доверяется всем сердцем. И ты за него ответишь.
Маркел удивился:
— Значит, и ты, осударь, отвечаешь за меня?
— Да Как отец за сына.
Как-то за безветрием стояло у Соловков заморское судно Общительный Анфим забрался туда и всю ночь играл с корабельщиками в зернь и в кости. Днем на работе пел да веселился, вечером наедине сказал Маркелу:
— Маркел, я деньги выиграл. Хватит убежать в Архангельск. Пойдем со мной, Маркел. В Архангельске делов найдется.
Маркел говорит:
— Значит, бросить наше дело и науку, оскорбить учителя Молчана и бежать, как воры?
Анфим твердит свое:
— Не запугивайся, друг! В кои веки выпало такое счастье. Попросимся на то же судно, где игра была, и уплывем.
При ночных часах Анфим с Маркелом пришли к судну. С берега на борт перекинута долгая доска. На палубе храпел вахтенный. Маркел говорит:
— Давай, Анфимко, деньги. Я зайду на судно, разбужу кептена, заплачу за проезд и позову тебя.
Сунув за пазуху кошелек, почему-то неуверенно перекладывая ноги, Маркел шел по доске… Тут оступился, тут бухнул в воду… Это бы не беда — Маркел через минуту выплыл, вылез на берег. Беда, что кошелек-то с деньгами утонул.
— Обездолил я тебя, Анфимушко! — тужил Маркел, выжимая рубаху.
— Я одного не понимаю, — горячился Анфим, — ты свободно ходишь по канату с берега на судно, а с трапника упал…
Простодушному Анфиму было невдомек, что Маркел в воду пал нарочно и кошелек утопил намеренно. Иначе нельзя было удержать Анфима от безумного намерения.
Ворон
Ходил Маркел по Лопской тундре, брал ягоду морошку. На руке корзина, у пояса серебряный рожок призывный. Ягоды берет и стих поет о тишине и о прекрасной Матери-Пустыне. А заместо тишины к нему бежит мальчик лопин:
— Господине, не видал оленя голубого?
— Не видал, — говорит Маркел.
— О, беда! — заплакал мальчик. — Я пас оленье стадышко и уснул. Прохватился — оленя голубого нет.
— Веди меня к тому месту, где ты оленей пас, — говорит Маркел.
Вот они идут по белой тундре, край морского берега. А под горою свеи у костра сидят, в котле еду варят.
— Они варят оленье мясо, — говорит Маркел.
— Нет, господине, — спорит лопин. — Я видел, у них в котле кипит рыбешка.
— Рыбешка для виду, для обману. Они кусок оленины варят, а туша спрятана где-нибудь поблизости.
И Маркел, отворотясь от моря, зорко смотрит в тундру. А тундра распростерлась, сколько глаз хватает. И вот над белой мшистой сопкой вскружился черный ворон. Покружил и опустился в мох с призывным карканьем.
— Там закопана твоя оленина, — сказал Маркел.
К белому бугру пришли, ворона сгонили, мох, как одеяло, сняли: тут оленина.
А свеи из-под берега следят за лопином и Маркелом. Как увидели, что воровство сыскалось, и они котел снимают, лодку в воду спихивают. А Маркел в ту пору приложил к устам серебряный рожок и заиграл. Свеи рог услышали, в лодку пали, гонят прочь от берега; только весла трещат — так гребут. Их корабль стоял за ближним островом. Так спешно удалялись, что котел-медник на русском берегу покинули.
Этот котел Маркел присудил оленьему пастуху. Пастух не в убытке: котел-медник дороже оленя.
Художество
Маркел Ушаков насколько был именитый мореходец, настолько опытный судостроитель.
В молодые свои годы он обходил морские берега, занимаясь выстройкой судов. Знал столярное и кузнечное дело; превосходно умел чертить и переписывать книгу. Все свои знания Маркел объединял словом «художество».
Спутник и ученик Маркела, Анфим Иняхин, спросил Маркела:
— Когда же мы сядем на месте, дома заниматься художеством?
Маркел отвечал:
— Кто же теперь отнимет у нас наше художество? Художество места не ищет.
Маркел говаривал:
— Пчела куда ни полетит, делает мед. Так и художный мастер: куда ни придет, где ни живет, зиждет доброту (создает красоту).
У работы Маркел любил петь песню. Скажет, бывало.
— Сапожник ли, портной ли, столяр ли — поют за работой. Нам пример путник с ношей. Песней он облегчает труд путешествия.
Ничтожный срок
Корабельные мастера и работные люди от пяти берегов Двинской губы собрались в Соломбальской слободе выслушать отчет своих выборных людей и воочию увидеть Лисестровскую верфь — любимое детище всех пяти берегов.
Собрались не в раз и не в час. Кого держала непогода, кто намелился, кого водило в лесах. Наконец скопились сполна. К началу собрания подоспел Панкрат Падиногин, артельный стряпчий, отъезжавший в Поморье.
Выборные люди стали докладываться, всяк по своей части. Каждый из них тут же получал оценку своей деятельности. Григорий Гневашев докладывал:
— Я удоволил Лисестровские анбары дорогим припасом, красным лесом. Хватит на два года при большом расходе.
Собрание спрашивает:
— За какое время ты управил это дело?
Панкрат отвечает:
— Начал с осени, по первому снегу. Завершил с началом навигации.
Собрание говорит:
— Значит, девять месяцев. Срок немалый. Благодарим, но ничего выдающегося тут нет.
Петр Сухой Лоб докладывал:
— Я обеспечил Лисестровскую верфь столярским и плотницким струментом. Итого двести наборов. Вот что я доспел!
Собрание спрашивает:
— Сколько времени ты хлопотал?
— Сколько Гневашев, столько и я. Всю зиму этим беспокоился. Итого девять месяцев.
Собрание говорит:
— Что же… Ты исполнил свою должность. Но ничего восхитительного тут нет… «Девять ден, девять верст, как сокол летел».
Докладчик Панкрат Падиногин спросил собрание:
— Известен ли вам художественный мастер и мореходец Маркел Ушаков?
Собрание отвечает:
— Ты бы еще спросил, известны ли нам отцы наши и матери! Мореходные и судостроительные чертежи Маркела Ушакова друг у друга отымаем.
— Я уговорил Маркела Ушакова принять во свое смотрительное руководство нашу Лисестровскую верфь. Придет сюда на постоянное житье. Но чтобы расположить Маркела, мне понадобился долгий срок…
— Сколь долгий? — спрашивает собрание.
— Девять лет…
Собрание триста человек, как один, всплеснули руками, встали, закричали:
— Мало, совсем мало времени потратил ты, Панкрат Падиногин! Для столь полезного успеха девять лет — ничтожный срок.
Видение
Как-то Маркел с Анфимом жили в Архангельске. У корабельной стройки взяли токарный подряд. Маркел и жил на корабле, Анфим — в городе. Редко видя учителя, Анфим соблазнился легкой наживой — торговлей. Запродал даже токарную снасть. Маркел этого ничего не знает.
Но вот рассказывают, пробует он маховое колесо у станка и видит будто, что заместо спиц в колесе вертится Анфимка Иняхин.
Опамятовавшись от видения, Маркел прибежал к Анфиму:
— Друг, с тобой все ли ладно?
— А что же, Маркел Иванович? — удивился Анфим.
— Ты сегодня в видении передо мной колесом ходил.
— Ужели? — простонал Анфим и заплакал: — Ты меня, отец, правильно обличил. Торговлишка меня соблазнила. Я задумал художество наше бросить.
Ушаков и Фома Кыркалов
Ушаково мастерство Маркелово было рассудительно и с любопытством, а не только по старым извычаям.
Ушаковские суда заморские обдуманы по чертежу. Лодья уж на воду спущена, мастер еще примечает, смекает и на догадку берет. Заботился, чтобы шито было прочно; беспокоился, насколько будет красовито на ходу, под парусами Ушаков был ученик не худых учителей. И не хотел уважить иноземным кораблям. Однако их рассматривал испытно, чая пользы своему любезному художеству.
Бывало, поручит Ушаков помощнику опробовать новопостроенную лодью, а сам выбежит на пристань, чтобы «из-под ручки посмотреть» на свое новорожденное.
Этак однажды привелся на пристани Фома Кыркалов[3], поздоровался с Маркелом и говорит насмешливо:
— Все ходишь, Маркел Иванович? Все любуешься на суда свои? Наглядеться, налюбоваться не можешь…
— Нет, нет, Фома Онаньевич, — горестно и гневно отвечал Маркел. — Досадовать хожу, горячиться, сам на себя, хожу. Гляжу, ошибки свои считаю. Косность ума своего обличаю.
Кыркалов снял шапку и поклонился Ушакову в пояс:
— Когда так, Маркел Иванович, — ты настоящий, истинный художник!
Достояние вдов
Ушаков отлично умел делать модели кораблей. А приобучился этому в Соловецком монастыре. В монастыре не ужился: нрав имел строптивый и язык — как бритва.
Изба Маркела в Архангельске вся была заставлена маленькими кораблями. В долгие зимние вечера мастер сидел обычно на низеньком сосновом чурбане и при свете сальницы[4] оснащал игрушечный корабль. Около Маркела всегда множество детей. Он любил рассказывать о своих удивительных путеплаваниях. В праздники Маркел ходил ругаться со всякими начальниками.
Приехавший с Петром Первым[5] знатный барин заказал Маркелу модель голландского корабля. Жена этого барина, увидев готовую модель, сказала:
— Мастер, не бери у мужа денег за эту игрушку. Я возьму их в пользу вдов и сирот.
Маркел отвечает:
— Не твое, сударыня, дело о бедняках печалиться.
— Ах ты пьяница! — вспыхнула барыня. — Я слабая здоровьем, и то беспокою себя ради голодранцев…
— Нет, ты не слабая, — перебил Маркел. — Ты богатырка. Ты, сударыня, носишь на плечах достояние бесчисленных вдов и сирот. И не чувствуешь этого.
Плечи знатной барыни украшены были драгоценностями.
Долг
Молодой промысловец занял у Маркела денег наперехватку. Отдавать явился, а Маркел в море ушел. Так и побежало время: то Маркела на берегу нет, то у должника денег нет.
Оба встретились на Новой Земле. Хотя в разных избах, да в одном становище зимовали две артели. Маркел говорит:
— Что уж, парень, ни разу меня не окликнул?
Парень снял шапку:
— Не смею и глядеть на тебя, осударь. Должен тебе.
Маркел говорит:
— Провались концом! Какие меж нас долги?
— Хотя бы работой какой отработать дозволили, Маркел Иванович…
Маркел говорит:
— Ладно. Всякий вечер приходи в нашу избу. Дела найдутся.
На зимовьях народ поужинают да повалятся. Должник пришел к Маркелу. Маркел не спит, живет у книги при огне. Книга — азбука, писана и рисована художной ушаковской рукой. Маркел стал показывать гостю буквы. Часа два учились. Во столько-то недель детина понял все «азы» и «буки». Когда полная тьма накрыла Новую Землю, ученик вытвердил титла.
Время катится, дни торопятся, — сколько парень радуется науке, столько тревожится: «Когда же я начну долг отрабатывать?»
Когда свет завременился над Новой Землей, паря читал по складам. При конце зимы читал по толкам. Наконец стал с пением говорить по книгам четкого Маркелова письма.
Маркел говорит:
— Ну, друг, дошла промышленная пора. Но ты всякий день урви хоть малый час для книжного чтения.
Ученик возопил:
— Благодарствую, Маркел Иванович! Ты мне бесценное добро доспел — книгам выучил. Но когда я долг-то буду отрабатывать?
Маркел говорит:
— Сколько ты должен?
— Без двух гривен пять рублей.
Маркел говорит:
— Пускай так. Теперь считай: буквы ты учил — трудился. Значит, из твоего долга сорок алтын долой, титла изучил — другие сорок алтын из долга вон. По толкам ты читал усердно — остальных сорок алтын отработал. Ты за эту зиму, дитя, сполна твой долг отработал. И больше ты мне ни о каких долгах не смей поминать.
Понятие об учтивости
Деревня Лодьма[6] славна была изготовлением изящных корабельных моделей. Здесь подолгу живал Маркел Ушаков.
… Царский чиновник едет мимо ряда лодемских крестьян, сидящих на бревнах.
— Эй, борода! — кричит чиновник.
Все с бородами, — усмехнулись крестьяне.
— Кто у вас тут мастер? — сердится чиновник.
Все мастера, кто у чего, — отвечают крестьяне.
Я желаю купить здешнюю игрушку — кораблик!
— За худое понятие об учтивости ничего не купишь, — слышится спокойный ответ.
Это сказал Маркел Ушаков, который по виду ничем не отличался от любого мужика-помора.
Маркел Ушаков и Василий Кекин
Любомудрые годы неутомленной старости своей Маркел провожал в Койде[7].
В это время молодой судостроитель в городе[8], Василий Кекин, добивался на учительный разряд.
Городовые мастера сказали:
— Домогаешься высокой степени. Но похвалит ли Маркел Иванович на Койде? Спросишь его. Мы ему писали о тебе.
Кекин в Койду прибыл. Старый мастер его встретил с усмешкой.
— Пишут о тебе: строишь карбасы, а корма-то розна[9]. Еще не знаю, годишься ли в ученики. Возьми полено, сделай в образец лодейку.
Кекин сделал образец художно, с вымыслом. Старый мастер сморщился.
— Изукрашенье ни к чему. Отдай эту игрушку ребятишкам. Сделай проще.
Кекин сделал просто. Старый мастер говорит:
— Поживи да поучись на Койде года три. Хлеба мои, одежа твоя… Тебе любо ли, Василий Кекин?
— Любо, Маркел Иванович! Хотя бы тридцать лет метлой стоять, только бы у ваших учительных дверей!
Это все Маркел испытывал Василия. Вскоре Маркел послал в город грамотку, к городовым мастерам на верфи. А следом пустил и Кекина.
В городе на верфях Кекина встречают честно; разрядные мастера сказали:
— Пишет о тебе Маркел Иванович: умеешь-де ты повиноваться и учиться. Знатно, что сумеешь и начальствовать.
Треух
Пристрастие Петра Первого к кораблям и к морю заставило Маркела Ушакова полюбить преобразователя России. По рекомендации Афанасия Холмогорского Маркел был вызван к корабельному строению на Неве и Ладоге.
Тут душа старого помора начала рваться на куски. Сочувствуя Петру, Маркел негодовал на преклонение перед Западом без разбору.
— Бывало, в северных морях иноземец русским в рот глядел, ждал слова. А теперь извольте стулом становиться под голландца или шведа!
На заседании «приказных господ и членов» произошел скандал. Ушаков вылез вперед, вывернул свой лисий треух наизнанку, поставил тульей себе на голову и сидит так, помавая лисьими хвостами. Все вытаращили глаза. Председатель прервал речь. В публике раздался шум и хохот.
Тогда Маркел Иванович стукнул кулаком о стол «и рек, аки гром грянул»:
— Иноземец всех нас кверху дном поставил. Всех на обезьянин лик поворотил. И это вам не дико. А я только то и сделал, что шапку свою навыворот надел, и все смутились, все оскорблены.
«Притворя себе болезнь», Маркел вернулся в Архангельск.
Вера в ложке
Ушаков и товарищи пришли в Сумский посад. Был праздник, и сумляне пригласили их к столу. Маркелов подкормщик говорит:
— Какой страх — со всеми есть и пить, а не знаем, кто какой веры! У меня и ложки с собой нет. Маркел говорит:
— Какой страх людей обижать! В ложку ты свою веру собрал.
Пиво
Трое молодых ребят на лодье повадились тайно пробовать пьяное пиво, которое хранилось в бочке на случай праздника.
Маркел это заметил, позвал ребят к себе в казенку и говорит:
— Ребята, что-то вы поблекли. Чем вас развеселить? Или пивком угостить?
Ребята покраснели, как брусника, и старший выговорил:
— Прости, дядюшка Маркел Иванович. Вперед таковы не будем.
Ушаков и Яков Койденский
Маркел относился к делу своему и к людям страстно и пристрастно. Но людей тянуло к Маркелу, как железо на магнит. Где бы ни кидала якорь Маркелова лодья, везде являлись у него друзья и ученики. А потом оставалась незабытная память.
Маркел искал и находил людей, призванием которых было мореходство. За таких людей он полагал свою душу.
Когда Маркел пришел на Койду и срядился плыть на Новую Землю, в лодейную дружину вступил Яков Койдянин, подросток-сирота. В нем Маркел нашел ученика, потом и ревностного помощника в судостроении.
Старый мастер веселился сердцем и умом, есть кому оставить наше знанье и уменье.
Но хмель в молодости начал разбирать верного Маркелова помощника. Яков стал одолевать Маркела неотступным разговором:
— Уйду в российские города Здесь тесно
— Яков, у Студеного ли моря тесно? Что ты будешь делать в городах? Не отпущу тебя. Погубишь мастерство, потеряешь и себя. Ты не вернешься сюда. Яков говорит:
— Я вернусь сюда, если ты, мастер Маркел, пойдешь вместе со мной. С тобой и я вернусь. А не пойдешь со мной, останусь там.
И старый Ушаков, тревожась и болезнуя о судьбе талантливого ученика, оставляет свой дом, свой промысел и идет за Яковом неведомо куда.
Но скитались они недолго.
Однажды Яков пал мастеру в ноги с воплем и со слезами:
— Господин мой, доброхот мой! Непостижно велика печаль твоя обо мне. Не стою я тебя. Но если можешь ты простить меня, если в силах ты глядеть на меня, то вернемся в нашу Койду, к нашему светлому морю, к нашему доброчестному промыслу.
Как-то при людях Маркел почествовал Якова, назвав его мастером. Люди подивились:
— Столь молодого ты называешь мастером…
Маркел отвечал:
— Дела его говорят, что он мастер.
Кондратий Тарара
Слышано от неложного человека, от старого Константина.
У нас на городовой верфи состоял мастер железных дел Кондрат Тарара. Он мог высказывать мечтательно о городах и пирамидах, будто сам бывал. Сообразно нрав имел непоседливый и обычай беспокойный. Смолоду скитался, бросал семью.
Столь мечтательную легкокрылость Маркел ухитрился наконец сдержать на одном месте двадцать лет.
Удивительнее то, что и память о Маркеле держала Тарару на месте другие двадцать лет.
А хитрость Маркела Ивановича была детская.
Весной не успеет снег сойти и вода сбежать, Кондрат является в приказ.
— Прощай, Маркел Иванович. Ухожу.
— Куда, Кондраша?
— По летнему времени на Мурман или на Мезень. Может, к промыслам каким пристану.
Маркел заговорит убедительно:
— Кондраша, навигация открылась. В якорях, в цепях никто не понимает. Именно для летнего времени невозможно нам остаться без тебя.
— Ладно, Маркел Иванович. До осени останусь.
Значит, трудится на кузнице до снегов. Работает отменно.
Только снег напал — кондратий в полном путешественном наряде опять предстает перед Маркелом:
— Всех вам благ, Маркел Иванович. Ухожу бесповоротно.
— Куда же, Кондратушко?
— Думаю, на Вологду. А там на Устюг.
Маркел руки к нему протянет:
— Кондрат! В эту зиму велено уширить кузницу, поставить новых три горна. Не можем оторваться от тебя, как дитя от матери.
— Это верно, — скажет Тарара. — Зиму проведу при вас.
Весной Кондратьева жена бежит к Маркелу:
— Пропали мы, Маркел Иванович! Тарара в поход собрался. Уговори, отец родной!
Приходит Тарара:
— Ухожу. Не уговаривайте.
— Где тебя уговорить… Легче железо уварить. Прощай, Кондрат… Конечно, этим летом повелено ковать медных орлов на украшение государевой пристани… Ну, мы доверим это дело Терентию Никитичу.
— Вы доверите, а я не доверю! Ваш Терентий Никитич еще в кузнице не бывал и клещей не видал…
Вот так-то год за годом удерживал Маркел милого человека.
В которые годы Маркела не было в Архангельске, Тарара все же сидел на месте:
— Воротится Маркел Иванович из Койды, тогда спрошусь и уйду.
Но Маркел Иванович из Койды отошел к Новоземельским берегам и там, мало поболев, остался на вечный спокой. А Кондрат Тарара остался в Архангельске:
— Мне теперь не у кого отпроситься, некому сказаться.
Стихосложный грумант
На моей памяти молодые моряки усердно обзаводились рукописными сборниками стихов и песен.
Иногда такой «альбом» начинался виршами XVIII века и заканчивался стихотворениями Фета и Плещеева.
В сборнике, принадлежащем знаменитому капитану-полярнику В. И. Воронину, находился вариант «Стихосложного Груманта», написанного безвестным помором.
В старинном сборнике поморских стихов «Рифмы мореплавательны», принадлежащем моему отцу, также был вариант названной песни. Напечатанный здесь текст «Стихосложного Груманта» представляет собою свод двух вариантов.
В молодых меня годах жизнь преогорчила:
Обрученная невеста перстень воротила.
Я на людях от печали не мог отманиться.
Я у пьяного у хмелю не мог звеселиться.
Старой кормщик Паникар мне судьбу обдумал,
На три года указал отойти на Грумант.
Грумалански берега — русской путь изведан.
И повадились ходить по отцам, по дедам.
Мне по жеребью надел выпал в диком месте.
… Два анбара по сту лет, и избе за двести.
День по дню, как дождь, прошли три урочных года
Притуманилась моя сердечна невзгода,
К трем зимовкам я еще девять лет прибавил,
Грозной Грумант за труды меня не оставил.
За двенадцать лет труда наградил спокойством,
Не сравнять того спокою ни с каким довольством.
Колотился я на Груманте
Довольны годочки.
Не морозы там страшат,
Страшит темна ночка.
Там с Михайлы, с ноября,
Долга ночь настанет,
И до Сретения дня
Зоря не проглянет.
Там о полдень и о полночь
Светит сила звездна.
Спит в молчанье гробовом
Океанска бездна.
Там сполохи пречудно
Пуще звезд играют,
Разноогненным пожаром
Небо зажигают.
И еще в пустыне той
Была мне отрада,
Что с собой припасены
Чернило и бумага.
Молчит Грумант, молчит берег
Молчит вся вселенна.
И в пустыне той изба,
Льдиной покровенна
Я в пустой избе один,
А скуки не знаю —
Я, хотя простолюдин,
Книгу составляю
Не кажу я в книге сей
Печального виду.
Я не списываю тут
Людскую обиду.
Тем-то я и похвалю
Пустынную хижу,
Что изменной образины
Никогда не вижу.
Краше будет сплановать
Здешних мест фигуру,
Достоверно описать
Груманта натуру.
Грумалански господа,
Белые медведи, —
Порядовные мои
Ближние соседи.
Я соседей дорогих
Пулей угощаю.
Кладовой запас сверять
Их не допущаю.
Раз с таковским гостеньком
Бился врукопашну.
В сенях гостьюшку убил,
Медведицу страшну.
Из оленьих шкур одежду
Шью на мелку строчку.
Убавляю за работой
Кромешную ночку.
Месяцам учет веду
По лунному свету
И от полдня розню ночь
По звездному бегу.
Из моржового тинка
Делаю игрушки:
Веретенца, гребешки,
Детски побрякушки.
От товарищей один,
А не ведал скуки,
Потому что не спутал
Праздно свои руки.
Снасть резную отложу,
Обувь ушиваю.
Про быванье про свое
Песню пропеваю.
Соразмерить речь па стих
Прилагаю тщанье:
Без распеву не почтут
Грубое сказанье.
Круговая помощь
На веках в Мурманское становище, близ Танькиной Губы, укрылось датское судно, битое непогодой. Русские поморы кряду принялись шить и ладить судно. Переправку и шитье сделали прочно и, за светлостью ночей, скоро. Датский шкипер спрашивает старосту, какова цена работе. Староста удивился:
— Какая цена! Разве ты, господин шкипер, купил что? Или рядился с кем?
Шкипер говорит:
— Никакой ряды не было. Едва мое бедное судно показалось в виду берега, русские поморы кинулись ко мне на карбасах с канатами, с баграми. Затем началась усердная починка моего судна.
Староста говорит:
— Так и быть должно. У нас всегда такое поведение. Так требует устав морской.
Шкипер говорит:
— Если нет общей цены, я желаю раздавать поручно.
Староста улыбнулся:
— Воля ни у вас, ни у нас не отнята.
Шкипер, где кого увидит из работавших, всем сует подарки.
Люди только смеются да руками отмахиваются. Шкипер говорит старосте и кормщикам:
— Думаю, что люди не берут, так как стесняются друг друга или вас, начальников.
Кормщик и староста засмеялись:
— Столько и трудов не было, сколько у тебя хлопот с наградами. Но ежели такое твое желание, господин шкипер, положи твои гостинцы на дороге, у креста. И объяви, что может брать кто хочет и когда хочет.
Шкиперу эта мысль понравилась:
— Не я, а вы, господа кормщики, объявите рядовым, чтоб брали, когда хотят, по совести.
Шкипер поставил короба с гостинцами на тропинке у креста. Кормщики объявили по карбасам, что датский шкипер, по своему благородному обычаю, желает одарить всех, кто трудился около его судна. Награды сложены у креста. Бери, кто желает.
До самой отправки датского судна короба с подарками стояли среди дороги. Мимо шли промышленные люди, большие и меньшие. Никто не дотронулся до наград, пальцем никто не пошевелил.
Шкипер пришел проститься с поморами на сход, который бывал по воскресным дням. Поблагодарив всех, он объяснил:
— Если вы обязаны помогать, то и я обязан…
Ему не дали договорить. Стали объяснять:
— Верно, господин шкипер! Ты обязан. Мы помогли тебе в беде и этим крепко обязали тебя помочь нам, когда мы окажемся в морской беде. Ежели не нам, то помоги кому другому. Это все одно. Все мы, мореходцы, связаны и все живем такою круговою помощью. Это вековой морской устав. Тот же устав остерегает нас: «Ежели взял плату или награду за помощь мореходцу, то себе в случае морской беды помощи не жди».
Грумант — медведь
Зверобойная дружина зимовала на Груманте. Время стало ближе к свету, и двое промышленников запросились отойти в стороннюю избу:
— Поживем по своим волям. А здесь хлеб с мерки и сон с мерки.
Старосте они говорили:
— Мы там, на бережку, будем море караулить. Весна не за горами.
… Наконец староста отпустил их. Дал устав: столько-то всякий день делать деревянное дело, столько-то шить шитья. Не больше стольких-то часов спать. В становище повелено было приходить раз в неделю, по воскресеньям.
Оба молодца пришли в эту избу, край моря, и день-два пожили по правилу. До обеда поработают, часок поспят. Вылезут на улицу, окошки разгребут. В семь часов отужинают — и спать. В три утра встают и печь затопляют. И еду готовят. Все, как дома, на матерой земле.
День– два держались так. Потом разленились. Едят не в показанное время. Спят без меры. В воскресенье не пошли к товарищам. В понедельник этак шьют сидят, клюют носом.
— Давай, брат, всхрапнем часиков восемь?
К нарам подошли и, вместо шкур оленьих, видят белого медведя. Будто лежит, ощерил зубы, ощетинился…
Не упомнят молодцы, как двери отыскали да как до становища долетели. Из становой избы их издали увидели. Староста говорит:
— Им за ослушанье какой-нибудь грумаланский страх привиделся. Заприте двери. Их надо поучить.
Братаны в дверь стучат и в стену колотятся; их только к паужне пустили в избу. Они рассказывают:
— Мы обувь шьем, сзади кто-то дышит-пышет. Оглянулись — медведище белый с нар заподымался. Зубами скалит, глаза, как свечки, светят…
Староста говорит:
— Это Грумант вас на ум наводит. Сам Грумант-батюшка в образе медведя вас пугнул. Он не любит, чтобы люди порознь жили. Вы устав нарушили. Грумант вас за это постращал.
Общая казна
Был дружинник — весь доход и пай клал в дружину, в общую казну. И некогда пришло на ум: «Стану откладывать на черный день. А то вклады у нас неравные, мне не больше людей надо».
Стал давать в общую казну, равняясь по маломочным.
Бывало, когда он все отдавал, дак и люди ему все отдавали. А он отскочил от людей, и люди не столь его жалеют.
Однажды не пошел на ловы: «С меня запасу хватит» Захворал. И бывало, как он неможет, двое при нем останутся — знают его простертую руку. А теперь никто не остался.
Он в эти дни одумался, опомнился.
— Нет, лучше с людьми. Люди в старости меня не оставят.
Скоро товарищи вернулись. Они беспокоились о нем.
— Мы твое добро помним.
И опять он стал весел и спокоен: поживи для людей, поживут и люди для тебя. Сам себе на радость никто не живет.
Болезнь
Опять было на Груманте.
Одного дружинника, как раз в деловые часы, начала хватать болезнь: скука, немогута, смертная тоска. Дружинник говорит сам себе:
«Меня хочет одолеть цинга. Я ей не поддамся. У нас дружина малолюдна. Моя работа грузом упадет на товарищей. Встану да поработаю, пока жив».
Через силу он сползал с нар и начинал работать. И чудное дело — лихая слабость начала отходить от него, когда он трудился.
Дружинник всякий день и всякий час сопротивлялся немощи. Доброй мыслею побеждал печаль и победил цингу: болезнь оставила его.
По уставу
Лодья шла вдоль Новой Земли. Для осеннего времени торопилась в русскую сторону. От напрасного ветра зашли па отстой в пустую губицу. Любопытный детинка пошел в берег. Усмотрел, далеко или близко, избушку. Толкнул дверь — у порога нагое тело. Давно кого-то не стало. А уж слышно, что с лодьи трубят в рог. Значит, припала поветерь, детине надо спешить. Он сдернул с себя все, до последней рубахи, обрядил безвестного товарища, положил на лавку, накрыл лицо платочком, доброчестно простился и, сам нагой до последней нитки, в одних бахилах, побежал к лодье.
Кормщик говорит:
— Ты со уставу сделал. Теперь бы надо нам сходить его похоронить, но не терпит время. Надо подыматься на Русь.
Лодью задержали непогоды у Вайгацких берегов. Здесь она озимовала.
Сказанный детина к весне занемог. Онемело тело, отнялись ноги, напала тоска. Написано было последнее прощанье родным. Тяжко было ночами: все спят, все молчат, только сальница горит-потрескивает, озаряя черный потолок.
Больной спустил ноги на пол, встать не может. И видит сквозь слезы: отворилась дверь, входит незнаемый человек, спрашивает больного:
— Что плачешь?
— Ноги не служат.
Незнакомый взял больного за руку:
— Встань!
Больной встал, дивяся.
— Обопрись на меня. Походи по избе.
Обнявшись, они и к двери сходили и в большой угол прошлись.
Неведомый человек встал в огню и говорит:
— Теперь иди ко мне один.
Дивясь и ужасаясь, детина шагнул к человеку твердым шагом:
— Кто ты, доброхот мой? Откуда ты?
Незнаемый человек говорит:
— Ужели ты меня не узнаешь? Посмотри: чья на мне рубаха, чей кафтанец, чей держу в руке платочек?
Детина всмотрелся и ужаснулся:
— Мой плат, мой кафтанец…
Человек говорит:
— Я и есть тот самый пропащий промысловщик из Пустой Губы, костье которого ты прибрал, одел, опрятал. Ты совершил устав, забытого товарища помиловал. За это я пришел помиловать тебя. А кормщику скажи — он морскую заповедь переступил, не схоронил меня. То и задержали лодью непогоды.
Евграф
Соловецкие суда отличались богатством украшения. Я знавал там ревнителя искусства сего рода. Его звали Евграф, был он отменный резчик по дереву. Никогда я не видел его спящим-лежащим. Днем в руках стамеска, долото, пила, топор. А в солнечные ночи, летом, сидит рисует образцы.
Евграф беседовал со мной, как с равным, искренно и откровенно.
Я восхищался легкостью, непринужденностью, весельем, с каким Евграф переходил от дела к делу.
Он говорил:
— И ты можешь так работать. Дай телу принужденье, глазам управленье, мыслям средоточие, тогда ум взвеселится, будешь делать пылко и охотно. Чтобы родилась неустанная охота к делу, надо неустанно принуждать себя на труд.
Когда мой ум обленится, я иду глядеть художество прежде бывших мастеров. Любуюсь, удивляюсь: как они умели делать прочно, красовито…
Нагляжусь, наберусь этого веселья — и к своей работе. Как на дрождях душа-то ходит. Очень это прибыльно для дела — на чужой успех полюбоваться.
Про старого кормщика Ивана Рядника
Диковинный кормщик
Ивану Ряднику привелось идти с Двины в Сумский берег на стороннем судне. Пал летний ветер, хотя крутой, но можно бы ходко бежать, если бы кормщик правил поперек волны. Но кормщик этим пренебрегал, и лодья каталась и валялась. Старый и искусный мореходец Рядник не стерпел:
— Ладно ли, господине, что судно ваше так раболепствует стихии и шатается, как пьяное?
Кормщик ответил:
— Это не от нас. Человек не может спорить с божией стихией.
— Сроду не слыхал такого слова от кормщика, — говорит Рядник. — А сколько лет ты, господине, ходишь кормщиком?
— Годов десять — двенадцать, — отвечает тот.
— Что же ты делал эти десять — двенадцать лет?! — гневно вскричал Рядник. — Бездельно изнурил ты свои десять — двенадцать лет!
Вопрос и ответ
Дружина спросила Рядника:
Почему на зимовье у Мерзлого моря ты и шутил, и смеялся, и песни пел, и сказки врал? А здесь, на Двине, беседуешь строго, говоришь учительно, мыслишь о полезном.
Иван Рядник рассмеялся:
— Я мыслил о полезном и тогда, когда старался вас развеселить да рассмешить. На зимовье скука караулит человека. Я своим весельем отымал вас у болезни. А здесь и без меня веселье: здесь людно и громко, детский смех и девья песня. Я свои потешки и соблюдаю в сундуке до другой зимовки.
Павлик Ряб
При Ивановой дружине Порядника был молодой робенок Павлик Ряб.
Он без слова кормщика воды не испивал. Если кормщик позабудет сказать с утра, что разговаривай с людьми, то Павлик и молчит весь день.
Однажды зимним делом посылает Рядник Павлика с Ширши[10] в Кег-остров. В тороки к седлу положил хлебы житные.
Павлик воротился к ночи. Рядник стал расседлывать коня и видит: житники не тронуты. Он говорит:
— У кого из кегостровских-то обедал?
— Приглашали все, а я коня пошел поить.
— Почему же отказался, если приглашали?
— Потому, что у тебя, осударь, забыл о том спроситься.
— Ну, а свой-то хлеб почто не ел?
— А ты, осударь, хотя и дал мне подорожный хлеб, а слова не сказал, что, Павлик, ешь!
Рядник, помолчав, проговорил:
— Ох, дитя! Велик на мне за тебя ответ будет.
Рядник и тиун
Какое-то лето кормщик Иван Рядник остался дома, в Ширше.
Его навещали многие люди, и я пошел, по старому знакомству. Был жаркий полдень. Именитый кормщик сидел у ворот босой, грудь голая, ворот расстегнут. Вслед за мной идет тиун из Холмогор. Он хотел знать мненье Рядника о споре холмогорцев с низовскими мореходцами.
При виде важного гостя я схватил в сенях кафтанец и накидываю на плечи Ивана для приличия. А Иван сгреб с себя кафтан рукой и кинул в сторону. Когда тиун ушел, я выговорил Ряднику:
— Как ты, государь, тиуна принимаешь: будто из драки выскочил. Ведь тиун-то подивит!
Рядник мне отвечает:
— Пускай дивит, когда охота. Потолковали мы о деле, а на рубахи, на порты я не гляжу и людям не велю. В чем меня застанут, в том я и встречаю.
Иван Рядник говаривал
Дела и уменья, которые тебе в обычай, не меняй на какое-нибудь другое, хотя бы то, другое, казалось тебе более выгодным.
В какой дружине ты укаменился, в той и пребывай, хотя бы в другом месте казалось тебе легче и люди там лучше.
Пускай те люди, с которыми ты живешь, тебе не по нраву, но ты их знаешь и усвоил поведенье с каждым.
А с хорошими людьми не будет ли тебе в сто раз труднее?
ДЛЯ УВЕСЕЛЕНЬЯ
Владимиру Сякину
Владимиру Сякину
В семидесятых годах прошлого столетия плыли мы первым весенним рейсом из Белого моря в Мурманское.
Льдина у Терского берега вынудила нас взять на всток. Стали попадаться отмелые места. Вдруг старик рулевой сдернул шапку и поклонился в сторону еле видимой каменной грядки.
— Заповедь положена, — пояснил старик. — «Все плывущие в этих местах моря-океана, поминайте братьев Ивана и Ондреяна».
Белое море изобилует преданиями. История, которую услышал я от старика рулевого, случилась во времена недавние, но и на ней лежала печать какого-то величественного спокойствия, вообще свойственного северным сказаниям.
Иван и Ондреян, фамилии Личутины, были родом с Мезени. В свои молодые годы трудились они на верфях Архангельска. По штату числились плотниками, а на деле выполняли резное художество. Старики помнят этот избыток деревянных аллегорий на носу и корме корабля. Изображался олень и орел, и феникс и лев; также кумирические боги и знатные особы. Все это резчик должен был поставить в живность, чтобы как в натуре. На корме находился клейнод, или герб, того становища, к которому приписано судно.
Вот какое художество доверено было братьям Личутиным! И они оправдывали это доверие с самой выдающейся фантазией. Увы, одни чертежи остались на посмотрение потомков.
К концу сороковых годов, в силу каких-то семейных обстоятельств, братья Личутины воротились в Мезень. По примеру прадедов-дедов занялись морским промыслом. На Канском берегу была у них становая изба. Сюда приходили на карбасе, отсюда напускались в море, в сторону помянутого корга.
На малой каменной грядке живали по нескольку дней, смотря по ветру, по рыбе, по воде. Сюда завозили хлеб, дрова, пресную воду. Так продолжалось лет семь или восемь. Наступил 1857 год, весьма неблагоприятный для мореплавания. В конце августа Иван с Ондреяном опять, как гагары, залетели на свой островок. Таково рыбацкое обыкновение: «Пола мокра, дак брюхо сыто».
И вот хлеб доели, воду выпили — утром, с попутной водой, изладились плыть на матерую землю. Промышленную рыбу и снасть положили на карбас. Карбас поставили на якорь меж камней. Сами уснули на бережку, у огонька. Был канун Семена дня, летопровидца. А ночью ударила штормовая непогодушка. Взводень, вал морской, выхватил карбас из каменных воротцев, сорвал с якорей и унес безвестно куда.
Беда случилась страшная, непоправимая. Островок лежал в стороне от росхожих морских путей. По времени осени нельзя было ждать проходящего судна. Рыбки достать нечем. Валящие кости да рыбьи черепа — то и питание. А питье — сколько дождя или снегу выпадет.
Иван и Ондреян понимали свое положение, ясно предвидели свой близкий конец и отнеслись к этой неизбежности спокойно и великодушно.
Они рассудили так: «Не мы первые, не мы последние. Мало ли нашего брата пропадает в относах морских, пропадает в кораблекрушениях. Если на свете не станет еще двоих рядовых промышленников, от этого белому свету перемененья не будет».
По обычаю надобно было оставить извещение в письменной форме: кто они, погибшие, и откуда они, и по какой причине померли. Если не разыщет родня, то приведется, случайный мореходец даст знать на родину.
На островке оставалась столешница, на которой чистили рыбу и обедали. Это был телдос, звено карбасного поддона. Четыре четверти в длину, три в ширину.
При поясах имелись промышленные ножи — клепики.
Оставалось ножом по доске нацарапать несвязные слова предсмертного вопля. Но эти два мужика — мезенские мещане по званью — были вдохновенными художниками по призванью.
Не крик, не проклятье судьбе оставили по себе братья Личутины. Они вспомнили любезное сердцу художество. Простая столешница превратилась в произведение искусства. Вместо сосновой доски видим резное надгробие высокого стиля.
Чудное дело! Смерть наступила на остров, смерть взмахнулась косой, братья видят ее — и слагают гимн жизни, поют песнь красоте. И эпитафию они себе слагают в торжественных стихах.
Ондреян, младший брат, прожил на островке шесть недель. День его смерти отметил Иван на затыле достопамятной доски.
Когда сложил на груди свои художные руки Иван, того нашими человеческими письменами не записано.
На следующий год, вслед за вешнею льдиной, племянник Личутиных отправился отыскивать своих дядьев. Золотистая доска в черных камнях была хорошей приметой. Племянник все обрядил и утвердил. Списал эпитафию.
История, рассказанная мезенским стариком, запала мне в сердце. Повидать место покоя безвестных художников стало для меня заветной мечтой. Но годы катятся, дни торопятся…
В 1883 году Управление гидрографии наряжает меня с капитаном Лоушкиным ставить приметные знаки о западный берег Канской земли. В июне, в лучах незакатимого солнца, держали мы курс от Конушиного мыса под Север. Я рассказал Максиму Лоушкину о братьях Личутиных. Определили место личутинского корга.
Канун Ивана Купала шкуна стояла у берега. О вечерней воде побежали мы с Максимом Лоушкиным в шлюпке под парусом. Правили в голомя. Ближе к полуночи ветер упал. Над водами потянулись туманы. В тишине плеснул взводенок — признак отмели. Закрыли парус, тихонько пошли на веслах. В этот тихостный час и птица морская сидит на камнях, не шевелится. Где села, там и сидит, молчит, тишину караулит.
— Теперь где-нибудь близко, — Шепчет мне Максим Лоушкин.
И вот слышим: за туманной завесой кто-то играет на гуслях. Кто-то поет, с кем-то беседует… Они это, Иван с Ондреяном! Туман-то будто рука подняла. Заветный островок перед нами, как со дна моря всплыл. Камни вкруг невысокого взлобья. На каждом камне большая белая птица. А что гусли играли, это легкий прибой. Волна о камень плеснет да с камня бежит. Причалили; осторожно ступаем, чтобы птиц не задеть. А они сидят, как изваяние, Все, как заколдовано. Все, будто в сказке. То ли не сказка: полуночное солнце будто читает ту доску личутинскую и начитаться не может.
Мы шапки сняли, наглядеться не можем. Перед нами художество, дело рук человеческих. А как пристало оно здесь к безбрежности моря, к этим птицам, сидящим на отмели, к нежной, светлой тусклости неба!
Достопамятная доска с краев обомшела, иссечена ветром и солеными брызгами. Но не увяло художество, не устарела соразмерность пропорций, не полиняло изящество вкуса.
Посредине доски письмена — эпитафия, — делано высокой резьбой. По сторонам резана рама — обнос, с такою иллюзией, что узор неустанно бежит. По углам аллегории — тонущий корабль; опрокинутый факел; якорь спасения; птица феникс, горящая и не сгорающая. Стали читать эпитафию:
Корабельные плотники Иван с Ондреяном
Здесь скончали земные труды,
И на долгий отдых повалились,
И ждут архангеловой трубы.
Осенью 1857-го года
Окинула море грозна непогода.
Божьим судом или своею оплошкой
Карбас утерялся со снастьми и припасом,
И нам, братья, досталось на здешней корге
Ждать смертного часу.
Чтобы ум отманить от безвременной скуки,
К сей доске приложили мы старательные руки…
Ондреян ухитрил раму резьбой для увеселенья;
Иван летопись писал для уведомленья,
Что родом мы Личутины, Григорьевы дети,
Мезенские мещана.
И помяните нас, все плывущие
В сих концах моря-океана.
Капитан Лоушкин тогда заплакал, когда дошел до этого слова — «для увеселенья». А я этой рифмы не стерпел — «на долгий отдых повалились».
Проплакали и отерли слезы: вокруг-то очень необыкновенно было. Малая вода пошла на большую, и тут море вздохнуло. Вздох от запада до востока прошумел. Тогда туманы с моря снялись, ввысь полетели и там взялись жемчужными барашками, и птицы разом вскрикнули и поднялись над мелями в три, в четыре венца.
Неизъяснимая, непонятная радость начала шириться в сердце. Где понять!… Где изъяснить!…
Обратно с Максимом плыли — молчали.
Боялись, не сронить бы, не потерять бы веселья сердечного.
Да разве потеряешь?!
Гость с Двины
В Мурманском море, на перепутье от Русского берега к Варяжской горе, есть смятенное место. Под водою гряды камней, непроглядный туман, и над всем, над всем, над шумом прибоя, над плачем гагары и криками чайки, звучал здесь некогда нескончаемый звон.
Заслышав этот звон остерегательный и оберегательный, русские мореходцы говорили:
— Этот колокол — варяжская честь.
Варяжане спорили:
— Нет, этот колокол — русская честь. Это голос русского гостя Андрея Двинянина.
Корабельные ребята любопытствовали:
— Что та варяжская честь? Кто тот Андрей Двинянин?
Статнее всех помнили о госте Андрее двинские поморы.
Этот Андрей жил в те времена, когда по северным морям и берегам государил Новгород Великий.
Андрей был членом пяточисленной дружины. Сообща промышляли зверя морского, белого медведя, моржа, песца. Сообща вели договоренный торг с городом скандинавским Ютта Варяжская.
В свой урочный год Андрей погружает в судно дорогой товар — меха и зуб моржовый. Благополучно переходит Гандвиг, Мурманское море и Варяжское. Причаливает у города Ютты. Явился в гильдию, сдал договоренный товар секретариусу и казначею. Сполна получил договоренную цену — пятьсот золотых скандинавских гривен. Отделав дела, Андрей назначил день и час обратного похода.
Вечером в канун отплытия Андрей шел по городской набережной. С моря наносило туман с дождем. Кругом было пусто и нелюдимо, и Андрей весьма удивился, увидев у причального столба одинокую женскую фигуру. Здесь обычно собирались гулящие. Эта женщина не похожа была на блудницу. Она стояла, как рабыня на торгу, склонив лицо, опустив руки. Ветер трепал ее косы и воскрылия черной, как бы вдовьей, одежды.
Андрей был строгого жития человек, но изящество этой женщины поразило его. Зная скандинавскую речь, Андрей спросил:
— Ты ждешь кого-то, госпожа?
Женщина молчала. Андрей взял ее за руку, привел в гостиницу, заказал в особой горнице стол. Женщина как переступила порог, так и стояла у дверей, склонив лицо, опустив руки. Не глядела ни на еду, ни на питье, не отвечала на вопросы.
Андрей посадил ее на постель, одной рукой обнял, другой поднес чашу вина.
— Испей, госпожа, согрейся.
Женщина вдруг ударила себя ладонями по лицу и зарыдала.
— Горе мне, горе! Увы мне, увы! Забыл меня бог и добрые люди!
Беспомощное отчаяние было в ее рыданиях. Жалость, точно рогатина, ударила в сердце Андрея.
— Какое твое горе, госпожа? Скажи, не бойся! Я тебя не дотрону.
Переводя рыдания, женщина выговорила:
— По одежде твоей вижу, господине, ты русский мореходец. Мой муж тоже был мореходец.
— Был мореходец? — переспросил Андрей. — Ты вдовеешь, госпожа?
— Почти что вдовство. Мой муж брошен в темницу.
— За что же?
— Я расскажу тебе, господине. Мой муж с юношеских лет ходил на здешних торговых судах. Когда мы поженились, загорелся он мыслью построить собственное суденышко. Сколько своими руками, столько помощью товарищей построен был кораблик, пригодный к заморскому плаванию. О, как мы радовались, господине! Тогда задумывает муж сходить в Готтский берег на ярмарку. Но где взять деньги на покупку прибыльного в Готтах товару? И опять судьба улыбнулась нам: здешняя гильдия дает моему мужу деньги в долг на срок — вернуть долг сполна по возвращении с Готтского берега. О, как мы радовались, господине! Днем муж закупал товар и погружал на судно. Ночами мы рассчитывали, сколько у нас останется прибыли по уплате долга в гильдию. Я не плакала, провожая мужа, я радовалась. Но пути божьи неисповедимы. Еще кораблик наш не дошел Готтского берега, налетела штормовая непогода. Кораблик нанесло на камни и разбило в щепы. Дорогой товар утонул.
Муж вернулся в Ютту бос и наг. По суду гильдии его бросили в темницу на срок, покуда не уплатит долга. Это было два года назад, господине.
Я осталась одна с двумя маленькими детьми. Надо было кормить мужа в темнице, прокармливать детей. Я стала работать у рыбного засола. С рассвета до заката, на ветру, на снегу, на дожде. За труд платили рыбой. Голову варила и несла мужу, остальное доедала с детьми. Хлеб подавали соседи, добрые люди. И они же доводили меня до отчаяния. Всякий день я слышала: «Гордячка ты, бесстыдница! Рыбный засол не работа! Сама подохнешь и семью уморишь. Иди на пристань, торгуй своим телом, пока молода. Познатнее дамы торгуют любовью по нужде, а ты кто?»
С ужасом я слушала такие речи. Стать блудницей, пропащей… Утопиться бы — и то нельзя: без меня замрут мои дорогие муж и дети. И вот сегодня город тонет в тумане. И я решила: вечером пойду и стану у пристани. В такую непогоду никто из горожан не ходит, никто моего позора не увидит. Меня, господине, ты и приметил у причального столба и привел сюда. Вот и все.
— Госпожа, как велик долг твоего мужа?
— Страшно вымолвить, господине: без малого сто золотых скандинавских гривен.
Андрей соображал:
«На нас пятерых я получил пятьсот гривен, по сто гривен на брата. Моей долей я волен распорядиться». Он выговорил:
— Следуй за мной, госпожа.
Город накрыт был белесым туманом. Но Андрей шел быстро, уверенно. Женщина едва поспевала за ним. На спуске к пристаням еле блазнила древняя церквица. Андрей сказал:
— Стань, госпожа, в церковных воротах и не соступи с места. Жди меня. Я тотчас вернусь.
Как птица слепым полетом в тумане, он побежал на свой корабль. Спустился в каюту, отомкнул ларец с общей казной, в кожаный кошель отсчитал сто золотых гривен. Спрятал кошель за пазуху, побежал обратно в город.
Женщина стояла в каменной нише, как изваяние. Андрей сказал:
— Я принес тебе нечто, госпожа. Но должен проводить тебя до дому.
— Господине, — отвечала женщина, — мой дом близко. Видишь, в конце улицы брезжит огонек. Это мой сынишка поставил на окне светильник, боится, чтобы мать не заблудилась.
Андрей все же проводил ее до дому.
— Теперь ты дома, госпожа. Вот, держи обеими руками этот кожаный кошель. В нем сто золотых гривен. Завтра утром иди в гильдию, объяви о себе секретариусу и казначею. Они примут гривны счетом и весом. Также выдадут тебе пергамент с печатями, что твой муж чист от всякого долга. Завтра, до полудня, твой муж возвратится домой полноправно и свободно. А теперь прости, госпожа.
Сотворив поклон, Андрей зашагал обратно, и его накрыло туманом.
Тогда только женщина опомнилась, бросилась вслед Андрею и закричала:
— Господине, господине! Человек ты или ангел? От сотворения мира неслыхана такая великая и богатая милость!
Она бежала и кричала, но не знала, в какой переулок, к каким пристаням свернул Андрей, и крик ее был как крик чайки в море. Тогда женщина упала на Дорогу и, рыдая и молясь, целовала следы Андреевых ног на сыром песке.
В ту же ночь, до утренних часов, Андреев корабль покинул Ютту Варяжскую и, открыв паруса, пошел в русскую сторону.
Оминув Варяжскую Гору, Андрей проходит море Мурманское и наконец, одолев жерло, достигает Двинской земли.
В сборной избе Андрей здравствуется с четырьмя своими товарищами. Справив поклон, они спрашивают:
— Каково путь и торговлю справил, господине?
Андрей отвечал:
— Вашим счастьем, государи, бог дал все благополучно.
В Ютте казначей и секретариус товар похвалили и договоренную цену уплатили, пятьсот гривен золотом свесили счетом и мерою.
Андрей поставил на стол ларец с золотом.
— Здесь, государи, только ваша доля — четыреста гривен золотом. Свою долю — сто гривен — вынял и стратил.
— Суматоху говоришь, государь! Общая казна делится сообща. Никто из пайщиков не вправе выхватить из общей казны ни единой серебряной копейки. Ты, государь Андрей, поступил самочинно, самонравно, самовольно. Ты переступил Морской промышленный устав!
Ни единого слова покорного не приготовил Андрей своим товарищам. Вышел из горницы, так дверью двизнул, что изба дрогнула.
С этого дня и часа остуда легла меж Андреем и четырьмя его товарищами. Эта остуда была на руку соседственной артели. Артельный староста «подвесил Андрею лисий хвост».
— Тебе, преименитому кормщику, не дозволено копейки взять из казны! Твоей бы дружине перед тобой на четвереньках бегать, а они свою ногу тебе на голову ставят. Переходи в нашу дружину. Будешь над нами государить, а мы тебе будем в рот глядеть и от тебя слова ждать.
— Куда походите? — спросил Андрей.
— Зимовать на Матку, на Новую Землю. Люди к походу готовы.
Андрей был крут на поворотах — дал согласие. Ушел на Новую Землю, не сказавшись, не спросившись со старыми своими товарищами. И те оскорблены были даже до слез: ушел, не простился!
На Новой Земле кормщик Андрей государил и осень, и зиму, и весну. Там, в невечерний день, к Андрею пришла та, которая говорит о себе: «Я — детям утеха, я — старым отдых, я — рабам свобода, я — трудящимся покой».
Андрея положили в каменном берегу, накрыли аспидной плитой. На плите высечена надпись: «Спит Андрей Двинянин, жда архангеловы трубы».
Эта весть об Андрее прилетела на Двину, и была печаль великая, и дружина плакала — ушел и нам прощения не оставил.
Через четыре года по Андрееве исходе, значит, через пять лет после его быванья в Ютте, пришел на Двину скандинавский корабль, и хозяин корабля стал сыскивать об Андрее. В тот же вечер встретился с Андреевой дружиной.
— Вы Андреева дружина. Вам должно принять эти гривны.
— Недостойны.
— Раздайте скудным, бедным людям.
— Не нашими руками раздавать. Тяжко нам будет получать спасибо за Андрееву милость.
Наконец сошлись на том, что надобно учредить память Андрею. А как Андрей был отменный мореходец, то да будет намять его знатна и слышна в морском сословии.
— Наша Двина ходит промышлять рыбу в Западный Мурман, близ Бусой салмы. Это место вы, скандинавы, зовете «Жилище туманов», и Андрей мечтал учредить здесь остерегательный звон.
— Быть по сему, — отозвался варяженин. — Я в эту же зиму вылью колокол и весной, на Троицу, привезу кораблем.
— Быть по сему, — отвечали двиняне. — Мы явимся на Мурман раньше тебя и к Троицыну дню возведем на Бусой вараке столп-звонницу. Еще кладем на тебя заповедь, государь варяженин. По ободу, по краю колокола, вылей сей стих: «Малый устав преступив, исполнил великую заповедь».
Как пообещал варяженин, так и учинил. Сыскались в Скандинавии искусные мастера-литейщики. Вылили из меди, олова и серебра художный колокол. Только стих, завещанный двинянами, вылили латинской речью. По тому же латинскому обычаю колокол был окрещен и наречен Андреем.
Весною, когда полетели в русскую сторону гуси, гагары и, утята, варяженин погрузил колокол на свой корабль и, вслед за птицей, пошел в русский ветер.
В эту пору стоит на Мурмане беззакатный день, и берега грезят и манят в великой прозрачности.
Варяженин видит Бусую вараку в полном лике: на вершине возведена звонница новгородским обычаем, но в один пролет.
Варяженин трубит в рог, и Русь трубит ответно. Колокол вздымали на гору на моржовых ремнях, всем народом.
Звон был учрежден западным обычаем: в пролете, в железных гнездах, ходила дубовая матица. В матицу врощены уши колокола. От ушей спущены до земли ременные вожжи. Звонарь, стоя на земле, управлял вожжами. Матица начинала ворочаться, раскачивая колокол. Колокол летал в пролете, язык бил свободно, рождая звук певучий, грозный и жалобный.
Это звенящее нескончаемое пение носилось по океану триста лет. И проходящие мореходцы поколение за поколением поминали гостя Андрея с Двины и гостя Варяженина.
После этих времен дошел день и час: колокол зазвонил сам собою, ужасая слышавших.
«Последи же бысть трясение земли о Западный берег Мурмана».
Тряхнуло гору в Кольской Губе, дрогнула Бусая варяка, качнулась звонница. Колокол, звеня и рыдая, как птица слетел в глубину морскую. Но и в начале нынешнего столетия мореходцы уверяли, что звенит Андреев колокол и на дне моря-океана.
Любовь сильнее смерти
У Студеного моря, в богатой Двинской земле, жили два друга юных, два брата названых, Кирик да Олеша. И была у них дружба милая и любовь заединая.
Столь крепко братья крестовые друг друга любили секли стрелою руку, кровь точили в землю и в море. Мать Сыру землю и Синее море призывали во свидетели. Кирик да Олеша — они одной водою умывались, одним полотенцем утирались, с одного блюда хлебы кушали, одну думу думали, один совет советали — очи в очи, уста в уста.
Отцы их по любови морскою лодьею владели и детям то же поведали. Кирик, старший, стал покрут обряжать, на промысел ходить, а Олеша прилежал корабельному строению.
Пришло время, и обоим пала на ум одна и та же дева Моряшка. И дева Моряшка с обоими играет, от обоих гостинцы берет. Перестали крестовые друг другу в очи глядеть.
В месяце феврале промышленники в море уходят, на звериные ловы. Срядился Кирик с покрутом, а сам думает: «Останется дома Олеша, его Моряшка опутает». Он говорит брату:
— Олешенька, у нас клятва положена друг друга слушати: сряжайся на промысел!
Олеша поперек слова не молвил, живо справился. Якоря выкатили, паруса открыли… Праматерь морская — попутная поветерь была до Кирика милостива. День да ночь — и Звериный остров в глазах. Круг острова лед. На льдинах тюленьи полежки. Соступились мужи-двиняне со зверем, учали бить.
Богато зверя упромыслили. Освежевали, стали сальное шкурье в гору волочить. На море уж отемнело, и снег пошел. А Олеша далеко от берега забежал. Со льдины на льдину прядает; знай копье звенит, головы зверины долу клонятся. Задор овладел. Старый кормщик и обеспокоился:
— Олеша далеко порато ушел. Море на часу вздохнет, вечерняя вода тороса от берега понесет…
Побежал по Олешу Кирик. Бежит по Олешу, ладит его окликать, да и вздумал в своей-то голове: «Олешу море возьмет, девка Моряшка моя будет». И снова крикнуть хочет и опять молчит: окаменила сердце женская любовь. И вот ветер с горы ударил. Льдина зашевелилась, заворотилась, уладила шествовать в море, час ее пробил.
И слышит Кирик вопль Олешин:
— Кирик, погибаю! Вспомни дружбу-то милую и любовь заединую!…
Дрогнул Кирик, прибежал в стан:
— Мужи-двиняне! Олеша в относ попал!
Выбежали мужики… Просторно море… Только взводень рыдает… Унесла Олешу вечерняя вода…
Того же лета женился Кирик. Моряшка в бабах как лодья соловецкая под парусом: расписана, разрисована. А у мужа радость потерялась: Олешу зажалел.
Заказал Кирик бабам править по брате плачную причеть, а все места не может прибрать.
В темную осеннюю ночь вышел Кирик на гору, на глядень морской, пал на песок, простонал. Ах, Олеша, Олешенька!…
И тотчас ему с моря голос Олешин донесло:
— Кирик! Вспомни дружбу-то милую и любовь заединую!
В тоске лютой, неутолимой прянул Кирик с вершины вниз, на острые камни, сам горько взопил:
— Мать земля, меня упокой!
И буде кто его на ноги поставил. А земля провещилась:
— Живи, сыне! Взыщи брата: вы клятву творили, кровь точили, меня, сыру-землю, зарудили!
По исходе зимы, вместе с птицами, облетела Поморье весть, что варяги-разбойники идут кораблем на Двину, а тулятся за льдиной, ожидают ухода поморов на промысел. Таков у них был собацкий обычай: нападать на деревню, когда дома одни жены и дети.
И по этим вестям двиняне медлили с промыслом Идет разливная весна, а лодейки пустуют. Тогда отобралась дружина удалой молодежи.
— Не станем сидеть, как гнус в подполье! Варяги придут или нет, а время терять непригож!
Старики рассудили:
— Нам наших сынов, ушкуйных голов, не уговорить и не постановить. Пущай разгуляются. А мы, бородатые, здесь ополчимся навстречу незваным гостям.
Тогда невесты и матери припадают к Кирику с воплем.
— Господине, ты поведи молодых на звериные ловы! Тебе за обычай.
Кирик тому делу рад: сидячи на берегу, изнемог в тосках по Олеше. Жена на него зубами скрипит:
— Чужих ребят печалуешь, а о своем доме нету печали!
Мужская сряда не долгая. На рассвете кричала гагара, плакали женки. Дружина взошла на корабль. У каждого лук со стрелами, копье и оскорд — булатный топор. Кирик благословил путь. Отворили парусы, и пособная поветерь, праматерь морская, скорополучно направила путь.
Не доведя до Звериного острова, прабаба-поветерь заспорила с внуками — встречными ветерками. Зашумела волна. А молодая дружина доверчиво спит Кирик сам у руля. И была назавтра Олеше година.
Студеное море на волнах стоит, по крутому взводню корабль летит. И Кирик запел:
Гандвиг-отец,
Морская пучина
Возьми мою
Тоску и кручину
В том часе покрыла волну черная тень варяжской лодьи. И варяги кричат из тумана:
— Куры фра? Куры фра?
Кирик струбил в корабельный рог грозно и жалобно. Дружина прянула на ноги. И тянут лук крепко, и стреляют метко. Поют стрелы, гремят долгомерные копья. Кирик забыл тоску и печаль, отдал сердце в руки веселью. Зовет, величает дружину:
— Мужи-двиняне! Не пустим варягов на Русь! Побьемся! Потешим сердца!…
Корабли сошлись борт о борт, и двиняне, как взводень морской, опрокинулись в варяжское судно. Песню радости поет Кириково сердце. Блестит булатный оскорд. Как добрый косец траву, косит Кирик вражеские головы…
Но при последнем издыхании варяжский воевода пустил Кирику в сердце стрелу…
Красное солнце идет к закату, варяжское трупье плывет к западу. Сколько двиняне празднуют о победе, о богатой добыче, — столько тужат о Кирике. Он лежит со смертной стрелою в груди, весел и тих. На вечерней воде стал прощаться с дружиной:
— Поспешайте на Русь, на Двину, с победною вестью. Оставьте меня и варяжское судно в благодарную жертву Студеному морю.
И дружина, затеплив по бортам жертвенной лодьи воскояровы свечи, с прощальной песней на своем корабле убежала на Русь.
В полночь вздохнуло море, затрепетало пламя свечей, послышался крик гусиный и голос Олешин:
— Здрав буди, Кирик, брате и господине!
Ликует Кирик о смертном видении:
— Олешенька, ты ли нарушил смертные оковы? Как восстал ты от вечного сна?…
Снова пронзительно вскричали гуси, затрепетали жертвенные огни, прозвенел Олешин голос:
— Я по тебя пришел. Сильнее смерти дружеская любовь.
Две тяжкие слезы выронил Кирик:
— Люто мне, люто! Я нарушил величество нашей любви!…
В третий раз гуси вскричали, как трубы огремели, колыхнуло пламя жертвенных свечей, и Кирик увидел крестового брата. Глядят очи в очи, устами к устам. И голос Олешин, что весенний ручей и свирель:
— Кирик! Подвигом ратным стерта твоя вина перед братом. Мы с тобой поплывем в светлый путь, в Гусиную белую Землю, где вкушают покой души добрых и храбрых. Там играют вечные сполохи, туда прилетают легкокрылые гуси беседовать с мертвыми. Там немолчно рокочут победые гусли, похваляя героев…
Завязалась праматерь морская — поветерь и взяла под крыло варяжский корабль, где Кирик навек позабыл печаль и тоску человеческую…
О былина, о песня, веселье поморское! Проходят века, а Двинская земля поет, поминает под гусли Олешу и Кирика.
Смерть не все возьмет — только свое возьмет.
Ингвар
В Соловецке при игумене Филиппе жил инок Ингвар, или Игорь, родом свеянин, швед. По старым памятам рассказывают так:
Свейский карбас — шесть рядовых, седьмой шкипер Ингвар шли в Соловецкое море. Для какой потребы шли, не ведаем. Может, что купить или продать. Будучи нетверды в соловецком знании, потеряли путь и пристали в Тонскую деревню. Шкипер приказал товарищам остаться в карбасе, а сам пошел в конец деревни спрашивать вожа. Дружина, мимо слова шкипера, тотчас побежала на другой конец деревни. Свеян было мало, но и в деревне мужского полку не было. Только бабки с мелкими ребятами. Во все лето с дальних волоков не оказывало дыму, и люди неопасно разошлись на промыслы.
Свеи начали ломать запоры у анбара. Завопили бабки, ребятишки подняли неизреченный рев. Шкипер Ингвар это слышит, ухватил железный лом и прибежал к разбою.
Увидя, что его товарищи шибают о землю ребят, стегают воющих старух и кидают из анбара кожи, обувь, сбрую и холсты, Ингвар стал благословлять грабежников железным ломом. Бил по головам и по зубам. И гонил их из деревни, посылая ломом. Один из грабежников увернулся и ударил шкипера в лоб камнем. Ингвар повалился заубито. Товарищи его вскочили в карбас и угребли из виду.
Старухи привели Ингвара в действие и, забывши страх, стали жалеть его, как внука.
Весть о свейском нагоне полетела далеко. Пришли из Сумского посада в Тонскую деревню приставы и взяли Ингвара. Также было велено имать свидетелей. Вся деревня лезла во свидетели. Отобрали десять старых бабок, самых мудрых и речистых.
Тонская деревня была соловецкой вотчиной и подлежала монастырскому суду. Ингвара судил случившийся в Суме игумен Филипп Колычев.
Дьяк объявил, что шестерых бежавших в море свеян бог нашел своим судом. Только-де шесть свейских рукавиц, с одной руки, море выплеснуло на берег. Затем тонские свидетели заявили, что хотя судимый и явился с лиходеями, но оказался добрым человеком. И его-де надо не судить, а миловать. Судья Филипп сказал:
— Правда то, что Ингвар заступился за обидимых, не щадя и своей жизни. Но есть и кривда: почему ты, Ингвар, добрый, сердобольный человек, пошел в товарищах с людьми лихими?
— Господине, — отвечал Ингвар, — все у нас затеяно бахвальством, все чинилось без ума. Но молю вас всех: не кляните их, моих товарищей, а меня не величайте добрым человеком.
Судья Филипп говорит:
— Сердце твое детское, и речи у тебя как у младенца. Ты говоришь: «Не вредите мое сердце, не поминайте мне товарищей». Лучше бы тебе о том поплакать, что из-за таких товарищей про всю вашу породу свейскую слава в мире носится самая зазорная!… Думаю, Ингвар, что на родину тебе нельзя являться?
Ингвар говорит:
— Господине, я хочу прижаться к русским людям. Возьми меня к себе, в какой чин хочешь.
Ингвар принял в Соловецке имя Игоря. Тут и помер в старости. И память о себе оставил — «сердобольный Игорь».
Ваня Датский
У Архангельского города, у корабельного пристанища, у лодейного прибегища, в досельные годы торговала булками честна вдова Аграфена Ивановна. В летнюю пору судов у пристани — воды не видно; народу по берегам — что ягоды морошки по белому мху; торговок — пирожниц, бражниц, квасниц — будто звезд на небе. И что тут у баб разговору, что балаболу! А честну вдову Аграфену всех слышней. Она со всем рынком зараз говорит и ругается. Аграфена и по-аглицки умела любого мистера похвалить и обложить. Горожане дивились на Аграфену:
— Ты, Ивановна, спишь ли когда? Утром рано и вечером поздно одну тебя и слыхать. Будто ты колокол соборный.
— Умрем, дак выспимся, — отвечала Аграфена. — Я тружусь, детище свое воспитываю!
Был у Аграфены одинакий сын Иванушко. И его наравне с маткой все знали и все любили. Не только своя Русь, но и гости заморские. Не поспеет норвецкое суденышко кинуть якорь, Иванушка является с визитом, спросит: по-здорову ли шли? Его угощают солеными «бишками» — бисквитами, рассказывают про дальние страны.
Иванушко рано запросился у матери в море. Четырнадцати лет приступил вплотную:
— Мама, как хошь, благослови в море идти!
Мама заревела, как медведица:
— Я те благословлю поленом березовым! Мужа у меня море взяло, сына не отдам!
— Ну, я без благословенья убежу.
Ваня присмотрел себе датский корабль, покамест тот стоял у выгрузки-погрузки. Явился к капитану:
— Кэптен, тэйк эброд! (Возьмите с собой!)
У капитана не хватало матросов. Бойкий парень понравился.
— Хайт ин зи трум! (Ступай в трюм!)
Ваня и спрятался в трюме. Таможенные досмотрщики не приметили его. Так и уплыл Аграфенин сын за море.
Аграфена не удивилась, что сын не пришел ночевать. Не очень беспокоилась и вторую ночь. «На озерах с ребятами рыбу ловит». Через неделю она выла на весь рынок:
— Дитятко Иванушко! В Датску упорол, подлец!
И не было об Аграфенином сыне слуху двадцать лет…
Нету слез против матерних. Нет причитанья против вдовьего. По утренним лазорям Аграфена выходила на морской бережок и плакала:
Гусем бы я была, гагарой,
Все бы моря облетела,
Морские пути оглядела,
Детище свое отыскала.
Зайком бы я была, лисичкой,
Все бы города обскакала,
Кажду бы дверь отворила,
В каждо бы оконце заглянула,
Всех бы про Иванушка спросила…
А Иванушко за эти годы десять раз сходил в кругосветное плаванье. В Дании у него жена, родилось трое сыновей. Ребята просили у отца сказок. Он волей-неволей вспоминал материны песни-былины. Видно, скопились старухины слезы в перелетную тучку и упали дождем на сыновнее сердце.
Припевая детям материны перегудки, Ваня слышал материн голос, мать вставала перед ним как живая…
А Ивану было уже тридцать четыре года. Тут по весне напала на него печаль необычная. Идет Иванушко по набережной и видит — грузится корабль. Спрашивает:
— Куда походите?
— В Россию, в Архангельский город.
Забилось сердце у нашего детинушки: «Маму бы повидать! Жива ли?…» И тут же порядился с капитаном сплавать на Русь и обратно в должности старшего матроса.
Жена с плачем собрала Ваню в путь:
— Ох, Джон! Узнает тебя мать — останешься ты там. Не узнает. И я не признаюсь, только издали погляжу.
Дует пособная поветерь. Шумит седой океан. Бежит корабль, отворив паруса. Всплывают русские берега.
На пристанях в Архангельском городе людно по-старому Точно вчера Иванушко бегал здесь босоногим мальчишкой. Теперь он идет по пристани высокий, бородатый. Идет и думает: «Ежели мама жива, она булочками торгует».
Он еще матери не видит, а уж голос ее слышит:
— Булочки мяконьки! По полу катала, по подлавочью валяла!
Люди берут, хвалят. И сын подошел, купил у матери булочку. Мать не узнала. Курчавая борода, одет не по-русски.
У пристани трактир. Ваня у окна сидит, чай пьет с маминой булочкой, на маму глядит…
Неделю корабль стоял под Архангельском. Ваня всякий день булочку купит, в трактире у окна чай пьет, на маму смотрит У самого дума думу побивает: «Открыться бы! Нет, страшно она заплачет, мне от нее не оторваться А семья как?»
В последний день, за час до отхода, Ваня еще раз купил у матери булочку и, пока Аграфена разбиралась в кошельке сунул под булки двадцать пять рублей.
Так, не признавшись, и отошел в Данию.
Аграфена стала вечером выручку подсчитывать — двадцать пять рублей лишних! Зашумела на всю пристань
— Эй, женки-торговки! Кто-то мне в булки двадцать пять рублей обронил! Может, инглишмен какой полоротой! Твенти файф рубель!
Никто не спросил ни завтра, ни послезавтра
После этого быванья прошла осень грязная, зима протяжная. Явилась весна разливна-красна. Закричала гагара за синим морем. Повеяли ветры в русскую сторону.
Опять Иванушко места прибрать не может: «Надо сплавать на Русь, надо повидать маму».
Опять жена плачет:
— Ох, Джон! В России строго: узнает мать — не отпустит.
— Не узнает. Я не скажусь ей, только издали погляжу.
Опять он порядился на корабль старшим матросом и приплыл к Архангельскому городу. Идет в народе по пристани. И мамин голос, как колокольчик:
— Булочки-хваленочки: сверху подгорели, снизу подопрели!
Ваня подошел, купил. Потом в трактире чай пьет, из окна глядит на маму. И жалко ему: постарела мама, рученьки худые… Упасть бы в ноги! Может бы, и простила и отпустила!… Нет, страшно!
Неделю корабль находился в порту, каждодневно сын у матери булочки покупал, а не признался. Только в последний день, перед отходом, сунул ей в короб пятьдесят рублей и ушел в Данию.
Аграфена стала вечером выручку подсчитывать — пятьдесят рублей лишних! Все торговки подивились:
— Что же это, Аграфена! Прошлый год ты у себя в булках двадцать пять рублей нашла, сейчас пятьдесят. Почто же мы ничего не находим? Уж не сын ли тебе помогает?
— А и верно, сын! Больше некому! — И заплакала. — Дитятко мое роженое, почто же ты не признался! Поглядела бы я на тебя… Верно, уж большой стал. Дура я, детища своего не узнала! Теперь каждому буду в руки смотреть.
Таковым побытом опять год протянулся, с зимою, с морозами, с весною разливной. Веют летние ветры, кричит за морем гагара, велит Иванушке на Русь идти, мамку глядеть Плачет жена:
— Ох, Джон! Я не держу тебя, только знай: не так я беспокоилась, когда ты на полгода уходил в Америку, как страшусь теперь, когда ты плывешь одним глазом взглянуть на мать…
Дует веселый вест, свистит в снастях Иванова кораблика. Всплывают русские берега… Вот сгремели якоря, опустились паруса под городом Архангельском. На горе стоят, как век стояли, башни Гостиного двора. Под горой сидит, как век сидела, булочница Аграфена. Теперь она зорко глядит в руки приезжим морякам: не сунет ли кто денег в булки?
Иванушко тоже свое дело правит: у мамы булку купит, в трактире чай пьет, на маму глядит.
И в последний раз, как булку купил, сует матери в корзину сто рублей. А старуха в кошельке роется, будто сдачу ищет, а сама руки покупателя караулит.
Как он деньги-то пихнул, она ястребом взвилась да сцапала его за руки и разинула пасть от земли до неба:
— Кара-у-ул! Грабя-ят!!
Ване бы не бежать, а он побежал. Его и схватили, привели в полицию.
Аграфена тихонько говорит приставу:
— Это не грабитель, это мой сын. Он мне сто рублей подарил. Он двадцать три года терялся. Я хочу, чтобы он сознался.
Пристав подступил к Ване:
— Признавайтесь, вы ей сын?
— Ноу, ноу! Ноу андестенд ю!
Аграфена закричала с плачем:
— Как это «но андерстенд»! Не поверю, чтобы можно было отеческу говорю забыть… Иванушко, ведь я тебя узнала, что же ты молчишь!
Ваня молчит, как бумага белый. И все замолчали. А народу множество набилось. По рынку, по пристани весть полетела, что Аграфена сына нашла. А она снова завопила:
— Ежели так, пущай он рубаху снимет! У него на правом плече три родимые пятнышка рядом.
Пристав приказывает Ивану:
— Раздевайтесь!
Тогда Ваня пал матери в ноги:
— Маменька, я твой сын! Только не губи меня, отпусти! У меня в Дании жена и трое сыновей. Вот тебе все мои деньги пятьсот рублей. Возьми, только отпусти!
Аграфена застучала кулаком по столу:
— Убери свои деньги! Мне не деньги — мне сын дорог Я без сына двадцать три года жила. Я о сыне двадцать три года плакала…
Заплакал и Ваня:
— Мама, пожалей своих внучат! Пропадут они без отца.
Заревели в голое и торговки:
— Аграфена Ивановна, отпусти ты его!
Аграфена говорит:
— Ладно, дитя, я тебя прощаю и отпускаю тебя. Только ты сними с божницы Спасов образ, сними своими руками и поклянись мне, что на будущий год сам приедешь и старшего внука мне на погляденье привезешь.
Действительно, на другой год привез старшего сына. Аграфена внука и зимовать оставила:
— Я внученька русской речи, русскому обычаю научу.
Мальчик пожил у бабушки год и уезжать не захотел.
Ваня привез среднего сына. И этот остался у бабки, не пожелал лететь из теплого русского гнездышка. Тогда приехала жена Ванина с младшим сыном. И полюбилась кроткой датчанке мужнева мать:
— Джон! Останемся тут! Здесь такие добрые люди.
Аграфена веселится:
— Вери гут, невестушка. Где лодья не рыщет, а у якоря будет.
Аграфенины внуки-правнуки и сейчас живут на Севере, на Руси.
По имени Вани, который бегал в Данию, и фамилия их — Датские.
Кроткая вода
Несколько лет назад, читая о четырех советских солдатах, попавших в «относ» в Тихом океане, вспомнил я одну старую «мирскую оказию».
Читатель, мне кажется, без комментариев оценит разницу между старым временем и новым: в прежние времена погибавших поморов никто не искал, никто не писал о них.
Архангельские поморы, бывало, хвалились: «Морскую беду терпеть нам не диво, но когда что за обычай, то весьма сносно».
«Гибельные случаи» из своей жизни поморы иногда закрепляли в своих записных книжках.
Устный рассказ помора о своей беде всегда поэтично-образен. Но стоит ему взять перо, он, стесняясь просторечия, пишет как бы «донесение по начальству». Такой полицейский протокол написал о себе и талантливейший Афанасий Тячкин, от лица которого и ведется рассказ «Кроткая вода»[11].
В 1915 году это протокольно-деловитое донесение разыскала и опубликовала артистка О. Э. Озаровская. Между тем внуки Тячкина сохранили в памяти живые детали устного рассказа своего деда. Их воспоминания и послужили основой предлагаемого читателю рассказа «Кроткая вода».
Мы, жители посада Неноксы, знаем ветер, и воду, и всякую морскую примету.
Но был гибельный случай, над которым я и при старости лет вздыхаю и говорю: море — измена лютая.
В тот там год весной, еще в море льдина погуливала, пришли мы в Архангельск купить жита для посева.
На шестое мая заря всю ночь была многокровавая, а у нас договоренность плыть домой. В карбасе народу двадцать два человека, а жита двести пудов. Приятель мой, Мирон Кологреев, говорит:
— Ошалеть надо, чтобы с эким грузом в море напускаться.
Карбасник говорит:
— Ты и не плавай. Нам и без тебя не тоскливо.
Грамотница Дарья кудемская говорит:
— Чем ругаться, сходите поставьте свещу Николе Морскому.
Мы пошли в часовню, свещи затеплили, цену положили, обратно идем, а старец свещник под берегом сидит у котла с ковшом и кричит:
— Ей вы, утопленники, идите пиво пробовать никольское!
Мы говорим:
— Отче, благослови путь.
Он ковшом взмахнул и запел:
— Непорочнии в путь. Аллилуйя…
Мы это в карбасе рассказали. Одни рассмеялись, другие смутились:
— Ведь это он погребальную кафизму запел…
В море выплыли Никольским устьем. Точно из воды выстал белокаменный Никола.
Тут на веках потонули два сына новгородской посадницы Марфы. Она и поставила мореходную примету: белокаменный Никола, как лебедь, одно крыло распустил на север, другое — на полдень. Карбас грузен, а под парусом ходко бежит. Уж от берега верст за пять были, и тут ветер стал чернеть. В корму поддаст шелоник[12], а в лицо ему веток Волна пошла несурядна. Кологреев правил волне вразрез, а правый борт накрыла волна со встока. В каюте вода, в корме того больше. За помпы схватились — помпы не действуют. У карбаса то нос в небо взлетит, то корма кверху. Что тут делать? Надо воду лить, баб от реву унимать…
Парус не поспели обронить.
Бабы взвыли:
— Святитель Никола, убавь воды!
Мужики кричат:
— Ройте жито в воду!
Схватились мешки в море свистать, но той же минуты ветер стегнул в парус, и суденко наше опрокинулось вверх дном, раз за разом, трижды. Сильно страшно, вверх колодой переворачивало. И груз и людей единым мгновением вымыло из карбаса, как сор из чашки.
О, коль тошно человеку водою конец принимать! Я, Афанасий Тячкин, всплыл из-под карбаса возле самый борт. Карбас лежит на водах боком: мачта с реей и парусом не дают ему обвернуться вверх колодой-килем.
Ухватясь за обшивку, я вытянулся за борт, а из-под карбаса вынесло Мирона Кологреева. Я ухватил Мирона за волосы и подал руку. В тот же миг карбасник наш, чая спасения, схватил Мирона за ногу, и толь несоблюдно, что сдернул с ноги, с левой, сапог и унес в пучину моря.
Еще разом выстали из воды, возле карбаса, братишко мой Степка и Лукьян Лгалов. Степка сам залягнулся ногами на сухой борт, а Лукьяна выудил Кологреев.
Еще сколько-то держалась на водах Дарья Ивановна, грамотница из Кудьмы. Сарафан широко спузырился и не дает тонуть.
Но не успели ахнуть, как она, махнув бахилами, исчезла в бездне.
И вот мы четверо посреди смертей многих. Пособить бы, да некак, помочь бы, да нечем.
А нас, четырех, понесло вниз и к вечеру спустило до Летних гор. Несло в великой нужде: карбас на боку, волна ударит, нас ледяной водой полощет, — зубов сцепить не можем.
Как вода пошла на прибыль, и наше суденко покорно плывет в обратный путь. Верст за пятнадцать подносило к родному берегу. Видели Ненокотскую вараку и белый Климент на ней. Тогда Кологреев говорит мне:
— Ты, Афоня, в грамоту горазд. На тебе шило. Напиши память.
Сроду этак никто не писывал, как я, — уцепясь ногами за борт, головой вниз, рукой буква за буквой царапаю на обшивке. И о долгах было написано, кому что отдать и с кого что взять.
Опять часы дошли, и кроткая вода понесла нас вниз, попутно воде летние ветры управили карбас на середину моря. При конце убылых часов завидели Терский берег. Там еще снег белел. Загорелась надежда зачалиться за льдинку и вылезти на гору. Но ударил с Терских гор ветер, а теченье пошло на прибыль… Нас понесло обратно и стало осаживать во всток, в Зимнее море.
Только глазами ели берег-то… Жажда нас томила. Выудили льдинку, пососали: как полынь горька. И опять вздохнула грудь морская. Прибыль сменилась на убылую воду. Палая вода стала нас осаживать вниз, но несет ближе к земле, и находимся от берега в семи верстах. Однако вешние воды с Двины садят о Зимний берег сильно и неодержимо. И мы сказали друг другу:
— Ежели за этот берег не захватимся, то полетим вниз и в океане пропадем.
Чтобы как-нибудь прибарахтаться к берегу, надо было обронить мачту с реей и парусом, которые держали судно на боку.
Вот ведь злое горе! Дома, хоть в избе, хоть во дворе, завсегда топор за поясом и нож у пазухи, а в грозном море оказались с голыми руками. Но усилились, и отогнули железные обоймы, и развязали, ногтями да зубами, бортовые снасти-крепи. Но мачту еще сдерживает штак — снасть, протянутая от верхушки к носу. Благо ночи светлые, и мы, раздеваясь догола, по очереди лезем в ледяную воду, от носового корга этот штак отвязывать.
Восьмого мая штак был отвязан. Той же минуты мачта выпрянула из своего гнезда, и той же секунды карбас обвернулся вверх колодой-килем. А мы, все четверо, разом ухнули в воду. Но скорополучно вычерапались на днище и сдумали думу: обвернуть карбас как следует. Для сей акции уперлись коленями в киль, а руками в воде по локоть ухватились за борт и тянули на себя. И толь ловко преуспели, что, обвернувшись, карбас чуть нас не утопил. Но опять вынырнули и залезли в карбас. Сели, в воде по пояс, двое с той и двое с другой стороны. Сняли по сапогу, стали воду отливать. Воды не убывает: взводень через ходит. Между тем течение гонит мимо берег, ждать некогда.
Отодрали от поддона две доски матерых. Зачали грести и задаваться в берег. А Кологреев у руля. Румпель утерялся, и Кологреев держит руль в охапке. А мы изо всей мочи гребем, действуем досками. А сами ведь по грудь и по пояс в воде.
Девятого мая, раным-рано поутру, шаркнул наш карбас по прибрежному песку — хрящу. Выбрели на землю, пали, поклонились трижды. Напились водицы из ручья, сели на сухом на бережку, поплакали от радости.
Место, на которое мы вышли, находится в половине Зимнего берега и называется Добрыниха. Рассудили, что разумнее всего идти в Зимнюю Золотицу. Кологреев, глядя на меня и на Лгалова, вздохнул:
— Справите ли, осудари, экой путь?
Я действительно при утоплении разбил себе колени, а Лгалов оскудел всем телом, но и у Мирона одна нога была босая. Я говорю:
— Хоть ползунком ползти, а в Золотице быть.
Пошли мы берегом, брели водою, вязли в глинах. Лезли мы через наносный хлам, ползли по глиняным оплавинам. Изваляемся, как куклы глиняные. И везде ручьи гремят, как добрые жеребцы ржут. Так дошли до становища Лысунова: крест, изба, амбар. И — безлюдье. В избе на блюде — кости рыбьи прошлогодние, мы пожевали. И уснули, будто люди, в доме; на лавках, будто господа какие.
Дальше путь пошел до наволока Вепрь. А погода взялась ненастлива: сито с дождем. Мы с Лукьяном Лгаловым под руку ведем друг друга. Кологреев в Лысунове полотенце драное нашел, босую ногу завернул. Лукьян шутит:
— Чем так идти, поедем друг на дружке попеременно. Ты, Афанасий, садись на Мирона, я сяду на Степку. Час проедем и сменимся.
Кологреев смеется:
— Я боюсь, Афонька и Лукьян зачнут скакать. Мы упадем, убьемся…
Дошли до наволока Вепрь. На полугоре часовня древняя, и божество в ней древнее. Лестно было постоять. У иконы воск нашли и пожевали. Нам досадно было, что ни в одной избушке на странных, на людей терпящих, припасу никакого не оставлено. Но — год был скудный.
В часовне и обночевали. Сон отрясли — утро ясное, холодное. Опять бредем, идем песками прибрежными. Пески зыбучие, мы еле ноги перекладываем.
Этак о полдень привалились на песок, забылись… Вдруг чайка надлетела, звонко крикнула. Мы прохватились, а невдалеке от берега бежит судно поморское под парусами.
Мы по берегу забегали, закричали, замолились. Видим: на судне паруса убавляют, лодку спущают. Кормщик и хозяин судна, дошед до нас, спрашивают:
— Вы какие?
— Осудари корабельщики, не оставьте нас, губительных людей!
Без дальних расспросов в лодку они нам забраться помогли а из лодки на судно затянули. Далее спрашивают:
— Куда вы попадали?
— В Золотицу в Зимнюю.
Они говорят:
— В Золотицу вас доставим. А теперь выпейте, поешьте и усните.
Тут нам несут уху горячую, и хлебы мягкие, и вина по чайной чашке.
Судно к Золотице подошло, а у меня и у Лукьяна ноги ничего не понимают. Доброхоты корабельщики нас в деревню на руках несли.
Золотицкий староста хотел нас положить к себе, но житель Степан Субботин отпросил нас в свой дом. Тут доброхоты корабельщики прощаются, торопятся на судно.
Мы их только тем отблагодарили, что в ноги пали со слезами.
В Золотицу мы пришли одиннадцатого мая. Мы приметили, что люд одет нарядно и поют девицы. Здесь был престольный праздник — Троица.
Хозяин наш Степан Субботин нас зовет к гостям. Мы подивились:
— Степан Иванович, какие же мы гости?!
Он говорит:
— Самые дорогие: нынче я вас, потерпевших, принимаю, а в иное время сам могу попасть в морской унос. Тогда вы меня не оставьте.
Прихаживал к нам и золотицкий старшина. Он советовал:
— Вам веселее будет попадать домой через Архангельск. Когда поотдохнете, я наряжу под вас карбас.
Преудивленный человек Степан Субботин держал нас десять дней. Нами беспокоился и нас воспитывал, как отец родной. Приводил знающих старух, которые определили, что я болею от простуды, а Лгалов от кручины.
Двадцатого мая мы выплыли из Зимней Золотицы на казенном карбасе. Из Архангельска поехали домой на конях.
… Узнали, что, когда еще нас четверых носило по морю, в Неноксу уж прилетела гибельная весть и велик был плач с рыданьем.
Устюжского мещанина Василия Феоктистова вопиящина краткое жизнеописание
Любителей простонародного художества нонче у нас довольно. Уповаю, что и моя практика маляра-живописца послужит к пользе и удовлетворению таковых любителей.
Окидывая умственным взором ту отдаленную эпоху, читатель видит худощавого юношу, а еще ранее младенца, который отнюдь не получает хвалы за свое стремление к искусству, а наоборот — деру. Рисовать и красить отваживался я только в воскресные и праздничные дни. Переводил на серую бумагу лубочные картины или из «Родины» и цветил ягодным соком, свеклой, чернилом и подсинивал краской для пряжи. Которые картинки выходили побойчее, получал за них от деревенских копейки по три и по пятаку. Тогда и родители начинали смотреть на мое художество снисходительно.
Пятнадцати годов фортуна обратила ко мне благосклонные взоры в лице устюжского мещанина, живописца Ионы Неупокоева, каковой мастер работал по наружности и по внутренней отделке.
Преодолев диковатую стеснительность, я подскакивал к Ионе со всяким угождением, и добродушный человек сговорил меня в ученики за пять рублей в месяц.
С каким душевным удовлетворением гляжу я на жизненное поприще теперешней молодежи: теперь кто имеет призвание или стремление, ему не так трудно выказать себя. Нонче всякое рачительное усердие в науке и художестве неограничительно поощряется государством.
Так ли теперешний студент, принятый в Академию художеств, доволен судьбою, как радовался Васька Вопиящин, попавши в обучение к маляру Ионе Неупокоеву?
Истинно был Неупокоев: на одном месте не любил сидеть.
С Ионою Неупокоевым обошел я мало не все выдающие пункты Вологоцкой и Архангельской губерен. Иону ничто не держит: ни дождь, ни снег. Он все идет да идет. И я за ним, как нитка за иглой. Окромя всякого малярного поделия, как-то: левкас, окраска, отделка под мрамор и под орех, — с успехом потрафляли по художественной части. Липовой доски на Севере нету. Под краску утвари деланы из сосны, ели, ольхи.
Поновляли божество и писали изнова, свободно копируя в новейшем вкусе. Причем любопытно отметить, что население Северной Двины и Поморья имеет неопровержимое понятие к древнерусским образцам письма.
Повсеместно принятую новую живопись икон здесь почитают за простые картины, и местное духовенство нередко потакает таковому пристрастию прихожан. В японскую войну 1904 года мне довелось пособлять владимирскому иконописцу в поновлении древнего иконостаса в Заостровье, под городом Архангельском. Профессура археологов навряд ли Так следит за реставрацией, каковым недреманным оком караулило нашу работу местное население, даже простые бабы, чтобы мы не превратили навыкновенных им дохматов.
Но возвращаюсь к предыдущему периоду. Перьвой мой учитель Иона достоконально знал живописную практику и мог говорить об теории. Но благодаря тому, что Иона любитель был скитаться по проселочным дорогам, а не шаркать по городовым тротуарам, у него зачастую конкуренты удерьгивали из рук работу или заказ.
Самозванный художник, а по существу малярешко Самое немудрое, Варнава Гущин не однажды костил Иону Неупокоева в консистории, якобы пьянственную личность. Но пусть беспристрастные потомки судят хотя бы по такому факту:
«Де мортуи низиль ни бебэне». Но таково было повседневное поведение самозванного Варнашки и К°. Отнюдь не оскорбляя памяти усопших, которые, напившись, пели песни в храме божием, где имели пребывание по месту работ! Каковые несвойственные вопли в ночное время вызывали нарекание проживающих деревень.
Но мастер призванный, а не самозванный, Иона, когда ему доверено поновить художество предков, с негодованием отвергал, даже ежели бы поднесли ему кубок искрометной мальвазии, не то что простого. Но даже и принявши с простуды чашки две-три и не могши держаться на подвязах, Иона все же не валялся и не спал, но, нетвердо стоя на ногах, тем не менее твердою рукою побеливал сильные места нижнего яруса; причем нередко рыдал, до глубины души переживая воображенные кистью события.
С Ионою Терентьевичем ходил я десять годов не как в учениках, а в товарищах. Такого человека более не доведется встретить.
Преставился в 1895 году в городе Каргополе.
Такой удивленный житель Иона, что у него не было ни к кому хозяйственного поведения. Ходил зимой и летом одним цветом: одежонка сермяжных сукон. Прибыльные подряды на округ были в руках загребущих человеков. У Ионы его многотрудные руки простирались только ко краскам да кистям, к столярным да к щекотурным снастям, а не ко граблению. Он чужого гроша под палец не подгибал.
Иона Неупокоев имел дарование писать с живых лиц — глядит и пишет. Умел милиатюрное письмо, так что предельная величина не превышала двенадцать вершков, каковым портретом занимался в среде мещанства и торгового сословия.
Но фотография подорвала уже своей дешевизной цены.
Впрочем, заказывают увеличение на красках с карточек визитного размера, чтобы отнюдь не явилось черноты, но поцветнее и посановитее.
Иона для сортовых писем холстинки накладывал на тонкую дощечку и, ежели где стоим долго, писал из яйца. Я же, худой ученик, клею холст и на кардонку да, наведя тонкий левкас, пишу готовыми масляными красками. А из яйца писать — много обрядни. В запас яичных красок не натворишь, хотя и прочнее. Впрочем, и Иона делывал без доски. Но три холстинки одна на другую наклеит мездрявым или рыбным клеем, оказывало как дощечка.
Такого рода живопись на паволоке имелась на флотском полуэкипаже адмиралтейства города Архангельска. Такие у Варпаховского в Рыбопромышленном музее на Троицком пришпекте, того же типа два шкапа на красках. Каковые шкапы делал я во свои юные годы, каждогодно посещая Архангельский город с Ионою Неупокоевым на время ярманки для письма балаганов.
У иконного письма теперь такого рачения не видится, с каковым я приуготовлял тогда эти дверцы и ставеньки про свое наивное художество. Которое, впрочем, художеством никто и не называл, но не более как расписные ложки и плошки.
Господин Менк, пейзажист из превосходных, неоднократно удивлялся навыкновенной процедуре нашего письма. Он говорил: «Теперь я понимаю, для чего моя картина, висящая в гостиной, помрачнела в десять лет. А дверь, которую здешний мещанин упестрил своей варварской кистью сорок лет назад, не утратила колоритов».
Я тогда не доспросился, а, видимо, господин Менк понял: потому варварское письмо прочно и цветно, что мещанин сам и краску тер, сам олифу варил.
Которую олифу варил знающий человек, и под той олифой живопись как под стеклом. Но и краска должна вмереть в дерево, в левкас. То уж письмо вековое. Правнуки подивятся.
Ишь, скажут, — прежние дураки над чем старались. Рядовой работы комоды, сундуки, шкапы подписывали расхожими сужектами: вазоны, травы, цветки. Дерево или железо грунтовали охрой, крыли белилом свинцовым и писали на три краски во льняном масле.
Но возьмем предметы благородной страсти господина Варпаховского или флотского полуэкипажа. Им теперича годов по девяносту и по шестьдесят. Но они сохраняют следы былой красоты.
Но молодые бабы суть лютой враг писаной утвари. Они где увидят живописный стол, сундук или ставень, тотчас набрасываются с кипящим щелоком, с железной мочалкой, с дресвой, с песком. И драят наше письмо лютее, нежели матрос пароходную палубу.
Но любее нам толковать о художествах, а не о молодых бабах.
Устоющей работы сухое дерево приклеивали клеем, который выварен из кожаных обрезков. Как высохнет, всякую ямурину загладим. Тогда холщовую настилку, вымочив в клею, притираем на выделяющие места, где быть живописи.
Паволока пущай сохнет, а я творю левкас: ситом сеянной мел бью мутовкой в теплой и крепкой тресковой ухе, чтобы было как сметана. Тем составом выкроешь паволоку, просушивая дважды, чтобы ногтя в два толщины. И, по просухе, лощить зубом звериным, чтобы выказало как скорлупка у яйца. Тогда и письмо. Тут и рисованье, тут и любованье. Тут другой кто не тронь, не вороши, у которого руки нехороши.
Как деланы были шкапы на морское собрание и у чела писал панораму Соломбальского адмиралтейства, а по ставенькам постройку фрегата «Пересвет», каковая состоялась в 1862 году. Да на другом шкапу: «Бомбандирование Соловецких островов от англицкой королевы Виктории в 1854 году». Писано яичными красками и самой изящной работы.
Егор увеселялся морем
Впоследствии времени пущай эти слова будут мне у гробового входа красою вечною сиять.
А сейчас разговор пойдет про свадьбу. О том, как Егор жену замуж выдал. Действительно, я свою бесценную супругу замуж выдал. Замуж выдал и приданое дал! Люди судят:
— Ты, Егор, всему берегу диво доспел С тебя будут пример снимать.
— Не будут пример снимать, ежели рассмотрят, какими пилами сердца у нас перетирались.
Жизнь моя началась на службе Студеному морю. Родом я с Онеги, но не помню родной избы, не помню маткиных песен. Только помню неоглядный простор морской, мачты да снасти, шум волн, крики чаек. Я знал Студеное море, как любой человек знает свой дом. Ты идешь в темной комнате, знаешь, где скрипит половица, где порог, где косяк. Я судно в тумане веду. Не стукну о камень, не задену о коргу.
Теперешнее мое звание — шкипер, но судовая команда звала меня по-старому «кормщик» и шутила:
— Наш кормщик со шкуной в рот зайдет да и поворотится.
Мореходство — праведный труд. Море строит человека.
Наше судно называлось «Мурманец». Много лет ходили мы на нем. Пятнадцать человек — все как одна семья. Зимовали на Онежском и на Зимнем берегу. Я занимался судовым строением, увлекался переправкой парусных судов на паровые. Чертил проекты и чертежи посылал в Архангельск.
Отдыхал с малыми ребятами: делал им игрушки. На Зимнем берегу был у меня приятель Колька Зимний. Обожал меня за кисти да за краски. Где меня ни встретит: «Дядюшка Егор Васильевич, срисуй кораблик!»
На Онежском берегу меня встречала маленькая Варенька. Я ей рассказывал про Кольку Зимнего. Она ему вышила платочек. Он ей послал рябиновую дудочку.
Маленькая Варенька любила мои сказки. Впоследствии она сама рассказала мне сказку моей жизни.
Имея дарование к поэзии, я две зимы трудился над стихами. В звучных куплетах изложил мое жизнеописание. Но едва начну читать, как слушателей сковывал могучий сон.
Я тогда не думал о своих годах, о возрасте. Годы жизни были словно гуси: летели, звали, устремлялись. Мне стукнуло пятьдесят годов.
Получаю приглашение явиться в управление Архангельского порта. Товарищи мои обеспокоились:
— Что ты, шкипер! Неужели нас покинешь? Не являйся и не отвечай.
— Ребята, я вернусь через неделю Может, любознательность какая.
— Смотри, шкипер. Отпускаем тебя на десять дней, не более.
Я ушел от них на десять дней — и прожил в разлуке с ними десять лет.
Являюсь в Архангельск. Оказалось, что над конторой порта поставлен некто, старый мой знакомец. Он меня встречает, стул поддерьгает. Из своих рук чаем потчует.
— Садись, второй Кулибин. Я нашел твои изобретательные чертежи о применении парового двигателя в парусном ходу. Мы в этом направлении оборудовали мастерскую. Работай и сумей увлечь мастеровую молодежь.
… Я шел по городу без шапки. Шапку позабыл в конторе. Смеяться мне или плакать?
Мастеровая молодежь оценила жизнерадостность моей натуры. Был я слесарь и столяр, токарь и маляр чертежник и художник.
Покатились дни и месяцы.
Сравнялся год, пошел другой.
Вышеупомянутый начальник так аттестовал мою работу: Я не ошибся, что призвал тебя. Но не могу тебя понять. Ты механик, чинишь пароходные машины, а твои ученики только и слышат от тебя, что гимны легкокрылым парусным судам.
Так прошло пять лет. И такое у меня чувство, будто меня обокрали. Нет, — будто я кого-то обокрал. О покинутой семье, то есть о морской своей дружине, я старался ничего не знать, я усиливался позабыть.
Как весна придет, я места не могу прибрать.
Эх, шкипер, пять годов на якоре стоишь! Выкатал бы якорь, открыл бы паруса — да в море…
… Нет, я на прибавку к якорю цепью приковался к берегу еще на пять годов.
Получаю письмо с Онеги. Варенька, которую я помнил крошкой, пишет, что, за смертью отца, желают они с матерью жить в Архангельске. Умеют шить шелками, знают кружевное дело.
Я жил в домике, который мне достался после тетки. Пригласил Вареньку к себе.
Встретил их на пристани. Со шкуны сходит девица в смирном платье, тоненькая, но, как златая диадима, сложены на голове косы в два ряда. Давно ли на зеленой травке резвилась, а тут… Взгляни да ахни! И какое спокойствие юного личика! Какая мечтательность взгляда! Тонкость форм не по вкусу нашему быту, но я обожаю мечтательность в женщине.
Они стали жить у меня в верхнем покойчике.
Мне — за пятьдесят. Варе — двадцать, а я попервости робел. Она выйдет шить на крылечко, я из-под занавески воздыхаю и все дивлюсь: «Что это люди-те у моих ворот не копятся на красу любоваться?»
Дальше — Варя поступила в школу, учить девиц изяществу шитья. Я тоже осмелел. Укараулю Варю дома, подымусь на вышку, будто к маменьке, а разговоры рассыпаю перед дочкой.
— Ну, задумчивая Офелия, признайтесь, кто из коллег-учителей вам больше нравится?
Варя шутливо:
— Офелию вода взяла. Ужели я с утопленницей схожа?
— Кто-нибудь да утонет в вашем сердце…
И мать вздохнет:
— Сердце закрыто дверцей. Истинная Фефелия. Хоть бы ты, Егор, ее в театр сводил.
Я за это слово ухватился. Представление привелось протяжное. Моя дама не скучает, переживает от души. Переживал и я. В домашности даже касательство руки предосудительно, а в театре — близкая доверчивость. Притом воздушный туалет и аромат невинности…
В гардеробной подаю Варе шубку, а сторожиха с умиленьем:
— Ишь, папенька, как доченьку жалеет! Видно, одинака дочка-то?
Дома в зеркало поглядывался: сюртук по старой моде. Борода древлеотеческая… Что же, старее тебя есть кобели, и те женились на молоденьких. Мало ли исторических примеров!
Ум мой раздвоился. Корабль руль потерял, и подхватили его неведомые ветры.
Не узнают дядю Егора его ученики: брюки с напуском при куцом пиджачке, бородка а-ля Фемистофель. Во рту папироса, курить не умею.
Приглашаю Варю в оперетку. Половины действия не досидела:
— Как это можно любовь на смех подымать, а измену выхвалять?!
Как-то в мастерской наступил я кошке на хвост. Ребята рассмеялись:
— Егор Васильевич, жениться задумал?
— Кто вам сказал?
— Примета такая. Рассеянность чувств.
Я постарался открыть свои чувства в стихах. Варя отвечала грустным взглядом. Наконец я изъяснился со всею тонкостью, вынесенною из книг. Варя покорно опустила глаза.
Первый год после свадьбы «молодой муж» на крыльях летал, на одном каблуке ходил. С лестницы бегом и на лестницу бегом. На работу побежу, жене воздушные поцелуи посылаю. А поясница аккуратно дождь и снег предсказывает. Изучил тонкую светску манеру поведения, ножкой шаркать и ручку целовать. Да, любовь у юноши душу строит, а у старика душу мутит.
А Варя какова была, такая и осталась. Ни вздоров, ни перекоров, ни пустых разговоров. Никогда меня не оконфузила, не оговорила, не подосадовала. Чуть припаду с простуды, она и ночь не спит. И школу посещала, ремесло свое правила радетельно. Детей любила. С улицы чужого ребенка притащит, обмоет да накормит.
Варенька была охотница до романов, изображающих высокие волнения страстей. Но к себе того не примеряла.
Таковым побытом мы прожили с ней четыре года. Но у меня такое чувство, будто меня обокрали. Нет, — будто я кого-то обокрал.
Было ненастное лето. В море бушевали непогоды. Ходили слухи о крушениях. В один ненастный день меня требуют в контору. Начальник говорит:
— На Соломбальском острове находится шкуна, по имени «Обнова», потерпевшая аварию. Шкуна принадлежит Онежскому обществу, но контора собирается ее купить. Возлагаю на тебя ремонт. Возьми помощников. Имей в виду, шкипер этой шкуны — аттестованный механик. Приобучался в Петербурге, Николай Иванов.
— Не слыхал такого, — говорю.
Пришел к Соломбалу на лихтере. Ребята выгружают матерьялы, инструменты, а я на шкуну наглядеться не могу. Истинно «Обнова»! Какая легкость и изящество постройки! Разговариваю с ней, со шкуной-то, пробоины руками глажу:
— Не горюй, голубушка моя. Залечим твои раны. Будешь краше прежнего…
Вдруг кто-то меня руками сзади охапил. Оглядываюсь: молодой детина, станом крепок, лицом светел.
— Вы кто будете? — спрашиваю.
Детина состроил мальчишескую рожицу и выговорил только:
— Дядюшка Егор, срисуй кораблик!
— Колька Зимний! Ах ты, милый мой! Ах ты, желанный…
Меня почему-то страшно взволновала новость, которую мне Коля сообщил: команда его шкуны почти целиком состояла из былых моих товарищей по «Мурманцу». Старый «Мурманец» обветшал, но согласие его дружины осталось нерушимо.
Спрашиваю Колю:
— Они где теперь?
— Поспешили на родину, в Онегу. Но я слышал, что управление порта не хочет отпустить таких отменных моряков.
Варе я рассказал о встрече с Колей Зимним, а ему устроил маленький сюрприз. Он знал, что я женат, но ожидал увидеть хлопотливую старушку. Вообразите изумление молодого человека, когда перед ним предстала моя задумчивая Офелия в венце прекрасных кос.
— Варенька, вот этот джентльмен когда-то смастерил трумпетку из рябины и послал тебе в подарок.
Варенька смеется, протягивает ему руку. Он ее руки не замечает, покраснел:
— Так это вы… Это вы мне вышили платочек?…
Я хохочу впокаточку:
— Это я вас, сопленосых, сватал. Дары от жениха невесте за море возил. Упустили вы свое счастье. Сват-то сам не промах. Ха-ха-ха! А ты, Коля, почему не женат?
— Судьбы не было, Егор Васильевич.
С весельем я у этой шкуны работал.
Как матка дочку умывает да утирает, учесывает да углаживает, наряжает и любуется, так я эту «Обнову» уделывал и обихаживал. И то было умильно и утешно, что для старых моих товарищей стараюсь. Пускай добром помянут кормщика.
Варя иногда придет, шанег горячих принесет.
Как-то в обед сижу я, отдыхаю под берегом: чайки кричат, рыбу промышляют. Меж седого камня синий колокольчик, незабудки. Вдруг слышу смех: Коля с Варей собирают по угору шиповник на букет. Она боится оступиться, он ее за руку содержит. И что у них смеху, разговору! Молодость их берет. А мне что-то скучен стал сияющий день, полиняло небо, поблекли цветы.
Стал я уросить и обижаться. Ну, посудите сами: этот молодой человек разбил о камни судно. Заместо того чтобы с сокрушенным сердцем помогать мне у починки этого судна, он зубоскалит с дамами, подносит им букетики.
Коля за столом пустяк соврет — Варенька смеется, как колокольчик. А я учну что-нибудь полезное объяснять — в ней захватывающего внимания нет. А уж, кажется, любезная, могла бы ты за столько лет оценить мои любопытные познания и рассудительность понятий…
А Николай что? Неосновательность мнений, невнимание к тайнам природы. От моря пошел, а к морю должного пристрастия нет. При всем желании нечем восхищаться: ни изящества воспитанных манер, ни светской обходительности… Медвежонок! Каждая лапа с ведро. Только и есть что располагающие глаза да зубы со смехом.
Мне были тягостны такие переживания. Будто два человека боролись во мне. Один, любящий и добрый, радовался, что Варя оживилась и повеселела, а другой кто-то ревновал и оскорблялся.
Но и Варя что-то заметила в своем сердце и чего-то испугалась. Как-то раз сговорились мы втроем на остров по морошку. Я, изобретаючи олифу, позамешкался. И Варя отказалась:
— Я без мужа ездить неповадна.
Как дом отеческий, я шкуну обновил и учинил. И, отделав дела, как с домом отеческим, простился. Николай остался жить в Соломбале.
Потянулась ненастная осень. Залетали белые мухи. Варя дрогнула и с лица сменилась. Он гостил у меня два дня. Варя не сказала с ним двух слов. По отъезде в глазах ее установилась смертная тоска. Молчит, склоняясь над шитьем. За оконцем неустанно-неуклонно падает снег…
Что же делает Егор в присутствии плачевной супруги?
Вознамерился презрение показывать и безотрадно в том преуспевал. Оледенело сердце, и страшная была зима душевная.
Думали, конца зиме-то не дождаться… Однажды Варя мне сказала:
— Егор Васильевич, Коля мне пишет. Письма все в красненьком столике.
Я процедил сквозь зубы:
— За низкость почитаю интересоваться подобными секретами.
Однажды ночью слышу: Варя вздыхает, плачет за своей перегородкой. Я выговорил ехидным тенорком:
— Бабушка, бывало, молилась: «Пошли мне, господи, слезную тучу». Я спишу для вас?
Остегнул ее таким словом и — ужаснулся. Я ли это? Ей ли, бедной, говорю? Хотел зареветь, заместо того скроил рожу в улыбку.
Коля явился к нам на масленой. Я только охнул. Будто кто его похитил: глаза ввалились, по привычке улыбается, но улыбка самая страдальческая.
Я был маленько выпивши и запел дурным голосом:
Где твое девалось белое тело?
Где твой девался алый румянец?
Белое тело на шелковой плетке,
Алый румянец на правой на ручке.
Плетью ударит тела убавит.
В щеку ударит румянца не станет.
Пою… И тяжкий груз, который меня всего давил, во едино место собрался: вот-вот скину. Заплакать бы — еще не могу.
На другой день Барина мать мне «по тайности» высказывала:
— Коля без тебя заходил проститься. Они всегда молча сидят. А тут он глядел-глядел, да и пал перед Варей. Обнял ей ноги, положил ей голову на колени и заплакал навзрыд, как ребенок, Варя лила слезы безмолвно, прижимая к устам платок, чтобы заглушить рыданья. Потом отерла Колино лицо и сказала: «Коля, много у нас цветов было посеяно, мало уродилось. Коленька, когда мы будем в разлуке, не грусти безмерно. Моя душа всякий раз слышит твою печаль и скорбит неутешно».
Я прибежал к себе, зачал бороду рвать и кусать: «Ирод ты! Журавлиная шея, желтая седина! Что ты, мимо себя, на людей нападаешь? Что ты свою жизнь надсаживаешь?!»
Опять весна пришла, большие воды, немеркнущие зори. Было слышно, что старые товарищи мои согласились поступить на «Обнову», Контора их ждала со дня на день. Но какое мне дело до вольных людей!
Какой-то вечер мы сидели с Варей, молчали. Приходит Зотов, пароходский знакомый. К разговору спрашивает:
— Что это ваш Николай Зимний затевает? Подал в управление порта просьбу о зачислении его в команду Новоземельской экспедиции. Вторую неделю живет в городе. Остановился у меня.
Варя сделалась белее скатерти. Вышла из комнаты. Слышу, наверху, в светелке, дверь скрипнула.
Когда Зотов ушел, я поднялся к Варе. Она где плакала, у окна на сундучке, тут и уснула. И столько было ейного воз-рыданья, что и рукав и плат мокры от слез. Негасимый свет летней ночи озарял лицо спящей. И грозно было видеть неизъяснимую печаль на сомкнутых глазах, горечь в сжатых устах.
Жалось пуще рогатины ударила мне в сердце. И, опрятно встав, руки к сердцу, заплакал я со слезами. И тихостным гласом, чтобы не нарушить скорбного сна, зачал говорить:
— Дитятко мое прежалостное, горькая сиротиночка! Где твоя красота? Где твоя премилая молодость? Ты мало со мной порадовалась. Горьки были тебе мои поцелуи. Я неладно делал, лихо к лиху прикладывал. Совесть меня укоряла — я укорам совести не верил. Видел тебя во слезах — и стыдился утешать. Сколько раз твоя печаль меня умиляла, но гордость удержала.
Кукушица моя горемычная, горлица моя заунывная! Звери над детьми веселятся, птица о птенцах радуется, — ты в холодном гнезде привитала. Ты, как солнце за облаком, терялась, мое милое дитя ненаглядное! Был я тебе муж-досадитель, теперь я тебе отец-покровитель…
Шепчу эти речи, у самого слезы до пят протекают. А красное всхожее солнышко золотит сосновые стены.
Так я в эту ночь свою гордость обрыдал и оплакал.
Но часы-время коротаются, утро — в полном лике. Прилетел морской ветерок, и занавески по окнам залетали, как белые голуби. Внизу я наказал, чтобы покараулили Варин сон, чтобы, как проснется, шла она к Коле, на квартиру и ждала меня там, у Зотова.
А сам достал из сундука поморскую свою одежу коричневых сукон, вязаную, с нездешними узорами рубаху, бахилы с красными голенищами, обрядился, как должно, и легкою походкой отправился в контору.
В конторе прямо подлетаю к начальнику, не обратив внимания на людей, сидящих вдоль стены:
— Господин начальник, я по личному делу.
Удивленно взглянув на меня, он показал рукой на сидящих:
— Ты с ними не знаком, Егор Васильевич?
Я оглянулся и… повалился в ноги им, старой дружине моей.
Сколько у меня было слов приготовлено на случай встречи с ними! А только и мог выговорить:
— Голубчики… Единственные… Простите.
Они встали все, как один, и ответно поклонились мне большим поклоном:
— Здравствуй многолетно, дорогой кормщик и друг Егор Васильевич!
Меня усадили на стул. А я все гляжу на них, вековых моих друзей, на их спокойные лица, степенные фигуры. Начальник говорит:
— Ты пришел, Егор Васильевич, более чем кстати… Да ты ведь по личному делу?
— Я шел сюда проситься в команду «Обновы».
Начальник говорит:
— Я ожидал этого. Но правление не отпустит тебя, если не представишь заместителя. А такого не предвидится.
Я спрашиваю:
— Верны ли слухи, что Николай Зимний ушел с «Обновы»?
— Ушел. Отказался от этой службы категорически. По каким-то личным обстоятельствам.
Я говорю:
— Господин начальник, вот бы кто поставил мастерскую на должную высоту. Николай Зимний — судовой механик с аттестатом.
Начальник даже крякнул:
— Эх, Егор! Лучшего бы выхода и для тебя и для меня не было. Но Николай Зимний рвется в дальние края. Он заявил мне: «Если не устроите меня в Новоземельскую экспедицию, я уйду в дальние зимовья на купеческих судах.» Уперся, уговаривай его хоть год.
Я стукнул кулаком о стол и говорю:
— Господин начальник, я берусь уговорить Николая остаться в городе. И сроку мне понадобится не год, а пять минут.
Все глаза вытаращили
— Каким образом?
— Цепью его прикую к пристани.
— В добрый час, Егор! Орудуй!
Я побежал к Зотову, где жил Николай. Остался в сенях, слушаю… Варя плачет с причетью:
Не одна родитель нас родила,
Одной участью-таланом наградила:
Что любовь наша — печаль без утешенья.
Мне не честь будет старого мужа бросить.
Он не грозно надо мной распоряжался.
Не обидел меня грубим словом.
Он много цветов посеял, мало уродилось.
Николай говорит:
— Мне должно уехать, Варенька, но не терплю без вас быть!
Я дверь размахнул, за порог высокоторжественно ступил:
— Принимайте меня с хлебом-солью! Доченька! Много ты потерпела бедностей, и ты ныне возрадуйся! Я, твой бывший муж, ныне же твой отец, торжествую над собой пресветлую победу. Отдаю тебя Николаю на руки, Ивановичу навеки… Николка, я твою думу разбойницкую всю знаю. Не затевай! Не езди!
Он прослезился горько и отер слезы:
— Егор Васильевич!… Мы вас не согласны обидеть…
Варя пала мне в ноги:
— Благодарствую, Егор Васильевич! Спасибо на великом желаньице. Ты доспел себе орлиные крылья, нашел в себе высокую силу.
Ты мужскую обиду прощаешь,
Превысоких степеней отцовских доступаешь,
Пред тобой мы безответны и немы.
Я подхватил ее с полу, как ребенка.
— Дочка, подыми лицо и более ни перед кем не опущай! Дети! Я упал больно, встал здорово. Теперь буду вашей радости пайщик, вашего веселья дольщик, вашего счастья половинщик.
Видя мою радость, Коля с Варей стали краше утра. Я учредил их в моем домишке и, как куропать вырвавшись из силка, устремился к старой и вечно юной морской жизни.
Радость одна не приходит: дружина моя объявила портовой конторе, что подпишутся в службу только в том случае, ежели шкипером на «Обнове» положат старого их кормщика Егора Васильевича.
Вот и настал этот торжественный день моего освобожденья, день отпущенья. Все мы собрались сполна. Начальник конторы сам перо в чернильницу обмакнул и подает мне:
— Подписывайся, кормщик.
Я говорю:
— Дозвольте, господин начальник, чин справить, у дружины спроситься.
Товарищи зашумели:
— Егор Васильевич! Это чин новоначальных. Ты старинный мореходец.
Я говорю:
— Совесть моя так повелевает.
Они сели вдоль стены чинно. Я встал перед ними, нога к ноге, рука к сердцу, и выговорил:
— Челом бью всем вам, и большим, и меньшим, и середним: прошу принять меня в морскую службу, в каков чин годен буду, И о том пречестности вашей челом бью, челом бью.
И, отведя руки от сердца, поклонился большим обычаем, дважды стукнув лбом об пол.
Они встали все, как один, и выговорили гласом:
— Осударь, Егор Васильевич! Все мы, большие, и меньшие, и середние, у морской службы быть тебе велим, и быть тебе в чину кормщика. И править тебе кормщицкую должность с нами однодумно и одномысленно. И будем мы тебе, нашему кормщику, послушны, подручны и пословны.
И вот я опять в море. Попутный ветер свистит в снастях. Волны идут рядами, грядами
Обгоняем поморскую лодью. Они кричат нам:
— Путем-дорогой здравствуйте!
Я отвечаю:
— Вам здоровья многолетнего на всех ветрах!
От них опять доносится:
— Куда путь правите?
Я отвечаю:
— Из Архангельского города в Мурманское море.
И опять только волны шумят да ветер разговаривает с парусами
О море! Души моей строитель!
Мимолетное виденье
Корытину Хионью Егоровну, наверно, знали?… Горлопаниха: на пристани пасть дерет — по всему Архангельскому городу слышно. И дом ее небось помните: двоепередый, крашеный?… Дак от Хионии Егоровны через дорогу и наша С сестрицей скромная обитель — модная мастерская…
… Дело давнишнее: после первых забастовок пустила Хионья Егоровна петербургского студента ссыльного… И видно, что Лев Павлович был не из простых. Разговор, манеры… Мы с сестрицей, несмотря на страшный недосуг, всякий день забежим, бывало, к Корытихе чашечку кофейку выпить и, грешны богу, элегантного квартиранта повидать. Его томной бледностью многие дамы восхищались, но, казалось, его снедал роковой недуг. И мы с сестрицей сразу диагност поставили: не столько суровость северного климата, сколько разлука с любящей супругой истерзала молодую грудь. Два– три письма еженедельно в Питер Катюше своей пошлет. Одно-два от нее получит. А уж ни с Хионьей Егоровной, ни с нами, ейными приближенными фаворитками, не поделится своей сердечной тайной. А мы, не будь дуры, Левины-то письма да и супругины нежные ответы при случае распечатаем и прочитаем. Пособить не пособим, а хоть поплачем над ихней прелестной любовью.
Зима тот год была дождлива. Наш изгнанник поляживает да покашливает. И весь он, как лебедь, унылый, который улететь-то не в силах.
Этак сидим однажды у Хионьи, не то по пятой, не то по девятой чашечке кофейку налили, а Лев Павлович и заходит.
— Не откажите в любезности бросить письмо. (Почтовый ящик у нас на воротах.)
Хионья и осмелилась:
— В свою очередь, Лев Павлович, окажите любезность дамам выпить с нами кофейку. Также извините за нескромный вопрос, почему бы вашей супруге не приехать сюда? Я чужих писем не читаю, но по всему видать, что ее счастие — быть возле вас.
— Да. Катя там тоскует без меня, но климат здешний На! Чем этта не климант — у дров да у рыбы?! У Кати там должность.
— Этта тоже можно, писменны упражненья найти!
— Катя такая хрупкая…
— Будь она хоть рюмочка хрустальная — она бы здесь кофейком отпилась!
Зима пошла на извод, наш Левушка — вовсе на исход. А свою принцессу все успокаивает: здоров да благополучен Мы с сестрицей взяли да, на семи ли, на восьми страницах, вкратце и открыли этой Кате всю ужасную действительность. Ответа ждем, а она сама является, как майский день! И знаете, действительно принцесса! Такой тип красоты парижанки: блондинка при черных бровях. При этом ежели парижанкин тип, то лик неизбежно втолсту отщекатурен. Но у Кати, окроме добродетелей, ничего в лице не выражалось. И одета просто, но с громадным вкусом: во все белое и во все черное. Мы с сестрицей портнихи не из последних: в туалетах можем понимать!
Боже, как они с Левой встретились! Конечно, может ли какой презент быть превосходнее сего. Даже нам с Хионьюшкой досталось по нескольку поцелуев… А багажу-то дорогая гостьюшка не ахти сколько привезла. Один чемодан, да и тот веретеном тряхнуть… Но не поспела она этот чемоданчик расстегнуть, как сразу разговор на копылья поставила: какие в городе конторы и насколько личность, много знающая в науках, может найти упражнения. А мы с сестрицей не последние люди в городе. В деловых кругах знакомства, и весь бомонд на вестях. Раскинули умом да, несмотря на страшный недосуг, на другое же утро и порхнули в роскошный особняк купцов Маляхиных.
Фирма «Маляхин и сын» преименитая — свои пароходы, рыбой торговали.
Об эту пору мы молодого Маляхина супруге Настасье Романовне шили гардероб домашний и а-ля променад. Заказчицы обычно к нам являлись на примерку, но на сей раз мы сделали исключение, в рассуждении застать домовладыку.
И папенька и сын дома оказались. Простодушно беседуя с заказчицей, расставляю я свои коварные сети насчет но воприезжей особы, что-де умна и прекрасна, как мечта, и на двенадцати языках поет и говорит А Федька, молодой-то Маляхин, ужасти какой был бабеляр. Закатался, будто кот, на бархатных-то диванах.
— Папенька, какой сюрприз для нашей фирмы! При наших связях с заграницей!
А папенька, медведь такой
— Хм. Какая-нибудь на велисапеде приехала.
Одним словом, принялась наша протеже служить в маляхинской конторе. И мы с сестрицей ходим, поднявши нос, как две виновницы торжества Ох, ежели бы знать, к каким это приведет плачевным результатам, дак волосы бы на себе лучше было драть и свою безумную главу толченым кирпичом посыпать… Тем более под ярким впечатлением видела я сон: будто катаемся в шлюпке при тихой погоде я с сестрой и Катя с Левой. И вдруг нас качнуло… Агромадный пароход валит на нас, обдавая рыбным запахом… Я заревела… Сон сестре рассказываю, а она:
— Вольно тебе рыбну кулебяку на ночь под носом оставлять…
Ну ладно… Не успела наша Катя на должности показаться, все мужчины принялись кидать на нее умильные взоры, а молодой хозяин ус крутить и ножкой шаркать… И нельзя винить: прежде за диковину была служащая дамочка. Притом Федькина жена, Настасья Романовна, взята была их поморского быта. Платья по журналам шить согласилась, а уж парчового повойника с головы сложить не соизволила: «Это женский венец! Не от нас заведено…» Ну куда же современный муж такую патриархальность поведет? Ни в театр, ни в концерт. А тут на глазах, при своей конторе, богиня красоты — юбка плиссе с воланом, блузка с утюга…
Обзадорился Феденька на свою подчиненную, а какими средствами ее достигнуть, не знает. Это не певичка, в «Золотой якорь» не позовешь.
Каких только промыслов он над Катей не чинил! В Пасху плюшевое яйцо, ростом с бочку, четыре оленя к Хионьиным воротам подвезли. Из яйца выпал карлик и подал Кате самовар с французскими духами. Хионья этими духами больше года поливалась.
Опять на Катин день рожденья пряник от Маляхина, в пуд весу, прикатили. И литеры «К» и «Ф» — Катя и Федя — сахаром на прянике выделаны…
На улице молва пошла: ссыльная барыня купеческого сына присушила, приворотным зельем опоила…
Убежала Катерина из маляхинской конторы. Хотя мы и советовали: «Терпи с выжиданием». Да уж Федька-то… что ступит, то стукнет. А ведь этаку фарфоровую штучку, вроде Катеньки, надо полегонечку обдерживать, вкруг да около манежно переступывать.
Соболезнуя Настасье Романовне, мы не раз к Маляхиным для-ради примерки являлись, испытующим оком выраженье ейной личности изучали. Но ничего прочесть не могли. Уродится же такая дура не от мира сего!
А Левушка недолго прожил после этого. В июньскую сияющую ночь смерть исторгла его из объятий рыдающей супруги.
На провожании мы с сестрой Катю под руки вели. Хионья Егоровна заместо духовенства впереди ступала. Шла в старинном косоклинном сарафане, в шитом золотом платке. Несла в руке ветвь благоцветущего шиповника и пела плачную причеть. Мы с сестрицей подхватывали на голоса. Все плакали, выключая молодой вдовы.
— Катя, для чего ты не плачешь?
Она — что каменная. А мы выревемся, нам и легче.
Шесть недель она к Леве на могилу ходила. Молча сидела. Домой воротится вся в комарах искусана.
Тут опять на сцену донжуан выходит. Ежели Феденька Маляхин при живом муже светским приличием пренебрегал, то теперь открыто повел лобову атаку.
В Ильинску пятницу идем с сестрой из магазина, а у корытовских ворот маляхинский рысак. И Хионья из окна подает отчаянные знаки. Несмотря на страшный недосуг, летим к ней черным ходом.
— Душенька, что у вас?
— Формальное предложение сделал!
— Кто?
— Федька.
— Вам?
— Черт ли мне! Катерине…
Мы даже заплакали: «Забыть так скоро!…» Коварная, прельстилась на богатство… К дверям Катерининым припали… Нет! Почтения достойное творенье ничем не обольстилось.
Федоров голос из-за двери:
— Дом отделаю во вкусе и сад во вкусе. Определю вас в золотую оправу, подобно жемчужине.
А Катин голос:
— Стыдитесь, господин Маляхин, не меня, а вашей достойной жены!…
Мы в куски рвемся под дверями-то: «Дура ты, дура ты, Катерина! Благодарение бы надо воссылать такому благодетелю! И ты-то, Федька, дурак! Тебе бы сначала пару белых лилий поднести, потом альбом грустных сонетов, потом букет пунцовых роз, а ты: „На содержанье возьму!…“
Опять и Настеньку, Федькину жену, вспомнили. Настя-то за какие прегрешения скорбную чашу будет пить?! Смолоду на нее шьем! Слова худого, взгляду косого не видели.
… Разоряемся этак под чужими дверями, а Федор и вылетел да хлоп Хионью дверью в лоб!… Пал в коляску, ускакал. Еще бы: обожаемый предмет заместо сабли все чувства становит.
Мы с сестрицей в тот же вечер к Настеньке Маляхиной с примеркой пожаловали. У нее, у голубушки, личность от горячих слез опухла и губы в кровь искусаны, однако разговора на острую тему не поддержала, хотя мы и делали прозрачные намеки. «Ну, — думаем, — ежели сердечного участия не понимаешь, дак и черт с тобой!» Домой шли, ругались, а дома заревели:
— Настенька-голубушка! Назвала бы ты нас суками да своднями. Через нас твой благоверный в рассужденьи Катерины изумился.
Недели не прошло, принимаем мы заказчицу, супругу жандармского полковника. К зимнему сезону шила плюшеву ротонду на лисьем меху. У нас первостатейны дамы шили. Прикидываю ей сантиметром по подолу, а жандармша и погляди в окно:
— Ох, какая роскошная упряжка мокнет под дождем! Я посмотрела да и села со всего размаху на пол: у Хионьиных ворот старика Маляхина карета.
— Душенька, что с вами?
— Это у меня на почве сердца. Сестрица, выведи меня на воздух.
Сдали барыню помощнице, а сами кубарем через забор да соседским двором, чтобы жандармша не увидела, к Корытихе. Подолы ободрали, в крапиве обожглись — наплевать!
Хионья в коридоре на своем посту обмирает; молча нам кулаком погрозила… Папенька Маляхин в гостях. Мы к дверям припали, не смеем дух перевести.
К началу представленья не попали, однако все понятно из дальнейшего. Старик говорит:
— Возьмите отступного полтысячи, даже тысячу и удалитесь в родные Палестины.
Катя с гневом:
— Какое вы имеете право ко мне приезжать? Как вы смеете мне это говорить?
— А вы какое имеете право женатого человека завлекать?
— Я служила в вашей конторе на глазах у всех. По отношению к вашему сыну я держала себя как любой из ваших служащих. Я сразу же ушла, увидевши себя в ложном положении.
— Порядочная женщина должна оберегаться мущин, а не действовать над ихним воображением. Мало тысячи — получите полторы, ежели вы такая практикованна особа.
Тут Хионьюшка двери рванула да как налетела на Маляхина-то:
— В моем доме нету практикованных! Со всеми соседями ставлю во свидетели, что вы благородную невинность оскорбляете. Вон отсюда, рыбьи глаза! Я честна вдова, тридцать лет вдовею! Меня сам отец Иван Кронштадской знат да уважат!
Старик шапку в охапку, пал в карету, ускакал.
Мы пых перевели, а по всему дому чад, окон не видно. Хионья кофей жарила, да и забыла с гостем-то. Сожгла огромадну сковороду. Пока окна-двери отворяли, Катя мимо нас на улицу бегом, с самым жалким выражением своего миловидного лица. А дождик с утра поливал. Хионья говорит:
— Пущай по ветерку пробежится. Я свежего кофею зажарю. Она кофейком отопьется.
А моя молчаливая сестрица и провещилась:
— Может, Катя-то тонуть ушла…
Хионья заревела, а мы с сестрицей подолы на голову закинули а-ля помпадур и потрепали за Катей. Для того и носим нижние юбки на шелку, чтобы их на дождике показывать. А Катя не к реке, привела нас на кладбище. Катя мостиком пошла, мы оврагами махнули, да и спрятались в елочках, где Лева-то лежит. Катя подошла молча, постояла, молча пала на могилку. Потом и простонала:
— Левушка, мне надо уехать. Как же я оставлю тебя одного?…
В эти немногие слова такую она скорбь вложила, что заревели мы голосом в своем сокровенном убежище. Не нам Катеринушку, а ей нас успокаивать пришлось:
— Не оплакивайте меня, я ведь на минутку духом упала
— Катенька, мы тебя своими руками в беду положили, к Маляхину свели! И в корытовском доме нет тебе покоя от визитов. Переходи к нам. Мы тебя на фарфорову тарелку посадим и по комнате будем носить.
Она развеселилась, засмеялась. Тут и дождь перестал и солнышко выглянуло.
Однако до Хионьи кто-то допихал наши речи. Принимали мы мадам ван Брейгель, супругу датского консула. И Хионья налетела, будто туча с громом:
— Я честна вдова! Меня отец Иван Кронштадской знат да уважат! Я сама за моих квартирантов умею кровь проливать!
Тут опять является на сцену Феденька Маляхин.
Как вечерняя заря небо накроет, так несчастный донжуан и заслепит Корытихину улицу золотыми часами и золотым портсигаром. Как перо на шляпе, мимо Корытихина дома ходит. Соседям не надо в театр торопиться. Корытихин дом — всем открытая сцена. У Егоровны, конечно, имелись с Федькой разговоры. Она калитку размахнет, выпучит глаза а Маляхин в ейну сторону табачным дымом пустит.
— Что, Корытиха, стоишь? На кого глядишь?
— Стою для опыта. Гляжу твоего дурацкого ума.
— Ах ты, раковы глаза!…
— Ах ты, Сомова губа!…
Мы браним Хионью-то:
— Вы хоть бы Катю пожалели, не делали бесплатных спектаклей для соседей. С пьяным связываетесь.
Не думала, что пьяный. Катенька, прости меня Не могу своего характера сдержать
Вот эдак, скажем, сегодня она покаялась, а назавтра еще с большей талантливостью сыграла… День-то рыбу в погребу укладывала, перед ужином вышла в залу отдохнуть И покажись ей, что Маляхина нету Обрадовалась: «Хоть один, — думает, — вечерок подышу чистым воздухом, без шпионов» Окна-то распахнула под окном-то Федька!
Хионья Егоровна Корытова цветы с подоконника срыла да и выпихалась на улицу задним-то фасадом. Бесчествует купца первой гильдии Федора Маляхина… Прохожие путники во главе с уличными детями вопиют:
— Гордись, гордись, Корытиха, не сдавайся!
А мимо наша девка воду несла. Федор схватил ведра да мадам Корытову и окатил с головы до пят. Страм!
После этого день прошел и неделя прошла Господин Маляхин что-то перестал являться на своем посту.
А вечера чудные, не похоже, что осень. Несмотря на страшный недосуг, оделись мы с сестрицей для прогулки побежали за Катей.
— Прекрасная затворница! Позвольте вас пригласить для приятной прогулки по набережной, тем более ваш Отелло исчез!
Катя, как птичка, радехонька.
Вот и шествуем, три элегантные дамы. У моей сестрицы новой выдумки нарядное фуро, у меня прозаический чепец а-ля Фигаро, а Катя всегда комильфо и бьен ганте.
Оживленно беседуя, вдруг наталкиваемся на толпу Что такое? У гостиницы «Золотой якорь» народ, извозчики, точно свадьба Пробираемся поспешно через публику, а все в окна глядят А там песни, бубны, топот, звон посуды и беспредельный бабий визг На улице темно, в гостинице светло, нам некуда деваться, в окна смотрим О ужас! Табун девок захватились вокруг Федора Маляхина и скачут ажно ветер свистит Лампы и свечи то вспыхнут, то померкнут Федор опух, обородател, глаза остолбели. И он вопит:
— Сволочи, песню! Мою песню!
Прихлебатели и девки грянули под музыку
Кат-тя, ты меня не лю-убишь!
Кат-тя, ты меня погубишь!
В толпе кто-то и выговорил:
— О-хо-хо!… В каждой песне Катю помянет. Пятые сутки пьет напропалу, любовь-то утолить не может.
Слава богу, нас не узнали в темноте. Я схватила Катю за руку, перебежали через дорогу и — окаменели, как две Лотовых жены: у чужих ворот прижалась-притаилась Настасья Романовна Маляхина и тоже глаз не сводит с ужасных сияющих окон «Золотого якоря».
Катерина моя охнула — да бежать. Чем дальше бежит тем громче плачет.
… Что вы думаете — в одну ночь она собралась. Мы с сестрой вещи пособляли увязывать, а Хионьюшка сидела на полу да причитала:
— Опустеть хочет корытовско подворьице!
У нас вокзал за рекой. Катя пароходом плыла мимо города. Но последний взгляд был брошен ею не на ельник, не на кладбище. Она смотрела на маляхинскую набережную, неутолимо глядела на маляхинский дом.
Она не велела никому сказывать о своем отъезде Но разве в нашей провинции могут быть секреты!
Катя днем отбыла, а в вечерню к Хионье Егоровне явился Федор Маляхин, в черном сюртуке, в черном галстуке.
— Куда уехала? Докуда билет брала?
Хионья и сама ничего толком не знала. Билет нарочно до ближних станций был бран, чтобы следы затерять. И Федор не стал искать. Всю зиму, как медведь, в лавке сидел Пощелкает-пощелкает на счетах, потом уставится в одну точку, долго так сидит. Весной на пароходе в Норвегу уехал и жил там до белого снегу. Катя у него далеко стала, все перегорело, он и обошелся. Домой приехал, жене голубого шелку на платье привез, а себе в кабинет заграничную картину в золотой раме. Изображена молодая особа в виде нимфы, порхающая над бурным ручьем. Многие находят, что черты нимфиного лица напоминают Катю. Называется картина «Мимолетное виденье».
Митина любовь
У меня годов до двадцати пяти к дамам настоящего раденья не было.
Конечно, при гостях пронзительность глаз делаешь, а все не мои. Притом холостой да мастер корабельный, дак сватьи налетают, как вороны на утенка:
— Погоди, Митька! Роешься в девках, как в сору, одна некрасива, друга нехороша, а криворота камбала и достанется.
— Скажите, как напужали!
— Небось напужаешься! Над экими, как ты, капидонами вымышляют колдуны-ти. В гости тебя зазовут, в чаю, в кофею чего надо споят, страшну квазимоду и возьмешь, молекулу.
А я живу, какого-то счастья жду, судьбы какой-то. А дни, как гуси, пролетают.
… Позапрошлая наступила зима, выпали снеги глубоки, ударили морозы новогодни. Три дня отпуску, три билета в Соломбальский театр. Соломбала — города Архангельска пригород. От нашей Корабельщины три часа ходу.
У вдовы, у Смывалихи, остановился. Вечером в театре жарко, людно. В антракт огляделся: рядом особа сидит молодая. Сроду не видал такого взора! Не взгляд — тихая заря поздновечерняя. Больше во весь вечер не посмел в ейну сторону пошевелиться.
Другой день ушел в гости к вечеру.
Народушку в театре — как тараканов на печи.
— Ишь лорд какой расселся, член парламента! Расшеперил лапы-то!
Ейно место охраняю… Идет. Голову гордо несет, щеки, уши пылают. Стыдится. Честного поведения, значит При встал ей. Мило улыбнулась.
«Грозу» Островского представляли… Вместе ахнем, вместе рассмеемся, а слова за сто рублей не сказать. В антракте осмелел:
— Не угодно пройтись в фойе?
— С кем имею честь?
Такой-то.
— Марья Ивановна Кярстен.
И в слове и в походке она мне безумно нравится. У ей все так, как я желаю.
— Что на меня зорко глядите?
— Очень вы, Марья Ивановна, ненаглядны. Только во взорах эка печаль…
— Оттого, что родом я со печального синя-солона моря…
— У меня тоже не с кем думы подумать, заветного слова промолвить. Марья Ивановна, мы другой вечер рядом сидим, вы меня вчера заметили ли?
У ней и смехи на щеках играют, оглядывает меня.
Экипажецка рубашка.
Норвецкой вороток.
Окол шеечки платок,
Словно розовый цветок!
— … Ну, как вас не заметить?
— Это я для вас постарался, гарнитуровым платком повязался.
А в последнее действие уливается моя соседка слезами.
— Люблю слушать, как занапрасно страдают…
— Любите, а эдак плачете.
— Я сама в том же порядке.
Проводить не дозволила, одна убежала.
На третий день представленья не было, только дивертисмент музыкальных номеров. В мире звуков рассказываю Марье Ивановне, что-де у меня мамы нету, сам хлебы пеку, тесто жидко разведу — скобы у дверей и у ворот в тесте…
А она:
— Говорите, говорите!… Я потом вашу говорю буду разбирать, как книгу.
— Марья Ивановна! Мы по своим делам часто в Соломбале бываем. Дозвольте с вами видаться!
— Да что вы! Ведь я замужем!
Как нож мне к сердцу приставила…
— Дак… от мужа гуляете?
— Гуляю? За пять лет замужества случаем в театр попала… С добрым человеком поговорила… Может, до смерти нигде не бывать…
— Теперь эта неволя отменена.
— Неволя отменена, да совесть взаконена!
— Вот вы наделали делов — бросаете меня… Куда я теперь?
… Но горячность моих упреков умиротворяет чудная мелодия вальса:
Зачем я встретился с тобою,
Зачем я полюбил тебя?
Зачем назначено судьбою
Далеко ехать от тебя?
Марья Ивановна сделалась в лице переменна… Встала, выхватила у меня из грудного кармана батистовый платочек… Публика музыкантам хлопает, а я слышу тихое, но внятное слово:
— Пока я жива, это мне лучезарная память. А умру, глаза вашим платочком накрыть прикажу.
И ушла. Как век не бывала. Опомнился да побежал вслед — знай метелица летит в глаза да адмиралтейская часозвоня полночь выколачивает…
А Смывалиха на квартире:
— Сегодня в Соломбале два дива было. Первое диво — Машенька Кярстен в театре показалась, второе диво — с некоторым молодым человеком флиртовала.
— Она чья? Она кто?
— Мужняя жена. Замужем живет, честь наблюдает. Муж-то пьюшшой, хилин такой. Она мукой замучалась, а уж ни с кем ни-ни… Сама портниха, рукодельница… Замужем живет… Честь наблюдает… Мне тоже бесчестно баловством-то сорвать. Кабы навеки моя, а так, баловством, мне не надо!
И той же ночи побежал я домой. Бежу пустыми берегами, громко плачу, как ребенок:
— Эх ты, Машенька Кярстен! Навела мне беду!…
И поклялся я забыть эту любовь. За троих работу хватаю. Сам себе внушаю: «Не думай про нее! Знай, что она не твоя». Да, а ночь-то моя; а кто же рад один-то!… Бывало, не лягу в хороших брюках, все увертываю да углаживаю, а теперь. Обородател, похудел…
Зима на извод пришла. На верфях стук да юк рано и поздно. У меня топор в руках, чертежи в глазах, на уме Машенька Кярстен. Голос ее, духи ее слышу — «Лориган».
— Эх, Митя, Митя, упустил ты свое счастье!
Не курил — закурил.
Притом эту сплетню из Соломбалы принесли в нашу Корабельщину. То прежде дамы по своей части меня хладнокровно укоряли, теперь, видя полноту переживаний, в другую сторону заобиделись. Заведующая парикмахерской как-то при гостях на меня затужила:
— Не желаем соломбальску прынцессу! Счас парикмахерску замкну и ключ в море брошу Пущай населенье ходит в диком образе!
Пришла весна-красна, с летичком теплым, с праздничком майским. Со всем народом, со всем славным шествием пришел я в Соломбалу. И скопилось три дня свободных Куда пойду? А Смывалиха на углу и стоит:
— Здравствуй, Митенька! Да, помнишь Машеньку Кярстен, в театре-то увлекались?… Овдовела: до краю допил…
— Она где живет?!
— В город переехала отсюда.
— Улица какая, дом какой?!
— Дом номер восемнадцать, улица… Погоди ужо; дом номер восемнадцать… улица… Забыла. Ново какое-то переменено название.
— Она где с мужем-то жила?
— Эво, где домичек зеленый!
В зеленом домике самовары лудят да паяют, никакой Марьи Ивановны не знают. Сунулся в возледворные соседи…
— Мы у ей на новосельи не бывали, городского пива не пивали. Гордиянка была и скрытница…
Я на перевоз да и в город. В адресном бюро дежурна подает адрес прежний, Соломбальский.
— В город она переехала!
— Может, и год проживет не прописана. У нас не торопятся.
Все пропало! Машенька Кярстен, утерял я тебя!… Вылез на крыльцо, а кругом-то весна! Река ото льда располонилась, в море плывет, чайки кричат, пароходы свистят. На домах, на пристанях, на кораблях флаги, ленты, банты… Отвяжись, худая жизнь, привяжись, хорошая!
Искать пойду! Обойду город с верхнего конца до нижнего. В каждую улицу загляну, в каждой улочке дом № 18 найду. Везде спрошу Марью Ивановну Кярстен. Взял да и пошел. Три дня ходил. Как лесом, пошел этими домами. № 18 увидаю — так сердце и замрет. У старушки пить попрошу:
— Здесь проживает портниха такая-то?
Ответ один:
— Не знаем, не знаем никаку Марью Ивановну.
По дворам собаки приведутся, за ноги хватают. На Мхах одушевленна собачка, за штанину ухватясь, две улицы на мне ехала. Иду, фасон не теряю. Иду в желтых щиблетах, пальто серого драпу, норвецкая кепи. Дома «Дели» или «Спорт» курю за шестьдесят пять, тут «Пушку» купил. Инде домоуправляющий выскочит, как пробка из бутылки:
— Санитарной инспектор являетесь? Помойны ямы смотреть?
— Иду своим путем, за своим делом.
Ничего не доспел, а той же отвагой к Смывалихе ночевать явился.
— Нашел?
— Найду.
— Присушили тебя. Приворотным зельем опоили. А то опять кошки есть троешерстны… Завтра пойдешь шляться, зайди в «Ледовитый океан». У ворот бабка-гадалка живет…
На другой день ходил главными улицами. Помню: в комфортабельную квартиру зашел, а потолки трясутся, в шкапах посуда говорит… Спрашиваю:
— Что это у вас, кабыть… последний день Помпеи?
— Это у нас пенсионер Иван Авдеич физкультурой занимается. По своему этажу кровать с перинами катает.
«Нет, моя жемчужина сюда не закатилась».
В обед на реку выгулял, тут кафе «Ледовитый океан». У ворот старинна избушечка, кабыть из-под ягой бабы. Постучался:
— Хозяйка жива?
— Жива маленько-то…
Хорошенька беленька старушоночка у оконца вяжет. И котенок у печки из чашечки лапкой ест.
— Бабушка, я не гадать.
— Что тут гадать, без гаданья видать. Нарядной, взволнованной, судьбу свою ищешь.
— Бабушка, я остался без невесты!
— Значит, курвяга кака-нибудь.
— Нет, уж всех честнее да прекраснее!
— У тебя-то, дитя, простота в лице детская, ненаглядная. Ежели она стоющая женщина, ты у ейного сердца прижат.
— Потеряю ее — буду пить, в карты играть!
— Не дичай. Праведна любовь не потеряется.
— На тебе, бабушка, на гостинцы.
— Не надо, не надо! Свадебного принесешь, пряничков мятных.
Как меня эта маленькая старушка развеселила! А к вечеру еле ноги перекладываю: новые ботинки жмут. О полночь в Лодейну улицу выбрел. Над городом тихо припало. Солнце присело на воды, как утка. Вот и дом № 18, а как зайдешь… Стою, булочку доедаю. А на крыльце человек и пошевелился. Вам кого?
— Дозвольте с вами на крылечке посидеть, опоздал на пароход.
— Даже прилечь не угодно ли! Вот вам оленья постель. Я как выпью, меня женка всегда на улицу выгонит и постелю высвиснет. Для гостя можно бы в избу поколотиться, да боюсь, чем бы не огрела…
А я на оленину пал, пальтишком накрылся… Как у мамы за пазушкой.
Пароходные свистки разбудили. В горницах хозяева ругаются. Больше слыхать выговор женственный, полный, окатистый. Я застегнулся да наутек… И не поблагодарил. А день серый, с дождем. Поглядел на себя: весь в оленьей шерсти. О, кто бы меня шомполом оловянным настегал! За тенью гоняюсь, за ветрами бегаю. А тут и городу конец; невеличка осталась Кузнечевская слободка. Домишки, как коробки, худые, а нельзя не пройти. По дороге канава: с горы вода летит, льет. Мостик был, да сплыл. Я размахнулся да — р-раз на ту сторону. Тут оступился, каблук отсадил и карман оторвал. А глины на ногах, на боках!… Тут я духом упал, тут весь форс потерял.
«Эх, Митя, Митя!… Век над людьми смеялся, теперь сам всех насмешил!»
И поворотил я обратно — скорее бы на пароход да домой. Плакать не плачу, а слеза бежит.
«Эх, Машенька Кярстен, потерял я тебя!…»
А поперек дороги под старым карбасом сапожник, как в магазине, сидит. Тремя гвоздиками прихлопнул мне каблук.
— Мастер, вы худо сделали.
— Худо сделал, дак и опять ко мне прибежишь. Крепко сделаешь, дак и без денег сиди…
— Мастер, вы мне карман не прилепили хоть на живую бы нитку.
— Наша фирма этими пустяками не занимается. Эво где, за углом, портниха живет, дом номер восемь.
Дай схожу, хоть пальто зашьет да почистит, а то хуже пьяного… Дом номер восемь… Крылечко и сены чистенькие, половички тканые. За дверью швейна машина стучит. Поколотился.
— Зайдите.
За порог ступил, у оконца… она!
… Радость любезна бывает слезна… Захватилась за меня, руками за шею напала.
— Вы въявь ли мне видитесь?! Не во сне ли мне кажетесь?!
— Машенька, в день веселья моего не плачь!
— Жить-то начинать без вас тошно было! Как в погребу сидела, с вами рассталась…
— Я-то тебя искал, в домах заблудился, в дождях замочился. Дому номер наврали: надо восемь — восемнадцать сказали…
Третий год с нею живу. Каждый день, как в гостях, гощу.
Така хозяюшка, така голубушка!… На пароходе со мной в море выпросится.
— Машенька, там тебя заплеснет валом.
— Митенька, ты меня крепче держи-то.
Смывалиха встретилась:
— Поздравляю, Митенька! Умно ты родился, да умно и женился.
— Соврала номер-то, вралья редкозубая!
— Забы-ыла!…
Дождь
Эта оказия случилась годов за восемьдесят назад. Красильщики Фатьян с подмастерьями Тренькой да Сенькой Бородатым карбасом по. Северной реке причаливали к деревням, красили портна, набивали узором полотна. Бабы платились тем же полотняным тканьем, и дальновидный Тренька ругал мастера:
— Выискал ты реку, дядюшка Фатьян. Преудивленные народы: без денег обитают.
Фатьян отмахивался:
— Молчи ты, хилин рассудительный. Наша-то река с деньгами живет? Здесь смолу курят, мы холсты красим: денег класть не во что, кошелька купить не на что… Ужо выплывем к Архангельскому городу, холсты продадим, в барышах домой воротимся.
Архангельск встретил неприветливо. Дул шелоник — на море разбойник. Тренька с Сенькой сроду не видали моря. Боязливо слушали россказни о кораблекрушениях. Впрочем, всякий день бегали дивиться морскому чуду — пароходу. Пароход был в диковину не только деревенскому парнишке.
А Фатьяну было не до диковинок. Цены на деревенские холсты явились невыгодны. Фатьян не спал ночами, раздумывал, как быть с товаром. В таких заботах встретил земляка, именитого человека из города. Земляк выслушал Фатьяна и сказал:
— Через пять недель на острове, у морского лесопильного завода, состоит гулянье. При заводе слобода. Слобожанки — щеголихи, а купить нарядов негде. Купцы не ездят; срочных рейсов нет. У тебя, Фатьян, полотняный припас есть, набивные снасти есть. Напечатай своих ситцев, сплавай на гулянье. Я ради старого знакомства похлопочу тебе право поставить балаган у лесопильного завода.
Фатьяну совет полюбился. Заложил земляку свой карбас, купил хороших красок и дорогой олифы. Снял у бабушки-задворенки на огороде избушку и скорым делом стал печатать ситцы. Работали на совесть, чтобы прочно было и пригоже. От всего усердия стараются. Стукают да стукают тяжелыми узорными досками, пот в башмаки бежит, а мастера, как дети, как художники, веселятся незайтеливыми птичками-цветочками, корабликами-домиками. Мастера любили работу, и работа удавалась. Тоже, значит, мастеров любила.
Работали — как песню пели. Но лишь только разговор заходил, что надобно плыть в море, начинались споры. Тренька бубнил:
— Эстолько товару наработано. А морем поплывем, кораблик заплеснет валами. Товар замокнет, заплесневеет, запихтевеет… Тогда куда мы, человеки разоренные и много должные?
Сенька, молодой курносый парень с рыжей бородищею, добавлял свои резоны:
— Мне мама дальше Архангельского города плавать не велела.
Фатьян разгорячился:
— Один уеду! Околевайте без меня.
— Одного тебя не пустим. Не дадим тебе кукушкой в море куковать.
Приятели согласились неожиданно:
— Вези нас, дядюшка Фатьян, на пароходе. Пароход нам понравился.
Смех с ними и грех, а дело править надобно. Два-три раза сходил Фатьян в приказ с подарками, получил именное право. Приказные говорят:
— За твою добродетель тебе такое скорое доверие. И поручитель у тебя добрый. А некоторый иноземец с весны в эту поездку домогается. Ему от нас ответа нет
Фатьян из приказа зашел в трактир, сел в уголок, сердито разглядывал гербовый лист с печатью: «Пропали бы вы кверху ногами с вашим доверием!… Столько товару нет, сколько пошлин правите».
В трактире привелись три иноземца. Старший, с виду опытный, бывалый, сунул нос в Фатьянову бумагу, пробежал ее бойко глазом и расплылся в улыбку:
— Любопытствуем сделать с вами знакомство, мистер Фатьян. Дозвольте представиться: Гарри Пых, мануфактур-советник, иностранец. Желаю выпить за успех вашего предприятия.
Он выудил из заднего кармана штоф, налил полстаканчика себе и стакан Фатьяну.
— Прошу, мистер Фатьян. Ваше здоровье!
Фатьян недоуменно мигал глазами, отказаться не посмел:
— Покорнейше благодарю, мистер Пыхов. Равным образом и вам желаю… Какой державы будете?
— Верноподданный заморских королей.
— Чем изволите заниматься?
— Дамский туалет, маскарад кустюм. Новейшие фасоны, заграничные модели. Фирма существует двести лет! Одним словом, мистер Фатьян, возьмите нас в компанию, и поедем вместе на завод. Торгови дом Фатьян и К°. Шикарно?
Фатьяну столь стыдно за себя, простого деревенского красильщика Тяжело вздохнув, он сказал:
— Опасаюсь, мистер, что вы, по вашей склонности, имеете высокое воображение о нашей простоте. Мы являемся простые мужики. Земля у нас нехлебородна. Хлеб надо покупать. На покупку деньги достаем отхожим промыслом. Наша деревенька, скажем, вся — красильщики-набойщики. А соседняя — швецы-портные. Вот мы из каких, а не купцы первогильдейные. Однако, не хвалясь, скажу: мы мужики по званью и художники по знанью. Искони втянулись в ремесло и достигаем мастерства.
Пых закурил и пустил дым Фатьяну в лицо.
— Ваше ремесло, мой друг, получит настоящий блеск, когда вы войдете в компанию с нами… Но что же вы не пьете, друг Фатьян? Ваше здоровье!
У Фатьяна в голове хмелинушка бродит, но немножко-то он соображает:
— А вам какая выгода в моей компании? Почему от себя не промышляете, мистер Пыхов?
— Праздный вопрос, мистер Фатьян. Мы приехали сюда на малый срок. Хлопотать о мастерской и о торговом помещении нам некогда. А вас все знают. У вас на руках готовое разрешение.
— А ежели, мистер Пыхов, ваш товар пойдет, а моего аршина не возьмут?
— Барыши пополам, мистер Фатьян.
— Слово дадено — как пуля стреляна, — сказал Фатьян. — Ты как, мистер Пых, на бумаге договор будешь крепить? А по-нашему: слово да руку дал — крепче узла завязал.
У Пыха глаза сделались веселые. Он промолчал, а Фатьян ораторствовал:
— Мастерскую ты помянул. Тебе на что мастерская?
— Для производства моделей. Недельки на две. К бабушке-задворенке в избушку заходи и выделывай свои кадрели-модели. Мастерская — пустяки, а важность вот какая: на чем товар к месту доставим? Море сей год непогодливо.
— Я буду хлопотать о пароходе. Великое удобство!
Фатьян хлопнул Пыха по плечу так, что тот едва со стула не слетел:
— Орудуй, мистер Пых, дело подходящее. Главное, Сенька и Тренька будут рады. Они на пароходе — с полным удовольствием.
Дома Фатьян хвастал перед подмастерьями:
— На пароходе поплывем. Я себя не оконфузил. Пых свое, а я свое. И так его ловко в свою пользу насаживаю.
Сенька с Тренькой не видали мастера во хмелю. Не могут надивиться:
— Они какой державы люди? Званья какого?
— Верноподданные заморских королей… А званьев у них много. Этот Пых, он, может, урожденный граф, его светлость! Я в людях понимаю. Насквозь вижу человека.
Новые компаньоны принялись за дело не мешкая. Забрались в Фатьянову избушку. Не спросясь схватили ведра, кисти, утюги. А главное, что повели работу с хитростью, с секретом. В избу к ним ходить никому не велели. Запрутся, как стемнеет, и пошабашат за час до свету. Удалые Сенька с Тренькой взялись доглядывать за иноземцами. Сенька бородатый впялил глаза в дверную щель. В тот же миг тряпка с краской ляпнула в рыжую бороду. Стала борода зеленая Умный Тренька высмотрел сквозь ставни с улицы в оконце После докладывал Фатьяну:
— Намешано у них в ведрах всякого сословия: желтого, зеленого, красного и синего. И Пыхов, как паук из паутины, ветошь тянет. Помощники эту ветошку щекотурят киселями разных колеров. Я гляжу, меня так в обморок и кидает. И плюют, и дуют, и пеной пырскают. Высушат и мылом налощат. И сидят не со свечой: новомодный свет, карасин горит.
В конце другой недели Тренька доносил:
— Дядюшка, ситцы-то у них пришли в полную красу сарафаны сделались! Полну избу кофт да юбок наработали.
Фатьян поскреб в затылке:
— Твори, господи, волю твою!
Готовые наряды иноземцы стали гладить. Из-под утюгов валил кромешный дым:
— Портной гадит — утюг гладит, стонал Фатьян, угорая с ребятами до пропасти от этого чада. Посоветоваться, потолковать Фатьяну было не с кем: опытный земляк ушел по должности в море.
Гарри Пых сумел подъехать к капитану парохода. Выяснил что пароход будет грузиться на морском заводе тесом, и как раз ко времени гулянья.
Фатьяновы полотняные тюки на пароход носили — сходни от тюков гнулись. Пыховы коробки с туалетами, будто пташки, с рук на руки летали. Фатьян обиделся на Пыха, что тот ни в чем не спрашивается, а как в море вышли, Фатьян отмяк, подсел к компаньону:
— Как проворно вы управились с работой! Жаль, не удалось взглянуть, из какого матерьяла вы работаете.
— Из пены! — огрызнулся Пых. Хм… пена — дело легкое.
— У нас за морем из пены веревки вьют.
Ночью пароход хватила непогода. Сеньку с Тренькой с ног на голову ставило, качало. Мистер Пых тоже в дело не годился, ползал на карачках. Фатьян бранился:
— Парохода вы домогались — получайте пароход!…
Потом бежал укутывать товар брезентом, молился со слезами:
— Морские заступники, скорые помощники! Не замочите коробки и мои набойки! Убавьте волну!
Путь окончился благополучно. Пароход пришвартовался к пристани.
Иноземцы при постройке балагана снова показали хитрость и затейку. Поставили себе шатер особенно. Рядышком с Фатьяном, а не вместе. Сверху налепили ленту-вывеску: «Пых и К°. Базар де мод». Модный-де базар. А уж товар у них: взгляни да ахни! Колера пронзительные. Кофта: по огненному полю синие лимоны. Юбка: желтая земля, синие дороги.
Привалил народ. Бабы на заморские разводы сразу обзадорились. Жужжат у Пыхова товару, будто комары. Мистер Пых того и ждал, пуще зазывает:
— Бальный туалет! Американ фурор! Модерн костюм! Три рубля комплект!
Покупательницы из-за кофт дерутся. Юбки друг у дружки отымают. Только старые старухи опасливо косились на азартные «канплекты»:
— В глазах рябит, как набазарено. А не марко ли? Не линюче ли?
Фатьян в этот день не опочинился. Склавши руки сидел, как невеста женихов дожидаючи.
Напрасно Сенька с Тренькой раскатывали на прилавке трубы набивного полотна. Напрасно заливались звонким голосом:
— Эй, ройся, копайся! Отеческим узором украшайся!
Бабы задирали нос перед Фатьяном, фыркали:
— Вы не можете потрафлять на модный скус. Такой ли ваш фасон, чтобы показывать себя? А у Пыха туалеты как цветы.
Фатьян негодовал:
— А мои набойки разве не цветы? Узоры не собаки, чтобы в нос бросаться.
— У тебя цвет брусничный да цвет коричный. А у Пыха будто феверки. Оделась в мериканском скусе и пошла, как колокольчик…
Утром другого дня Пых распродал свой товар до нитки.
Девки и молодки торопились нарядиться: по обеде открывалось игрище-гулянье. Старухи опять приходили глядеть Фатьяновы набивки. Приводили своих стариков, шептались. Отходили с глубокой думой на челе.
Фатьян разговаривал, гордо поворотясь к покупателям спиной:
— На здешних клоунов и на попугаев у нас товару нет. Не задорны наши ситцы для такого племени.
Тренька по-аглицки ругался с Пыховыми препозитами:
— Нахвально поступаете. Совесть у вас широка: садись да катись. Пленти мони вери гут до добра не доведут.
Фатьян становил его:
— Брось, нехорошо. Пых мне-ка слово дал, что барышом поделится.
— А ты спросил бы, дядюшка.
— Совестно.
Гулянье началось на лугу, на берегу, далеко от всякого жилья, чтобы простору было больше. Старухи, старики, женатые мужики, ребята расселись, как в театре, по бревнам, по доскам, по изгородям, по пригоркам. Все знают, что сегодня не в старинных штофниках и сарафанах бабы-девки явятся, а в модных туалетах. Всем известно, что триста «канплектов» продал Пых… Ждать долго, потому что от завода, от слободки, где бабы-девки белятся-румянятся, в туалеты рядятся, до гульбища — версты полторы. День стоял пригожий, но с обеденной поры старики запоглядывали в края моря:
— Теменца заводится…
Заежилась древняя бабка:
— Не быть ли дожжу, — вся дрожу.
Погодя, старики опять проговорили:
— Гром гремит, путь воде готовит…
Мальчишки, которые с высоких штабелей караулили дорогу, закричали наконец:
— Идут! Идут!
Щеголихи шли рядами: двести девок, сотня баб. Шествие замыкали парни с гармонями. Старики на бревнах запели:
Слеталися птицы,
Галки и синицы,
Стадами, стадами,
Сходились девицы,
Сбирались молодки
Рядами, рядами.
Одночасью весь берег будто цветами расцвел. Разноцветно стало на лугу. Цветасто. Девки как букеты разно-пестрые. Бабы будто лампы в абажурах. И что тут величанья, и смотренья, и манежности! У смотрящих стариков в глазах зазеленело. Старухи ахают:
— Глянь-ко, глянь-ко! Этой бы только в погребу сидеть под рогожей, а она как жар-птица!
— Эту бы давно на табак молоть, а она как фрегат под парусами. Сейчас зачнет палить из пушек.
Тут парни зараз в гармони жахнули. Двести девок, сотня баб песню завели; высоко занесли да в пляс пошли. Только и слыхать, что «ух-ух, ух-ух!». Топанье, хлопанье, плесканье, скаканье…
И в те поры дожжинушка ударил, как с горы. Не то что дождь пошел как из ведра, а — бочками, ушатами заполивало. Вдруг гроза-то с моря накатилась.
Разом триста баб и девок караул закричали. Не грозы испугались: гроза не диво. С туалетами заморскими беда стряслась: краска смокла. Краска-то плывет, и ветошь-та ползет. Бабы держат ветошь-ту да визжат, как кошки. За какой лоскут хватятся, тот в руках останется. Во мгновенье вся краса стерялась. Как не бывало туалетов. Смотреть негодно. Эти щеголихи все лохмотье мокрое с себя сбросили в кучу да, как чертовки из болота, ударились бежать.
Кому горе, кому смех! Мужики, как гуси, загоготали. Парни, старики со смеху порвались:
— Ха– ха-ха-ха-а! Вот она, чудовища-а! Европейские модели побежали-и!
Маткам, бабкам не до смеху. За дочками в погоню стелют да ревут:
— Косматики вы, трепалки вы! На всю вселенну срам наделали! Теперь ни в пир, ни в мир, ни в добры люди.
Переведя дух у себя в слободке, умывшись, опамятовавшись, молодицы и девицы решили отсмеять насмешку иноземцу:
— Бабы, девки! Нельзя такого бесчестья простить! Головы не оторвем, дак хоть плюх надаем этому Пыху.
Еще до света учредились они как на битву: с ухватами, с лопатами. Мужики смеялись:
— Маврух в поход собрался… Пропал теперь заграничный Пых. Он ведь сидит и ждет: «Скоро ли бабы меня трепать придут!»
— Пущай он хоть в утробу матерню спрятался, и там до будем! — вопияли женки.
Есть пословица: «Крой да песни пой; наплачешься, когда шить будешь». Пел Пых и у кройки и у шитья. Пел, товар с рук сбываючи. Заплакал в дождик, когда началась суматоха. Бежать на пароход поопасался: бабам нигде не загорожено, а капитан не любит неприятностей. Вместе со своими препозитами Пых залез под пристань. Всю ноченьку осеннюю там тряслись, единым словом меж себя не перещелкнули. А комары их едят.
Одна была отрада: знали, что погрузка тесу кончена и пароход утром отваливает. Решили заскочить на пароход после второго, третьего свистка. Тогда уж бабам Пыха не достать. Только бы проскочить удалось.
Фатьян в своем балагане тоже ни жив ни мертв сидит. Вот дак мистер заграничный! Присчитается и мне на орехи! И я с ним в паю буду… Век худых людей бегал, при старости с мазуриком связался! Рук марать не стану барышом грабительским.
— У тебя откуда барыши-то? спросил Тренька.
— Да ведь половину барыша мне Пых-то посулил!…
— Ох, дядюшка Фатьян! Нет, у тебя ума-то с наперсток. Таких, как ты, лесных тетерь, и учат.
— За мою добродетель?!
— За твою дурость, не во гнев будь сказано.
— После дела всяк умен. Уйди с глаз! — рявкнул мастер. Ночью Фатьян не спал, бродил около палатки. На сердце росла тревога: «Влетит и мне за Пыховы дела…»
Пущего страху нагнал глухой сторож из слободки: Здравствуй, гость торговый. Вина штоф отпусти. У меня не кабак.
— Табак не надо… А вас бабы убивать придут. Я на гулянье не был, а видел, как они в деревню прибежали. Как есть — банны обдерихи.
Так и сидел Фатьян до свету:
— Убежать бы, да некуда. Укрыться бы, да негде.
На рассвете завел глаза, задремал. И тут же со страхом прянул на ноги. Услышал топот ног и воинственные возгласы:
— В воду посадить еретиков!
Несколько запыхавшихся баб сунулись в Фатьянову палатку:
— Дедко, вчерашний Пых где?
— Голубушки, не знаю. Матушки, ни в чем не виноват.
— Ты смотри, никуда не уезжай. Тех поймаем, до тебя дело есть.
Полотняная дверца захлопнулась. Фатьян, белый, как бумага, начал расталкивать Сеньку с Тренькой:
— Вставайте! Убивать нас идут! Где у нас чисты рубахи? Помрем. Деточки, смерточка напрасная приходит.
Поняв, в чем дело, Сенька бородатый заревел:
— О, не по красу приехали, не на великую добычу. Зачем ты нас в море сбил, седая анафема?
Тренька заорал на обоих:
— Мужики вы или нет? Бежать надо!
— А товар как? — опомнился Фатьян.
— Ведь ты помирать снарядился.
— Пережить не уповаю. А своего художества непонимающим людям оставить не желаю, — торжественно сказал Фатьян.
Тренька уважительно поглядел на мастера.
— Одобряю эти слова, дядюшка Фатьян. Возьмем с вами по топору, станем у дверей. Пусть-ка сунутся которые… А ты, Сенька, лети на пристань. Нет ли там благоразумных мужиков?
Сенька побежал, на всякий случай поклонившись Треньке и Фатьяну в ноги.
Время тянулось. Никто убивать не шел. Фатьян поуспокоился; насупив брови, сел.
— Охо-хо!… Ждать да догонять нет того хуже.
Со стороны берега донеслись два пароходных свистка и вслед за тем крики, брань. Фатьян опять схватился за топор.
Прошел час Фатьян простонал:
— Тренька, ради бога, сбегай, поищи бородатого. Матка его будет жалеть. Да не провались там!
Тренька ушел, да и провалился. Фатьян изнемог ждавши. Охал и ругался:
— Дураков пошли, да и сам за ними иди. Порвало бы вас, разорвало бы вас! Живы ли вы, деточки мои? Брошу все, сам пойду.
Не поспел Фатьян и шаг шагнуть, его с ног сбили Сенька с Тренькой.
— О, леший бы вас побрал! Где вас, проклятых, задавило?
Докладывать начал красноречивый Тренька:
— Ух, дядюшка Фатьян!… Женки по штабелям летают, в бревнах Пыха ищут, а он под пристанью хранится. Тут с парохода два свистка. Пыховы, все трое, выскочили да по мосту и лупят, а сами кричат: «На секурс! На секурс!»
— Бабы со штабелей ссыпались — да за ними. По мосту канат причальный. Пых подопнулся, и один подручный с ног долой. Бабы налетели, стали Пыха потчевать. Тут спустился с парохода управляющий заводский. Его провожает капитан. Бабы прискочили к управляющему, кладут жалобу на Пыха. Пых вопит что-то капитану на ихнем языке. А народу много, полна пристань накопилась. Управляющий говорит капитану:
«Вы что скажете, мистер каптейн?»
Капитан, такая личность представительная, с сизым носом, отвечает:
«Я совершенно ни при чем. Но мистер Пых просил дать объяснений на его товар. Это есть обычная материй аплике, накладной бумажный кисея. Весьма боится сырость. Если бы не дождик, туалет гулялся бы на год».
Управляющий к народу:
«Вот что, женочки и девицы: вы в памяти, в сознанье эти юбки-кофты покупали. Небось у своих ситец выбираете, жуете да лижите — не марко ли, не линюче ли?… Цену-то какую иноземец брал?»
«Три рубля за канплект».
«Это вы иноземцу за науку заплатили. Вперед пригодится… Угодно ли еще про Пыха обсуждать и сыскивать?»
«Мы его уж обсудили. Погладили мутовкой по головке. Вишь, со страху каждый лоскуток на нем трясется. Черт с ним!»
Тут бабы и капитану словцо ввернули:
«Хотя за морем эта аплике и за обычай, однако не возите к нам таких обычаев. Держите у себя».
— Уплыл Пых-то? — спросил Фатьян
— Угреб.
— Меня-то не помянули?
— Помянули, дяденька Фатьян! Пароход-то отвалил, старухи заговорили: «Вот что, девки-молодки, сами вы на себя в кнут узлов навязали: деньги бросили и народ насмешили. Почто было у русского гостя не брать? Вчера куражились, сегодня хошь не хошь — к нему пойдешь»…
Тренька не окончил слова: в балаган полезли бабы, девки и старухи. Поклонились, заговорили:
— Здравствуйте, гости торговые! Из ваших рук набойки захотели. Вчера к вам собирались, да кони не довезли.
Фатьян приосанился, прищурил глаз:
— Доброе дело не опоздано. Милости прошу. Наши набойки за сутки не заплесневели, не заиндевели. Только что узором не корыстны, против модного базара не задорны…
Бабы застыдились:
— Карасином бы этот базар облить было да спалить!…
— То-то, — наставительно сказал Фатьян. — За морем прок потеряли, только хитрость одна. Русский мастер у работы радоваться хочет. Вот полотно: под песню прядено, под сказку ткано, на мартовском снегу белено. Мы к ткачихину художеству свое приложили. Краски натуральные: от матушки сырой земли, и от коры березовой, осиновой, от дерева сандала, от ягод, от цветущих трав. Земляную краску в пух стираем: хоть графиня рожу пудри! Сенька Рыжа Борода у выбойки, будто бабка-повивалка у родов. Тренька досточку-печатку режет, как батальный живописец. Я в свою набойку сорок лет людей сряжаю. Сколько молодежи обучил, ремесло в руки дал. И от всех, кроме спасибо, другого слова не слыхал. Я не хвалюсь. Моя работа пусть меня похвалит. Такое наше поведенье вековое-цеховое…
Сколько бабам Фатьяновы речи нравятся, столько выбойки узорчатые глянутся.
— И как вчера такой красы не разглядели? Глаза отвел заморский пес.
Старухи брали по целой «трубе» столокотной, по целому куску. Важно говорили:
— Этот мартиал хвалы не требует. Он стирку любит. От стирки в полную красу приходит.
Бабы помоложе прикидывали набойку на себя:
— Мастер, как по-вашему, это виноградье нам к лицу?
Пришли мужики. Потребовали матерьял порточный, с продольным «форнаментом». И на рубахи орнамент «попристальней».
Иноземцы торговали полтора дня. Фатьян в полдня продал все до нитки. Остатками, обрезками товара он наделил ребятишек, безденежно, в подарок.
По случаю последнего дня гулянья покупатели не торопились расходиться, сидели вкруг палатки, балаболили, хвастались покупками.
Фатьян, выйдя из пустой палатки, весело крикнул:
— Желаю всем эти обновки сто лет носить, на другую сторону переворотить да опять носить!
Переждав, пока кончится смех, Фатьян продолжал:
— Чувствительно вас благодарю за неоставленье. Иноземцы меня выучили, а вы меня выручили. — И Фатьян поклонился народу в землю.
Бабы встали и ответили Фатьяну поясным поклоном:
— Промышлять вам с прибылью, гость торговый! За вашу добродетель, как вы есть превосходный мастер…
Обратно Фатьян правился на шкуне. Парусом бежали шибче парохода.
Фатьяновы внуки-правнуки, такие же, как дед, красильщики-набойщики, работают теперь на фабриках. Дедова оказия не вылиняла, не выцвела в пересказах внучат. Дедовской пословкой и заканчивают: «За морем прок потеряли, только хитрость одна».
И объясняют:
— Тогда прок, когда делаешь дело по совести, на общую пользу. Эту прочность ничья злохитрая корысть не переможет.
Рассказ Соломониды Ивановны
У нас родитель беда грозный был.
Еще ребята никто не родились, мамку пришли подружки на игрище звать:
— Марфа, пойдем на качели.
— Ивана дома нету.
— А что там Иван, приведем таку же.
В вечерню домой явилась, муж не глядит:
— Где была?!
— На качели.
— Неси вожжи.
Она сходила за вожжами — да в ноги.
— Прости, Иван, боле никуда не пойду.
До старости нигде не бывала.
Братишко пяти годов баловал да окно разбил. Татка его схватил, засек до кровей. А мамка ткет, слезы ручьем бежат, не смеет молвить. Братишко из-под ремня ей кричит:
— Мамушка, мамушка! Не плачь, мне совсем не больно!
Я семи лет овец пасла, с ягнятами заигралась, овцы в огород зашли… Татушка был ростом велик, я маленька… Меня за рубашонку повесил — да ремнем. Я как птица… Сек, сек — под порог свиснул.
Братья уж не молоды были. Андрей вдовел, у Мартемьяна ребят двое. Жили — не делились. Родитель коня купил с изъяном. Мы не смеем язык высунуть, что конь худой. Уж через месяц в праздник братья выпили да просказались:
— Кто рад — эку клячу!…
Родитель с полатей и заспущался, страшной, грозной.
— Андрей, подай сюда узду!
Брат узду в руки подал. Родитель ухватил узду лошадину — да удилами его по лицу. Шибанул узду под порог.
— Мартемьян, подай узду!
Тот увернулся от отцовской руки — да в двери.
Неделю прятался. Татка его в соседях нашел, в ноги сыну падал, прощался.
Никто никого эдак не боится, как мы татки боялись.
Так его боялись, без брани, а как он заходит в избу — в глаза глядим, какой взгляд.
Мы рады, как он на промысел уплывет. Мы его не порато жалели. Он и маленьких нас на колени не бирал.
Девкой я семь годов кряду с таткой семгу промышлять ездила по рекам. Семь годов молчала… Я как вода. Он куда скажет, я туда. Он меня не бранил. Он жалел меня…
Не очень так, чтобы припадал… Однажды на полатях лежу, шубу с краю подложил:
— Моя-то дева упадет!
Я выросла в такой грозе, дак человека не найти, чтобы я не уладила. Худо без добра не живет.
Было купил мне татка о празднике шелковый плат. Надо в ноги поблагодарить, потом нарядиться, я не поспела, в часовню обновкой хвастать побежала. Татка и обиделся:
— В нонешних детях благодарности нету. Им бы схватить, а за труд не покорились.
Мамка выскочила мне навстречу:
— Поди скорее, поклонись отцу!
Я — в избу, он на печи. Я думаю: пасть бы в ноги, дак спит Что печке кланяться? Лучше подожду — с печи полезет, упаду ему в праву ножечку… До ночи караулила в обновке…
У нас река была бедна; серо-серо наряжались. Заведем обновку, дак уж навек. Завод у нас очень трудной.
… А мы не тужим. Работа грязна, в тряпках весь век ходим. Починенное лучше нового радеем: хранить не надо.
Татушка восьмидесяти годов помер. Болен не бывал, голова не баливала. В избушке сине от угара — ему ладно. Сколько он зверя — медведей, лисиц, куниц, росомах, белки, — сколько птиц, сколько рыбы добывал!
… В умерший день с утра заскучал:
— Подайте ружье, я хоть к сердцу прижму… Нет… Напромышлялся… Возьмите мое ружье!
Лег на лавку. Больше и все. Я плакала ему.
Кого мы будем бояться?
Кто теперь будет грозить?
Все будем сами себе больши,
Все будем нарозь глядеть.
Некому будет связать…
Я замуж ушла. В нашей стороне замужем жить надо лошадину силу иметь. Мужики — с лесом, а женки — с пашней. Земля не оправдывает, а от нее не отвяжешься. Кабы не лес да не белка, мы бы померли.
Мужа на все лето в леса провожу, сеять надо.
Шесть пудов ржи посею. Поле одна выпашу сохой. Дома ложки не могу донести до рта, трясутся руки. Лица умыть не могу. На гору с ведрами ползунком ползу. Страда у нас, как гора, прикатывается. Свое рано выжну, к чужим наймусь. Смолода я триста снопов в день жала. Уж не глядела на небо, без расклонки жала, стоять нехорошо и сидеть нехорошо, жнея коль совестна.
Однажды я пять рублей выжала у богачки.
Вот эдак пашем, копаем, сеем, смотришь — утренник пал, и все пропало… Урожая нет, дак леса начнем проведывать: леса уж сколько опять поддержат. А иные пойдут за белкой, за зверем — снег-то нападет.
Когда хлеб приходит, тогда и ягоды — морошка, черника, брусница. Вот делов-то у баб! Я за десять верст по ягоды ходила, по две ночи в лесу ночевала. По два пуда зараз вынашивала. Устану как!… Опять без грибов не прожить. По борам хожу, все посматриваю: медведь бы не попал. Медведицы — они бедовы! Съест не съест, а уж выпугат!…
Осень придет, прясть надо, и ткать, и молотить.
С тканьем да с пряжей все, все убились!…
Тканье еще легче, а пряжа — ой!… Кудели-то чистишь. Легче стало, машины пошли да ситцы.
Горя с ребятами было. Одни растут, другие родятся «Уа» да «уа» — уши сквозь. Бедны байкают:
Спи усни.
Хоть сейчас умри.
Татка с работы
Гробок принесет,
Мамка у печки Блинков напекет.
Мужа на германскую войну спроводила, лес рубить в артель вкупилась с маленьким Ванюшкой.
Снег под пазуху, лес охватом не охватишь… Дерев шесть-семь ссеку и снег сгребу, обделаю всю кору. Тяжело порато кору обделывать морожену — она ледяна; топор соскакиват, топор со всех сил надо держать.
Иванушко мне помогал, девяти годов, топорком и лопатой.
В потемни в лесную избушку бредем. Там повалком мужики лежат: угар, табак, матерщина. Под порог упаду, сплю, как убита, на себе все мокро. Мужики меня в артель брали, думали: «Бабенка — как кошка, пустяки на ейну долю приведутся». А увидели — не меньше их выколотила. Стали посматривать косо.
Канун Рождества стали от артели отбрасывать. Слез у меня сколько было! А Марута, мужик рассудительный, уговаривает: «Не реви! Плюнь на всех! Проси на рознь…» Выпросила участок особо. Мороз градусов сорок — сорок пять. Идешь в лес-то, зубы ломит. А там как слупишь дерево, да снегу аршина на два, да кору, как железну, обделаешь, дак все сбросишь. В одной холщовой рубахе — и то мокрехонька, как мышь…
Щедрая вдова
У купеческой вдовы дочка помре — богатая невеста. По городу пошел слух, что вдовица дочернее приданое раздает неимущим. Является к ней бедная девка:
— Здравствуйте, Матрена Савишна.
— Что скажешь, голубушка?
— Люди-то сказывают, у вас дочерниного именьица много осталось…
— Не знаю, много ли, мало ли, а одного платья шесть сундуков, белья два комода, обутки три ящика, саков да пальтов два гальдеропа…
— Слышала я, что по бедным невестам-сиротам вы кое-что пожелали раздать…
— Не кое-что, а все. Потому — добрее да проще меня на свете нету. Я вам, беднякам, мать, вы мои дети!
— Благодетельница, наделите меня платьем, хоть немудрящим…
— Пла-атьем?! Ишь како слово выворотила… Да ты понимаешь ли, каковы у нашей Манюшки платья были?… Все по моды да с фасоном!… Да к твоей ли роже барышнино платье?…
— Платье нельзя, дак башмачков нет ли худеньких?…
— Станет наша Манюшка худеньки носить! Покажи-ка ногу… Ну и лапишша! Дам я тебе магазинны ботиночки… Хороша и в лаптях!
— Может, платок головной старенькой есть?
— Платок?! Что ты, дура, неужно наша дочь платки носила, как проста девка! У ней шляпок семнадцать картонок осталось…
— Ну, простите, что побеспокоила… пойду.
— Стой! Я бедным мать и благодетельница. Платок ты просила — на тебе платочек ситцевенькой. Только его дочка вместо утюжки держала, дак он с краев оборвался и середина выгорела… Заплату нашьешь… Бери, пользуйся. Я для вас, бедняков, гола рада раздеться!
Ходили в Лявлю
Народ на гулянье плывет карбасами и пароходами.
На карбасах летят парусом с песнями, а пароходы отваливают от города с музыкой.
Однажды напраздновались горожана в Лявле и, как стемнело, стали посряживаться домой.
Последний пароход отвалил в десятом часу; баржу поволок велику. На ту баржу миру накопилось много без меры.
Как на середку реки вышли, заиграли по музыке, затрубили в трубы, ударили по накрам.
В том часе почало быть плесканье, и гуденье, и крики, и топот ножный.
Раскатись, моя поленница без дров!
Рады баржу разнести…
От того многовертимого плясания ссадили со стены лампу и обшивка кряду запластала.
Другомя запели да заскакали.
Сколько-то человек сунулись во глубину речную — да и без воротиши. Не увидали боле белого свету. А другие по тросам полезли на пароход. Пьяные. И по народу поднялся пополох зол.
Только привелись в то время люди, не изумелые от вина. И они стали женок унимать от крыку и реву и чтобы до времени за борт не скакали и друг друга в воду не пихали. А капитан дал полный ход к берегу.
И хотя от огненного стремления у многих бороды и сертуки шаяли, а у женок сарафаны, однако все изготовились и дожидали в порядке, что-де как будет помельче, дак миром лезти в воду.
А вода привелась, пала. И вскоре баржа намелилась.
Тогда почали скакать и на сухое место выгребаться. А истомных носком несли, а навых за руки и за ноги приплавили к лайды.
Была ночь и деялся дождь.
Как на гору заволоклися, тут стоит лес пуст. До города верст двадцать. Лодок нету.
У кого было изможенье, сдумали идти на Уйму в деревню — часа два пешей ходьбы.
Достальные костры разожгли, кому вера была дожидаться свету.
И при дневных часах все побрели к городу. Пеши и на подводах.
Не таково скорополучно и весело домой, бажоны, попали, как было гадано.
На это богомолье многопамятное ездила тетенька наша Глафира Васильевна.
И на барже танцы водила, и потом горела и в воде гасла. Мы, выслушав, да спросим:
— Уж верно, тетенька, много лет в Лявлю не показывалась опосле такого страху?
— На! На другой год была.
— А назад опять на баржи?
— Дак на чем другом-то поедешь?
— И опять плясала?
— Все каблуки оттоптала!
Старые старухи
На Севере принято долго жить. Но стогодовалые старики бывают хуже малых ребят.
«Домоправительница» наша Наталья Петровна привыкла в деревне с лучиной сидеть — у них свадьбы при лучинах рядят, — керосиновой лампой пренебрегала. Откопала в чулане древний светец, сидит — прядет или шьет у лучины.
— То ли дело соснова лучинушка! Сядешь около — светло и рукам тепло. И хитрости никакой нету. Нащепал хоть воз — и живи без заботы. Лес везде есть… А керосин — вонища от него, карману изъян, на стекла расход; лампу от ребят храни… Люблю свет, который сама сделала.
Сама с сеновала к коровам идет — лучина в зубах пластает, сено в охапке.
— Петровна, дом спалишь!
— Вы с лампами не спалите.
Наконец провели у нас электричество. Тут объявила протест тетенька Глафира Васильевна, отцова сестра. Над головой у нее сияет «осрам», а на столе, у самого носа, — керосиновая лампа.
— Не сравню настоящего огня с вашими пустяками. То ли дело керосиновая лампа — тепло, удобно, куда сдумал, туда с ней и гуляй. А этот фальшивый пузырь чуть что — и умер. На той неделе у нас погасло, и у Люрс погасло, и по всему проспекту погасло. Полгорода на бубях остались… А уж Лампияда Керосиновна не выдаст… лампу ли, свечу зажигаешь — сначала аккуратненький огонек, потом разгорится, а тут выскочит свет — так и дрогнешь. Люблю огонь, который сама сделала.
Бывало, заведут избомытье — подобием постная Наталья Петровна и телоносная Опроксенья (по выговору моряков-скандинавов, отцовых приятелей, — Гризельда). Рано, перед лазорями, мать обряжается у печки. Мытницы подойдут с ведрами и мочалками, справят челобитье:
— Благослови-ко, хозяюшка, полы шоркать!
Мать равным образом поклонится в пояс:
— Мойте-ко, голубушки, благословясь!
Наталья Петровна, не спеша, на коленцах, мягким вехтем моет полы крашеные, левкашеные. Опроксенья сдирает пол белый струганый, только пена из-под голика. Доски, лавки, полки, скамьи — дресвой, да во всю мочь. При этом вслух сравнивают обшарпанный веник с бородой жениха, а свой характер — с тряпкой. «Мной хоть полы мой да пороги затирай!…» А пол «отдерет» — как желтилами выжелтит. Наталья Петровна любуется на нее:
— У тебя и бело, Опроксеньюшка! Мне надо двери запереть, чтобы не зарились на твой пол. Жалко ногой ступить. Надоть мосты выстилать, гостей принимать, столы столовать да пиры пировать.
Гризельда польщена:
— Бело не бело, да дело-то ведено!
— То и ладно, то и хорошо. Тебе замуж, мне в землю, Опроксеньюшка.
— Ты, Петровна, поглядывай вот, как я…
— Не сравняться мне, потому что веник не так шарчит. Потому старых и кладут в землю. Помоложе — дак рублем подороже. Ох, было и у меня ждано хвалы-то! Все минуло…
При двух-то лампах, электрической и керосиновой, тетушка Глафира Васильевна со своей подругой Татьяной Федоровной Люрс в карты играют… Обеим по восемьдесят лет, обе глухи, ссорятся каждую минуту. Гостья первая забунчит:
— Горе мне с глухой тетерей! Врет — глазом не мигнет. Последний раз играю!
И Глафира Васильевна не поддается:
— Беда с теми играть, которые из ума выжили!
Одна другую не слышат, им и не обидно.
Утром тетенька станет на молитву. В землю поклонится — и вдруг ахнет:
— Вот он! Вот он, бубновой-то король!… Под Люрсихиным стулом лежит. Вчера думаю: «Куда козырь девался?» — а эта шельма его под себя срыла. Недаром и выиграла!
Положит карту на стол и продолжает молиться. То опять, поклонясь в землю, обидится, что пол худо вымыт. Высмотрит, что пыль под комодом не вытерта…
Раз, под праздник вечером, вымытый пол только что высох, тетенька перебирала чернику на пирог. Ягоды на пол сыплются, тетка не слышит, только видит — бегут по полу черные катышки. Подумала — тараканы; давай летать — давить. Испортила пол — чернику не скоро выживешь.
Татьяне Федоровне Люрс пришла однажды фантазия помыться у нас в бане. Своя была у нас банька на огороде. А там как раз парилась помянутая дева Гризельда. И видит вдруг Гризельда: лезет из предбанника чудо, стуча клюкой, косматое, скрюченное. Умная девка сразу смекнула, что это банна обдериха, заверещала не по-хорошему да и в чем мать родила — на улицу… Девку водой холодной обрызгивают, она — свое:
— О, тошнехонько! Я моюсь, а обдериха из-под полка и вышла!
Жених Гризельды, Егорша, как настоящий рыцарь, схватил топор, дует обухом в банную дверь да орет:
— Где ты, обдериха?! Зашибу!…
Татьяна Федоровна ничего не уяснила, слышит, что в двери бухают, думает: замок чинят. Как голубушка вымылась, села с Глафирой Васильевной кофей пить (первые восемнадцать чашек без сахара). Пьет и в зеркало на себя любуется:
— Я сегодня рогозинной мочалкой вымылась, дак мяконька стала. Помнишь, Глафира Васильевна, какой кавалерчик норвецкой ко мне сватался?
— А?
— Помнишь, говорю, на мне толстик сватался норвежин?
— Медвежин?
— Тьфу! Молчи, глуха, — меньше греха… К счастью, дворник паспорт рассмотрел. Кавалер-от оказался женатой!
Нашей Наталье Петровне мадам Люрс заказывала и свое «умершее» платье:
— Сошьешь, Петровна, саван, как положено по уставу, только кружева, и рюш, и воланчики добавишь, и чтобы сзади прорехи ни в коем случае не было. Может, на Страшном суде генерал или другая благородная личность сзади будет стоять…
И тетеньку и мадам Люрс я нередко фотографировал. Они к этому относились саркастически:
— Боря-то зря аппаратом треплет, вовсе снимать не умеет. Столько морщин наделает, вроде обезьян. Ужасти как непохоже! Помнишь, Глафира Васильевна, мы с тобой у француза снимались?… Как живые вышли. И не так давно было, в турецкую войну… Только Боре-то не надо говорить, что не умеет… обидится. Бог с ним…
А сами кричат одна другой в ухо, на улице слыхать.
Мамина мать, Олена Кирилловна, на моей памяти уже вдовела. И ее помню на девятом десятке. У них после деда оставалась парусная мастерская. Бабушка иногда явится к мастерам с тростью, в повойнике, в черном шерстяном сарафане. Если ей тотчас поддернуть стул, обидится:
— Думаете, хлам старуха стала, с ног валится, песок сыплется… Нет, еще жива маленько. Еще шалнеры гнутся… Это вам все бы сидеть да лежать, а мне не до сиденья. У меня делов — на барже не утянуть!…
Опять непременно обидится, если зашла да стул моментально не подали:
— У нынешней молодежи нет уважения к возрасту. Сами, как гости, на стульях сидят, а старой человек стой перед ними навытяжку, как рекрут на часах.
Застучит тростью, уйдет.
Лет восьмидесяти двух бабушка Олена Кирилловна худо увидела. Оба сына ее и внуки всю навигацию — в море, невесткам скучно с полуслепой свекровью. Придумают пошутить над ней: бойкая Аниса прибежит с рынка да и спросит старуху:
— Аниса-то где у вас?
Бабушке ни к чему, что невестка про себя же спрашивает:
— Убежала в рынок на минуту, да и провалилась. Верно, чаи да кофеи с пароходскими распивает.
— Давно ушла?
— Часа два, поди… Пока у тех кофейники-то скипят…
В другой раз другая невестка, жена дяди Петра, вводит старуху в заблуждение. Сядет рядом:
— Олена Кирилловна, как поживаете? Невестки-ти каковы?
— Ничего невестки.
— Лучше-то котора?
— Обе хороши.
— Котора-нибудь лучше уж?
У бабки на лице появляется заговорщицкая мина. Хрипит в ухо вопрошающей:
— Петькина-то уж не совсем… не очень (а «Петькина» с нею разговаривает)… Кофейком уж не угостит…
— Бабенька, да ты целый день за кофейником!
— Свой пью. Никому дела нет…
Старухи у нас собачек около себя не держали, а курочку — непременно.
У Олены Кирилловны курочка Хохлатка тоже аредовы веки доживала. Вся облезла, только на крыльях да на ногах пучки перьев. Полуслепая бабушка по старой памяти считала Хохлатку красавицей:
— Курочка не так чтобы молода, а оперенье какое пышное! Доктор Магнус Ерикович всегда удивлялся.
Голая Хохлатка, сидя на спинке громадной кровати, утвердительно вторит: «Ко-ко-ко-ко…»
Мы жили в городе, бабушка — на Соломбальском острове. Погостим у них день, вечером зайдем к старухе проститься:
— Бабушка, прощай!
— Какой такой среди ночи чай?
И Хохлатка оттуда, из-за полога, сердито: «Ко-ко-ко-ко?»
Восьмидесятилетней Олене Кирилловне сняли катаракт, и она опять увидела; однако, потрясенная операцией, захворала… Наконец доктор объявил, что минуты сочтены. Болящую торжественно отсоборовали. Реву было у домочадцев, причитания:
— Ты промолви нам последнее словечушко!
Болящая раба божия молчала, глаз не открывала.
Поднесли ко рту зеркало: дышит ли?…
Раба божия ловко смахнула зеркало на пол и открыла один глаз:
— Попов сколько было? Выдать по пятищнице на плешь. Пели умильно.
Наша Петровна воротилась домой ночью, опять запричитала:
В печи вода поставлена
Олену Кирилловну омывать.
Ох, деточки, бабушка у вас
Теперь часова, Не векова…
Утром Наталья Петровна надела черный костыч с белыми руками, взяла псалтырь, отправилась над «покоенкой» читать… Пришла, дверь к бабушке открыта, а та как ни в чем не бывало сидит у окошка, шьет… Косо так на Петровну посмотрела:
— Ты куда, могильна муха, срядилась? Что за пазуху-то пихаешь?
— В баню пошла… к вам забежала…
— Давно ли в городу-то бань не стало? В Соломбалу мыться пришла?
Но Петровны и след простыл.
Однако через три года Олена Кирилловна заумирала не шутя.
Дочери говорят:
— Мама, мы батюшку пригласили.
— Созвали бы старух из Амбурской пустыни. Поп-то «ба–ба-ба», да и все. А наши-то старухи за рублевку три часа поют да поют.
Однако иерей явился.
— В чем грешна, раба божия?
— Ну, батько, ты и толст, сала-то, сала! Ты светло загоришь в аду-то.
— Тебя саму за эти слова в муку!
— Я тоща, я худо загорю: головней возьмусь, да и… Ох, кабы кучей мучиться-то… Все бы веселее…
— Раба божия, я буду тебя исповедовать, ты отвечай.
— Нет, ты мне отвечай! Вот скажи: кто меня так крепко, со всех сторон пожалеет, так обнимет, что уж не вывернешься?
Священник недоумевает, все молчат… Старуха рассмехнулась:
— Могила, кто же больше!… Ну, простите. Не велю вам скучать.
Тут и все.
А тетка Глафира Васильевна, умирая, сказала:
— Не хочу больше на Севере репу есть. Поеду по яблоки в южные страны.
Матвеева радость
На новой беломорской верфи расхвастались старые поморы, кто в жизни больше работы унес. Матвей Иванов Корельской сказывал:
— Родился я в Корельском посаде на морском бережку. Отец был корелянин, мать русская. Род наш на Мурмане, у Семи островов, промышлял. Отец там и утонул. Матка стала поденщичать в людях. Года за два до смерти робить не замогла, по миру пошла и меня с собой повела.
Шести лет начал я скитаться по чужим дворам один-одиношенек. Лохмотья с плеч валятся, колени в дыры выглядывают. О, горе сиротам! Каждому в глаза гляди, каждого надо бояться…
В такой маете, в такой позоре я вырос. О празднике молодежь на улицу пойдет петь, гулять, играть, а я в лес побежу, чтобы моих трепков да грязи не увидели.
Весь я пристыдился. Так уж и привык, что мое счастье дождь да ненастье.
Двенадцати годов ушел я на Мурман в зуйки. Ведь я не на смех родился. Работы я не боялся.
Три лета в зуйках ходил. Ушел на Мурман бос и наг, в три навигации стал на человека похож и голову поднял. Может, думаю, и я не хуже других.
И загорела у меня, у сиротины, душа в люди выбиться. Зачал я у вывозки, у выгрузки работу ломить.
У меня такой ум-то обозначился — нать свое нажить. Сверстные ребята наряжаются, а я убогой лопарской малицы не сменяю. Копейки, значит, выколачиваю. Молодой, а задорный стал; давно ли с сумой бегал, а теперь задумал карбас, свою промысловую посудину, строить.
Нам, поморам, море — поилец, кормилец. Но море даст, что возьмешь. А чтобы взять, надо суденышко. Без своей посудины, хоть самой утлой, помор не добытчик, а раб богачу. Смала я это понял и терпеть не мог. Редкую ночь суденышко мое мне не снилось: вижу, будто промышляю на нем, и рыбы — выше бортов.
Год за годом двенадцать лет медными копейками собирал Матюшка Корелянин, сколько нужно на карбас.
До тонкости у меня было все сосчитано, что возьмут за доски, за гвозди, за снасти, за работу. Насчет матерьяла с лопью договорился, мастера в Коле нашел.
Люди строят к весне, а я, как деньжонки собрались, осенью построился. Карбас недолго сошить. Карбас работали, как именинницу сряжали. Я на работу, как в гости, ходил.
Время бы к снегу, а молодой «хозяин» новым-то суденком подрядился триста пудов жита в Норвегу доставить. Моря бойся пуще осенью, а молодецкое сердце зарывчиво. Веку мне тогда стукнуло двадцать пять годов. Так бы карбас-то взял в охапку да пешком по водам побежал…
Погрузились. Поплыли океан-морем. Не доходя Тана-губы пала несосветима погодушка. Парус оборвало, мачту сломало, руль не послушался. Положило карбас вдоль волны, бортом воды зачерпнуло. Не поспели мешков выкидать, опружило кверху дном. Было народу пять человек, трое поспели за киль ухватиться, двоих охватило прочь…
Сутки океан-батюшка нашим карбасом играл, как мячиком. Наигрался, в камни положил. Мы трое на гору выползли, а суденышко мое погибло. Я ноги и живот ознобил, идти не замог, послал товарищей объявить жителям, а сам еще двое сутки на этой горе волосы рвал да рот открывал. Для чего я двенадцать лет силу складывал, недопивал, недоедал?! Прости, моя свобода…
Добры люди поставили меня на родину, в Корелу. От морской горькой погибели постигла меня болезнь. Ползимы день и ночь трясло, кабыть от морозу от большого, хотя на печке лежал. Одна вдова с молоденькой дочкой жалели меня, водились как с родным. У них в избе я зиму огоревал.
Тут весна подошла. Лед из губы вынесло, дни заблестели.
Как-то хозяйка ушла карбас смолить. И вижу, на подоконник чайка села и закричала на меня по-своему: долго ли, мужик, бока править будешь?
Меня ровно кто на ноги поставил.
Вылез я на улицу, забрался на глядень — и охнул: волны морские играют, шумят: стада лебединые под север летят, и облака небесные туда же плывут, и корабли белопарусные в ту же океанскую сторонушку… А свету! А солнца! А ветру!
И Матюшка Корелянин от болезни, как от сна, пробудился… Топнул ногой о камень да кричу:
— Остер топор, да и сук зубаст! Турью гору[13] сворочу, а полечу в океан на своих крыльях! Да не на шнеке, а на шкуне!
Так я выздоровел. Опять, значит, работу, как бешеный, хватаю.
Часов шестнадцать подряд отчубучу, сунусь отдохнуть, да как сдумаю, будто я на своем суденышке плыву и паруса что снег, и я вольный промышленник, — дак и окутки в сторону и постели прочь… И ночь не сплю, работу ворочаю.
Люди надо мной посмеиваются: «Пока, — говорят, — Матюша, твое солнце взойдет, роса очи выест».
Пожалуй, эта пословица не мимо дела. Работал я в кабале у богатея. Главная-то отчего у нас кабала учинялась? Своего суденка нет — в ложке за море не поедешь. А у богача судно — да еще океанское, трехмачтовое. У него снасти из Норвегии да из Англии, у него все возможности…
Поморская земля нехлебородима; зима нас прижмет, вот и явимся к благодетелю: дай муки, дай хлеба, дай круп, дай денег, дай того-другого. Он добр, он дает в долг, чтобы летом у него на судах да на промысле отрабатывали.
Что же выходит? Товар-то свой по самой бессовестной цене поставит, а работу нашу оценит грошами. В одну навигацию зимнего долгу не отработаем, а другая зима подходит — в новые долги заберемся у того же хозяина. Одно остается петь:
Осудари наши,
Воля ваша!
Хоть дрова на нас возите
Лишь не помногу кладите!
И то знай: этот твой хозяин — и единственный торговец на всю деревню. Кроме него, ни спичек, ни соли, ни мыла, ни аршина ситца купить негде.
Теперь понимаете, как трудно копейку-то откладывать. А я откладывал. У меня, как звезда в ночи, как маяк в пути, свой-то кораблец, своя-то волюшка.
У какого дела надо втроем-вчетвером, я один берусь. Товарищи косо на меня глядят. Они на работе сидят, да лежат, да перевертываются, а я не могу тихо работать.
Чтобы люди дружны были, следует пить и других поить, а я над каждой копейкой трясусь, меня и не любят. Иродом зовут.
… Опять год за годом десять лет пробежало. Вижу, что не зря сказано: пока солнце взойдет, роса очи выест. Хозяину — рубль, рабочему — нищие копейки; хозяин осенью в Архангельск едет бумажки на золото менять, а у меня те же медяки.
Тут я чуть было маленько с копыл не сбился.
Что такое, думаю: мне тридцать лет, а я не наряживался, не гуливал… Купил в Норвеге брюки-клеш, синюю матроску с большим воротником, полотняну манишку, платок швейный шелковый и явился на родину, в Корелу. Парень я был высокий, плечистый, говорили, что и с лица красивый.
И… тут я большой шаг шагнул: женился на дочери той самой старухи, которая меня десять годов назад пожалела.
Женился и испугался: «О, зачем за себя баржу привязал?! Мне ли гнездо разводить! Теперь не выбиться из бедности».
А пожил с Матреной и увидел в ней помощницу неусыпающую, друга верного. Она со мной заодно думу думала. При ней я на свои ноги начал вставать.
Я на Мурмане, жена дома сельдь промышляет, сети вяжет, прядет, ткет, косит, грибы, ягоды носит. Матрена моя и мужскую работу могла. Тес тесала, езы била, кирпичи работала…
Ребятишки родились — труднее стало. А Матрешка, хоть какая беда, уж тихонько она сдумает, ладно скажет…
В шесть годов мы избу свою поставили. Вместе лес возили, стены рубили, вместе крышу крыли.
В эту пору я кинул якорь у Василия Онаньевича Зубова, нашей же Корелы у богатеющего купца: на Мурмане своя фактория, промысловое оборудование, три шхуны, одна — что твой фрегат.
В море ли, на берегу ли работаю — все нет-нет да погляжу на чужие кораблики, как они плывут, брызги на сторону раскидывают. Погляжу да подумаю: «Ничего! Проведу и я свою борозду».
Деньжонки я усердно копил, а что строить буду не малую скорлупку, а заправскую шкуну, это я давно решил.
Семья в Корелах, я на Мурмане: что добуду, им оторву, остальное в кошель; на себя ни полушки. И кошель на груди носил.
Каждый рубль — что гвоздь на постройку моему желанному кораблю, каждым рублем я на волю выкупался сам и детей выкупал.
Я людей-то насмешил: в Соловецке картину заказал, два рубля потратил, написана приправная норвецкая шкуна.
По праздникам на эту картину любовался. Любовался — не думал, не гадал, какая гроза над моей головой собирается.
Хозяин мой, Василий Зубов, в нас, в рабочих, не входил. Платит грошами, а зиму пропащей рыбой кормит — и ладно, думает, дородно им.
Покамест я у него в кулаке сидел, хоть и жужжал, да не рвался, он до меня ровный был. А как усмотрел, что Корельской на ноги встает, запосматривал на меня не мило.
Осенью, при конце промысла, не утерпел, скричал на меня при народе:
— Эй, любезный! Люди смеются, да и вороны каркают, будто кореляки собственные пароходы заводят. Ты не слыхал?!
— Про людей не слыхал, — говорю, — может, и пароходы. А вот насчет шкуны я подумываю.
Он зубы оскалил:
— Подумываете? Ай да корельская лопатка! А по-моему, спустить бы тебе на воду пищу коробку, с которой по миру бегал, а заместо паруса маткина нища сума. Экой бы корабль по тебе!…
Это он меня да матерь мою нищетою ткнул…
Сердце у меня остановилось:
— Ты! Ты, который нас по миру с сумой пускаешь, ты сумой этой нас и укоряешь? Мироед! Захребетник мирской! Погоди… Умоетесь вы, пауки, своею же кровью!…
Кругом народ, стоят, молчат.
Уж не помню, чего я еще налягал языком; что было на сердце, все вызвонил. Хлопнул шапку о землю, побрел прочь.
Иду — шатаюсь, как пьяный. Сердце себе развередил.
Тут испугался: «Пожалуй, заарестуют меня». Урядник все слышал, он Зубову слуга… И до того мне Матрешку да ребят увидать захотелось!… А мимо пристани гальот знакомого человека и плывет, в Ковду пошли. Ковда с Корелой рядом.
Взяли меня без разговоров. Ничего, что пассажир без шапки.
Долгу за Васькой семь рублей с полтиной оставалось, я всего отступился.
Дома сельдь промышляю, а сердце все неспокойно. Не простит мне Васька Зубов. Через годик можно бы кораблик тяпать-ляпать, а тут как бы помеху какую Зубов не сунул…
Скоро и он сам домой пожаловал. Я мимо иду, ой в окошко окликнул:
— Корельской, ты что, чудак, тогда от меня убежал? Кроме шуток: скоро ли шкунарку свою ладишь стряпать?
— Мне ведь не к спеху, Василий Онаньевич. Через год, через два…
Он воровски огляделся:
— Ну-ко, зайди в сени.
В сенях и шепчет:
— Хочешь, тебя со шкуной сделаю на будущую весну?
Я и глаза вылупил, а он:
— Ум у тебя дальновидный, ты опыт имеешь, практику знаешь. Пора, пора тебе, Матвей Иванович, в люди выходить.
Такой лисой подъехал. Я и растаял. Слушаю — как мед пью. А Васька поет:
— Знакомый норвежский куфман запутался в делах. Наваливает мне за гроши — за две тысчонки — новенький пароходик. А у меня деньги все в дело вложены. Денег нет. Ничего не решив с куфманом, поехал в Архангельск, а в Архангельске частная контора на упрос просит сосватать пароходик тысяч за восемь… Понимаешь, Матюша, — Васька-то говорит, — мы норвецкий пароходик и сбагрим им за восемь тысяч, а сами за него заплатим две. Барыш-то по три тысчонки на брата…
Я глазами хлопаю:
— Это кого же вы в братья-то принимаете?
— Как кого? Да тебя! Принимаю тебя, Корельской, в компаньоны. Тысячу рубликов я у себя наскребу. Тысчонку ты положишь.
Я заплакал:
— Не искушай ты меня, Василий Онаньевич! Всего у меня капиталу семьсот семьдесят четыре рубля шестьдесят одна копейка.
— Давай семьсот семьдесят четыре рубля. Прибыль все одно пополам.
Я воплю:
— Дай до утра подумать!
Ночью с Матреной ликую:
— Три тысячи барыша… Мне их в двадцать лет не выколотить. А тут сами в рот валятся. Три тысячи! Ведь это шкуна моя, радость моя, к моему берегу вплотную подошла: «Заходи, говорит, Матюша, берись за штурвал, полетим по широкому раздольицу…» Ох, какой человек Василий Онаньевич! Напрасно я на него обиделся!
Жена говорит:
— Может, так и есть. Только бумагу вы сделайте.
Утром сказываю свое решение Зубову, что согласен, только охота бумажку подписать у нотариуса. Он глазищи опустил, потом захохотал:
— Правильно, Корельской! Ты у меня делец!
Поехали на оленях в уезд. На дворе уж зима. Зубов к нотариусу пошел, долго там что-то вдвоем гоношили. Потом меня вызывает. Чиновник бумагу сует:
— Подпишись.
А я неграмотный вовсе. Только напрактиковался чертить свою фамилию. Надо бы велеть прочитать, что в бумаге писано, а я где дак боек, а тут, как ворона лесна.
Накаракулил подпись, может, задом наперед — и получил копию. Сложил Зубов мои денежки в сертук, во внутренний карман, и еще наказывает мне:
— Ты смотри, до времени языком не болтай и бумагу не показывай. Мы с тобой потихошеньку да полегошеньку.
Конец зимы Зубов в Колу на оленях уехал, оттуда хотел в Норвегу, а я дома проживаю в радужных мечтах. Барыши делю. Тысячи свои распределяю.
Началась навигация. Лето. Жена с ребятишками рыбешку добывает, а Матвей Корельской от компаньона телеграммы ждет.
Пришла весточка, что пароходик этот в Архангельске продан. Я телеграмму жду. И на Мурман это лето не пошел.
Весь распался что-то, весь поблек.
Жена уговаривает:
— Погоди ты падать духом. Мало ли какие в городах, в конторах да в банках задержки. Может, Зубов и денег еще не получил.
А у меня сердце болит, в трубочку свивается.
Осень пришла, и Зубов домой прибыл. Приехал ночью. Я с утра дорогого гостя ждал, обмирал.
В паужну сам полетел.
Он разговаривает, расхохатывает, о деле ни слова. «Может, — думаю, — семейные мешают». Шепчу:
— Мне бы с вами, Василий Онаньевич, по секрету…
А он на всю избу:
— Что? Какие у нас с тобой секреты?
— А дельце наше, Василий Онаньевич?
— У Василия Зубова с Матюшкой Кореляком дела?!
— А пароход-то!
— Что пароход? Скорее, Корельской! Мне некогда.
— Да ведь деньги-то у меня брали…
— Что? Я у тебя, у голяка, — деньги? Ха-ха-ха!…
Я держусь обеими руками за стол, все еще думаю — он шутит.
— Василий Онаньевич, бумагу-то нотариальную забыли?
— Какую бумагу?
— Зимой делали.
— Мало ли я зимой бумаг сделал! Неси ее и приведи писаря.
Слетал домой за бумагой, добыл писаря. А руки-то, а колени-то трясутся. Зубов рявкнул:
— Читай Корельскому его бумагу!
Писарь читает:
«Я, крестьянин такой-то волости, Матвей Иванов Корельской, сим удостоверяю, что промышлял на купца Василия Ивановича Зубова на обычных для рядового мурманского промышленника условиях. Договоренную плату деньгами и рыбой получил сполна и никаких претензий не имею. В чем и подписуюсь.
М. Корельской».
… Не хочу рассказывать плачевного дела! Две недели я без языка пролежал. Опомнюсь — клубышком катаюсь, поясом вьюсь. Мне сорок годов, я до кровавого поту работал — и все, все прахом взялось!
Все отнял Зубов, оставил с корзиной…
Тут праздник привелся. Я вытащил у жены остатние деньжонки, напился пьян, сделался, как дикой. Полетел по улице да выхлестал у Зубова десять ли, двенадцать ли рам. Меня связали, бросили в холодную.
После я узнал, что в тот же вечер мужики всей деревней приступили к Ваське Зубову, просили мои деньги отдать. Он от всего отперся.
— Пусть подает в суд. Вы ставаете свидетелями?
Мужики ответили:
— Не знаем, Зубов, не знаем, можно ли, нет ли на тебя в суде доказать, по делам твоим тебе давно бы камень на шею, безо всякого суда. Помни, Зубов, собачья твоя совесть, что придет пора, ударит и час. Мы тебе Матюшкино дело нарежем на бирку…
Спасибо народу, заступились за меня. Не дали мне духом упасть. Я не спился, не бросил работать и после Зубова разоренья, только радость моя потерялась, маяк мой померк, просвету я впереди не увидел. Годы мои далеко, здоровье отнято. Больше мне не подняться.
Да я бы так не убивался, кабы одинокой был. Горевал из-за робят, из-за жены.
С воплем ей говорю:
— Ох, Матрешка! Мне бы тебя в землю запихать да робят в землю, вот бы я рад сделался, что не мучаетесь вы!
Она рядом сядет, мою-то руку себе на голову тянет:
— Матюша, полно-ка, голубеюшко! Мы не одни, деревня-то как за нас восстала… Это дороже денег! Гляди, мужики с веслами да с парусами несутся: видно, сельдь в губу зашла, бежи-ка промышляй!
Однако я в море не пошел, поступил в Сороку на лесопилку. Мужики ругают меня:
— Эдакой свой опыт морской под ногу Ваське хочешь бросить! Мало ли хозяев, кроме Зубова…
— Все хозяева с зубами…
Доски пилю — в море не гляжу, обижусь на море. Сколько уж в сонном видении по широкому раздольицу поплаваю… Сердце все как тронуто. Я в Корелу не показываюсь, фрегата Васькиного видеть не могу.
Копейки, конечно, откладываю. Не на корабль — кораблем батраку Матюшке не владеть, — откладываю робятам на первый подъем, чтобы не с нищей корзиной жизненный путь начинали. Дети мои зачали подыматься, об них мое сердце заболело. Боюсь, не хочу, чтобы дети к Зубовым в вечну работу попали.
После Зубова разоренья еще пятнадцать лет я не отдыхивал ни в праздник, ни в будни, ни зимой, ни летом. Было роблено… Сердита кобыла на воз, а прет его и под гору и в гору.
В одном себя похваляю: грамоте выучился за это время, читать и писать.
Матрешке моей тяжело-то доставалось. Ухлопается, спину разогнуть не может, сунется на пол:
— Робята, походите у меня по спине-то…
Младший Ванюшка у ей по хребту босыми ногами и пройдет, а старшие боятся:
— Мама, мы тебя сломаем…
Тяжелую работу работаем, дак позвонки-то с места сходят. Надо их пригнетать.
Матрена смолоду плотная была, налитая, теперь выпала вся. Мне ее тошнехонько жалко.
— Матрешишко, ты умри лучше!
— Что ты, Матвей! Я тебе еще рубаху стирать буду!…
Пятнадцать годов эдак. Всю жизнь так!…
Что же дальше? Дальше германская война пошла. Два сына кочегарами на пароходе ходят, я на заводишке дерьгаюсь: только и свету, что книжку посмотрю.
А потом — что день, то новость. В Петербурге революция, у нас бела власть. Про свободу сказывают, а Зубов в Учредительное собрание снарядился.
Преполовилась зима девятьсот двадцатого года. В одно прекрасное утро бреду с завода, а в Сороке переполох, Начальники и господа всяких чинов летят по железной дороге, кто под север, кто под юг… Что стряслось?
— Бела власть за море угребла. Красна Армия весь Северный край заняла…
Наутро мне из Корелы повестка с нарочным — явиться спешно в сельсовет. Все как во сне. Бежу домой, а сам думаю: «Судно зубовско где? Красна власть отобрать посмела ли? Вдруг да Васька на меня из-за лесины, как тигр, выскочит…»
С женкой поздороваться не дали, поволокли на собранье. Собранье народа в Васькиных палатах идет вторы сутки.
Сажусь у дверей, меня тащат в президиум и кричат всенародно:
— Товарищи председатели! Матвей Иванов Корельской здесь!
Над столом красны флаги и письмена, за столом товарищи из города, товарищи из уезда. Тут и мое место. Васька бы меня теперь поглядел…
Шепчу соседу:
— Зубов где?
А председатель на меня смотрит:
— Вы что имеете спросить, товарищ Корельской?
Я встал во весь рост:
— Василий Онаньев Зубов где-ка?
Народ и грянул:
— О-хо-хо-хо! Кто о чем, а наш Матюша о Зубове сохнет! О– хо-хо-хо!!
Председатель в колокольчик созвонил:
— Увы, товарищ Корельской! Оставил нас твой желанный Василий Онаньевич, усвистал за границу без воротиши.
— А судно-то егово? Это не шутка, трехмачтово океанско судно!
— Странный вопрос, товарищ Корельской! Вы — председатель местного рыбопромышленного товарищества, следовательно, весь промысловый инвентарь, в том числе и судно бывшего купца Зубова, в полном вашем распоряжении…
— Я?… В моем?…
— Да. Вчера общее собрание Корельского посада единогласно постановило просить вас принять председательствово вновь организованных кооперативных промыслах, как человека исключительного опыта.
Я заплакал, заплакал с причетью:
— Я думал, мой корабль — о шести досках, думал, по погосту мое плаванье, а к моему плачевному берегу радость на всех парусах подошла: «Полетим, говорит, по широкому морскому раздольицу!» Сорок восемь годов бился ты, батрак Матюшка Корельской, в кулацких сетях, а кто-то болезновал этим и распутывал сеть неуклонно, неутомимо…
И чем больше реву, тем пуще народ в ладони плещут да вопиют:
— Просим, Матвей Иванович! Просим!
Ну, и я на кого ни взгляну, слезы утирают. И вынесли меня на улицу и стали качать:
— Ты, Матвей, боле всех беды подъял, боле всех и чести примай!
… Кому до чего, а кузнецу до наковальни: запустил Зубов, до краю заездил свой фрегат — и я по уши в ремонт ушел. Сам с робятами лес рубил для ремонта, сам тесал, сам пилил. Сам машину до последнего винта разобрал, вычистил, собрал. Сам олифу на краску варил. Перво охрой сплошь грунтовал, потом разукрасил наше суденышко всякими колерами. До кильватера — сурик, как огонь, борта — под свинцовыми белилами, кромки — красным вапом, палубу мумией крыл по-норвецки, каюты — голубы с белыми карнизами.
Обновленный корабль наименовали мы «Радостью». На носу, у форштевня, имя его навели золотыма литерами: «Радость». И на корме надписали: «Радость. Порт Корела».
За зиму кончил я ремонт. Сам не спал и людям спуску не давал. В день открытия навигации объявили и нашу «Радость» на воду спущать. Народишку скопилось со всего Поморья. Для народного множества торжество на берегу открылось.
Слушавши приветственные речи, вспомнил я молодость, вспомнил день выздоровленья моего после морской погибели… Сегодня, как тогда, чайка кричит, и лебеди с юга летят, как в серебряные трубы трубят, и сияющие облака над морем проплывают. Все как тридцать пять годов назад, только Матюшка Корелянин уж не босяком бездомным валяется, как тогда, а с лучшими людьми сидит за председательским столом. Я уж не у зубовского порога шапчонку мну да заикаюсь, а, слово взявши, полным голосом всенародно говорю:
— Товарищи? Бывала у меня на веку любимая пословка: «Ничего, доведется и мне, голяку, свою песенку спеть». Вы знали эту мою поговорку и во время ремонта, чуть где покажусь, шутили: «Что, Матвей Иванович, скоро свою песню запоешь?»
Я отвечал вам: «Струны готовы, недалеко и до песни».
Товарищи, в сегодняшний день слушай мою песню. И это не я пою — моими устами тысячи таких, как я, бывших голяков, поют и говорят…
Двенадцати годов я начал за большого работать. В двадцать пять годов ударила меня морская погибель. Сорок пять лет мне было, когда меня Зубов в яму пихнул. Шестьдесят мне стукнуло, когда честная революция надунула паруса купецких судов не в ту сторону и подвела их к бедняцкому берегу. Наши это корабли. Все наше воздыхание тут. Каждый болт — наш батрацкий год. Каждая снастиночка нашим потом трудовым просмолена, каждая дощечка бортовая нашими слезами просолена… Слушай, дубрава, что лес говорит: теперь наша Корела не раба, ейны дети — не холопы! Уж очень это сладко. Не трясутся ваши дети у высоких порогов, как отцы тряслись: не надо им, как собачкам, хозяевам в глаза глядеть.
Уж очень это любо!…
Мое сказанье к концу приходит. Ныне восьмой десяток, как на свете живу. Да годы что: семьдесят — не велики еще годы… Десять лет на «Радости» капитаном хожу.
Как посмотрю на «Радость», будто я новой сделаюсь, как сейчас из магазина. При хозяевах старее был.
Оногды земляна старуха, пустыньска начетчица, говорит мне:
— Дикой ты старик, — все не твое, а радуиссе!
А я ей:
— Дика ты старуха, — оттого и радуюсь, что все мое!
Золотая сюрприза
— Уточка моховая,
Где ты ночь ночевала?
— Там, на Ивановом болоте.
Немцы Ивана убили;
В белый мох огрузили.
Шли-прошли скоморошки
По белому мху, по болотцу,
Выломали по пруточку,
Сделали по гудочку.
Тихонько в гудки заиграли,
Иванушкину жизнь рассказали,
Храброе сердце хвалили.
— Сидите, заезжие гости. Не глядите на часы. Вечера не хватит — ночи прихватим. Не думайте, что я стара и устала. Умру, дак высплюсь. Вы пришли слушать про Ивана Широкого? Добро сдумали. Небо украшено звездами, наша земля таковых Иванов именами. И не Иваны свою силу затеяли — время так открывается.
Иван Широкий был русского житья человек. Шелковая борода, серебряная голова, сахарные уста. Он был выбран с трех пристаней наделять приезжающих рыбой, хлебом и вином. За прилавком стоит, будто всхоже солнышко. Поздравляет и здравствует, кого с обновкой, кого с наступающим…
Иван был вдовец, и моя сестра, Марья, честна вдова-баловница, против праздника набелится добела, нарумянится доала, ждет Ивана. Он прикатит с закусками, с гитарой. Учинится плясанье, гулянье, топот ножный. Я ругаться, они смеяться: «Не тогда плясать, когда гроб станут тесать. Царь Давид плясал перед ковчегом!»
У Ивана от первой жены был сын Вася; в городах учился, до большой науки доходил. Своим детищем Иван всенародно восхищался: «Сегодня Васенька письмо послал с довольным наставлением, скоро сам прибудет. Я ему все расскажу и обо всем спрошу».
Сын приедет в самую навигацию. Отец пароходы встречает, пароходы провожает…
Вася строгий был:
— Отец, вы не того стоите, чтобы в столешницу стаканчиком колотить.
— Сын, напрасно вы будете обременять мои понятия. Я сам скажу експромту.
… В эту пору с Запада, из-за Корельских болот, припахнули к нам ненастливые ветры, приносили ратные вести: прусская аспида пивом опивалась, во хмелю похвалялась:
— Я сера липучая. У меня пушки скакучие и на ногах бегучие. Вы до смерти на меня будете работать, до гроба мое дело делать. Я ваш ум растлю.
И Красная Армия ответила просто и не спесиво:
— Ты к нам за своей смертью приехала.
Вася Широкий ушел на войну добровольно, с товарищами. Иван разум сына любит и хвалит:
— Пущай любодейцу тряхнут, выгонять хмель-то из сучки.
Когда Вася пал храброй смертью, Иван горе свое на люди вынес. Сядет в народе, руками всплеснет и слезами зальется. Люди ему слезы отирают:
— Твой сын в невеликие свои годы исполнил лета многа. Не тот живет больше, кто живет дольше.
Иван скажет:
— Верно! Сын обо мне промышлял. Слово тайное, крайное мне припасал. Теперь я слышу его слово… Горе мне! Я летами призаживши, годами призабравши, что я живу?… Кисла шаньга деревенская!
И пришла пора-времечко, докатилась час-минуточка — сделали деревни выбор на Ивана, везти подарки на войну. Эта дорога Ивану под ноги попала, и он повеселел:
— Не до горя, когда дела вдвое. Теперь у меня много детей. Поплыву глядеть… Марья, не реви, не держи меня. Дай от полной души вздохнуть.
На отъезде неведомо как Иван вередил свои серебряные часы. Марья говорит:
— Обрадуй меня, прими от меня золотую сюрпризу, мои красного золота часики.
С войны Иван писал, бойцов похвалял: «Много доброхотов наших, а все одного моего сердца. Светло и статно промышляют воинским делом. Их ни дождь, ни снег не держит. Болотами идут, по неделе бахилы с ног не скидывают, Отечеству нашему радеют. На воинов глядя, и я молодею. Всего меня переновило, переполоскало».
Теперь до главного дела доходит.
Пришвартовался наш Иванушко к госпитали. У Корельских пристаней. Тут лежал сбинтован молодой начальник Марко Дудин. Днем товарищей на совет созовет и так-то их щекотурит. А в ночи не спит, Ивана за руку держит, Иван ему сказку говорит. Будто сын и отец друг друга жалеют.
Гитлерова аспида тогда разъехалась, широко щеки разинула. Наши перешли до времени за озеро. Молодой
Марко уж на ноги попал. На него вся госпиталь опрокинулась.
Беспомощных людей сряди и соблюди и за озеро их на пароме переведи.
Марко на всякое дело сам кидался, сон и еду позабывал. Иван Широкий с Марком рядом бегает, его на ходу, как собаку, кормит.
Марко по должности своей приказывает и Широкому сплыть за озеро. Широкий не послушался. Утаился на отводном дворе, и вести о Марковых скорых шагах принашивал еврей-гостинник. Прежде госпитали тут гостиница стояла, и старобытному гостиннику поставили кроватку для его древней немощи. Никакими манами не мог его Дудин сманить за озеро. Старичонко бородой тряхнет да костылем махнет:
— Я еще перину буду зашивать. Кто рад без перин-то?
А у Дудина не то что часы — минуты сосчитаны. Некогда стало гостинника нянчить, о Широком обыскивать. Дудин Ивана давно за озером числил.
Марко, скажем, вечером остатную койку на паром погрузил, к рассвету сам изладился, а в полночь враг налетел.
Мятежно было в ту ночь. Иван прибежал в госпиталь, гостинника добыл. Тот шепчет по тайности:
— Пятерых попавших людей замкнули в палате. Марко в том числе. На заре им будут языки тянуть — спрашивать.
Иван спросил:
— Тебе-то не потянут языка?
— Мне, Иване, за восемьдесят. Умру — и все тут.
— Дедко, ты разумеешь немецкую речь. Как бы мне докупиться до Марко?
— Караулит нашего Марка немецкий Тырк Обезьянин. Чем ты его купишь, Иване?
— Есть у меня золотая сюрприза — червонные часы и с цепочкой.
Гостинник привел Ивана к дежурному Тырку и, хотя через порог едва ноги переволок, вежливо справил челобитье и сказал:
— Господин начальник, этот купец желает преподнести вам золотую сюрпризу. Взамен просит отпустить одного незначительного человека.
И в те поры Иван показывает из своих рук золотые часы. За перегородкой храпели другие немцы, и Тырк говорит осторожно:
— Можно. Имена и возраст арестантов еще не переписаны. Но я принял пять человек и должен сдать пять человек.
И тут дело преславно бывает. Иван говорит:
— Ежели надобно только пятичисленный комплект соблюсти, то возьмите меня в это число, а молодого человека, Марко Дудина, отпустите.
Тырк говорит:
— Давай часы.
А Иван часы в пазуху прячет.
— Возьмешь, когда дело справишь. Станешь силой отымать — я зареву, придется тебе с комрадами делиться. И еще ведай, немец: ни словом не заикнись Дудину, что его некто выменил. Немедля запри меня в сенях, в чулане: я услышу, как Дудин побежит. Ежели по его следу стрелишь, или феверку пустишь, или гаркнешь, не увидит часиков твоя немецкая фря!
Тырку Обезьянину лестно на себя одного схватить золотую сюрпризу. Он Ивана Широкого спрятал. Марка Дудина тихомолком отпустил со двора.
Отдал Иванушко немцу золотую сюрпризу, купил доброму человеку свободу, а себе, старику, горькую смерть.
Осенняя ночь скороталась. Стали Ивана вязать и ковать. Повели под допрос.
Рыжий фашист вопросил:
— Любопытствую знать: будешь ли к нам прихаживать и слова принашивать, что в Советах деется?
Иван говорит:
— Любопытствую узнать про фашизму, где вы эту грязь покупаете.
— Я тебя муками утомлю! Выручки тебе из Москвы не будет.
— Будто вам из Москвы и писали, что выручки не будет. Столько волосов нет на ваших головах, сколько силы Красной Армии идет на нашу выручку. Будет Корела вашими головами рыб кормить.
Тогда прусская аспида исполнилась гнева и, рыкнув, как лев, осуждает Ивана под расстрел. Небось каково было страшно и трепетно, но Иван взял силу больше страха.
День ненастливый дождевой тучей покрывается. Иванушко в последний путь снаряжается… хлопнули ружья немецкие. Пал Иван честным лицом в белый мох. Того часу и снегу туча велика накрыла болото, и лежал снег три дня и три ночи.
Безвестно уснул Иван, а слава его полетела на золотых крыльях. Вся река Иванов разум похвалила. Он верховную добродетель исполнил: положил свою душу за Друга.
О смертном и славном труде Ивана Широкого узнали в деревне от Марка. Из-под немецкого замка Дудин выбежал в лес. Шел горою и водою, набрел на своих. Искал Ивана и не нашел…
По зиме, по белому снегу, Красная Армия выдула фашистскую душину из Корелы. Марко Дудин стал обыскивать в народе про Ивана. Гостинник оказался жив, только после немецкого быванья трясся всем составом и временем говорил суматоху. Однако Иванову судьбину объяснил внятно.
Дудин от Ивановых рассказов знал нашу пристань и деревню. Приехал к нам весной по первому пароходу. Стребовал Иванов портрет, припал устами и заплакал:
— Отцом ли тебя назову? Но ты больше отца, добрый печальник жизни моей! Ужасается разум, и сердце трепещет, и слово молчит, похваляя твое великодушие.
Огненными слезами плакал Марко. Не в обычай ему были слезы. Но эти мужественные слезы усладили нашу горькую печаль…
…Утолила Марья свои причитанья и говорит:
— Коли Ивану так было годно, то и мне любо. Сердцу-то жалко, а умом-то я рада. Марко, вези меня в свою гошпиталь полы мыть.
Он отвечает:
— Будешь ты моей маменькой.
Лебяжья река
Есть у Студеного моря Лебяжья река. На веках только гуси да лебеди прилетали сюда по весне, вили гнезда. Потом пришли люди, наставились хоромами-домами. На одном берегу деревня Лебяжья Гора, на другом — деревня Гусиная Гора. Земля здесь нехлебородная. Того ради народ промышляет деревянным и живописным делом. На продажу работают сундуки, ларцы, шкатулки и подписывают красками. Мастерство переходило от отца к детям. Бывали настоящие художники. И все они жили скудно. Все зависело от скупщика. Все глядели в рот хозяину. Скупщики платили не цену, не деньги, злосчастные гроши-копейки. Мастера гонялись за случайным покупателем. Из-за этого была рознь, зависть и вражда. Самолучшие живописцы Иван Губа да Иван Щека усилились однажды, сколотили артель. Артель рассыпалась. Сами учредители, Губа да Щека, до старости меж собой слова гладкого сказать не умели. Проезжающий в царскую ссылку человек выговорил им однажды:
— Не в ту сторону воюете, друзья!
— Против кого же воевать?
— Против тех, кому рознь ваша на руку.
— Золотое твое слово, — отвечали Губа и Щека. — Мы таких, как ты, согласны уважать. Садись в нашу лодку, берись за кормило.
Но разумного человека угонили дальше, к Мерзлому морю. Оставленные царской властью без призора самобытные деревенские художники зачастую бросали свое художество.
Но пришла пора, ударил и час: царский амбар развалился от подмою живой воды. Как трава из-под снегов, потянулись к жизни художники-сундучники, живописцы-красильщики. Говорливая Лебяжья пуще всякой сказки расскажет о комсомольцах Гуле Большом и Васе Меньшом, которые помогли деревенским мастерам собраться в складчину-братчину.
Гурий Большаков и Василий Меньшенин были комсомольцы из первых в то время и по той далекой реке. Гуля председательствовал в сельсовете. Деревенские хвастались:
— Настоящий председатель. Худых людей словом одергивает, добрых людей словом поддерживает.
Гуля Большой собрал в артель остаточных мастеров Лебяжьей Горы. Вася Меньшой и столяр Федор Деревянный связали в одну семью мастеров Горы Гусиной.
Артельное дело пошло бы ходко, да не хватало хитромудрых живописцев Губы и Щеки. Освободившись от хозяйской кабалы, оба Ивана ушли на дальние морские берега, на промыслы.
В красные дни на песках у Лебяжьей реки сходились обе артели. Гуля председательствовал, Вася секретарствовал. Люди говорили:
— Всякий художный запас — краски, и масло, и клеймы добудем. Кисти и прочую художную снасть сами доспеем. А как ремесленную порядню вести, чтобы наше поделье в домовых обиходах было прочно и вечно? Это мы порастеряли, в этом мы поослабли. Вид дадим, а не красовито. Цвет покажем — полиняет. И вторая статья: как художество строить? Без Губы да без Щеки мы письмо переврем и пошиб-манеру запутаем. Живем соседственно, но в чертеже и в раскраске каждая деревня соблюдает свою добродетель. На Лебяжьей колер обожают самый нежный, «тьмо-лимонный» да «светло-осиновый», голубой да лазоревый. Человечков писали тоненьких. На Гусиной красили пестро. Цвет пущали сильный. Мужиков писали головастеньких, а женочек коротеньких. Нам свое лицо терять ненадобно. У всякой ягоды свой скус.
Старуха Губина докладывала:
— Письма от мужа были, адрес не пишет, для того, что месте не сидит. И я спрошу тебя, товарищ председатель: ужели по теперешней науке нельзя дознать местоположенье хоть бы нашего Губы? Узнать бы да истребовать письмом.
Гуля рассмеялся:
— К сожалению, и наука не может вычислить координаты наших мастеров. Ни ихней долготы, ни широты.
Порешили на том, что будут сыскивать вестей и по тем вестям мастеров добывать. А работу начинать не мешкая для того, что время горячее.
На Лебяжьей сыскались и нехудые живописцы. Гусиная Гора в живописи пооскудела. Зато столяр Федот Деревянный умел резное дело: стамеской орудовал по дереву краше, нежели иной кистью по бумаге. Федот взялся приобучать молодежь столярству и резьбе.
И полезли ребята к Федоту, как мужи на брагу. Навыкали пилить и тесать, делали скамью и столец чисто и чинно. Которые ребята были схватчивы и ученье принимали бойко, тех Федот садил за тонкую работу.
— Вот, Михайлушко, — толковал Федот талантливому пареньку, — вот тебе художественные снасти, пилка да топорок, долото да стамеска. Построишь тут ларец. Приладишь тут кровельку. Получится для мухи для горюхи домик-теремок. К ней постойщики приедут. Пойдет житье-бытье.
Муха — Горюха,
Блоха — Поскакуха,
Комар — Пискун,
Таракан — Шаркун.
Присмотрясь к Федотовым рукам, ребята начинали делать сами. Всякую поделку, какова она будет в дереве, сначала чертили на чертеж, на бумагу. Федотовым ученикам подражали малыши-недоросточки. Мать иному репину даст, он из репы человечью образину или птичку вырежет.
Многие из старших пристрастились к рисованию, дивились сами на себя — почему это человеку художничать охота? Федот размышлял:
— Такой уж иной человек родится: чертить, да красить, да что-нибудь мастерить вроде как пить-есть ему надобно. Сундук, скажем, и без прикрасы в обиход пойдет. А художнику охота, чтобы этим сундуком любовались. Ну, и в карман лишняя копейка. Я вот резьбой да узором сколько покупателя приманиваю, друга столько себя веселю.
Федот жил и ребят обучал в доме Ивана Щеки. На деревне все дома были великие, потому что сторона лесная, но у Щеки было особенно светло: окна рублены широко. Иван Щека, сряжаясь в море, сказал Федоту:
— У тебя глазишки маленькие, и оконца в твоей избе коротенькие. Там тебе работать темно. Заходи в мой дом, столярствуй, топи печи, карауль…
Когда к Федоту стали собираться артельные, он немножко-то обеспокоился: «Без спроса тут хозяйничаю». А и хозяин будто в канский мох провалился.
На Лебяжьей Горе ждали Ивана Губу. Гуля Большой заходил спрашивать вестей к старухе Губиной:
— Как думаете, не вместе Иван Егорович с Иваном Щекой промышляют?
— Могут ли вместе, Гулюшка, эких два воеводы! Весь век в два веника метут. Все чего-то делят. Однако по секрету вот что тебе расскажу: мой-то муженек Ивана Щекина работу в сундуке хоронит. Две коробки писаных в полотенце увернуты, в бумагу увязаны. В праздник вынет, полюбуется, вздохнет и скажет: «По живописной добродетели ни с кем Ваньку Щекина не сравню…» Опять и такой случай был: скупщик на пристани парохода ждет, сидит на ларце — Ивана Губина работа. Щека это усмотрел, к купцу подскочил и плюху дал: «Недостоин ты в руках носить Губино художество, не то что сидеть на нем…»
Колотятся теперь о морскую льдину моржи седатые, не ведают, какие дома дела открываются. Ужо по зиме, на оленях, не будут ли.
На оленях стариков не дождались. Иван Губа приехал по весне, Иван Щека — летом.
С вешней водой Лебяжья река откладывает кисти да краски. Брались за багры, за весла, за якоря, за паруса, за рыболовные снасти. Но из области было получено приглашение участвовать в осенней выставке, и люди урывали день-другой для художества.
Туля Большой по должности и по делам выставки гонял то в область, то в район. Никто не встретил Ивана Егоровича Губу на пристани, а Гуля не сразу явился с визитом.
Губа все это принял как невнимание, как пренебрежение и как оскорбление. Пуще всего затужил о том, что артельное дело зачалось без него.
— Я век об этом деле радел, этого времени ждал да хотел. А они мимо меня и мимо Ваньки Щекина артель составили. Нарочно скорым делом стряпали, чтобы меня не пригласить. Хотя и приглашают, да после всех.
Жена уговаривала:
— Не горазды твои речи, Егорович. Артельная телега широка, садись да катись.
— Вот уж, Ананья да Маланья. Фома да кума да и место заняли. Я не из тех, чтобы сверх канплекта проситься.
— Что тебе проситься? Гуля Большой по зиме сто раз заходил: «Ждем, говорит, Ивана Егоровича, как майского дня».
— Ежели я майский день, дак меня встретить да почтить должно.
— Музыки да барабану не нашли, а то бы встретили.
— Тебе, дура, смех, а мне смерть… Оно и Ваньку Щекина нароком держат без вестей.
— Кто это они, не наш ли Гуля, не Вася ли Меньшенин? — негодовала старуха.
— И Гульку не за что хвалить. Обо всей реке печалится, а мне отставку дал. Пущай мое письмишко самое немудрое, но Щека — первостатейный мастер. Только норов у него тяжелый. Но я за свою добродетель не пойду в ноги кланяться. А пропитаемся мы своей промышленной рыбешкой.
Артельные тоже не знали, как подступиться к мастеру.
— Смех и грех со стариком. Вишь, для его упрямки и для гордости встречу было надобно срядить. На тарелку посадить да по деревне пронести… Теперь уж все пропало. Он теперь и всенародного моленья не услышит. А бывало, что он, что Щека за чужую обиду первые лезли в драку с мироедами.
Молодежь дивилась:
— Как же хозяева-то дерзость такую прощали?
— Потому что у Ивана Щеки да у Ивана Губы руки золотые. Хозяин да скупщик прибыль этими руками загребали.
Пуще всех Губа обиделся на Гулю Большакова:
— В городе красуется, павлиены к выставке городит, а меня не залюбил. Ему Губа не надобен, и я их всех ничем зову и ни во что кладу.
Гуля Большой прямо с парохода забежал к Губе. Встретила хозяйка со словами:
— Иван Егорович в слабом состоянии здоровья. Принять не может. Извиняется.
Вышла Гулю проводить и зашептала:
— Не оскорбляйся, Гулюшка. Старик сам не рад, да своего упрямого обычая переломить не может. Намедни сам меня послал в артель. «Узнай обиняком, что такое нова тематика. Из артели парни шли и про каку-то „нову тематику“ песню квакали».
Гуля это намотал на ус. Укараулил Губу на улице, учтиво здоровается и подает коробочку:
— Иван Егорович, это первый мой живописный опыт. Я пытался применить новую тематику. Позвольте узнать ваше мнение.
Старик впился глазами в рисунок: звезда, краснофлотец, корабли с гербами.
— Ты это сделал?
— Я, — отвечал Гуля.
— Коробка-то лучше тебя!
Гуля рассказал артельным. Те смеялись:
— Иван Егорович, уж век такой. Скупщика, бывало, штукатурит так, что — ах! Народ гогочет. Губа и на народ с веслом, с какой ни есть со снастью налетит… Ивана Губу да Ивана Щеку на весы посадить — ни который не перетянет.
Губа после встречи с Гулей Большаковым принялся за дело. Трудился днем и ночью, благо летние ночи на Севере светлы, как день. Выточил большие деревянные блюда, какие шли для свадеб, и покрыл левкасом, мелом на рыбьем клею. Как просохло, вылощил звериным зубом.
Стал левкас, как яичная скорлупа, бел и гладок. По левкасу чертил тонким угольком и обводил рисунок чернильцем. В перо от журавлиных крыльев вдевал щепотку волоса от беличьих хвостов, — готовил кисти. Потом стирал краски с яичным желтком. Краску соберет в деревянную ложку. Много ложек под левой рукой на лавке лежит. По надобью то ту, то другую ложку возьмет, из нее кистью краску берет и пишет по блюду. Рядки серебряного кружева на бирюзе изображали море. По морю золоченые кораблики. Сверху как бы розовый веничек из цветов — утренние зори. Готовое письмо, как просохло, выкрыл олифой, льняным вареным маслом. Мастер хвалился:
— Гляди, жена, олифа-то моя сколь успешна к делу. Голубец и охра здешни немудры. Багрянец из-под нашей же горы. А через олифу сколь они румяны и светлы!
Жена, любуясь, говорила:
— Гуля хоть по мелочам, а художный-то припас из города привозит. Перед распутой синего кобеля привез и нутро маринино.
Мастер усмехнулся:
— Кобальт и ультрамарин… Краски добрые, а стратит без толку. Которую краску мизинной кисточкой задевать должно, они наплавом будут пущать, ворота красить. Недавно слышал, как они об окраске полов лжесвидетельствуют: олифу с керосином, дескать, превосходно… Я в обморок упал.
Старуха переводила разговор на приятное:
— Уж и красовито у тебя, Егорович. Как сады цветут на блюде.
— То-то! — соглашался Губа. — А разумеешь ли ты силу и смысл письма?
— Очень даже явственно. Здесь красное войско гонит из нашего моря иноземных хватов. Здесь морской парад писан: пушки с наших кораблей палят, знамена трепещутся, чайки летят. А девка с трумпеткой почто на небо залезла?
— Это Слава с трубой, — улыбался старик. — Изображено «Пришествие Красного Флота на Север…» Надокучили мне птички да цветочки. То желаю рассказать, что мой ум веселит, чему сердце радуется.
Губа решил похвастаться перед артельными, особливо перед Гулей. Старуха побежала к Большаковым. Оказалось, Гуля снова вызван в город. Снова потемнел Иван Егорович:
— Медали поехал лудить для своей канпании. Конечно, все они Птицианы и Ребрамты. Их посадят в Ермитаж на божницу при освещении електричества. А позабытый художник Ванька Губин пущай поет на мокрой мостовой: «Подайте мальчику на хлеб, он Велизария питает».
— Уж и мастер ты, Егорович, слезы выжимать, — всхлипывает старуха. — Вылизарий-то кто?
— Оскорбленная невинность, — хмуро отвечал Губа.
Вскоре ему надоело жалобить самого себя:
— Председателя нет, щегольну перед артельными.
Разбирало любопытство — что-то наготовили для выставки.
Как-то утром усмотрел, что на улице народу нет, увязал свои блюда, отправился.
— Куда, Иван? — удивилась жена. — Артель-то вся небось на пристани. Пароход пришел.
— Мели, Емеля… Будут они бегать, пароходики встречать, когда выставка на носу… А ты, старуха, не звони. Я тихомолком.
Чтобы люди не подумали чего, Иван прошел по деревне не спеша, помахивая тросточкой, и, словно невзначай, юркнул в артельные ворота. Толкнул двери мастерской. Заперто. Но внутри кто-то вовсю гремел молотком. Иван приправил стучать и кулаком и палкой.
— Ишь какое министерство! Запершись работают. «Без докладу не входить». Нет уж, я не отступлюсь. Хоть незваный посетитель, а принимать извольте!
Из соседнего дома выглянула бабка:
— Напрасно колотитесь. Народ-то на пароход убежали, дрова грузить… Ой, да это Иван Егорович? Не узнала тебя. Какой товар за пазухой жмешь, антиресность каку-нибудь сработал?
Из дома напротив вылезла другая бабка:
— Здравствуешь, Иван Егорович! Колотись шибче. Один глухой Петруха в мастерской-то, сковородки делает. Дай я пособлю, колом в простенок приударю…
Себя не помня, прилетел Иван Егорович домой. Шиб блюда под лавку:
— Наделал смеху: «Иван Губа в артель ломился, кланялся, просился». Подай мне ружье, старуха. На озеро уйду. С гагарами, с утятами поговорю. Успокою свое сердце. Раньше воскресенья не вернусь.
Лесная тишина не успокоила Ивана. В воскресенье брел домой безрадостно.
— Ничего, товарищи артельные… Я вам улью щей на ложку. Сам до области дойду. Перед художественными начальниками свою работу положу. Пущай решат, достойно ли Ивашку Губина от дел отбрасывать…
Возле сельсовета толпился народ. Послышались голоса:
— Губа идет! Егорович идет!…
Кто-то крикнул:
— Эй, Иван Егорович! За тобой два раза бегали. Где ты провалился-то? На собрание опоздаешь!
— Какое такое собрание?
— Гуля Большаков из города доклад привез насчет артели. И наши и гусиновские тут.
«Ладно, — подумал Губа. — Осчастливлю вас своим присутствием. Напою куплетов. Отругаю и за старое, и за новое, и вперед на три года…»
В обширном зале народу было — хоть по головам ступай. Кончились общие вопросы. Со своим сообщением вышел Гуля Большаков. Рассказывал о строительстве выставки, открытие которой приурочено к Октябрьским праздникам; о том, какое видное место предоставлено Лебяжьей реке. Иван Губа, считая, что для него все потеряно, желая досадить докладчику, начал громко разговаривать с соседями. Тогда и высокий голос Гули Большакова зазвенел, как колокольчик:
— Я слышу, что среди нас присутствует наш уважаемый мастер Иван Егорович Губин. Иван Егорович, я привез вам личное приглашение участвовать на выставке.
Иван буркнул:
— Некому меня там знать.
Гуля продолжал:
— Простите, что без вашего разрешения я показал выставочному комитету несколько ваших работ. Из тех, что хранились в артели. Ваши изделия, Иван Егорович, чрезвычайно понравились. Комитет с удовольствием предоставит вам, Иван Егорович, особую витрину или, если вы пожелаете оказать честь артели, — то в качестве ее члена, среди ее экспонатов. Вы, конечно, будете нашим украшением, Иван Егорович.
Гуля спрыгнул с кафедры, подошел к скамье, где сидел Иван Губа, и протянул ему конверт:
— Вот вам личное письмо от комитета, Иван Егорович.
Тишина стояла в зале. Сотни глаз глядели на Ивана. Иван вдруг побагровел, сморщился, и… слезы обильным потоком хлынули из его глаз. Из-за слез не видя Гулю Большакова, старик нашарил его руками и обнял:
— Заботник ты мой, печальник ты мой, доброхот ты мой, Гулюшка! Не я украшение, это вы, молодые, великодушные, всемирное наше украшение!
Повернув в сторону артельных мокрое от слез лицо, Иван гаркнул:
— Артель, пиши меня в члены или хотя в ученики! Челом бью!
Не гуси-лебеди крыльями захлопали — артельные в ладоши загремели, закричали:
— Инструктором будешь у нас, Иван Егорович, — решено и подписано!
На Лебяжьей Горе дела идут благополучно. Про Гусиную Гору можно сказать, что если строил здесь артельное дело столяр Федот Деревянный, то увенчал Федотово строенье кровлей комсомолец Вася Меньшенин.
На Гусиной и прежде мало было живописцев. Больше столяры и резчики. В последнее время один Иван Щека умел разрисовать-расписать шкатулку-сундучок в здешнем, особливом вкусе. И краска в Щекиной работе не темнела, не линяла, не смывалась.
— Тридцать лет столешницу мочалками сдираю, — скажет деревенская хозяйка, — а цветочки как сегодня расцвели.
Щекина Ивана рукоделье!
Еще зимой Щека оповестил Федота:
— В навигацию, в корабельный приход буду дома!
Артельные обрадовались. Наготовили ларцов да ящичков: края-каемочки резные, а стенки-кровельки оставили для живописи:
— Иван Акимович приедет, нацветит и наузорит. Не поддадимся Лебяжьей Горе.
Вася Меньшой добывал рисунки, картинки о новой жизни, советской. Собирал и приговаривал:
— Пригодится нашему художнику.
Федот задумчиво покачивал головой:
— Вот только мы пригодимся ли? К своему художеству Иван Акимович относится с пристрастием. Каким глазом взглянет?… Может, не понравится, что в его избе распоряжаемся. Мне первому достанется.
Иван Щека приехал к лету. Тут же, у морской пристани, узнал подробности об артели, о том, что для артельных в городе «куют медали». Недаром говорили, что Ивана Егоровича с Иваном Акимовичем посадить на одни весы — ни который не перевесит.
Щека рассердился, разгорячился на себя и на людей, а на Федота пуще всех. По Лебяжьей реке ходил нарочный пароходик. Щека не поехал домой. Засел в шатре знакомого рыбака.
О приезде мастера на Гусиной узнали в тот же день. Ждали трое сутки, обеспокоились: «Не захворал ли? Не лежит ли где под карбасом?» Федот Деревянный, как на грех, поранил ногу. На разведку отправился Вася Меньшой.
Щека сидел в шатре, вязал рыбачью сеть. Не поглядел на Васю, а только покосился:
— Здрасте, молодой человек. Меньше вас некого было послать? Федотка околел?
— Федот посек ногу тором.
— Умысел и хитрость… Значит, вас послали бесприютного изгнанника глядеть?… Возвестите населению, что Ивашка Щекин, не имея где главы приклонить, кочует по морскому берегу, подобно диким племенам.
Вася старался умягчить старика:
— Как мы вас ждали, Иван Акимович. Делов вам на припасали — на барже не утянуть.
Щека уставился на Васю ярым оком:
— Не спросясь, меня в работники купили! Вы будете в моей избушке государить, а я у вас в холопах? Вы и с Губиным нахально поступаете. Он дурачится на старости. А в нашем мастерстве Ивашко Губин личность неизбежная.
— Я вам логику желаю доказать, Иван Акимович.
— А я вам и без логики спою: надменная аспида Федотко пущай опростает мое домишко. Сроку даю неделю. Через неделю покорнейше прошу уведомить меня.
Унылой показалась Васе обратная дорога.
«Как низко ставит сам себя Иван Акимович. Капризит хуже малого ребенка. В деревне будут пересуживать: „Знать, мошну толсту набил, то и куражится“. Больной Федот опечалится. Лучше помолчу. Авось наш долгожданный мастер образумится».
На Гусиной Вася заявил, что Иван Акимович прихворнул. Через недельку просит навестить. Артельные успокоились. У Федота отлегло от сердца.
Комары, безлюдье, досада вконец одолели Щеку за эту неделю.
Вася приехал, начал добрым порядком:
— Напрасно вы на нас обиделись, Иван Акимович. Для чего не едете домой?
— В чулан меня положите или на чердак закинете? — горячился Щека. — Власти из города наедут: «Где обитель оскорбленного Ивана Щекина?» — «Под крыльцом, — отзовусь я, — заместо Шарика и Жучки лаю на разные басы».
Вася не утерпел, рассмеялся.
— Ты смеяться? — загремел старик. — Ты посольство править послан или зубы скалить?!
Рассердился и Вася:
— Что вы на меня разъехались, Иван Акимович? Если я посол, вам должно меня выслушать.
— Я хозяина-мироеда не слушался, а теперь не то время. И вот вам мой последний сказ: еще недельку потерплю. А в воскресенье приеду с этим вот березовым колом. Добром Федотко со двора не выплывет — палкой выгоню!
Ехал Вася домой, думал грустную думу: «Сам себя наш мастер хочет обесславить. А я ничего не скажу в артели. Будь что будет! Неделя — долгий срок: вдруг да обойдется стариковское сердце».
В деревне Вася сказал:
— Иван Акимович выздоровел. Посылает всем по низкому поклону. В воскресенье сам приедет.
Артельные развеселились. У Федота стала бойко заживать нога.
Дом и так содержался в порядке, но к приезду художника прибрались, будто к празднику. Ребята-ученики готовили встречу.
В воскресенье с раннего утра Вася караулил пароход, стоя на высоком берегу. С беспокойством ждал: скоро ли покажется дымок? Раньше Васи пароход увидели ребята. С криком: «Едет, едет дядюшка Иван!» — побежали к пристани. За ними поспевал Федот.
Иван Щека стоял у самого борта. В руках держал березовую палку. Одинокая фигура старика казалась мрачной.
«Наделал я делов!» — подумал Вася, медленно спускаясь вниз к реке.
Сидя у моря, Щека ждал, что к нему приедут на неделе с докладом, с приглашением. Подошло воскресенье, никто не явился. Увязав пожитки, ухватив березовый батог, старик сел на пароход. Всю дорогу сам себя горячил, стукал палкой в палубу. «Ладно, приятели… Я вам не нужен, так и вы мне не нужны. Вот я вас всех ужо…»
Показалась Гусиная Гора и пристань. Щека дивится:
«Кого же это народ встречает?… Федот в красной шелковой рубахе… Девица с букетом, парнишка с разрисованным листом. Ребята в два ряда… Не начальник ли какой в каюте едет?… Федот шапкой машет. Все кому-то радуются. На меня глядят!»
Пароход бросил причалы. Артельные ребята не стерпели, нарушили ряды. Бегут к Ивану да кричат:
— Дядюшка Иван Акимович, с приездом!
— Дядюшка Иван Акимович, с приездом!
Палка выпала из рук Ивана, гремя, покатилась по палубе… Девочка сует Ивану букет. Мальчик звонким голосом читает по листу:
— «Мы, ученики Гусиновской артели, приветствуем нашего художника…»
Иван сгреб в охапку зараз пятерых ребятишек и спрятал лицо в их головенках, чтобы не видно было его слез. Потом крепко обнялись с Федотом.
Было над чем радоваться Васе. Приметив его, Щека сказал:
— Васенька, пройдем в каюту. Сундучок пособишь снять.
В пустой каюте Иван спросил:
— Вася, ты им ничего не говорил? Они ничего не знают?
— Ничего не говорил, Иван Акимович. Они ничего не знают.
Старик поклонился Васе в ноги.
— Не я учитель, Васенька, а ты мой учитель!
Щека ходил по своему дому:
— Занавесочки, цветы, чистота… Пол-то платком носовым продери, платка не замараешь. А эта горница почто на замке?
— Тут твое именье, — объяснил Федот. — Сундук, постель, посуда. Как уехал, так все и лежит нетронуто.
Иван зашумел:
— Эх вы, распорядители! Теснятся тут, а комнату замкнули. Вынести мое барахлишко наверх: я в светелке буду помещаться. Федот останется внизу, а этот весь этаж под мастерскую.
Вася, лукаво прищурив глаз, шепнул Ивану:
— А я, в случае чего, к себе собрался перетаскивать артель-то.
Иван засмеялся:
— У тебя улица грязна, у тебя ворота не крашены, у тебя пол не метен.
До ночи Иван не отпускал народ, а на другой же день артель взялась за краски и за живопись. Работали — «с огня хватали»: выставка была не за горами.
Щека не попал и на собранье, где Гуля Большаков так славно помирил Губу с артелью. Но гусиновцы, которые ходили на Лебяжью Гору, не то что рассказывали, а в лицах представляли и Губу и Гулю. Щека слушал, и у него сияли глаза:
— Теперь Иван Егорович и меня не оттолкнет. Ты, Вася, и ты, Федот, махнем-ка завтра на Лебяжью.
В избе у Губы сидели артельные, любовались новыми блюдами. Вдруг хозяин, уставясь в окно, ахнул:
— Небывалый гость идет! Раскатись, моя поленница без дров!
Он бросился в сени, протянул обе руки Ивану Щеке.
— Ванька, — сказал Губа, — сколько годов мы друг по друге тужили?!
— Ванька, — отвечал Щека, — пускай лучше люди сочтут, сколько годов мы с тобой дружили.
Неспроста хвалились деревенские старухи, что в городе куют медали на сундучках мастеров. В октябре на выставке артели удостоились наград. На торжественном собрании сказала слово и река Лебяжья. Иван Щека говорил:
— Кто нас прежде знал да кому мы были надобны? Теперь нам от государства повелено быть у живописных дел. Бывало, никто и знать не хотел, что есть такой коробочник-ларечник Ванька Щекин. Теперь мне велено подписывать мои работы. Бывало, даже живопись такого мастера, как Иван Егорович Губин, валялась на базаре с ведрами, с лопатами. Теперь она в музее, под стеклом.
Бывало, мы бродили врозь, теперь нам настоящая дорога под ноги попала. Теперь мы на широкий шаг шагнули… Время покажет, успешно ли будет наше письмо у нового строительства.
Мне, старику, что-то тесно стало у коробочки-шкатулочки сидеть. Желаю этот потолок расписывать, на заводском театре кистью размахнуться. Чтобы не только птички да цветочки, а об устроении Земли, о войне и тишине рассказать.
Иван Губа говорил:
— Краше теплого лета эти осенние дни. Любо мне, деревенскому мастеру, быть на таком блестящем собрании. И при всех хочу назвать, и от всей Лебяжьей реки спасибо сказать нашим комсомольцам Гулию Большакову и Василию Меньшенину. Ты, Гуля Большой, и ты, Вася… стараясь для пользы деревни, вы погасили многолетнюю вражду.
Любя родное художество, какое вы показали терпение! Как дальновидно сказалось ваше поведение… Нас, старых мастеров, звали вы в учителя. И вот я, именуемый учитель, приехал в большой город. Хожу, смотрю, размышляю. И… почувствовал себя учеником.
Народные рассказы о Ленине
Пуговка
… К нам на завод приезжает Ленин. Мне кричат: «Наторова, ты примешь пальто…» В клубе жарко. Ленин стал говорить, скинул пальто на стул. Я схватила — да в гардеробную. Вижу, у левой полы средней пуговицы нет. Я от своего жакета оторвала да на ленинское пальто и пришила толстым номером, чтобы надолго. Он уехал, не заметил. А пуговка немножко не такая… И так мне это лестно, а никому не открываю свой секрет.
Тут порядочно времени прошло. Иду по Литейному, а в фотографии «Феникс» в окне увеличенный портрет Ленина. Пальто на нем то самое… Я попристальней вглядываюсь — и пуговка та самая, моя пуговка.
Он в эту же зиму и умер. Я достала в фотографии на Литейной заветный тот портрет…
Он у меня около зеркала в раме теперь.
Каждый день подойду, посмотрю да поплачу:
— А пуговка-то моя пришита…
(Слышал в Ленинграде, на Волковом кладбище, от приезжей из Архангельска Наторовой)
Как Федосья Никитишна у Ленина была
У нас папаша был кровельщик, работал в Смольном, да перед самой революцией и скончался. Так что и жалованье недополучено. Временное правительство явилось, мамаша пошла относительно денег, воротилась со стыдом, как с пирогом. Только и спросили: «А ты, бабка, видала, как лягушки скачут?»
Зима нас прижала, мамаша говорит:
— Все Ленина хвалят теперь: не сбродить ли мне в Смольный-то?…
Какое-то утро встаем — нету старухи. Думаем, у обедни, а она это в Смольный угребла… И подумайте-ка, ползала-ползала там по кабинетам да на Владимира Ильича и нарвалась… Пишет он, запивает конфетку холодным чаем…
Она нисколько не подумала, что это он сам, тогда портретов-то мало было, и спрашивает:
— Вы, сударь, на какой главы: на письме или на разборе?
Он россмехнулся:
— Как приведется, сударыня. Вам на что?
— Меня люди к Ленину натакали, ко Владимиру Ильичу.
Говорят: «Твое дело, Федосья Никитишна, изо всех начальников один Ленин может распутать…» А я гляжу на вас, как быстро пишете, и думаю: экой господин многограмотный, уж, верно, не из последних начальников… Где мне Ленина искать, не войдете ли в мое положение?…
Преспокойно уселась да вкратце и доложила. У Ленина глаза сделались веселы, расхохатыват…
— Верно, Федосья Никитишна… Без Ленина обойдемся.
Вызвал сотрудника, выметку из книжечки дал:
— Товарищ, срочно оборудуйте Федосье Никитишне ее дело.
… Мамаша домой приходит и деньги выкладыват.
— Все начальники в Смольном хороши! И без Ленина дело сделали.
А через месяц приносит с рынка фотографическую карточку:
— Вот купила начальника, с которым в кабинете-то сидела…
Мы взглянули, да и ахнули:
— Мамаша, ведь это Ленин и был!…
(Слышал в вагоне Северной железной дороги в 1928 году, рассказывала женщина, ехавшая из Архангельска в Ленинград к мужу)
Белые с Севера убежали, мы опять во свое место из Вологды вернулись.
У нас в учреждении порядочно стало местной молодежи служить.
Другой раз на них смотришь, думаешь: «Что-то у вас, ребята, в голове? Понимаете ли, в какое время живете?…»
Политпросветительная работа еще только налаживалась… Народ молодой, по службе дело отведут в пятом часу и домой полетят.
Пожалуй, всех бойчее из них Шкаторин был. Только такой: смехи да хи-хи. Я так считал: вовсе ты, парень, девичий пастух.
Я партийный, у меня сердце болело, что не вхожу в них, не внушаю, не объясняю о деле Ленина. На собраньях-то, конечно, много речей было сказано, да речи — что… И вдруг телеграмма: Ленин умер.
… Я иду с телеграфа-то, а уж к ночи. И мороз к сорока градусам небось… И кто-то меня с ног сбил… У меня слабы ноги-то. Я стал в таком направлении, смотрю: Шкаторин в одном пиджачишке, на одной ноге валенок, на другой калоша. Я говорю:
— Шкаторин, что с тобой?!
А он:
— Гаврило Василич, это правда, что Ленин умер?
Я заплакал:
— Умер наш Ленин… Откуда ты летишь-то?
— Из дому.
— Где живешь-то?
— В Слободке.
— Как же ты наг-то через весь город летел?
— А сказали, что Ленин умер. Я испугался, побежал сюда. Некогда тужурку было искать…
С этой поры больше родных детей ценю я и люблю нашу молодежь.
(Записано в Архангельске в 1927 г.)
… У нас ребята в газеты читали: за границей партия шла рабочих с пением в майский день. Полиция наскочила — и в тюрьму. Одного давно искали. Его в ту же ночь — застрелить… Он под дулом-то выхватил газету — майский номер, там Ленин во весь лист — и накрыл глаза… Солдаты ружьем брякнули, честь отдали: «Не можем в Ленина стрелять».
(Архангельск, 1927. Лесопильный завод на р. Маймаксе)
Нам иностранный матрос в Маймаксе рассказывал:
— … Они там у себя забастовку объявили, а полиция принудила работать. Привелось плашкот к пристани под водить. Они взялись по двенадцать человек на канат. Надо бы: «Разом сильно, разом вдруг», или там по-ихнему кричать, а они: «Раз, два, Ленин! Раз, два, Ленин!» Полиции не к чему придраться. Они ведь стали на работу…
(Архангельск, 1927. Лесопилки на р. Маймаксе)
… У нас доктор был в Ульяновске. Может, и сейчас жив. Его в Москву не раз приглашали. У него один был ответ: «Наш город не меньше Москвы: здесь Ленин родился».
(Москва)
… Вася ездил доверенным от Госторга из Архангельска в Норвегу. В городе Берген выбежали к пароходу дети. Русских увидели, стали кричать: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Худо выговаривают, а понять можно. Вася заговорил с ними по-русски, но они только одну эту речь выучили:
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
(Архангельск)
Степан Писахов
Сказки
Цар счастливый
Его живописные полотна, акварели излучают жемчужный свет белых ночей, полыхают цветным инеем и сиянием зеленовато-синего полярного неба. Он писал пустозерскую глушь, где был сожжен мятежный вождь старообрядчества писатель-протопоп Аввакум, и поморские карбасы, древнерусскую архитектуру и обрызганные кровавыми потеками травы-камнеломки северные граниты, которые напоминали ему 1905 год… В его картинах запечатлена борьба человека со стихией: в тех узловатых, перекрученных ветрами деревьях, что крепко держатся корнями за камень; в крохотной церквушке на скалистом острове, которую вот-вот смоет в бездну бушующая стихия моря-океана; в первом натурном изображении аэроплана, приземлившегося на льду Новой Земли…
Степан Григорьевич Писахов (1879—1960) начинал свою работу в искусстве кистью и красками.
Первую — и немалую — славу он снискал как художник русского Севера.
Архангелогородца Степана Писахова Илья Репин приглашал работать В своей мастерской. Скупой на похвалы Александр Бенуа находил в его этюдах «много жизни, темперамента». Продолжив искания Александра Борисова — создателя русского живописного пейзажа Крайнего Севера, Писахов раскрылся как проникновенный живописец-лирик с музыкальным строем восприятия зримого мира. В самое недавнее время его пейзажную палитру обоснованно сближали с искусством Левитана, Поленова, Нестерова.
Слава же литературная пришла к Писахову, когда ему было шестьдесят лет.
Но он вышел к общероссийскому читателю сразу с классической книгой сказок.
Степан Григорьевич Писахов — плоть от плоти деятельной, предприимчивой и вместе заповедно-кондовой России, панораму которой воссоздал Борис Шергин. Отец мальчика принадлежал к цеху серебряников-ювелиров. Родня по материнской линии — поморы с Пинеги и истовые староверы. Двоюродный дед Леонтий славился как сказочник (получал за то на промыслах лишний пай).
Две страсти — живопись и слово — сызмала завладели душой Степана Писахова.
Праздники зари, отраженной морем, торжественное фосфоресцирующее горение северного неба, молчание вод, птичьи клики в тумане, появление на горизонте долгожданных парусников были нескончаемой чередой чудес.
Оттого за старшим братом, художником-самоучкой, потянулся к кисти. В радостной тревоге, веря и не веря, спрашивал себя: «Не это ли призвание?»… Но среди писания, сквозь высокое течение мыслей, вдруг слышал непрошеный говорок родственницы: «Утресь маменька меня будит, а я сплю-тороплюсь!» — и рука медлила, и все существо с ликованием внимало этим подмигивающим словечкам, этим коленцам напевной северной речи. И рядом с начальными попытками в художестве идут попытки сочинения сказок, которые впервые появятся в печати в 1920-е годы.
Живописи и литературе предстояло раскрыть разные грани личности Писахова: первой — самоуглубленный, созерцающий лиризм, настроенный по камертону величавой северной природы, второй — радость заразительно-активной, по-северному энергичной натуры.
Как русское литературное явление Писахов уникален. Основа его художественного метода — игровая выдумка, которой писатель наделен избыточно. Говоря о нем, вспоминаешь слова Бунина: «… ведь выдумывать и уметь сказать хорошую нелепость, хорошую шутку могут только очень умные люди, те, у которых ум „по всем жилушкам переливается“. В сказках Писахова всюду — мажор, веселость и упоение бытием как самой удивительной сказкой мира. Он смеется, шутит, острит, и озорная радость преображает будни в праздник. Рассказчик и одновременно герой его произведений мужик-помор Сеня Малина (он то крестьянин, то рыбак, то охотник, то матрос, то солдат, то рабочий — и все в одном лице) — это народ, понимаемый не только как собирательная социальная сила, но и как олицетворение всеобщего жизнетворящего начала.
Может ли быть поставлен в тупик невзгодами, препятствиями и трудностями тот, в ком одухотворена сила самой природы?… Разумеется, нет. И эта «отприродность», всебытийность героя Писахова — естественный и неиссякаемый источник его оптимизма.
«Выспался я во всю силу. Проснулся, потянулся, ногами в поветь уперся, а сам тянусь, тянусь легкой потяготой. До города вытянулся…». «Я руки раскинул… охватил ветер охапкой, сжал в горсть, в комок да за пазуху сунул… Я молодых ветров, игривых да ласковых, много наловил». «Хорошо дружить с ветром, хорошо и с дождем дружбу вести… Дождик не стал по сторонам разливаться, а весь — на меня… Стал я на огороде… да босыми ногами в мягку землю! Чую: в рост пошел! Ноги — корнями, руки — ветвями».
Могущество Малины таково, что он может раскачать море, связать хвостами волков, править косяком рыб, оседлать тучу, скатиться по радуге в свою избу. Он знает так много, что ему даже известно, о чем утки и рыбы «думают». Он вечен: жил-был и при «Наполеонтии», и при Мамае.
Малина — это воплощение мечты человека о всевластии над природой как дружбе и согласий с нею, и оттого радуги, дожди, медведи, налимы — все превращается в его волшебных помощников: река рыбу дарит, река бежит-журчит в едином ритме с песней героя, туман «сладостью конфетной рот набивает».
Малина может становиться по хотению своему то великим, то малым, на работу может выходить артельно, разбившись на ватагу двойников. И все, что им задумано, — тотчас сделано.
Подобный божеству, герой выполняет желания своих односельчан, заботится, «чтобы хорошим людям… любо было», чтобы «вся деревня», весь работящий парод были сыты, нарядны, веселы.
Удивительно ли, что народ сказочной деревни Уймы, способный придвинуть берег к берегу и проветрить реку, умеет в социальной жизни защитить себя от всего сонма нагло величающихся, пыжащихся «хозяев» старой России — царей, архиереев, полицейских, кабатчиков, купцов, чиновников.
В шутейной сказке — своя стилистика. Посрамить, опозорить народного врага — это и значит совершить классовое возмездие. И так оно и происходит в сказках Писахова, где крестьянской пареной репой-брюквой давится губернатор, где плавает пузырем по озеру оглушенный мужицким ружьем поп Сиволдай, где народ выкатывает из деревни туши объевшихся полицейских, где «инстервентов» лупцует телега и шишками одаривает господ за обман рабочего человека «мордобитное» письмо, — всюду звучит не просто торжествующий, а победительный смех. Смех этот всесилен, как сам Сеня Малина, и «изводятся» в сказках Писахова недруги крестьян оттого, что казнит их народная «сила смеховая».
Автор не верит, что зло, ограниченность, мещанство могут одолеть добро, великодушие, щедрость. Народная убежденность в «конечной» победе правды (она всегда устремлена в будущее, равняется на высший этический идеал и превращает надежду в свершившийся факт) и уверенность писателя в нравственной неодолимости добрых начал истории практически совпадают. Это создает основу многообразных дополнительных стилевых воздействий фольклора на блистательную литературную версию сказочной традиции.
В сказках Писахова действительно великолепна не просто смесь, но взаимообратимость реального и фантастического. Расщепившись сначала на рабочую артель, Сеня Малина идет на крестьянский обед, экономно собравшись в одного человека. Вытянувшись на восемнадцать километров, чтобы оделить материей целую деревню, он вскоре сидит в доме в рядовом обличье. Чудо-телега, побившая незваных иноземцев-насильников, стоит под навесом как самое обычное сельское орудие.
Рисунок Писахова сохраняет массу правдоподобных, разительно зорко схваченных черточек жизни. Сказочная северная деревня Уйма ими-то и «привязана» к земле. В мире земном предметы, люди, растения, животные не могут легко меняться местами. А улыбки либо гримасы, перекликаясь друг с другом, будто пляшущие солнечные зайчики — волшебно претворяют подлинное в необыкновенное.
Писаховская фантазия — дар счастливый и достигающий исключительной поэтической силы. Малиновый солнечный свет вмерзает в снежные столбы, и их полыхание всю ночь озаряет деревню, превращая даже старух в маковые цветы. С лимона «обдирают» запах и вагонами отправляют из Архангельска в Москву. Чайки оставляют крыльями в тумане узор, и его перенимают кружевницы. Герой катит домой телеграммой по телеграфной проволоке, подпрыгивая на фарфоровых чашечках. Тепло таскают из печи, словно хлебные ковриги, теплом торгуют с лотка. Крестьянин видит чужие сны. Народ, поддев на вилы тучи, несет их на сухие поля…
Это подлинное пиршество воображения. Поток совершенно оригинальных образов. Ища подобий им в нашей новой литературе, ловец совпадений разводит пустыми руками. Более отдаленные параллели, притом международные, подчас установить можно: отдельные частности в сказках Писахова созвучны с похождениями Мюнхгаузена, Пантагрюэля, Швейка. Но верно ли вообще искать для прозы Писахова образцы литературные, если фантазию писателя питает свободная стихия русского ума, игра красноречия?
Писахов впервые в нашем литературном искусстве концентрирует и поднимает на высоту особой стилистической манеры то, что находим в народных анекдотических сказках-небылицах, песнях-скоморошинах, да еще разве в некоторых повестях старинного XVII века: речевые метафоры овеществляются, идиомы материализуются, — мир полнится парадоксами, небывалостями и непредвиденностями.
Чудеса обитают в сказках Писахова преимущественно на поморском Севере, ими — не в пример иным селам — особенно славна деревня Уйма, с которой «все» мечтают породниться.
Милая привязанность к родному краю была живительной для литературного таланта Писахова. «С детства, — говорит он, — я был среди богатого северного словотворчества… Иногда одна фраза даст тему для сказки: например:
«Какой ты горячой, тебя тронуть — руки обожгешь».
И не эта ли тоска по русской народной речи порождала у Писахова, побывавшего в Турции, Палестине, Египте, Италии, Греции, неизъяснимую тоску по Родине?…
Сам родной язык, со всем его богатейшим инструментарием, творит в сказках писателя.
Если о ком-то говорят: «измочален» — значит, его можно вживе вывесить на плетень, как сохнущую мочалу. Раз есть пословица о крепких словах, которыми подпирают заборы, — отчего не подпереть ими заборы сказочные? Отчего при этом не добавить: «На крепких словах, что на столбах, горки ледяны строят»? Отчего не вспомнить слово доброе, о которое, мол, «старухи да старики опираются»? Прозвище «Перепилиха» столь выразительно, что его обладательнице ничего не остается, как доказать способность перепилить голосом и медведя, и мужика, и всякого, кто подвернется. Если герой «разгорячается», то уж натурально, и в кармане у него даже закивает в бутылке вода… Затертые разговорные метафоры у Писахова расцветают, и вокруг них начинает развертываться прихотливо-узорчатое повествование.
Будто объяснение к заглавному слову возникает сказка «Инстервенты», с поистине бессмертной народной ненавистью ко всякого рода национальному порабощению и угнетению. Словесная игра организует сюжет сказки «Царь в поход собрался», где весть о «писаных-печатных» пряниках доходит «до царского двора» и (логика комического заострения образа у Писахова здесь безукоризненна!)… «до царской подворотни». «Печатные» пряники вызывают страх недалеких министров и карликового царя перед самочинной народной «печатью», а затем приказ «опечатать» пряники приводит царя и его камарилью к полной конфузии.
Писахов любил рассказывать свои произведения ученикам, которым преподавал в архангельских школах рисунок, и оттого сказки его обладают непосредственной устностью, «аудиторностью»: в них используются рифмы народной драмы, красноречие Торжка, звенят чисто фонетические элементы речи: подчеркнуто сближаются слова-близнецы, являются слова-«перевертыши».
«Сказки не то, что писать о чем-либо знаемом. Там только надо обсказать. В сказке, часто, не знаю, как повернется узор. Столько соблазнов! Будто зазывают в разные закоулки, полянки. Бывает, что плету одну, а рядом вьется другая сказка. Иногда теряется, а порой и попутную удается на бумагу уложить. Пока сказка вьется, пока вся еще не сказана, узор еще не совсем готов и нет последнего словечка, сказка хрупка. Законченную торопятся назвать народной!» — исповедовался Писахов в письме ленинградскому собрату Ивану Соколову-Микитову.
Сказки Писахова зачерпнуты из колодца живой и чистой северной речи, и этого было бы достаточно, чтобы признать за его книгой неоспоримое литературное значение. Но почвенные связи писателя, самый тип его отношения к традициям фольклора имеют смысл гораздо более принципиальный.
Писахов — из той русской литературной плеяды, которая своевременно ощутила, что жизнь народной культуры находится в XX веке на переломе развития, что уже вершится бесповоротная смена исторических форм массового народного творчества и что вместе с исчезновением в сельской местности старинной народной обрядности начинает «сбывать» прежде полноводный классический фольклор. Пересыхает одно из русел преемственности национальной культуры, и плеяда — Писахов, Шергин, Бажов, Мисюрев, и другие родственные им писатели, которые еще не получили своей подлинной историко-литературной оценки, — дала совершенные образцы синтеза профессионального и стихийного словесного искусства. Ее вклад в закрепление и перенесение в литературу сокровищ народного творчества определяется не только яркостью индивидуальности каждого представителя неповторимой школы, но и этой прямотой и непосредственностью связи их искусства с еще активно пульсировавшими в тот час родниками-первоисточниками.
В Степане Писахове будут всегда привлекать яркость таланта, неутомимая жажда творчества и восхищения действительными достоинствами многообразной русской первородной культуры, которой он постоянно находил аналогии в великих историко-художественных ценностях других стран.
Еще в 1923 году Писахов показывает на Архангельской краевой художественно-промысловой выставке коллекцию из пятисот рождественских «козуль» — ритуальных расписных фигурных печений. Его волнует сходство русских языческих пресновиков с новогодними немецкими пряниками, а того более — изображение на козулях холмогорских крылатого солнца Египта, на мезенских — лотосов Индии. Между эмблематикой стран полуденного, индигового неба и края полярных сполохов обнаруживался изумляющий мифологический параллелизм.
Изумление Писахова, однако, ничуть не трогает некоторых этнографов: коллекция козуль гибнет… Спустя годы Писахов расскажет, как в порыве гнева дал в театре публично пощечину бюрократу, отметившему службу на родине Ломоносова варварским отношением к произведениям народного творчества.
И вот когда вместе с патриотами Севера — Б. Шергиным, О. Озаровской, А. Поповым, П. Истоминым, А. Покровской, Е. Тагер Писахов вел борьбу против убогих взглядов на крестьянскую культуру, он и создал первые свои сказки. А встретив однажды в 1928 году в пригородной архангельской деревне Уйме даровитого рассказчика небылиц старика Семена Кривоногова, по прозванью «Малина» (от него писатель услышал, как тот «на корабле через Карпаты ездил» и «как собака Розка волков ловила»), будучи очарован его искусством, так гармонировавшим с творческим устремлением самого писателя, Писахов решил вести все свои дальнейшие повествования от имени Сени Малины: он чтил «память безвестных северных сказителей», своих «сородичей и земляков».
Большое в искусстве не может возникнуть из примитива, из скудного морального и эстетического пожитка. Сказки Писахова — отражение человеческой души, которая творила в соприкосновении с великим: «В Москве, — обронил он в одном из писем, — мне надо каждый день видеть кремлевские звезды… В Архангельске мне надо видеть Двину».
«Жатва», которую пожинал писатель в год своего «совершеннолетия» (так он называл восемьдесят лет жизни), была обильна. Поздравления шли из Новгорода, Арзамаса, Вологды, Ленинграда, Москвы. Ученики-художники, называя дни на Поморской лучшими в их жизни, растрогали до слез: послали самовар и шуточный рисунок — Писахов несет огромную книгу сказок «На самоваре вокруг Луны». В поздравлении Леонида Леонова были слова: «Читал присланную Вами книжку сказок и поражался количеством юмора, оптимизма и вообще хорошего, заразительного для читателей настроения. Как видите, и на меня, известного своей мрачной писательской философией, творчество Ваше производит благотворное влияние». И было еще добавлено: «Без Вас не мыслю Севера».
Писахов, вспоминая былые «мрачные дни» Леонова, гордился: «Прошибить Леонида!» А своим биографам говорил: «Если провожают, то хорошо». Сам же сочинял новую веселую сказку «Как мы встречали 2000-й год», подумывал о третьем сорокалетии жизни и как бы в оправдание себе цитировал слова Гете: «Неправда, что человек впадает в детство. Старость, приходя, застает детство». И последняя из известных нам его сказок — «Корона», вопреки старческим недугам, была написана за полгода до кончины во всегдашнем искрометном ключе. В нем воистину, как вечное детство, жила вечная радость.
Сказки Степана Григорьевича Писахова — будто радуга, возникшая из сложной человеческой жизни и перекинувшаяся к людям сверкающим мостом. Такая радуга — не померкнет.
Ал. Горелов
Не любо — не слушай…
Про наш Архангельской край столько всякой неправды да напраслины говорят, что я придумал сказать все как есть у нас.
Всю сушшую правду. Что ни скажу, все — правда.
Кругом все свои — земляки, соврать не дадут.
К примеру, Двина — в узком месте тридцать пять верст, а в широком — шире моря. А ездим по ней на льдинах вечных. У нас и леденики есть. Таки люди, которы ледяным промыслом живут. Льдины с моря гонят да давают в прокат, кому желательно.
Запасливы стары старухи в вечных льдинах проруби делали. Сколь годов держится прорубь!
Весной, чтобы занапрасно льдина с прорубью не таяла, ее на погребицу затаскивали — квас, пиво студили.
В стары годы девкам в придано давали перьвым делом — вечну льдину, вторым делом — лисью шубу, чтобы было на чем да в чем за реку в гости ездить.
Летом к нам много народа приезжат. Вот придут к леденику да торговаться учнут, чтобы дал льдину полутче, а взял по три копейки с человека, а трамвай пятнадцать копеек.
Ну, леденик ничего, для виду согласен. Подсунет дохлу льдину — стару, иглисту, чуть живу (льдины хошь и вечны, да и им век приходит).
Ну, приезжи от берега отъедут верст с десяток, тоже как путевы, песню заведут, а робята уж караулят (на то дельны, не первоучебны). Крепкой льдиной толконут, стара-то и сыпаться начнет. Приезжи завизжат: «Ой, тонем, ой, спасайте!»
Ну, робята сейчас подъедут на крепких льдинах, обступят.
— По целковому с рыла, а то вон и медведь плывет, да и моржей напустим!
А мишки с моржами, вроде как на жалованье али на поденшшине, — свое дело знают. Уж и плывут. Ну, приезжи с перепугу платят по целковому. Впредь не торгуйся.
А мы сами-то хорошей компанией наймем льдину, сначала пешней попробуем, сколько ей годов узнам. Коли больше ста — и не возьмем. Коли сотни нет — значит, молода и гожа. Парус для скорости поставим. А от солнца зонтики растопырим да вертим кругом, чтобы не загореть. У нас летом солнце-то не закатывается: ему на одном-то месте стоять скучно, ну, оно и крутит по небу. В сутки разов пятьдесят обернется, а коли погода хороша да поветерь, то и семьдесят. Ну, коли дождь да мокресть, дак отдыхат, стоит.
А на том берегу всяка благодать, всяческо благорастворение! Морошка растет большушшими кустами, крупна, ягоды по фунту и боле, и всяка друга ягода.
Семга да треска сами ловятся, сами потрошатся, сами солятся, сами в бочки ложатся. Рыбаки только бочки порозны к берегу подкатывают да днишша заколачивают. А котора рыба побойчей — выторопится да в пирог завернется. Семга да палтусина ловчей всех рыб в пирог заворачиваются. Хозяйки только маслом смазывают да в печку подсаживают.
Белы медведи молоком торгуют (приучены). Белы медвежата семечками да папиросами промышляют. И птички всяки чирикают: полярны совы, чайки, гаги, гагарки, гуси, лебеди, северны орлы, пингвины.
Пингвины у нас хоша не водятся, но приезжают на заработки — с шарманкой ходят да с бубном. А новы обезьяной одеваются, всяки штуки представляют, им и не пристало одеваться обезьяной, — ноги коротки, ну, да мы не привередливы, нам хошь и не всамоделишна обезьяна, лишь бы смешно было.
А в большой праздник да возьмутся пингвины с белыми медведями хороводы водить, да ишшо вприсядку пустятся — ну, до уморения. А моржи да тюлени с нерпами у берега в воды хлюпают да поуркивают — музыку делают по своей вере.
А робята поймают кита, али двух, привяжут к берегу да и заставят для прохлаждения воздуха воду столбом пушшать.
А бурым медведям ход настрого запрешшен.
По зажилью столбы понаставлены и надписи на них: «Бурым медведям ходу нет».
Раз вез мужик муки мешок: это было вверху, выше Лявли. Вот мужик и обронил мешок в лесу.
Медведь нашел, в муке вывалялся весь и стал на манер белого. Сташшил лодку да приехал в город: его водой да поветерью несло, он рулем ворочал. До рынка доехал, на льдину пересел. Думал сначала промышлять семечками да квасом, аль кислыми штями, а потом, думат, разживется и самогоном торговать начнет. Да его узнали. Что смеху-то было! В воде выкупали! Мокрехонек, фыркат, а его с хохотом да с песнями робята за город погнали.
За Уймой медведь заплакал. Ну, у нас народ добрый: дали ему вязку калачей, сахару полпуда да велели в праздники за шаньгами приходить.
Северно сияние
Летом у нас круглы сутки светло, мы и не спим. День работам, а ночь гулям да с оленями вперегонки бегам. А с осени к зиме готовимся. Северно сияние сушим. Спервоначалу-то оно не сколь высоко светит. Бабы да девки с бани дергают, а робята с заборов. Надергают эки охапки! Оно что — дернешь, вниз головой опрокинешь — потухнет, мы пучками свяжем, на подволоку повесим и висит на подволоке, не сохнет, не дохнет. Только летом свет терят. Да летом и не под нужду. А к темному времени опять отживается.
А зимой другой раз в избе жарко, душно — не продохнуть, носом не проворотить, а дверь открыть нельзя: мороз градусов триста! А возьмешь северно сияние, теплой водичкой смочишь и зажгешь. И светло так горит, и воздух очишшат, и пахнет хорошо, как бы сосной, похоже на ландыш.
Девки у нас модницы, маловодны, северно сияние в косы носят — как месяц светит. Да ишшо из сияния звезд наплетут, на лоб налепят. Страсть сколь красиво! Просто андели!
Про наших девок в песнях пели:
У зори у зореньки много ясных звезд,
А в деревне Уйме им и счету нет.
Девки по деревне пойдут — вся деревня вызвездит.
Звездной дождь
По осени звездной дождь быват. Как только он зачастит, мы его собирам, стараемся.
Чашки, поварешки, ушаты, крынки, латки, горшки и квашни, ну, всяку к делу подходяшшу посуду выташшим под звездной дождь. Дождь в посудах устоится, свет угомонится, стихнет. Мы в бочки сольем, под бочки хмелю насыплем.
Пиво тако крепко живет! Мы этим пивом добрых людей угошшам во здоровье, а полицейских злыдней этим же пивом, бывало, так звезданем, что от нас кубарем катятся.
Нас-то самих это пиво и веселит и молодит. У нас кто часто пьет, лет до двести живет.
Да это не сказка кака, а взаболь у нас так: ведь кругом народ знаюшший, свой, соврать не дадут; у нас так и зовется: «Не любо — не слушай».
Морожены песни
А то ишшо вот песни.
Все говорят: «В Москву за песнями». Это так зря говорят. Сколь в Москву ни ездят, а песен не привозили ни разу.
А вот от нас в Англию не столь лесу, сколь песен возили. Пароходишши большушши нагрузят, таки больши, что из Белого моря в окиян едва выползут.
Девки да бабы за зиму едва напевать успевали. Да и старухи, которы в голосе, тоже пели — деньги зарабатывали: Мы сами и в толк не брали, что можно песнями торговать. У нас ведь морозы-то живут на двести пятьдесят да на триста градусов, ну, всякой разговор на улице и мерзнет да льдинками на снег ложится.
А на моей памяти еще доходило до пятисот. Стары старухи сказывают — до семисот бывало, ну да мы и не порато верим.
Что не при нас было, то, может, и вовсе не было.
А на морозе, како слово скажешь, так и замерзнет до оттепели. В оттепель растает, и слышно, кто что сказал. Что тут смеху быват и греха всякого! Которо сказано в сердцах (понасердки), ну, а которо издевки ради — новы и хороши слова есть. Ну, которы крепки слова, те в прорубь бросам. У нас крепким словом заборы подпирают, а добрым словом старухи да старики опираются. На крепких словах, что на столбах, горки ледяны строят.
Новой улицей идешь — вся мороженой руганью усыпана, — идешь и спотыкаешься. А нова улица вся в ласковых словах — вся ровненька да ладненька, ногам легко, глазам весело.
Зимой мы разговору не слышим, а только смотрим, как сказано.
Как-то у проруби сошлись наши Анисья да сватья из-за реки. Спервоначалу ладно говорили, сыпали слова гладкими льдинками на снег, да покажись Анисье, что сватья сказала кисло слово (по льдинке видно).
— Ты это что, — кричит Анисья, — курва эдака, како слово сказала? Я хошь ухом не воймую, да глазом вижу!
И пошла и пошла, ну, прямо без удержу, ведь до потемни сыпала! Да уж како сыпала, — прямо клала да руками поправляла, чтобы куча выше была. Ну, сватья тоже не отставала, как подскочит да как начала переплеты ледяны выплетать! Слово-то все дыбом!
А когда за кучами мерзлых слов друг дружку не видно стало, разошлись. Анисья дома свекровке нажалилась, что сватья ей всяческих кислых слов наговорила.
— Ну, и я ей навалила! Только бы теплого дня дождаться, — оно хошь и задом наперед начнет таять, да ее, ругательницу, наскрозь прошибет.
Свекровка-то ей говорит:
— Верно, Анисьюшка, уж вот как верно, и таки ли они горлопанихи на том берегу, — просто страсть. Прошлу зиму и отругиваться бегала, мало не сутки ругались, чтобы всю-то деревню переругать. Духу не переводила, насилу отругала. Было на уме ишшо часик-другой поругаться, да опара на пиво была поставлена, боялась, кабы не перестояла. Посулила ишшо на спутье забежать поругать.
А малым робятам забавы нужны, — каки ни на есть бабушки, матери-потаковшшицы подол на голову накинут от морозу, на улицу выбежат, наговорят круглых слов да ласковых. Робята катают, слова блестят, звенят. Которы робята окоемы — дак за день-то много слов ласковых переломают. Ну, да матери на ласковы слова для робят устали не знают.
А девки — те все насчет песен. Выйдут на улицу, песню затянут голосисту, с выносом. Песня мерзнет колечушками тонюсенькими — колечушко в колечушко, буди кружево жемчужно-бральянтово отсвечиват цветом радужным да яхонтовым. Девки у нас выдумшшицы. Мерзлыми песнями весь дом по переду улепят да увесят. На конек затейно слово с прискоком скажут. По краям частушки навесят. Коли где свободно место окажется, приладят слово ласковое: «Милый, приходи, любый, заглядывай».
Весной на солнышке песни затают, зазвенят. Как птицы каки невиданны запоют. Вот уж этого краше нигде ничего не живет!
Как-то шел заморской купец (зиму у нас проводил по торговым делам), а известно — купцам до всего дело есть, всюду нос суют. Увидал распрекрасно украшенье — морожены песни, и давай ахать от удивленья да руками размахивать:
— Ах, ах, ах! Кака антиресность диковинна, без бережения на самом опасном месте прилажена. — Изловчился да отломил кусок песни, думал — не видит никто. Да, не видит, как же! Робята со всех сторон слов всяческих наговорили и ну — в него швырять. Купец спрашиват того, кто с ним шел:
— Что такое за штуки, колки какие, чем они швыряют?
— Так, пустяки.
Иноземец с большого ума и «пустяков» набрал с собой. Пришел домой, где жил, «пустяки» по полу рассыпал, а песню рассматривать стал. Песня растаяла да только в ушах прозвенела, а «пустяки» по полу тоже растаяли да как заподскакивают кому в нос, кому во что. Купцу выговор сделали, чтобы таких слов больше в избу не носил.
Иноземцу загорелось песен назаказывать в Англию везти на полюбованье да на послушание.
Вот и стали девкам песни заказывать да в особый яшшик складывать, таки термояшшики прозываются. Песню уложат да обозначат, которо перед, которо зад, чтобы с другого конца не начать. Больши кучи напели, а по весне на первых пароходах отправили. Пароходишши нагрузили до трубы, В заморску страну привезли. Народу любопытно: каки таки морожены песни из Архангельского? Театр набили полнехонек.
Вот яшшики раскупорили, песни порастаяли да как взвились, да как зазвенели! Да дальше, да звонче, да и все. Люди в ладоши захлопали, закричали: «Ишшо, ишшо». Да ведь слово — не воробей: выпустишь — не поймашь, а песня что соловей: прозвенит — и вся тут. К нам шлют письма, депеши: «Пойте песен больше, заказывам, пароходы готовим, деньги шлем, упросом просим: пойте!»
А сватьина свекровка, — ну, та самая, котора отругиваться бегала, — в песни втянулась.» Поет да песенным словом помахиват, а песня мерзнет; как белы птицы летят. Внучка старухина у бабки подголоском была. Бабкина песня — жемчуга да бральянты самоцветы, внучкино вторенье — как изумруды. Столь антиресно, что уж думали в музей сдать на полюбованье. Да в музее-то у нас, сами знаете, директора сменялись часто и каждый норовил свое сморозить, а покупали что приезжи сморозят — будто привозно лутче.
Ну, бабкину песню в термояшшик.
Девки поют, бабы поют, старухи поют. В кузницах стукоток стоит — термояшшики сколачивают.
На песнях много заработали. Работа не сколь трудна. Мужики заговорили:
— Бабы, зарабатывайте больше. Надоели железны крыши, в них и виду нет, и красить надо. Мы крыши сделам из серебра и позолоченны.
Бабы не спорят:
— Нам английских денег не жаль…
Мужики выпрямились, бородами тряхнули:
— Вы это, бабы, для кого песни поете? Дайко-се мы их разуважим, «почтение» окажем.
Мужики бороды в сторону отвернули для песенного простору и начали. Оно и складно, да хорошо, что не нам слушать. Слова такие, что меньше оглобли не было! И одно другого крепче.
Для тех песен особенны яшшики делали. И таки большушши, что едва в улицы проворачивали.
К весне мороженых песен кучи наклали.
Заморски купцы снова приехали. Деньги платят, яшшики таскают, грузят да и говорят: «Что порато тяжелы сей год песни?»
Мужики бородачи рты прикрыли, чтобы смеху не было слышно, и отвечают:
— Это особенны песни, с весом, с уважением, значит, в честь ваших хозяев. Мы их завсегда оченно уважам. Как к слову приведется, кажной раз говорим: «Кабы им ни дна ни покрышки!» Это по-вашему значит — всего хорошего желам.
И так у нас испокон веков заведено. Так и скажите, что это от архангельского народу особенно уважение.
Иноземцы и обрадели. Пароходы нагрузили, труб не видно, флагами обтянули. В музыку заиграли. Поехали. От нашего хохоту по воде рябь пошла.
Домой приехали, сейчас — афиши, объявления. В газетах крупно пропечатали, что от архангельского народу особенное уважение заморской королеве: песни с весом!
Король и королева ночь не спали, с раннего утра задним ходом в театр забрались, чтобы хороши места захватить. Их знакома сторожиха пропустила.
Прочему остальному народу с полден праздник объявили по этому случаю.
Народу столько набилось, что от духу в окнах стекла вылетели.
Вот яшшики наставили, раскупорили все разом. Ждут.
Все вперед подались, чтобы ни одного слова не пропустить.
Песни порастаяли и — почали обкладывать.
На что заморски купцы нашему языку не обучены, а поняли!
Из-за блохи
В наших местах болота больши, топки, а ягодны. За болотами ягод больше того, и грибов там, кабы дорога проезжа была, — возами возили бы.
Одна болотина верст на пятьдесят будет. По болотине досточки настелены концом на конец, досточка на досточку. На эти досточки надо ступать с опаской, а я, чтобы других опередить да по ту сторону болота первому быть, безо всякой бережности скочил на досточку.
Каак доска-то выгалила! Да не одна, а все пятьдесят верст вызнялись стойком над болотиной-трясиной.
Что тут делать?
Топнуть в болоте нет охоты, — полез вверх, избоченился на манер крюка и иду.
Вылез наверх. Вот просторно! И видать ясно. Не в пример ясней, чем внизу на земле.
А до земли считать надо пятьдесят верст.
Смотрю — мой дом стоит, как на ладошке видать. До дому пятнадцать верст. Это уж по земле.
Да, дом стоит. На крыльце кот дремлет-сидит, у кота на носу блоха.
До чего явственно все видно.
Сидит блоха и левой лапкой в носу ковырят, а правой бок чешет. Тако зло меня взяло, я блохе пальцем погрозил, а блоха подмигнула да ухмыльнулась: дескать — достань! Вот не знал, что блохи подмигивать да ухмыляться умеют.
Ну, кабы я ближе был, у меня с блохами разговор короткой — раз, и все.
Тут кот чихнул.
Блоха стукнулась об крыльцо, да теменем, и чувствий лишилась. Наскакали блохи, больну увели.
А пока я ахал да руками махал, доски-то раскачались, да шибко порато.
«Ахти, — думаю, — из-за блохи в болоте топнуть обидно».
А уцепиться не за что.
Вижу — мимо туча идет и близко над головой, да рукой не достать.
Схватил веревку, — у меня завсегды с собой веревка про запас; петлю сделал да на тучу накинул. Притянул к себе. Сел и поехал верхом на туче!
Хорошо, мягко сидеть.
Туча до деревни дошла, над деревней пошла.
Мне слезать пора. Ехал мимо бани, а у самой бани черемша росла. Слободным концом веревки за черемшу зацепил. Подтянулся. Тучу на веревке держу. Один край тучи в котел смял на горячу воду, другой край — в кадку для холодной воды, окачиваться, а остатну тучу отпустил в знак благодарения.
Туча хорошее обхождение помнит. Далеко не пошла, над моим огородом раскинулась и пала легким дожжичком.
Лётно пиво
Ну, и урожай был на моем огороде! Столько назрело да выросло, что из огорода выперло. Которо в поле, то ничего, а одна репина на дорогу выбоченилась, — ни проехать, ни пройти.
Дак мы всей деревней два дня в репе ход прорубали. Кто сколько вырубит, столько и домой везет. Старательно рубили. Дорогу вырубили в репе таку, что два воза с сеном в ряд ехали.
А капуста выросла така, что я одним листом дом от дожжа закрывал. Учены всяки приезжали, мне диплом посулили. У меня и рама для его готова, — как пошлют, так вставлю.
На том же огороде, из которого репа выперла на дорогу, хмель вырос-вызнялся. Да какой! Кажну Хмелеву ягоду охапкой домой перли. А котора Хмелева ягода больша, ту катили с «Дубинушкой»!
Стали пиво варить с новоурожайным хмелем. Пиво сварено, бродит.
А поп у нас был, Сиволдаем мы его звали. Отец Сиволдай да отец Сиволдай. Настояшшо имя позабыли, подходяшшо и это было.
Терпежа нет у Сиволдая дождать, ковды пиво выбродит.
— Я, — говорит, — братия, для пива готов, значит, и пиво для меня готово!
Нам что. Брюхо не наше, — пей. Назудился Сиволдай пива. Вот в ем пиво-то и забродило, заурчало. Сиволдая горой разнесло.
Мы с диву только пятимся, — долго ли до греха!
А Сиволдай на месте пораскачался, да и заподымался, да и полетел. И вопит:
— Людие, киньте веревку, а то далеко улечу!
А мы от удивленья рты разинули и закрыть забыли. Куды тут веревка.
Сиволдая отнесло в подполье. Поп летит и перекувыркивается через голову. Потом объяснил, что это он земны поклоны клал. Видно, большого лишку выпил поп, — его как прорвало!
Да хошь верь, хошь не верь, — через семь деревень радугой!
Воротился Сиволдай без вредимости. Упал на кучу сена, свежекошено было.
Теперича летать нипочем. Примус разведут, приладятся и летят. А в старо время только наша деревня летала.
В больши праздники, в гулянки мы летно пиво особливо варили.
Как которы пьяны забуянят — сейчас мы этого пива летного чашку али ковш поднесем.
— Выпей-ко, сватушко!
Пьяной что понимат? Вылакат, — ево и выздынет над деревней. За ногу веревку привяжем, чтобы далеко не улетел, да прицепим к огороду али к мельнице. Спервоначалу в одно место привязывали, — дак пьяны-то драку учиняли в небе. Ну, за веревку их живым манером растаскивали жоны; своих мужиков кажна к своему дому на веревке, как змеек бумажной на бечевке, волокут. Мужики пьяны в небе руками машут, жон колотить хотят, а жоны с земли мужиков отругивают во всю охотку. Мужики протрезвятся в вольном воздухе, скоро, как раз к тому времени, как бабы ругаться устанут. Тут жоны веревки укоротят, ну, мужья и дома.
Баня в море
В бывалошно время я на бане в море вышел.
Время пришло в море за рыбой идти. Все товаришши, кумовья, сватовья, братовья да соседи ладятся, собираются. А я на тот час убегался, умаялся от хлопот по своим делам да по жониным всяким несусветным выдумкам, прилег отдохнуть и заспал, да столь крепко, что криков, сборов и отчальной суматошни не слыхал.
Проснулся, оглянулся — я один из промышленников в Уйме остался. Все начисто ушли, суда все угнали, мне и догонять не на чем.
Я не долго думал. Столкнул баню углом в воду, в крышу воткнул жердину с половиком; вышла настояшша мачта с парусом. Стару воротину рулем оборотил. Баню натопил, пар нагонил, трубой дым пустил. Баня с места вскачь пошла мимо городу пароходным ходом да в море вывернулась и мимо наших уемских судов на полюбование все кругами, все кругами по воде вавилоны развела!
У бани всякой угол носом идет, всяка сторона — корма. Воротина-руль свое дело справлят, баня с того дела и заповорачивалась, поворотами большого ходу набрала.
Я в печке помешал, дым пустил, пару прибавил, сам тороплюсь — рулем ворочаю. Баня разошлась, углями воду за версту зараскидывала, небывалошну-невидалошну одноместну бурю подняла. Кругом море в спокое, берега киснут. А по середке, ежели со стороны глядеть, что-то вьется, пена бьется, вода брызжется и дым валит, как из заводской трубы.
Тут до кого хошь доведись — переполошится! Со стороны глядеть — похоже и на животину и на машину. Животина страшна, а машина того страшне. Ну, страшно-то не мне да не нашим уемским.
Рыбы народ любопытный, им все надо знать, а в бане новости завсегда самы свежи, самы новы, рыбы к бане со всех сторон заторопились.
А мы промышлям.
С судов промышляют по-обнакновенному, как раньше заведено. А я с бани рыбу стал брать по-новому, по-банному, шайкой в воде поболтаю, рыба думат: ее в гости зовут — и в шайку стайками, а к бане косяками. Мне и сваливать рыбу места нет: на полок немного накладешь!
Стали наши рыбацки суда чередом да всяко в свою очередь к бане подходить, я шайкой рыбу черпаю, бочки набью, трюма накладу, на палубе выше бортов навалю, другое подходит. На место полного. Это дело с краю бани, а в середке баня топится, народ в бане парится, рябиновыми вениками хвошшется, от рябинового веника пару больше, жар легче и дух вольготней.
Чтобы дым позанапрасно не пропадал, у трубы коптильню завели, это уж без меня. Я баню топил да рыбу ловил.
В коротком времени все суда полнехоньки рыбой набил.
Судно — не брюхо, не раздастся, больше меры в него не набьешь.
Набрали рыбы, сколько в суда да в нас влезло. Остальну в море на развод оставили.
К дому поворотились гружены суда. Тут и я с баней расстался, за дверну ручку попрошшался, впредь гостить обешшался. Домой пошли — я на заднем суденышке сел на корме да на воду муку стал легонько трусить, мука на воде ровненькой дорожкой от бани до Уймы легла. Легла мучка на морскую воду да на рассоле закисла и тестяной дорожкой стала.
За нами следом зима стукнула, вода застыла. И от самой нашей Уймы до середки моря, до бан, значит, ровненька да гладенька дорожка смерзлась.
Мы в ту зиму на коньках по морю в баню бегали. Рыбы учуяли хлебный дух тестяной дорожки и по обе стороны сбивались видимо-невидимо, как Мамаевы полчишша. Мы в баню идем — невода закидываем, вымоемся, выпаримся, в морской прохладности продышимся, — невода полнехоньки рыбы на лыжи поставим. На коньках бежим, ветру рукавицей помахивам, показывам, куда нам поветерь нужна.
У нас в банных вениках пар не остывал, вот сколь скоро домой доставлялись!
Всю зимушку рыбу ловили, а в море рыбы не переловить.
С того разу и повелись зимны рыбны промыслы.
Весной лед мякнуть стал, рыбьи стаи тестяну дорожку растолкали, и понесло ее по многим становишшам, хорошему народу на пользу. К той поры тесто в полну пору выходило, по морю шло, а это не ближной конец. Промышленники тесто из воды в печки лопатами закидывали, которой кусок пекся караваем, а которой рыбным пирогом — рыба в тесто сама влипала.
Просолено было здорово. Поешь, осолонишься и опосля чай пьешь в охотку.
Коли не веришь, так съешь трески, хотя одну трешшину фунтов хотя бы на десяток. Вот тогда чаю захочешь и мне верить будешь.
Баня по середке моря осталась и не понимат, в толк не берет, что мы к ней дорогу потеряли, сама в себе жар раздувала, пар поддавала и в таку силу, что наше море студено теплеть стало.
Вот этому приведется поверить! Спроси у нас хошь старого, хошь малого — всяк одно скажет, что за последни годы у нас зимы короче стали и морозы легче пошли. Все это моя баня своим теплом сделала.
Брюки восемнадцать верст длины
Выспался я во всю силу. Проснулся, потянулся, ногами в поветь уперся, а сам тянусь, тянусь легкой потяготой. До города вытянулся, до рынку, до красного ряда, где всякими материями торгуют.
Купцы свои лавки отворили. Чиновники да полицейски в лавки шмыгнуть хотели, взять с купцов по взятке, — это для почину: кому сколько по чину.
Я руки разминаю, чиновников по болотам, по трясинам кидаю. Модницы чиновницы прибежали деньги транжирить — мужья не трудом наживали, женам не трудно проживать. Я себя топтать разрешения не дал, я не мостовая, модницам до лавок ходу нет.
Купцы ко мне с поклонами и с вежливым разговором:
— Ах, как оченно замечательно хорошо, Малина, что ты чиновников да полицейских грабителей по болотам распределил. Они нам и перьвы помошники капиталы наживать, да умеют с нас шкуру сдирать. А без модниц сидим мы за выручкой без выручки. Сколько хошь отступного за освобождение прохода?
— До денег я не порато падок, сшейте мне штаны на теперешной мой рост. Рубаху с вас не прошу — домоткану ношу. Мера штанам, пока дальше не вытянулся, восемнадцать верст, прибавьте на рост пять верст.
У купцов брюха подтянулись, рожи вытянулись, рожи покраснели, глаза побелели, как пуговицы от подштанников. Купцы и рады бы полицейских позвать, да те далеко, до болота не ближной конец! Материю собрали, штаны сошили восемнадцативерстовые с пятиверстовым запасом.
Я рынок освободил: вызнялся у себя на повети. Брюки упали матерчатой горой поперек деревни, дорогу завалили, двадцать семь дворов закрыли.
По жониному зову все сватьи, кумушки сбежались с ножницами, с иголками и принялись кроить, резать, шить, пуговицы пришивать. В одночасье все мужики, старики и робята в новы брюки оделись.
Только одному попу Сиволдаю штанов не хватило, да на нем не видно, в штанах али в юбке идет.
С нас купцы во все времена все тянули себе: и капиталы и каменны дома. Довелось и мне потянуться и стянуть с купцов штаны на всю Уйму.
В городу думали, я к ним ишшо потянусь, имать сготовились, счет за убытки приготовили.
Я потягивался, да в други стороны. Куда ни потянусь — ноги все на повети, и ходить не надо: руки сложу — и дома сижу.
В реке порядок навел
Хорошо в утрешну пору потянуться, — косточки вытягиваются, силушка прибавляется.
Ногами на повети уперся, а сам потянулся в реку посмотреть, как там жизнь идет. В водяной прохладности большой беспорядок оказался. Шшуки зубасты, горласты, мелку рыбу из конца в конец гоняют, жрут, глотают, как водяны полицейские, и други больши рыбы за той же мелкотой охотятся. Я руки раскинул и первым делом давай шшук из воды к себе на двор выкидывать! Ну, семгу, стерлядь не обходил — тоже ловил.
Зубастых рыб меньше — мелкой рыбе легче. Рыбья мелкота обрадела, круг меня кружатся, своим рыбьим круженьем благодаренье мне выказывают, а сами веселятся без опаски, плавают, ныряют без оглядки.
Решил я им, мелким рыбешкам, ишшо удовольствие сделать. Одной рукой я в реке, а другой рукой с берега кустов малиновых надоставал да в воду на дно реки и посадил. Эта обнова рыбешкам очень по вкусу пришлась: ягоды для еды, а кусты — место, куда от шшук полицейских прятаться. С той поры мелка рыба нам в рыбном промысле помогать стала. Как мы на ловлю выедем, мелка рыба показыват, куда сети закидывать. Уловы у нас пошли больши, прибыльны. Полицейски чиновники до чужого добра падки — и тут не прозевали. Приехали к нам рыбу ловить. Невода закинули во всю реку, рыбу ловят в нашей воде, а мы слова сказать не смеем.
А рыбья мелкота собралась скопом да артельным делом всякого хламу со дна в невода натолкали: и камней, и пней, и кокор, и грязи — и всего, что только лишно было. Дно, как улицу, для просторного гулянья вычистили. Полицейски чиновники с большой натугой невода выташшили, хлам на берег вытряхнули, а не отступились, вдругоряд сети закинули.
Мелка рыбешка и другой раз изготовилась: малиновы кусты за листики да за тонки веточки уцепили и ко дну прыгнули, а колючи ветки кверху выгнули.
Поташшили полицейски чиновники невода по дну, об колючки зацепили, прирвали и выташшили одно клочье от неводов.
И сделали постановление: в этом пустопорожнем месте дозволяется ловить рыбу беспрепятственно.
В прочишшенной воды рыбы много пошло — нам и любо и ладно.
Малиновы кусты на речном дне совсем другомя заросли, нежели на сухой земли.
Как ягоды поспевать начнут, — со дна реки малинова наливка заподымается. Черпать надо поутру. Солнышко чуть светит, чуть теплом дыхнет, над рекой туман везде спокойной, а в одном месте забурлит, как самовар на том месте кипит, — тут вот и есть малинова наливка.
Мы к тому месту подъезжали с чанами, с бочками, малинову наливку черпали порочками.
Мы малиновой наливки полны бочки сорокаведерны к каждому дому прикатили да в ушатах добавошной запас сделали. На малиновой наливке кисели варили, квасы разводили, малиновой наливкой малых робят поили, а для себя хмелю подбавляли, и делалась настояшша виннопитейна настойка. Только с похмелья голова не болела да ум не отшибало.
Вот кака хорошесть да ладность от согласного житья. Я мелким рыбешкам жизнь устроил, а они мне втрое. Я и с рыбой, я и с наливкой, а купаться пойду, в воду нырну — ни на какой камешек не стукнусь — все мешаюшши камни мелка рыба в полицейски, чиновничьи невода столкала.
Ветер про запас
Ранним утром потянулся да вверх. У нас в Уйме тишь светлая, безветрая. Потянулся я до второго неба. А там ветряна гулянка, ветряны перегонки. Один ветер молодой засвистел да на меня — напугать хотел. Я руки раскинул, потянулся, охватил ветер охапкой, сжал в горсть, в комок да за пазуху сунул. Сунул бы в карман, да я в исподнем был, а на исподнем белье карманов не ношу.
Другие шалуны ветры на меня по два, по три налетали, хотели с ног свалить. А как меня свалишь, коли ноги у меня на повети уперты!
Я молодых ветров, игривых да ласковых, много наловил. Тут стары ветры заворчали, заворочались — и в меня. Бросились один за одним. Ну, и их за пазуху склал.
Староста ветряной громом раскатился, в меня штормом ударился. Я и шторм смял. Наловил всяких разных ветров: суховейных, мокропогодных, супротивных, попутных. Ветрами полну пазуху набил. Ветры согрелись, разговаривать стали, которы поуркивают, которы посвистывают. Я ворот у рубахи застегнул, пояс подтянул, ветрам велел тихо сидеть, прежде дела не сказываться. Сказал, что без дела никоторого не оставлю.
На поветь воротился — на мне рубаха раздулась. Кабы не домоткана была рубаха — лопнула бы. Жона спросила:
— Чем ты эк разъелся?
— Не разъелся, а ветром подбился.
Вытряс я ветры в холодну баню, на замок запер, палкой припер. Это мой ветряной запас. Коли в море засобираюсь сам или соседи, я к судну свой ветер прилаживаю. Со своим ветром, завсегда попутным, мы ходили скорее всяких пароходов-скороходов. В тиху пору ветер к мельничным размахам привязывали. Ветром белье сушили, ветром улицу чистили и к другим разным домашностям приспособляли. У нас ветер малых робят в люльках качал, про это и в песне поется:
В няньки я тебя взяла,
ветер…
Прибежал поп Сиволдай, запыхался, чуть выговариват:
— Чем ты, Малина, дела устраивать, без расходу имешь много доходу? Дайко-се мне этого самого приспособленья!
У меня в руках был ветряной обрывок, собирался горницу пахать. Я этот обрывок сунул Сиволдаю:
— На!
Попа тряхнуло да на мачту для флюгарки закинуло. Сиволдай за верхушку мачты вцепился. Ветер не отстает, поповску широку одежу раздул и кружит Сиволдая. Сиволдай что-то трешшит, как настояшша флюгарка. Долго поп Сиволдай над деревней вертелся, нас потешал. Только с той поры поповска трескотня на нас действовать перестала, мимо нас на ветер пошла, мы слушать разучились.
Как уйма выстроилась
Был я в лесу в саму ранну рань, день только начинался. И дождик веселый при солнышке цветным блеском раскинулся.
Это друг-приятель мой дождь урожайной хорошего утра простать не хотел.
Дожжик урожайной, а мне посадить нечего, у меня только топор с собой. Ткнул я топор топоришшем в землю.
И– и, как выхвостнулся топор!
Топоришше тонкой лесинкой высоко вверх выкинулось. Ветерком лесинку-топоришше во все стороны гнет. А топор — парень к работе напористой.
Почал топор дерева рубить, обтесывать, хозяйственно обделывать. Понапрасну время не терят.
Я от удивленья только руками развел, а передо мной по лесной дороге избы новорублены рядами выставают. Избы с резными крылечками и с поветями. У каждой избы для колодца сруб и у каждой избы своя баня. Бани двери прихлопнули — приучаются тепло беречь.
Я под избенны углы кругляши подсунул, избы легонько толкнул и с места сшевелил.
Домов– обнов длинной черед покатился к нашей деревне.
Наша деревня до той поры была мала — домишков ряд был коротенькой и звалась не по-теперешному.
Как новы домы заподкатывались! Народ без лишних разговоров дома по угору над рекой поставил рядом длинным на многоверстье.
С того часу и деревню нашу стали звать Уймой.
Только вот мы, живя в ближности друг с дружкой, привыкли гоститься. В старой деревне мы с конца в конец перекликались, в гости зазывали и сами скоро отзывались. У нас не как в других местах — где на перьвой зов кланяются, на второй благодарят, после третьего зову одеваются.
Народ у нас уважительной: по перьвому зову — идут, по перьвому слову — за стол садятся, по перьвому угошшенью — выпивают.
В новой деревне из конца в конец не то что не докричишься, а в день до конца не дойдешь. Мы уж хотели железну дорогу прокладывать — в гости ездить (трамвая в те поры ишшо не знали).
Для железной дороги у нас железа мало было.
Дело известно: при хотенье будет и уменье.
Мы для скорости движенья на обоих концах Уймы длинны пружины в землю концом воткнули. За верхной конец уцепимся, пружину нагнем. Пружина в обратный ход выпрямится. Тут только отцепись — и лети, куда себя нацелил: до середины деревни или до самого конца.
Мы себе подушки подвязывали, чтобы мягко садиться было. Наши уемски для гостьбы на подъем легки.
Уйма выстроилась, выставилась. Окнами на реку и на заречье любуется. Сама себя показыват, стоит красуется.
А топор работат без устали, у меня так приучен был. Новы овины поставил, мельницу выстроил. Я ему, топору-то, новой заказ дал: через речки мосты починить, по болотам переходы досчаты перекинуть. Да как завсегда в старо время, хорошему делу полицейской да чиновник помешали.
Полицейской с чиновником проезжали лесом, где топор хозяйствовал. Топор по ним размахнулся, да промахнулся. Ох, в каку ярость вошли и полицейской и чиновник!… Лесинку-топоришше сломали, на куски приломали и спохватились:
— Ахти да ахти! Мы поторопились, недосмотрели, с чего началось, от кого повелось, кого штрафовать и сколько взять!
Много жалели о промахе своем чиновник и полицейской. Так чиновники и полицейски до самого последнего своего времени остались неотесанными.
Яблоней цвел
Хорошо дружить с ветром, хорошо и с дождем дружбу вести.
Раз вот я работал на огороде, это было перед утром. Солнышко чуть спорыдало.
В ту же минуту высоко в небе что-то запело переливчато. Прислушался. Песня звонче птичьей. Песня ближе, громче, а это дожжик урожайной мне «здравствуй!» кричит.
Я дожжику во встрету руки раскинул и свое слово сказал:
— Любимой дружок, сегодня я никаку деревянность в рост пускать не буду, а сам расти хочу.
Дожжик не стал по сторонам разливаться, а весь — на меня. И не то что брызгал аль обдавал, а всего меня обнял, пригладил, будто в обнову одел. Я от ласки такой весь согрелся внутрях, а сверху в прохладной свежести себя чувствую.
Стал я на огороде с краю, да у дорожного краю, да босыми ногами в мягку землю! Чую: в рост пошел! Ноги — корнями, руки ветвями. Вверх не очень поддаюсь: что за охота с колокольней ростом гоняться!
Стою, силу набираю да придумываю, чем расти, чем цвести? Ежели малиной, дак этого от моего имени по всей округе много.
Придумал стать яблоней. Задумано — сделано. На мне ветви кружевятся, листики развертываются. Я плечами повел и зацвел. Цветом яблонным весь покрылся.
Я подбоченился, а на мне яблоки спеют, наливаются, румянятся.
От цвету яблонного, от спелых яблоков на всю деревню зарозовело и яблочной дух разнесся.
Моя жона перва увидала яблоню на огороде, — это меня-то! За цветушшей, зреюшшей нарядностью меня не приметила. Рот растворила, крик распустила:
— И где это Малина запропастился? Как его надо, так его нету! У нас тут заместо репы да гороху на огороде яблоня стоит! Да как на это полицейско начальство поглядит?
Моя жона словами кричит сердито, а личиком улыбается. И я ей улыбку сделал, да по-своему. Ветками чуть тряхнул — и вырядил жону в невиданну обнову. Платье из зеленых листиков, оподолье цветом густо усыпано, а по оплечью спелы яблоки румянятся.
Моя баба приосанилась, свои телеса в стройность при вела. На месте повернулась павой, по деревне поплыла лебедью.
Вся деревня просто ахнула. Парни гармони растянули, песню грянули:
Во деревне нашей
Цветик яблоня цветет,
Цветик яблоня
По улице идет!
Круг моей жоны хоровод сплели. Жона в полном удовольствии: цветами дорогу устилат, яблоками всех одари ват. Ноженькой притопнула и запела:
Уж вы, жоночки-подруженьки,
Сватьи, кумушки,
Уж вы, девушки-голубушки,
Время даром не ведите,
К моему огороду вы подите,
Там на огородном краю,
У дорожного краю
Растет– цветет ново дерево,
Ново дерево — нова яблоня.
Перед яблоней той станьте улыбаючись,
Оденет вас яблоня и цветом и яблоками.
Тако званье два раза сказывать не надо. Ко мне девки и бабы идут, улыбаются, да так хорошо, что теплой день ишшо больше потеплел. Все, что росло, что зеленело кое-как, тут в скорой в полной рост пошло. Дерева вызнялись, кусты расширились, травки на радостях больше ростом стали, и где было по цветочку на веточке, — стало по букету. Вся деревня стала садом, дома как на именинах сидят, и будто их свеже выкрасили.
Девки, жонки на меня дивуются да поахивают.
Коли что людям на пользу, — мне того не жалко. Я всех девок и баб-молодух одел яблонями. За ними и старухи: котора выступками кожаными ширкат, котора шлепанцами матерчатыми шлепат, котора палкой выстукиват. А тоже стары кости расправили, на меня глядя, улыбаются.
И от старух весело, коли старухи веселы. Я и старух обрядил и цветами и яблоками.
Старухи помолодели, зарумянились. Старики увидали — только крякнули, бороды расправили, волосы пригладили, себя одернули, козырем пошли за старухами.
Наша Уйма вся в зеленях, вся в цветах, а по улице — фруктовый хоровод.
От нас яблочно благорастворение во все стороны понеслось и до городу дошло.
Чиновники носами повели, завынюхивали:
— Приятственно пахнет, а не жареным. Не разобрать, много ли можно доходу взять?
К нам в Уйму саранчой прискакали. Высмотрели, вынюхали. И на своем чиновничьем важном собрании так порешили:
— В деревне воздух приятней, жить легче, на том месте большо согласье, а по сему всему обсказанному — перенести город в деревню, а деревню перебросить на городско место.
Ведь так и сделали бы! Чиновникам было — чем дичей, тем ловчей. Остановка вышла из-за купцов: им тяжело было свои туши с места подымать.
У чиновников были чины да печати: припечатывать, опечатывать, запечатывать. У купцов были капиталы и больши места в городе — места с лавками, с лабазами. Купцы пузами в прилавки уперлись, из утроб своих как в трубы затрубили:
— Не хотим с места шевелить себя. Мы деревню и отсюда хорошо обирам. Мы отступного дать не отступимся. А что касательно хорошего духу в деревне, то коли его в город нельзя перевезти — надо извести.
Чиновникам без купцов не житье, а нас, мужиков, они и ближних и дальнодеревенских грабить доставили.
Чиновницы, полицейшшицы тоже запах яблонной услыхали:
— Ах, как приятны духи! Ах, надобно нам такими духами намазаться.
К нам барыни-чиновницы, полицейшшицы, которы на извошшике, которы пешком — заявились. Увидали наших девок, жонок — у всех ведь оподолье в цветах, оплечье во спелых яблоках. Барыни от зависти, от злости позеленели и зашипели:
— И где это таки нарядности давают, почем продавают, с которого конца в очередь становиться? И кто последний, а я перьва!
А мы живем в саду в ладу, у нас ни злости, ни сердитости. При нашем согласье печки сами топятся, обеды сами варятся, пироги, хлебы сами пекутся.
В ответ чиновницам старухи прошамкали, жонки проговорили, а девки песней вывели:
У Малины в огороде
Нова яблоня цветет,
Нова яблоня цветет,
Всех одаривает!
Барыни и дослушивать не стали! С толкотней, с перебранкой ко мне прибежали. Злы личности выставили, зубы шшерят, глаза шшурят, губы в ниточку жмут.
На них посмотреть — отвернуться хочется.
Я ногами-корнями двинул, ветвями-руками махнул и всю крапиву с Уймы собрал, весь репейник выдергал. На чиновниц, на жон полицейских налепил. Они с важностью себя встряхивают, носы вверх подняли, друг на дружку не смотрят, в город отправились.
Тут попадьи прибежали с большушшими саквояжами. Сначала саквояжи яблоками туго набили, а потом передо мной стали тумбами. Охота попадьям яблонями стать — и боятся: «А дозволено ли оно, а показано ли? Нет ли тут колдовства?»
От страха личности поповских жон стали похожи на булки недопечены, глаза изюминками, а отворенны рты печными отдушинами. Из этих отдушин пар со страхом так и вылетал.
У меня ни крапивы, ни репейника. Я собрал лопухи и облепил одну за другой попадью.
Попадьи оглядели себя, видят — широко, значит — ладно.
В город поплыли зелеными копнами.
Перьвыми в город чиновницы и полицейшихи со всей церемонностью заявились. Идут, будто в расписну посуду одеты и боятся разбиться. Идут и сердито на всех фыркают: почему-де никто не ахат, руками не всплескиват и почему малы робята яблочков не просят?
К знакомым подходят об ручку здороваться, а знакомы от крапивы, от колючего репейника в сторону шарахаются.
По домам барыни разошлись, перед мужьями вертятся, себя показывают. Мужей и жгут и колют. Во всем чиновничьем, полицейском бытье свары, шум да битье — да для них это дело было завсегдашно, — лишь бы не на людях.
Приплыли в город попадьи (а были они многомясы, телом сыты) — на них лопухи в большу силу выросли.
Шли попадьи — кажна шириной зеленой во всю улицу К своим домам подошли, а ни в калитку, ни в ворота влезть не могут.
Хошь и конфузно было при народе раздеваться, а верхни платья с себя сняли, в домы заскочили.
Бедной народ попадьины платья себе перешили. Из каждого платья обыкновенных-то платьев по двадцать вышло.
Попадьи отдышались и пошли по городу трезвон разносить:
— И вовсе нет ничего хорошего в Уйме. Ихни деревенски лад и согласье от глупости да от непониманья чинопочитанья. То ли дело мы: перекоримся, переругаемся — и делом заняты, и друг про дружку все вызнали!
Чиновницы из форточки в форточку кричали, — это у них телефонной разговор, — попадьям вторили.
Потом чиновницы, как попадью стретят, о лопухах заговорят с хихиканьем. А попадьи чиновниц крапивным семенем да репейниками обзывали.
Это значит — повели благородной разговор.
Теперича-то городские жители и не знают, каково раньше жилось в городу. Нонче всюду и цветы и дерева. Дух вольготной, жить легко.
Ужо повремени малость! Мы нашу Уйму яблонями обсадим, только уж всамделишными.
Оглушительно ружье
Сказывал кум Митрий Артамоныч про свое ружье. Ствол, мол, широченный, калибру номер четыре.
Это что четыре! У меня вот тоже ружье, тоже своедельно — ствол калибру номер два!
Кабы ишшо пошире, я бы в ствол спать ложился. А так в нем, в стволе ружейном калибру номер два, я сапоги сушил, провиант носил.
Опосля охоты, опосля пальбы ствол до горячности большой нагревался, и жар в нем долго держался.
В зимны морозы, в осенню стужу это часто было очень к месту и ко времени. От устали отдыхать али зверя дожидать на теплом стволе хорошо! Приляжешь и поспишь часок другой-третий.
Чтобы тепло попусту не тратилось, я к стволу крышку сделал. Выпалю для тепла, крышкой захлопну — и ладно.
Бывало, сплю на теплом ружье, на горячем стволе, а Розка, собачонка, около сторожем бегат. Как какой непорядок: полицейского, волка али друго какого зверя почует, ставень от ствола оттолкнет в сторону, меня холодом разбудит. Ну, я с ружьем своим от всякого оборону имею.
Мое ружье не убивало, а только оглушало: тако оглушительно!
Раз я дров нарубил, устал, на ружье, на теплом стволе спать повалился. Лесничий с полицейским заподкрадывались. Рубил-то я в казенном лесу. Розка молчком, тихомолком ставень откинула, меня холодом разбудила. Кабы малость дольше спал, меня бы сцапали и с дровами и с ружьем.
Я скочил, стряхнулся, выпалил, да так хорошо оглушил лесничего с полицейским, что у них отшибло и память, и всякое пониманье, а движенье осталось. Я на лесничем, на полицейском, как на заправской паре, дрова из лесу вывез. Оглушенных в деревне на улице оставил, сам в лес воротился. Мне и ответ держать не надо.
С этим оглушительным ружьем я на уток охотился. В саму утрешну рань нашел озерко, на нем утки плавают, в прохладительности туманной покрякивают, меня не слышат.
Ружье-то утки видят, — таку махину не всегда спрячешь! Видят утки ружье, да в своем утином соображении ствол калибру номер два за ружье не признают. Это мне даже сквозь туман явственно понятно.
Утки оглушительно ружье за пароходну трубу сосчитали, думали: труба в отпуску и по лесу прогуливает себя. Не все ей по воде носиться, захотела по горе походить. Утки таким манером раздумывают, по воде разводье ведут, плясом кружатся.
Туман тоньшать стал, утки в мою сторону запоглядывали. Я пальнул. Разом все утки кверху лапками перевернулись и стихли.
Надо уток достать, надо в воду залезать, а мне неохота — вода холодна. Кабы Розка, собака, была, она бы живо всех уток выташшила. Да Розка дома осталась.
Жона шаньги житны пекла. Об эту пору у Розки большое дело — попа Сиволдая к дому не допускать. А поп по деревне бродил, носом поводил, выискивал, чем поживиться.
Розка — умна животна — пока все не съедено, пока со стола не убрано, ни попа, ни урядника полицейского, ни чиновника (не к ночи будь помянуто, чтобы во снах не привиделся) и близко не подпустит. Коли свой человек идет: кум, сват, брат, Розка хвостом вилят, мордой двери отворят.
Сижу, про собаку раздумываю, трубку покуриваю, про уток позабыл.
К уткам понятье и все ихни чувства воротились. Утки зашевелились, в порядок привелись, крылами замахали и вызнялись. «Вот, — думаю, — достанется мне от жоны за эко упушшенье».
Утки вызнялись, тесно сбились, совешшание ведут.
Я опять пальнул. Уток оглушило, они на раскинутых крыльях не падают, не летят, на месте держатся.
Тут-то уток взять дело просто. Я веревку накинул и всю стаю к дому поташшил.
Дождь набежал. Я под уток стал и иду, будто под зонтиком. Меня вода не мочит, меня дождь не берет. Дождь пробежал, солнышко припекло, я под утками иду, — меня жаром не печет.
Дома утки отжились, ко двору пришлись. Для уток у меня во дворе пруд для купанья, двор да задворки для гулянья. Как замечу уткинские сборы к полету-отлету, я оглушительно ружье покажу — утки хвосты прижмут, домашностью займутся. Яйца несут, утят выводят.
Вскорости у всех уемских хозяек утки развелись. Всем веселы хлопоты, всем сыто.
Поп Сиволдай выбрал время, когда собаки Розки дома не было, пришел ко мне и замурлыкал таки речи:
— Я, Малина, не как други-прочи, я не прошу у тебя ни уток, ни утят, дай ты мне ружья твоего, я сам на охоту пойду, скорей всех, больше всех разбогатею.
От попа скоро не отвяжешься — дал ему ружье.
Сиволдай с вечера на охоту пошел. Ружье-то ему не под силу нести, он ружье — то в охапке, то волоком ташшит. А к месту приташшился вовремя и в пору.
На озере уток большое стадо — больше, нежели я словил. Поп Сиволдай ружьем поделил и курок нажал, да ружье-то перевернулось, выпалило и оглушило.
Очень хорошо оглушило, только не уток, а Сиволдая! Попа подкинуло да на воду на спину бросило.
Поп Сиволдай не потоп, а весь день до потемни по озеру тихо плавал.
Первыми эко чудо увидали старухи грибницы, ягодницы. Увидали и запричитали:
Охти, дело невиданно,
Дело неслыханно.
Плават поп поверху воды,
Он руками не махат.
Он ногами но болтат.
Большо диво, большо чудо!
Поп молчит,
Не поет, не читат,
У нас денег не выпрашиват.
Это сама больша удивительность!
С того дня стали озеро святым звать. Рыба в озере перевелась, утки на озеро садиться перестали.
Озер у нас много. Мы на других охотимся, на других рыбу ловим.
Гуси
Моя жона картошку копала. Крупну в погреб сыпала, мелку в избу таскала в корм для телят. Копала — торопилась, таскала — торопилась и от поля до избы мелкой картошки насыпала дорожку.
Время было гусиного лету. Увидали гуси картошку, сделали остановку для кормежки. По картошкиной дорожке один-по-один, один-по-один — все за вожаком дошли гуси до избы и в окошко один за одним — все за вожаком. Избу полнехоньку набили, до потолка. Которы гуси не попали, те в раму носами колотились да крылами толкались и захлопнули окошки.
Дом мой по переду два жилья: изба, для понятности сказать, — кухня да горница. Мы с жоной в горнице сидим, шум слышим в избе, как самовар кипит, пиво бродит и кто-то многоголосо корится, ворчит, ругается. Двери толкнули — не открываются. Это гуси своей теснотой приперли. Слышим: заскрипело, затрешшало да и охнуло!
Глянули в окошко и видим: изба с печкой, подпечком, с мелкой картошкой для телят с места сорвалась и полетела.
Это гуси крылами замахали да вызняли полдома жилого — избу.
Я из горницы выскочил, за избой вдогонку, веревку на трубу накинул, избу к колу привязал. Хошь от дому и полверсты места, а все ближе, чем за морем. И гусей хватит на всю зиму есть.
Баба моя мечется, изводится, ногами в землю стучит, руками себя по бокам колотит, языком вертит:
— Ишшо чего не натворишь в безустальной выдумке? Да и како тако житье, коли печка от дому за полверсты? Как буду обряжаться? На ходьбу-беготню, на обрядно у меня ног не хватит!
Я бабу утихомирил коротким словом:
— Жона, гуси-то наши!
Баба остановилась столбом, а в головы ейной всяки мысли скоры да хозяйственны соображенья закружились. Баба рот захлопнула, мыслям смотр сделала, их по порядку-череду поставила. Побежала к избе — как так и надо, как по протоптанному пути. Гусей разбирать стала: которых на развод, которых сейчас жарить, варить-коптить. И выторапливается, кумушкам и соседкам по всей Уймы гусей уделяет. За дело взялась и устали не знат, и дело скоро ладится; которо в печке пекется, которо в руках кипит, жарится. Моя баба бегат от горницы до избы, от избы до горницы, со стороны глядеть — веревки вьет.
Вот и еда готова. Жона склала в фартук жареных гусей, горячи шаньги сверху теплом из печки прикрыла, в горницу приташшила, на стол сунула, тепло вытряхнула. Приловчилась да эдаким манером и друго всяко варенье-печенье наносила и каждой раз тепла притаскивала. В горнице тепло и неугарно. По дороге тепло проветрилось, угар в сторону ушел.
Моя жона в удовольствии от хозяйничанья. Уемски бабы, тетки, сватьи, кумушки, соседки, жонины подруженьки гусей жарят, варят, со своими мужиками едят, сидят — тоже довольны. У меня жилье надвое — изба от горницы на отлете, не как у всех, а по-особому, — и я доволен.
Только попу Сиволдаю все мало. Надобно ему все захватить себе одному.
— Это дело и я могу, — кричит Сиволдай. — Картошки у меня с чужих огородов много, мне старухи кучу наносили, и на отбор мелкой.
Поп Сиволдай насыпал картошки и к дверям, и к окошкам, и в избу, и в горницу, и на поветь. Гуси не мешкали и по картофельным дорожкам через двери да в окошки полон дом набились.
Поп обрадел, двери затворил, окошки захлопнул. Поймал гусей. Гуси крылами замахали, поповской дом подняли. В доме-то попадья спяшша была, громко храпела, проснуться не успела. Поп Сиволдай за гусями жадно бросился, про попадью позабыл. Вот поп заподскакивал:
— Да что это тако! Да как это так? Да кричите всем миром, чтобы гуси воротились, чтобы дом мне отдали и чтобы жону вернули! Гусей я отпушшу, — вам, мужикам, гуси скорее поверят. Кричите всем деревенским сходом!
Мы Сиволдаю проверку сделали:
— А ты, поп, гусей-то отпустишь, ежели дом с попадьей вернут тебе гуси?
— Да я дурак, что ли, чтобы столько добра мимо рук пустить? Вы только мне дом с гусями воротите!
Мы в поповски дела вмешиваться не стали. Мы-то разговоры говорим, а гуси в поповском дому летят да летят, их уж криком не остановишь. Сиволдаю и дому жалко, и попадью жалко — кого жальче, и сам не знат. Запричитал поп, возгудел:
Последня жона у попа,
И ту гуси с домом унесли.
И унесли-то в светлой горнице,
С избой да ишшо со поветью.
Остался я без жопы один,
Заместо дому у меня баня да овин.
А и улетела моя попадья
В теплу сторону.
Как домой она воротится,
Да как начнет она бахвалиться:
«Я там-то была, то-то видела,
На гусях в дому перьва ехала».
Мне и дому-то жаль,
А жальче же всего,
Что побыват жона дальше мого.
Снаряжусь-то я за жоной в поход.
Ты гляди, удивляйся, честной народ!
Поп Сиволдай скоро справился, выбрал место просторно, сел, приманкой для гусей приладился. В широки полы мелку картошку насыпал кучей, в руки взял четвертную с самогоном: «под парами» самогонными легче лететь будет! Тетка Бутеня на голову попу самоварну трубу поставила, для обшшего веселья не пожалела. Сидит поп Сиволдай взабольшным летным самогонным пароходом.
Не сколь долго поп спутья ждал. Гуси картошку увидали, Сиволдая не приметили, прогоготали и порешили взять с собой запас кормовой. Ухватились гуси за полы длинной одежи поповской.
Смотрим: вызнялся поп Сиволдай на гусях, летит и самогон пьет. Гуси народ тверезой, пьяного духу не любят, особливо самогонного, — гуси попа Сиволдая бросили.
Поп шлепнулся в болото. Под Сиволдаем чавкнуло, брызги в стороны выкинуло. Поп сидит и барахтатся, боится, чтобы в болото совсем не провалиться. Сидит вопит:
— Люди, ташшите меня из болота, покудова я глубоко не просел, покудова у вас не все гуси съедены, я вам есть помогу, а которы еще не початы — тех я себе про запас приберу, вас от хлопот освобожу.
Наши бабы, как причет, затянули:
Ты бы, поп Сиволдай,
На чужо не зарился,
Мы бы тогда бы
Тебя бы, попа бы,
Вызволили.
Мы бы тогда бы
Тебя бы, попа бы,
Скоро выташшили.
А теперь, Сиволдай,
Ты в болото попал подходяшшо.
Кабы не твоя толшшина, ширина,
Ты бы в болото ушел с головой.
Мы бы тогда бы
За тебя бы, попа бы,
В ответе не были.
Мы бы тогда бы
Тебя бы, попа бы,
Тут и оставили!
Уж вечером, близко к потемни, мужики выволокли Сиволдая на суху землю, чтобы за попа в ответе не быть. Чиновники да полицейски — одна компания — за попа бы пристали и нас бы оштрафовали.
Попадья и далеко бы, пожалуй, улетела, да во снах есть захотела. Глаза протерла, гусей увидала — и ну их ловить. Разом гусей кучу ошшипала, в печке жарит, варит.
Гуси со страху крылами махать перестали. Дом-то и остановился, в город опустился, да на ту улицу, по которой архиерея на обед везли. Архиерейски лошади вздыбились, архиерейска карета опрокинулась, архиерея из кареты тушей вытряхнуло. Архиерей на четвереньки стал, животом в землю уперся, ему самому и не вызняться. Попы да монахи думали: так и надо — стали также целым стадом кверху задом. И запели монастырским распевом:
Что оно еси
Прилетело с небеси?
Спереду окошки,
Сбоку крыльцо,
Сзади поветь,
Машины нигде не углядеть!
Архиерей сердитым голосом широко рявкнул:
— Что за чудеса без нашего дозволенья? Кто в дому по небу летат, моих коней да моих прихлебателей стадо пугат?
Сиволдаиха в самолутчо платье вырядилась, на голову чепчик с бантом налепила, морду кирпичом натерла-нарумянила, с жареным гусем выскочила и тонким голосом, скорым говорком да с приседаньицем слова сыпать принялась:
— Ах, ваше архиерейство, ах, как я торопилась, ах, к тебе на поклон! Как знаю я, что ты, ваше архиерейство, берешь и тестяным и печеным, ах, запасла для тебя гусей жареных, гусей вареных и живых неошшипанных полной дом. Полна изба, и горница, и поветь — изволь сам поглядеть!
Архиерея поставили на ноги, и все стадо вызнялось вверх головой.
— Ты, Сиволдаиха, нешто забыла, что мне нельзя мясного вкушать?
— А ты, ваше архиерейство, ешь как рыбу. Ах, и хлопочу-то я не за себя, а за попа Сиволдая, чтобы дал ты ему како ни на есть повышенье да доходу прибавленье.
Архиерей услыхал носом — жареным пахнет, дал согласье на все Сиволдаихины прошенья.
— Пусть твой Сиволдай с крестьян больше дерет. От евонного доходу мне половина идет.
Попадья как получила все, что хотела, — гусей-то и припрятала, архиерею только лишних выпустила. Сама Сиволдаиха к дому привязалась кучером, вожжами по стенам захлопала, по повети ременкой хлопнула. Гуси снова размахались.
И вернулась-таки попадья в нашу деревню. Норовила нам на головы сесть, да мы палками прогнали на прежни стойки, на стары сваи.
Робята-озорники дернули попадью за подол, попадья повернулась не в ту сторону, и сел поповский дом на старо место, только передом в задню сторону, задом на улицу. По сю пору так стоит. Коли хошь, поди погляди, сам увидишь!
А гусями-то поп Сиволдай не попользовался. Наши робята до всего дознаться хотят. Отворили двери да окна поглядеть, какая сила попадью в город носила? Гуси и улетели.
Моя отлетна изба всей Уйме на пользу была. Уемски хозяйки свои печи не топили, дров не изводили. Топили одну мою печку в моей отлетной избе, топили в очередь и охапками таскали тепло по избам, а в печке варили, жарили, парили кому что надобно — всем жару хватало.
Артельной горшок наварней кипит, артельна печка жарче греет.
В моей избе в артельной печке тепло тако прочно было, что в холодну пору мы теплом обвертывались и ходили без пальтов, без ватных пиджаков.
Попробовал я теплом-жаром торговать. Привез в рынок свежего жару-пару. Не успел Карьку остановить — налетели полицейски, налетели чиновники у чужого добра руки погреть.
— Что за товар? Как продавашь — отмеривашь, отвешивашь али считашь? Да каку цену берешь? Надобно нам это знать, с тебя налог взять!
Я не перечил, начал разговором:
— Вы, ваши полицейства, чиновничества, на теплых местах сидите, руки у чужого тепла нагреваете. Мой товар как раз про вас, попробуйте нашего деревенского жару.
Развернул я воз с теплом из нашей общественной согласной печки и полицейских, чиновников так «огрел», так им «жару поддал», что они долго безвредными сидели. А мы, деревенские, да городской простой народ, в те поры отдохнули, штрафов не платили, денег накопили, обнов накупили.
Перелилиха
Глянь-ко, гость, на улицу. Вишь — Перепилиха идет? Сама перестарок, а гляди-ко, фасониста идет, буди жгется: как таракан по горячей печи.
Голос у ее такой пронзительной силы, что страсть!
И с чего взялось? С медведя.
Пошла это Перепилиха (тогда ее другомя звали) за ягодами. Ягода брусника спела, крупна. Перепилиха грабилкой собират-торопится.
Ты грабилку-то знашь? Така деревянна, на манер ковша, только долговата, с узорами по краям. У Перепилихи было бабкино приданое.
Ну, ладно, собират Перепилиха ягоды и слышит: что-то трешшит, кто-то пыхтит.
Глянула, а перед ней медведь, и тоже ягоды собират!
Перепилиха со всего-то голосу визгнула. И столь пронзительно, что медведя наскрозь проткнула и наповал убила голосом!
Да над ним ишшо долго визжала боялась, кабы не ожил.
Потом медведя за лапу домой поволокла и всю дорогу голосом верешшала. И от того самого места, где медведя убила, и до самой Уймы как просека стала. Больши и малы дерева и кусты, как порублены, пали от Перепилихиного голосу.
Дома за мужа взялась — и пилила и пилила!
Зачем одну в лес пустил? Зачем в эку опасность толкнул? Зачем не помог медведя волокчи?
Муж Перепилихи и рта открыть не успел. Перепилиха его перепилила. Так сквозна дыра и засветилась.
Доктор потом рассмотрел и сказал:
— Кабы в сторону на вершок — и сердце прошибла бы!
Жить доктор дозволил, только велел деревянну пробку сделать. Пробку сделали. Так с пробкой и ходит мужик. А как пробку вынет — дух через дыру пойдет и заиграт музыкой приятной. Перепилихин муж наловчился: пробку открыват да закрыват, и на манер плясовой музыки выходит. Его на свадьбы зовут заместо гармониста.
А Перепилиха с той поры в силу вошла. Ей перечить никто не моги.
Она перво-наперво ум отобьет голосом, опосля того голосом всего исшшиплет, прицарапат.
Мы только выторапливались уши закрыть. Коли ухом не воймуем, на нас голос Перепилихин и силы не имет.
Одиново видим — куры да собаки всполошились, кто куды удирают. Ну, нам понятно — это, значит, Перепилиха истошным голосом заверешшала.
Перепилиху, вишь, кто-то в деревне Жаровихе обругал али в гостях не назвал самолутчей гостьюшкой.
Перепилиха отругиваться собралась, а для проминанья голоса у нас по Уйме силу пробует.
Мы еенну повадку вызнали дотошно.
Сейчас уши себе закрыли, кто чем попало. Кто сковородками, кто горшком, а моей жоны бабка ушатом накрылась. А попадья перину на голову вздыбила, одеялом повязалась да мимо Перепилихи павой проплыла. Уши затворены, — и вся ересь голосова нипочем.
Перепилиха со всей злостью крутнулась на Жаровиху, — по дороге только пыль взвилась.
А жаровихинцы уже приготовились. Двери, окошки затворили накрепко, уши позатыкали. А дома, которы не крашены, наскоро мелом замазали — на крашеное Перепилихин голос силы не имет.
Вот Перепилиха по деревне скется, изводится. А все безо всякого толку.
Жаровихински жонки из окошек всяки ругательны рожи корчат.
Увидала Перепилиха один дом некрашеной, к тому дому подскочила, дак от дома враз щепки полетели.
Жил в том дому мужичонко — Опарой его звали, житьишко у Опары маловатно, домишко чуть на ногах стоял. Опара догадался да на крышу с ушатом воды вылез да и чохнул на Перепилиху цельным ушатом.
Перепилиха смолкла и силу голосову потеряла.
Тут выскочили жаровихински жонки, а в ругани они порато наторели. И взялись они Перепилиху отругивать и за старо, и за ново, и за сколько лет вперед.
Про воду мы в соображенье взяли. Стали Перепилиху водой утихомиривать, а коли в гости придет — мы ковшик с водой перед носом поставим, чтобы голосу своему меру знала.
Перепилиху мы и на обчественну пользу приспособлям: как чишшемину задумам, сейчас Перепилиху пошлем дерева да кусты голосом рубить.
Да ты погодь уходить, слушашь ты хорошо и для меня самолутчей гостюшко, погодь, может Перепилихин муж завернуть, ты евонну музыку сам послушашь.
Пирог с зубаткой
Ты послушай, кака оказия с Перепилихой приключилась.
Завела Перепилиха стряпню, растворила квашню, да разбухала больше меры. Квашню на печку поставила, а сама возле печки спать повалилась. Спят: муж Перепилихи на полатях, а Перепилиха на полу выхрапыват, вроде как сказку сказыват с припевом.
Слышит Перепилихин муж: ровно кто босыми ногами по избе шлепат. Глянул с полатей: квашня-то пошла, тесто через край да на Перепилиху валит, Перепилиха только во снах причмокиват да поворачиватся.
Перепилихин муж сдогадался: печку затопил скорешенько, жону посолил, тестом обтяпал, маслом смазал — да в печку.
Испек-таки пирог!
Нас, мужиков, скликать стал к себе в гости:
— Кумовье-святовье, други-соседи! Покорно прошу ко мне в гости, моей стряпни, моего печенья есть! Испек я пирог, с зубаткой, приходите скорее, пока горячность из пирога не ушла!
Мы думали: кака така горячность? Ежели и простынет малость, то горячим запьем. А сами выторапливаемся.
Сам знашь, не в частом быванье мужикову стряпню есть доводится. В Перепилихину избу явились, как по приказу, — все сразу.
Ну и пирожишше! Отродясь такого не видывали! Пирожишше со всех сторон ширше стола и толстяшший и румяняшший, просто загляденье, а не пирог!
Мы к нему и присватались. Бороды в сторону отворотили с помешни. И — как следоват быть, как заведено у нас — у рыбника верхну корку срезали да подняли.
А в пироге Перепилиха! Запотягивалась и говорит: «Ах, как я тепло выспалась!»
Что тут было — и говорить не стану!
Опосля того разу я долго и к маленьким пирогам с опаской подходил.
Мужа Перепилихиного мы через пять ден увидали. Висит на плетню, сохнет. Мы его не с первого разу и признали-то. Думали, какой проходяшший али проезжий — так перемят, так измочен да так измочален! Это все Перепилиха: где бы с поклоном мужику благодаренье сказать за тепло спанье в пироге, а она его в воде вымочила, да им-то, мужиком-то своим, всю избу вымыла, вышоркала да и приговаривала:
— После твоих гостей для моих гостей избу мою!
День и ночь висел на плетне Перепилихин муж. На другой день его Перепилиха сняла, палками выкатала, утюгом горячим выгладила и послала нас потчевать корками от пирога.
Мы попробовали, а есть не стали — уж оченно Перепилихой пахло (ведь спала она в пироге-то) и злость Перепилихина на зубах хрустела.
Пуля
Был у нас капитан один, звали его Пуля. Рассказыват как-то Пуля:
— Иду мимо Мурмана. Лежу в каюте у себя. Машина постукиват исправно, как ей полагается, а чую: ходу нет. Вышел на мостик, глянул: стоим.
— Что за оказия?
Посмотрел на корму, а от винта широченным кругом треска глушена вскидыватся, взблескиват серебром. Винт колотит да рыбинами брызжет. А пароход — на месте. Мы это на треску наехали!
Матросы пристали ко мне, канючат:
— Дозволь, капитан, рыбу взять. Столько добра задаром пропадат! Да и трюмы пусты!
Ну, ладно, дозволил. Пароход полнехонек набрали. Сами зиму ели, да в рынке сколько продали.
На треске в море гуляю
Да что Пуля! Я вот сам на лодчонке выскочил в океан (тоже на Мурмане дело было), от артели поотстал да вздремнул, и сон такой ладной завидел, да лодка со всего ходу застопорила разом. Я чуть за борт не вытряхнулся. Протер глаза — я со всего парусного да поветренного ходу на косяк трески налетел.
В беспокойство не вошел: не к чему себя тревожить. Оглядел косяк, глазами смерил — вышло километров на пятьсот. Длинной палкой толшшину узнал — вышло двадцать пять метров. Дело подходяшше: ехать можно. А на тресковой косяк лесу всякого нанесло. Смастерил избушку, огонь развел, уху сварил. Рыба тут. На рыбе еду, рыбу варю. Поел да поспал, поспал да поел. Меня треска и кормит и везет.
Пора бы к дому сворачивать. А весь косяк хвостом мотнул да на север повернул. И понеслись мы мимо Новой Земли, в океан Ледовитой. На льдинах встречных алыми платочками, что жоне с Мурмана вез, знаки свои поставил. Погулял, и домой пора. Досками отгородил от всего косяка клин километров в пять. Высмотрел вожака-рыбу, накинул узду. И так ладно вышло! Правлю, куда надо, весь косяк вожжой поворачиваю. К дому свернул. Шибче парохода шел.
В городе у рыбной пристани углом: пристал. Пристал и почал торговать свежей треской: на что свежее — живая в воде.
Продавать стал дешевле богатеев, по грошу на пуд скидывал! Ну, покупатели ко мне валом валили.
Опосля торговли смотряшши, лицезряшши столпились на берегу. Антересно всем поглядеть на тресковой косяк. Ну, я пушшал гулять по треске робят малых с учительшами задарма, а с других жителей по копейке брал.
— Да ты, гость разлюбезной, кушай, ешь треску-то!
Из того самого стада, на котором я ехал, только уже не обессудь — посолена.
Белой медведь
Я тебе не все ишшо обсказал, что в море было. Знаки-то я поставил, платки по ветру полошшет. Платок алой что огонь взблескиват, что голос громкой песню вскрикиват.
Когда ишшо кто увидит его, а медведь заприметил — да ко мне. А у меня не то что ружья, а и ружьишка заваляшшого нет никакого. Одначе, варю себе треску, ем да и в ус не дую.
Медведь наскочил на косяк, лапами хватат, а рыба в воде склизка. С краю за рыбий косяк ни в жизнь не ухватишься!
Сам-то я сижу на середке: мне что, а ты достань!
Медведь с ярости начал рыбу жрать: столько нажрал, что брюхо полнехонько и одна рыбина в зубах увязла. Я медведя веревкой достал к себе и шкуру снял.
Погодь, сичас покажу шкуру, сам увидишь, что медведь полюсной, шкура болшашша, шерсть длинняшша. Кажда волосина метров пять, а вся шкура — двадцать пять.
Жона из шерсти всяко вязанье наделала. И тако носко — чем больше носишь, тем новей становится.
Дайко–ся привстану да шкуру достану, чтобы ты не думал, что все это я придумал.
Ох, незадача кака! Ведь я запамятовал, что шкуру-то губернаторской чиновник отобрал. Увидал у меня. Я шкурой зимой дом закутывал: так и жили в теплой избе и топили саму малость, только для варева да для печенья. Теплынь была под шкурой-то!
Пристал чиновник:
— Не отдашь — в Сибирь!
На чиновников управы не было. Взял я шкуру полюсного медведя, шерсть снял, вот тут-то жона и взялась за пряжу. Кожа была мягка, толста, я и ее содрал, — мы потом с кашей съели. Шкуру без шерсти да без кожи (что осталось — и сам не знаю) свернул и отдал чиновнику и объяснил, что так сделал нарочно, чтобы везти было легче. А чиновники в ту пору пониманья настояшшего не имели, только ловко грабить умели.
Чайки одолели
Вот чайки тоже одолевали меня, ковды я на треске ехал.
Треска — рыба деловитая, идет своим путем за своим делом, в сторону не вертит. А чайки на готово и рады.
Ну, я чаек наловил столько, что в городу куча чаек на моем рыбном косяке выше домов была.
В городу приезжим да чиновникам заместо гусей продавал. Жалованьишко чиновничье — считана копейка. Форсу хошь отбавляй — и норовили подешевле купить. Как назвал чаек гусями да пустил подешевле — вмиг раскупили. А мне что? Каб настояшши рабочи люди, совестно стало бы. Чиновникам надо было, чтобы на разговоре было важно да форсисто, а суть как хошь. Чаек, гусями названных, за гусей съели и гостей потчевали.
У чиновников настояшше пониманье форсом было загорожено.
Артелью работал, один за стол садился
Вот я в двух гостях гостил, надвое разорвался! Надвое — дело просто, меня раз — на артель расшшипало!
Ехал я на поезде, домой торопился. Стоял на площадке вагона и поезду помогал — ходу подбавлял: на месте подскакивал, ногами отталкивался.
На крутом повороте меня из вагона выкинуло. Вылетел я да за вагон пуговицей зацепился. Моя жона крепко пуговицу пришила, еенно старанье хорошу службу сослужило.
Я уж дожидался, что меня за каку-нибудь железнодорожность зацепит и растянет, а вышло иначе. Меня начало подбрасывать да мной побрякивать. Где брякнет — там и останусь, там и стою, остановки поезду дожидаюсь. Я по дороге у железной дороги частоколом стал. Сам стою, сам себя считаю, а сколько станций, полустанков, разъездов сам собой частой вехой обвешил — и не сосчитал.
Вот машина просвистела, пропыхтела и остановилась. Дальше вашего края ехать некуда. Коли снизу добираться, то тут конец. Коли от нас ехать, то начало.
Я пуговицу от вагона отцепил. Домой большой компанией (и все я) иду, песни хором пою.
В Уйме люди думали: плотники новы дома ставить пришли, али глинотопы на кирпичной завод.
Я артельно ближе подошел. Люди с диву охнули.
— Ох-ти, гляди ты! Сколько народу — и все, как один Малина! Ну, исто капаны! И до чего схожи — хошь с боку, хошь с рожи! И как теперича Малиниха мужа распознат? Эка орава, и все они на один манер — и ростом, и цветом, и выступью! Которой взаправдошной — как вызнать?
У моей жоны слова готовы:
— Которой на работу ловче и на слово бойче — тот и муж мне. Мой-то Малина работник примерной!
Я на жонино слово поддался и всеми частями за работу взялся. В поле и на огороде работаю, поветь починяю, огород горожу, мельницу чиню, дом заново крашу, в лесу дрова запасаю, рыбу ловлю, бабе к новой юбке оподолье вышиваю, хлеб молочу, пряжу кручу, веревки вью. И все зараз и на все горазд!
За работу принялся в послеобеденно время, а к паужне все сготовлено, все сроблено. Баба моя ходит и любуется, а не может вызнать, которой я настояшший я. Я на всех работах в десять рук работаю.
Вызнялась жона на поветь, будто на работу поглядеть, и метнула громким зовом:
— Малина, муженек! Поди за стол садись, пора пришла есть!
Я к еде двинулся и весь в одного сдвинулся.
В тех местах, где я стоял при дороге у железной дороги, там выросли малиновы кусты и по сю пору растут. Ягоды сочны, крупны, вкусны.
Я худого не выдумываю, а норовлю, чтобы хорошим людям всем хватило да любо было.
Как наряжаются
Наши жонки, девки просто это дело делают. Коли надобно вырядиться для гостьбы али для праздника — всяка самолутчий сарафан свой, а котора и платье на себя наденет, на себе одернет. И кака нать, така и есть.
Взять к примеру мою жону. Свою жону в пример беру — не в чужи же люди за хорошим примером итти?
Моя жона оденется, повернется, — ну, как с портрета выскочила! А ежели запоет в наряде, прямо как на картину любуешься. Ежели моя жона в ругань возьмется, тогда скорей ногами перебирай да дальше удирай и на наряды не оглядывайся.
К разу скажу: котора баба не умет себя нарядно одеть, — хошь и не в дороге, а чтобы на ней было хорошо, — ту бабу али девку и из избы не надо выпускать, чтобы хорошего виду не портила. И про мужиков сказать. Быват так: у другого все ново, нарядно, а ему кажет, что одна пуговица супротив другой криво пришита, и всей нарядности своей из-за этого не восчувствует и при всей нарядности рожу несет будничну и вид нестояшшой.
Сам-то я нарядами не очень озабочен. У меня, что рабоче, что празднично, — отлика невелика. На праздник, на гостьбу я наряжаюсь, только по-своему. Сяду в сторонку. Сижу тихо, смирно и придумываю себе наряд. Мысленно себя всего с головы до ног одену в обновы. Одежу придумаю добротную, неизносную, шитья хорошего, и все по мерке, по росту: не укорочено, не обужено. Что придумаю — все на мне на месте, все на мне впору. Волосы руками приглажу — думаю, что помадой мажу. Бороду расправлю. По деревне козырем пройду.
Кто настояшшего пониманья не имет, тот только мою важность видит, а кто с толком, кто с полным пониманьем, тот на меня дивуется, нарядом моим любуется, в гости зовет-зазыват, с самолутчими, с самонарядными за стол садит и угошшат первоочередно.
И всамделишной мой наряд хулить нельзя. Он не столь фасонист, сколь крепок. Шила-то моя жона, а она на всяко дело мастерица — хошь шить, хошь стирать, хошь в правленье заседать.
Раз я от кума с гостьбы домой собрался. Все честь по чести: голова качатся, ноги подгибаются. Я языком провернул и очень даже явственно сказал: «Покорно благодарим, премного довольны, довольны всей утробой. И к нам милости просим гостить, мимо не обходить». И все тако, как заведено.
Подошел я к порогу. А на порог ногой не встаю, порогов не обиваю. Поднял я ногу, чтобы, значит, перешагнуть, а порог выше поднялся, я опять перешагнул. Порог свою линию ведет — вздымается, а я перешагиваю.
Да так вот до крыши и доперешагивал. Крыша крашена, под ногами гладка. Я поскользнулся и покатился. Дом в два этажа. Тут бы мне и разбиться на мелки части.
Выручила пуговица. Пуговицей я за желоб дожжевой зацепил.
И на весу, да в вольном воздухе, хорошо выспался. Спать мягко, нигде не давит. Под боком — ни комом, ни складкой.
Поутру кумовья-сватовья проснулись, меня бережно сняли.
Городским портным так крепко, так нарядно пуговицу не пришить, как бы дорого ни взяли за работу.
Кабатчиха нарядилась
Кабатчиха у нас в деревне была богаче всех и хвастунья больше всех. Нарядов у кабатчихи на пол-Уймы хватило бы.
В большой праздник это было. Вся деревня по улице гулянкой шла. Все наряжены, кто как смог, кто как сумел.
И кабатчиха выдвинула себя. И так себя вырядила, что народ столбами становился: на кабатчиху глядит, глаза протирают, глаза проверяют, так ли видится, как есть?
Такой нарядности мы до той поры не видывали.
Напялила кабатчиха на себя платье само широко с бантами, с лентами, с оборками, со вставками, с крахмалеными кружевами.
Оделась широко. А кабатчихе все мало кажет. Нарядов много, охота всеми похвастать. Попробовала она комоду с нарядами и шкап платяной на себя взвалить, да силы не хватило ташшить.
Придумала-таки кабатчиха, как народ удивить. Себе на бок по пятнадцать платьев нацепила для показу нарядностей запаса.
На голову надела медной таз для варки варенья. Оно верно: посудина у нас в деревне редкостна, — пожалуй, всего одна.
Медной таз ручкой вперед, малость набок. На таз большой цветошник с живыми розанами поставила, шелковой шалью подвязала.
Под мышкой у кабатчихи охапка зонтиков и парусолей.
Это ишшо не все. Перед самым праздником кабатчик привез из городу больши часы стенны. Часы с боем, с большим маятником. Народ этой обновы ишшо не видал, ишшо не знал.
Кабатчиха и часы на себя налепила. Спереду повесила. Идет и завод вертит, на громкой бой заводит.
Маятник из стороны в сторону размахиват. Народ увертыватся, едва успеват отскакивать.
Пришла пора часам бить. Зашипело. Мы думали, кабатчиха на горячу сковороду села. Шипит громко, а пару не видать и жареным не пахнет.
Часы отшипели и ударили бой частым громким звоном, в один колокол и на всю Уйму.
Как сполох ударили.
Вольнопожарны услыхали, мешкать не стали, выташшили вольнопожарну машину с двенадцатью рукавами. В кабатчиху воду стекой пустили из двенадцати рукавов.
Раз бьют сполох — значит, заливай.
Кабатчиха зонтики, парусоли растопырила, от воды загородилась, домой итти поворотилась. Она бы ишшо погуляла, да наряды носить на своих больших телесах устала и промялась, есть захотела.
Часы все ишшо бьют, вольнопожарна машина воду из двенадцати рукавов все ишшо льет.
Перед кабатчихой разлилась лужа большашша, широчашша, глубочашша — во всю ширину улицы. Лужу не обойти, не перескочить.
Робята догадались, лодку приташшили, перевоз устроили. Цену брали по копейке с человека.
Кабатчиха, чтобы маятнику не мешать, мелкими шажками шла, к перевозу пришагала:
— Везите меня на ту сторону, мне-ка обедать пора!
Робята ей и говорят:
— С тебя, богачихи, копейки одной мало, плати по грошу с пуда. Как раз гривенник и будет.
Кабатчиха носом дернула, медным тазом на голове блеснула, розанами живыми махнула:
— Я с мелкими деньгами не знаюсь. У меня деньги только крупны, сама мелка монета рупь. Сдачи давайте четыре двое гривенных и один гривенник. И сдачу за мной несите до дому, как я мелких денег в руки не беру.
Где робятам эстолько сдачи набрать?
— Хошь, дак садись за весь целковой, а не хошь — жди, ковда лужа высохнет!
У кабатчихи от злости волненье произошло, от голоду в животе заурчало. Отдала рупь.
Тут поп Сиволдай, как по сговору, как по заказу, явился. От праздничных сборов-доходов поповска широка одежа, как амбар, раздулась: карманы, как чемоданы. Поп руки воздел и запел:
Вот как я вовремя, в пору поспел, —
Как в иголку вдел!
Кабатчиху за рупь везите,
За тот же рупь
И меня перевезите!
Сиволдай с кабатчихой в лодку разом сели. Лодка булькнула и на дно ушла.
В большой праздник, да посередке деревни, да при всем честном народе поп да кабатчиха в лужу сели.
Сели от тяжести богатства, которо на них.
Сиволдай руками, ногами воду бурлит, вода через край пошла. Часы маятником размахивают, воду выплескивают. Вода вскорости вся ушла.
На улице только мокро, грязно место, а в нем Сиволдай с кабатчихой сидят, на два голоса кричат, чтобы их вызняли.
Мы бы и вызняли, да об попа, об кабатчиху свои одежи пачкать пожалели.
Крик полицейски услыхали, прибежали. Поглядели, обрадели.
С кабатчихи часы сташшили, все наряды скрутили, себе под мундиры накрутили. У попа евонны доходы, праздничны сборы отобрали.
Попа с кабатчихой из лужи подняли, домой увели, грязный след замели.
Ну, это дело ихно, полицейско, нам оно посторонне.
Громка мода
Сидел я на угоре над рекой, песню плел, река мимо бежала, журчала, мне помогала. Мы с рекой в ладу в согласье живем. Песню плету, узоры выплетаю. Вдруг вывернулся пароходишко прогулошной: городских гуляк возит для проветриванья. Пароходишко свистком, скрипучим визгом меня с песни сбил, я песню потерял на тот час. Я осердился, бечевкой размахнул, свисток сорвал, в тряпку укутал его — и не слышно. Прихожу домой, а у нас франтиха-модница в гостях сидит, из городу приперлась, чаи пьет. Гостья локти расставила, пальцы растопырила для особого модного фасону, чашку в двух перстах едва держит и чай выфыркиват. От своей нарядности важничат и меня зовет:
— Присядь со мной рядышком, песенной выдумшшик!
— От сижанки я. На ногах постою да по избе по хожу.
С ней, модницей-франтихой, рядом-то не очень сядешь — така она широка. Кофта вся в оборках, рукава пузырями, а юбка двадцать три метра в подоле. Эка модность никудышна, не по моему ндраву. Я сзаду подошел и под кофтенны оборки, в юбошны складки свисток визжачий прицепил, тряпицу сдернул и сам отскочил.
У модницы как засвистело! Она руками и так и сяк — не униматся — свистит.
Тут гостья выскочила.
— Извините, мне недосужно боле в гостях сидеть, у меня в середке какое-то расстройство, я к фершалу побегу.
Бежит франтиха по деревне, пыль разметат, кур пугат, а свисток вывизгиват на ходу ишшо звонче. Собаки за франтихой с лаем пустились, ее бежать подгоняют, мимо фершала прогнали.
Модница-франтиха до самого городу юбкой по дороге шмыгала, пыль столбом подымала!
В городу шагу сбавила, ради важности двадцатитрехметровой юбкой вертит, а свисток враскачку да с дребезгом завизжал. Во всех домах отдалось. Городские франтихи-модницы сполошились, в окна выпялились:
— Что оно тако? Откуда экой фасон?
А модница в свистячей, визжачей юбке ужимочку на личике сделала, губки бантиком сложила, чуть-чуть выговорила:
— Это сама нова загранична мода и прозывается «музыкально гулянье»!
Что тут в городу повелось! Модницы широки юбки напялили и под юбки граммофоны приладили, под юбки девчонок услужаюшших посадили. Девчонки граммофонные ручки вертят, пластинки перевертывают, граммофоны все в разноголосицу. У которых под юбкой девчонки на гармони играть нажаривать почали, в бубны бить стали. У кого услужаюшшей девчонки нету али граммофон не припасен, то взяли будильники, на долгой звон завели да под юбки дюжинами прицепили.
Протопопиха малой колокол с соборной колокольни сташшила, подвесила, идет да каблуками вызваниват!
Жители городски едва не оглохли от экого музыкального гулянья.
Начальство скоропалительно собралось и особым приказом, с запрешшением взамуж выходить и с мужем жить, громку моду запретило.
Все живо угомонилось. Во всех концах стихло. Только у модницы-франтихи свистит и свистит без передыху!
Модница ко мне в Уйму рванулась. Да по берегу нельзя — в кутузку заберут, она в лодку скочила и во всей модной нарядности часов пять веслами шлепала, ко мне уж на ночь глядя добралась и давай упросом просить помочь ей против свисту. Ну, как не помогчи, — я завсегда помочь готов!
— Скидывай, кума, юбку, я перестрою на нову моду.
Модница юбку сняла. Я свисток отцепил, в тряпку укутал его, — опять не слышно. От юбки я двадцать два с половиной метра материи отхватил, на портянки многим хватило. Оставил полметра.
На другой день франтиха нову моду завела. По городу в узкой юбке втихомолку пошла. Шшеки надула напоказ, мол, коли юбкой узка, дак с лица широка.
Городски модницы сейчас же увидели, как им остать? В узки юбки вырядились да на улицу выкатились. А не знали, что шшеки надо надуть — модницы полны рты воды набрали: им и тошно, и дых сперло, и перешепнуться нельзя, ведь рты-то полнехоньки водой. Идут модницы, глаза выпучили, губы не то что бантиком — круглой пуговицей. Ножками шажки делают маленьки, шагают скоренько. Идут, буди жгутся.
Тут на модниц полицейской чин наскочил, саблей забречал, ногами застучал.
— По какому случаю ходите да молчите, како тако дело умышляете?
Модницы как фыркнули на полицейского чина водой, разом его обмочили.
— Мы из-за тебя из себя всю воду выпустили, из-за тебя модной фасон потеряли! Коли на громку моду запрет наложен, дак тихомолком ходить нельзя запретить!
Полицейского чина модницы разом оглушили, он ничего не слышит, головой трясет, из себя воду выжимат.
Начальство опять собралось, опять заседало-думало и новой приказ объявило:
— Моду, окромя громкой, каку хошь одевайте, только ртов не открывайте.
Уйма в город на свадьбу пошла
Вот моя старуха сердится за мои рассказы, корит — зачем выдумываю.
А ежели выдумка — правда? Да моя-то выдумка, коли на то пошло, дак верней жониной правды.
К примеру хошь: стоит вот дом, в котором живу, в котором сичас сижу.
По-еенному, по-жониному, дом на четвереньках стоит, — на четырех углах. А по-моему — это уж выдумка. Мой дом ковды как выстанет, и все по-разному.
В утрешну рань, коли взглядывать мельком, дом-то после ночи, после сна при солнышке весь расправится, вздынется да станет всяки шутки выделывать: и так и сяк повернется, а сам довольнехонек, окошками светится, улыбатся.
Коли в дом глазами вперишься, то он стоять будет как истукан, не шевельнется, только крыша на солнце зарумянится.
Глядеть надо вполглаза, как бы ненароком.
Да что дом! Баня у меня и вся-то никудышна, скособочилась, как старуха, да как у старухи-табашницы под носом от табаку грязно — у бани весь перед от дыму закоптел.
Вот и было единово это дело: глянул я на баню вполглаза, а баня-то, как путева постройка, окошечком улыбочку сосветила, коньком тряхнула, сперва поприсела, потом подскочила и двинулась и пошла!
Я рот разинул от экой небывалости, в баню глазами уставился, — баня хошь бы что: банным полком скрипнула да мимо меня ходом.
Гляжу — за баней овин вприпрыжку без оглядки бежит, баню догонят.
Ну, тут и меня надо. Скочил на овин и поехал!
А за мной и дом со свай сдвинулся, охнул, поветью, как подолом, махнул, поразмялся на месте — и за мной.
По дороге как гулянка кака невиданна. Оно, может быть, и не первой раз дело эко, да я-то впервой увидал.
Домы степенно идут, не качаются, для форсу крыши набекрень, светлыми окошками улыбаются, повети распустили, как наши бабы — сарафанны подолы на гулянке. Которы домы крашены да у которых крыши железны — те норовят вперед протолкаться. А бани да овины, как малы робята, вперегонки.
— Эй вы, постройки, постойте! Скажите, куды спешите, куды дорогу топчете?
Домы дверями заскрипели, петлями дверными завизжали и такой мне ответ дали:
— В город на свадьбу торопимся. Соборна колокольня за пожарну каланчу взамуж идет. Гостей уйму назвали. Мы всей Уймой и идем.
Свадьба
В городу нас дожидались. Невеста — соборна колокольня — вся в пыли, как в кисейном платье, голова золочена — блестит кокошником.
Мучной лабаз — сват — в удовольствии от невестиного наряду:
— Ах, сколь разнарядно! И пыль-то стародавня. Ежели эту пыль да в нос пустишь — всяк зачихат.
Это слово сватово на издевку похоже: невеста — перестарок, не перву сотню стоит да на постройки заглядыватся.
Сам сват — мучной лабаз — подскочил, пыль пустил тучей.
Городски гости расфуфырены, каменны домы с флигелями пришли, носы кверху задрали. Важны гости расчихались, мы в ту пору их, городских, порастолкали, наперед выстали — и как раз впору.
Пришел жених — пожарна каланча, весь обшоркан, шшикатурка обвалилась, покраска слиняла, флагами обвесился, грехи припрятал. Наверху пожарной ходит, как перо на шляпе.
Пришли и гости жениховы — фонарны столбы, непогашенными лампами коптят, думают блеском-светом удивить. Да куды тут фонариному свету супротив бела дня, а фонарям сухопарым супротив нашей дородности.
Тут тако вышло, что, свадьба чуть не расстроилась ведь.
Большой колокол проспал: дело свадебно, он все дни пил да раскачивался, — глаза не вовсе открыл, а так вполпросыпа похмельным голосом рявкнул:
— По-чем треска?
— По-чем треска?
Малы колокола ночь не спали, тоже гуляли всю ночь, — цену трески не вызнали и наобум затараторили:
— Две ко-пей-ки с по-ло-ви-ной!
— Две ко-пей-ки с по-ло-ви-ной!
На рынке у Никольской церквы колоколишки — робята-озорники — цену трески знали, они и рванули:
— Врешь, врешь — полторы!
— Врешь, врешь — полторы!
Большой колокол языком болтнул, о край размахнулся:
— Пусть молчат!
— Не кричат!
— Их убрать!
— Их убрать!
Хорошо ишшо, други соборны колокола остроглазы были, наши приносы-подарки давно высмотрели и завыпевали:
— К нам! К нам!
— С пивом к нам!
— К нам! К нам!
— С брагой к нам!
— К нам! К нам!
— С водкой к нам!
— К нам! К нам!
— С чаркой к нам!
— К нам! К нам!
Невеста — соборна колокольня — ограду, как подол, за собой поташшила. Жених — пожарна каланча — фонарями обставился да кой-кому из гостей фонари наставил. И пошли жених и невеста круг собору.
Что тут началось-повелось! Кто «Во лузях» поет, кто «Ах вы, сени, мои сени». Колокола пляс вызванивают. Все поют вперегонки и без оглядки и без удержу.
Время пришло полному дню быть, городскому народу жить пора.
А домы-то все пьяным-пьяны, от круженья на месте свои места позабыли и кто на какой улице стоит — не знают. Тут пошла кутерьма, улицы с задворками переплелись!
Жители из домов вышли, кто по делам, кто по бездельям, и не знают, как иттить. Тудою, сюдою али этойдую?
Мы, уемски, домой весело шли. По дороге кто вдоль, кто поперек останавливались, дух переводили да отдыхали.
В ту пору ни конному, ни пешему пути не было.
Я на овине выехал, на овине и в Уйму приехал. Дом мой уж на месте стоит. Баня в свое гнездо за огородом ткнулась — спит пьяным спаньем, окошки прикрыла, как глаза зажмурила. Я в избу заглянул, узнать — как жона, заприметила ли, что в городу с домом была?
Жона-то моя, пока в дому мимо лавок в красном ряду кружила, — себе обнов накупила, в новы обновы вырядилась, перед зеркальцем поворачивается — на себя любуется. И я засмотрелся, залюбовался и говорю:
— Сколь хороша ты, жонушка, — как из орешка ядрышко!
Жона мне в ответ сказала:
— Вот этому твоему сказу, муженек, я верю.
Морожены волки
На что волки вредны животны, а коли к разу придутся, то и волки в пользу живут.
Слушай, как дело вышло из-за медведя.
По осени я медведя заприметил. Я по лесу бродил, а зверь спать валился. Я притаился за деревом, притаился со всей неприметностью и чуть-чутошно выставился — посматривал.
Медведь это на задни лапы выстал, запотягивался, ну вовсе как наш брат мужик, что на печку али на полати ладится. А мишка и спину и бока чешет и зеват во всю пасточку: ох-ох-охо! Залез в берлогу, ход хворостинками заклал.
Кто не знат, ни в жизнь не сдогадатся.
Я свои приметаны поставил и оставил медведя про запас. По зиме охотники наезжают не в редком быванье, медведей только подавай.
Вот и зима настала. Я пошел проведать, тут ли мой запас медвежий?
Иду себе да барыши незаработанны считаю.
Вдруг волки. И много волков.
Волки окружили. Я озяб разом. Мороз был градусов двадцать.
Волки зубами зашшелкали — мороз скочил градусов на сорок. Я подскочил, — а на морозе, сам знашь, скакать легко, — я и скочил аршин на двадцать. А мороз уж за полсотни градусов. Скочил я да за ветку дерева и ухватился.
Я висну, волки скачут, мороз крепчат. Сутки прошли, вторы пошли, по носу слышу — мороз градусов сто!
И вот зло меня взяло на волков, в горячность меня бросило.
Я разгорячился! Я разгорячился! Что-то бок ожгло. Хватил рукой, а в кармане у меня бутылка с водой была, — дак вода-то скипела от моей горячности.
Я бутылку выташшил, горячего выпил, — ну, тут-то я житель! С горячей водой полдела висеть.
Вторы сутки прошли, и третьи пошли. Мороз градусов на двести с хвостиком.
Волки и замерзли.
Сидят с разинутыми пастями. Я горячу воду допил. И любешенько на землю спустился.
Двух волков на голову шапкой надел, десяток волков на себя навесил заместо шубы, остатных волков к дому приволок. Склал костром под окошком.
И только намерился в избу иттить — слышу, колокольчик тренькат да шаркунки брякают.
Исправник едет!
Увидал исправник волков и заорал дико (с нашим братом мужиком исправник по-человечески не разговаривал):
— Что это, — кричит, — за поленница?
Я объяснил исправнику:
— Так и так, как есть, волки морожены, — и добавил: — Теперича я на волков не с ружьем, а с морозом охочусь.
Исправник моих слов и в рассужденье не берет, волков за хвосты хватат, в сани кидат и счет ведет по-своему:
В счет подати,
В счет налогу,
В счет подушных,
В счет подворных,
В счет дымовых,
В счет кормовых,
В счет того, сколько с кого!
Это для начальства,
Это для меня,
Это для того-другого,
Это для пятого-десятого,
А это про запас!
И только за последнего волка три копейки швырконул. Волков-то полсотни было.
Куды пойдешь, кому скажешь? Исправников-волков и мороз не брал.
В городу исправник пошел лисий хвост подвешивать. И к губернатору, к полицмейстеру, к архиерею и к другим, кто поважней его, исправника.
Исправник поклоны отвешиват, ножки сгинат и говорит с ужимкой и самым сахарным голоском:
— Пожалте волка мороженого под ноги заместо чучела!
Ну, губернатор, полицмейстер, архиерей и други-прочие сидят-важничают — ноги на волков поставили. А волки в теплом месте отошли да и ожили! Да начальство — за ноги! Вот начальство взвилось! Видимость важну потеряло и пустилось вскачь и наубег.
Мы без губернатора, без полицмейстера да без архиерея с полгода жили, — ну, и отдышались малость.
Своим жаром баню грею
Исправник уехал, волков увез. А я через него пушше разгорячился.
В избу вошел, а от меня жар валит. Жона и говорит:
— Лезь-ко, старик, в печку, давно не топлена.
Я в печку забрался и живо нагрел. Жона хлебы испекла, шанег напекла. Обед сварила и чай заварила — и все одним махом. Меня в холодну горницу толконула. Горница с осени не топлена была. От моего жару горница разом теплой стала.
Старуха из-за моей горячности ко мне подступиться не может.
Старуха на меня водой плеснула, чтобы остынул, а от меня только пар пошел, а жару не убыло.
Тут меня баба в баню поволокла. На полок сунула — и давай водой поддавать.
От меня пар! От меня жар!
Жона моется-обливается, хвошшется-парится.
Я дождался, ковды баба голову намылит да глаза мылом улепит, из бани выскочил, чтобы домой бежать. А меня уж дожидались, моего согласья не спросили, в другу баню поташшили. И так по всей Уйме я своим жаром бани нагрел! Нет, думаю, пока народ в банях парится, я дома спрячусь — поостыну.
Моей горячностью старушонки нагрелись
На улице мужики меня одолели, на ходу об меня прикуривали, всю спину цигарками притыкали.
Домой приташшился — думал отдохнуть — да где тут!
Про горячность мою вся Уйма узнала, через бани слава пошла.
И со всей-то Уймы старушонки пришлепались.
У которой поясницу ломит, у которой спина ноет, али ноги болят, обстали меня старухи и вопят:
— Малинушка, ягодиночка! Погрей нас!
Ну, я вспомнил молоду ухватку, да не то вышло. Как каку старуху за какой бок али место хвачу, — то место и обожгу.
Уселись круг меня старушонки — сморшшенны, скрюченны, кряхтят, а тоже — басятся.
И быдто мы в молодость играм. Старухи взамуж даются, а я сижу женихом разборчивым. Кошка села супротив меня, зажмурилась, мурлыкат от тепла.
Моей горячностью старушонки живо нагрелись, выпрямились, заулыбались, по избе козырем пошли. А новы и в пляс, да и с песней.
Ты, гостюшко, слушатель мой, поди, сам знашь: на тиятрах старухи чуть не столетки и по сю пору песни поют молодыми голосами да пляшут-выскакивают чишше молодых. Это с той поры ишшо не перевелось.
Дак вот — старухи по избе павами поплыли и заприговаривали:
— Ты, Малинушка, горячись побольше, горячись подольше. Мы будем к тебе греться ходить!
Моя баба из бани пришла, на старух поглядела и не стерпела:
— Неча на чужу кучу глаза пучить. Своих мужиков горячите да грейтесь!
Ледяна колокольня
Хватила моя баба отнимки, которыми от печки с шестка горячи чугуны сымат.
Ты отнимки-то знашь ли? Таки толсты да широки, из тряпья шиты, ими горячи чугуны прихватывают, чтобы руки не ожечь. Дак вот с отнимками меня ухватила — да в огород, в сугроб снежной и сунула, да и сказала:
— Поостынь-ка тут, а то к тебе, к горячему, подступу нет. Я из-за твоей горячности не то вдова, не то мужна жона, — сама не знаю!
Сижу в снегу, а кругом затаяло, с огороду снег сошел, и пошло круг меня всяко огородно дело!
Не сажано, не сеяно — зазеленело зелено. Вырос лук репчатой, трава стрельчата, а я посередке, — я как цвет сижу.
От меня пар идет. Пар идет и замерзат и все выше да выше. И вызнялась надо мной выше дома, выше леса ледяна прозрачна светелка-теплица.
Надергал я луку зеленого. Вышел из светелки ледяной.
Лук ем да любуюсь на то, что над огородом нагородил, любуюсь на то, что сморозил.
Бежит поп Сиволдай. Увидал ледяну светлицу и принялся приговаривать:
— Вот ладна кака колокольня! С этакой колокольни звонить начать — далеко будет слыхать! Народ придет, мне доход принесет.
Жалко мне стало свое сооруженье портить, я и говорю попу Сиволдаю:
— На эту колокольню колокола не вызнять, — развалится вся видимость.
Сиволдай свое говорит, треском уши оглушат:
— Я без колокола языком звонить умею. Сам знашь: сколькой год не только старикам, а и молодым ум забиваю!
Вскарабкался-таки поп Сиволдай на ледяну колокольню. Попадью да просвирню с собой заташшил. Обе они мастерицы языками звонить.
Как только попадья да просвирня на ледяно верхотурье уселись, в тую же минуту в ругань взялись. Ругались без сердитости, а потому, что молчком сидеть не умеют, а другого разговору, окромя ругани, у них нет.
Увидел дьячок, смекнул, что дело доходно с высокой колокольни звонить, и стал проситься:
— Нате-ко меня!
Попадья с просвирней ругань бросили и кричат:
— Прибавляйся, для балаболу годен!
Гляжу — и дьячка живым манером на ледяной верх вызняли. Поп Сиволдай для начала руками махнул, ногой топнул. И тут-то вся ледяна тонкость треснула и рассыпалась.
Я на поповску жадность ишшо пушше разгорячился! От моей горячности кругом оттепель пошла, снег смяк. Поп с попадьей, дьячок с просвирней в снегу покатились, снегом облепились, под угором, на реке у самой проруби большими комьями остановились. Ну, их откопали, чтобы за них не отвечать.
Жалко ледяну светлицу-колокольню, а хорошо то, что поп остался без доходу, а народ без расходу.
Поп Сиволдай, как его раскопали, кричать стал:
— К архиерею пойду управу искать на Малину!
Попадья едва уняла:
— Ох, отец Сиволдай, как бы Малина ишшо чего не сморозил. До другой зимы не оттаять.
Ледяной потолок над деревней
Обернулся я на огород, а там расти перестало. Только лук один и успел вытянуться. Моя баба да соседки уж луковицу варят, пироги с луком пекут и кашу луком замешивают. Окромя луку, на огороде никакой другой съедобности не выросло.
Я на попов заново разгорячился, и до самого крайнего жару.
Оттепель больше взялась, и до самой околицы. А за околицей мороз трешшит градусов на двести с прибавкой. Округ деревни мой жар да мороз столкнулись, талой воздух мерзнуть стал, сперва около земли, а потом и выше. И надо всей-то Уймой ледяным куполом смерзлось. На манер потолку. И така ли теплынь под куполом сделалась. Снег — и тот холодить перестал.
Говорят — «улицу не натопишь». А я вот натопил! Потолок над Уймой блестит-высвечиват, хорошим людям дорогу в потемни показыват, а худым глаза лепит да нашу деревню прячет.
Я, как завижу чиновников, полицейских али попов, пушше загорячусь. У нас под ледяным потолком тепла больше становится. Мы всю зиму прожили и печек не топили. Я согревал!
Печки нагрею, бани натоплю. И по огородам пойду. В каком огороде приведется присесть, там и зарастет, зазеленеет, зацветет.
Всю зиму в светле да в тепле жили.
Начальство Уйму потеряло. Объявленье сделало: «Убежала деревня Уйма. Особа примета: живет в ней Малина. Надобно ту Уйму отыскать да штраф с нее сыскать!»
Вот и ишшут, вот и рышшут. Нам скрозь ледяну стену все видно.
Коли хорошой человек идет али едет — мы ледяну воротину отворим и в гости, на спутье, покличем. Коли кто нам нелюб, тому в глаза свет слепительной пушшам.
Теперь-то я поостыл. Да вот ден пять назад доктор ко мне привернул. Меня промерял — жар проверял. Сказал, что и посейчас во мне жару сто два градуса.
Налим Малиныч
Было это давно, в старопрежно время. В те поры я не видал, каки таки парады. По зиме праздник был. На Соборной площади парад устроили.
Солдатов нагнали, пушки привезли, народ сбежался.
Я пришел поглядеть.
Я от толкотни отошел к угору, сел к забору — призадумался. Пушки в мою сторону поворочены. Я сижу себе спокойно — знаю, что на холосту заряжены.
Как из пушек грохнули! Меня как подхватило, — выкинуло! Через забор, через угор, через пристань, через два парохода, что у пристани во льду стояли. Покрутило меня на одном месте, развертело да как трахнуло об лед ногами (хорошо, что не головой). Я лед пробил — и до самого дна дошел.
Потемень в воде. Свету — что в проруби, да скрозь лед чуть-чутошно сосвечиват.
Ко дну иду и вижу — рыба всяка спит. Рыбы видимо-невидимо. Чем ниже, тем рыба крупней.
На самом дне я на матерушшого налима наскочил. Спал налим крепкой спячкой. Разбудился налим да и спросонок к проруби. Я на налима верхом скочил, в прорубь выскочил, на лед налима выташшил. На морозном солнышке наскоро пообсох, рыбину под мышку — и прямиком на соборну плошшадь.
А тут под раз и подходяшшой покупатель оказался. Протопоп идет из собора. И не просто идет, а передвигат себя. Ножки ставит мерно, как счет ведет. Сапожками скрипит, шелковой одеждой шуршит.
Я хотел подумать: «Не заводной ли протопоп-то?» Да друго подумал: «Вот покупатель такой, какой надо».
Зашел протопопу спереду и чинной поклон отвесил.
Увидел протопоп налима, остановился и проговорил:
— Ах, сколь подходяшше для меня налим на уху, печенка на паштет. Неси рыбину за мной.
Протопоп даже шибче ногами шевелить стал. Дома за налима мне рупь дал и велел протопопихе налима в кладовку снести.
Налим в окошечко выскользнул — и ко мне. Я опять к протопопу. Протопоп обрадел и говорит:
— Как бы ишшо таку налимину, дак как раз в мой аппетит будет!
Опять рупь дал, опять протопопиха в кладовку вынесла налима. Налим тем же ходом в окошечко, да и опять ко мне.
Взял я налима на цепочку и повел, как собаку. Налим хвостом отталкиватся, припрыгиват-бежит.
На трамвай не пустили. Кондукторша требовала бумагу с печатью, что налим не рыба, а есть собака охотничья.
Ну, мы и пешком до дому доставились.
Дома в собачью конуру я поставил стару квашню с водой и налима туда пустил. На калитку записку налепил: «Остерегайтесь цепного налима». Чаю напился, сел к окну покрасоваться, личико рученькой подпер и придумал нового сторожа звать Налим Малиныч.
Трюм
В прежне время нам в согласьи жить не давали. Чтобы ладу не было, дак деревню на деревню науськивали.
Всяки прозвишша смешны давали, а другоряд и срамно скажут.
А коли деревня больша, то верхной с нижным концом стравливали, а потом и штрафовали.
Ну, вот было одного разу. Шли мы на пароходе с Мурмана, там весновали товды и летовали. Народ был разноместной.
Заговорили да и заспорили — чья сторона лучше.
Одни кричат, что ихны девки голосистей всех. Ихных девок никаким не перевизжать.
Други шумят, что ихны девки толшше всех одеваются. Сарафаны в поподоле по восемнадцати аршин, а нижных юбок по двадцати насдевывают.
Третьи орут, что у ихных хозяек шаньги мягче всех, коробы жирней, пироги скусней.
Слов уж не хватат, криком берут. Силился я утихомирить старым словом:
— Полноте, робята, горланить. Всяка сосенка о своем боре шумит!
Да где тут! Им как вожжа под хвост попала.
— У нас да у нас!
— У нас бороды гушше да длинней. У нас в старостиной бороде медведь ползимы спал, на него облаву делали!
— А наши жонки ядреней всех!
— А вашу деревню так-то прозывают
— Ах, нашу деревню? Нашу деревню! А про нашу деревню…
И пошло. До того доспорили, что в одном месте ехать не захотели. Кричат:
— Выворачивай каюты, поедем всяк своей деревней!
Только трескоток пошел. Мы, уемски, трюм отцепили да в нем домой и приехали.
Потом пароходски спохватились, по деревням ездили, каюты отбирали. К нам за трюмом сунулись. А мы трюм под обчественну пивоварню приспособили. Для незаметности трюм грязью да хламом залепили.
В этом-то трюму мы сколько зим от баб спасались. И пьем и песни поем — и хорошо.
Сахарна редька
Заболели у меня зубы от редьки. И то сказать — редька больно сахарна выросла в то лето. Уж мы и принялись ее есть.
Ели редьку кусками,
редьку ломтями,
редьку с солью,
редьку голью,
редьку с квасом,
редьку с маслом,
редьку мочену,
редьку сушену,
редьку с хлебом,
редьку терту,
редьку маком,
редьку так!
Из редьки кисель варили.
С редькой чай пили.
Вот приехала к нам городская кума Рукавичка, она привередлива была, важничала: чаю не пила — только кофей и первые восемнадцать чашек без сахару. А как редьку попробовала, дак и первые восемнадцать, и вторые восемнадцать, и дальше — все с редькой.
А я до того навалился на сахарну редьку, что от сладкого зубы заболели и так заболели, что свету невзвидел!
По людскому совету на стену лез, вызнялся до второго етажа, в горнице по полу катался. Не помогло.
Побежал к железной дороге, на станцию.
Поезд стоял.
Я за второй вагон с конца веревку привязал, а другой конец прицепил к зубу больному. Хотел привязаться к последнему вагону, да там кондуктор стоял.
Вот поезд все свистки проделал и пошел. И я пошел.
Поезд шибче, я — бегом. Поезд полным ходом. Я упал да за землю ухватился.
И знаешь что?
Два вагона оторвало!
«Ох, — думаю, — оштрафуют, да ишшо засудят».
В те поры, в старо-то время, нашему брату хошь прав, хошь не прав — плати.
Я разбежался, в вагоны толкнулся да так поддал, что вагоны догнали-таки поезд и у самой-то станции, где им отцепляться надобно.
Покеда бегал да вагоны толкал, — зубна боль у меня из ума выпала, зубы и болеть перестали.
Домой воротился, а кума Рукавичка с жоной все ишшо кофей с редькой пьют.
Держал на уме спросить: «Кольку чашку, кумушка, пьешь, да куды в тебе лезет?» Да язык в другу сторону оборотился, я и выговорил:
— Я от компании не отстатчик, наливай-ко, жона, и мне.
Вскачь по реке
А чтобы бабе моей неповадно было меня с рассказу сбивать, я скажу про то время, ковды я холостым был, парнем бегал.
Житьишко у нас было маловытно, прямо сказать, худяшшо. Робят полна изба, подымать трудно было.
Ну, я и пошел в отхожи промыслы. Подрядился у одного хозяина-заводчика лесу плот ему предоставить.
А плыть надобно одному, плата така, что одного едва выносила. Кабы побольше плотов да артелью, дак плыви и не охни.
Но хозява нам, мужикам, связаться не допускали.
Знали, что коли мы свяжемся, то связка эта им петлей будет.
Ну, ладно, плыву да цигаркой дым пушшаю, сам песню горланю.
Вижу — обгонят меня пароходишко чужого хозяина. Пароходишко идет порожняком, машиной шумит, колесами воду раскидыват, как и путевой какой. И что он надумал?
Мой плот подцепил, меня на мель отсунул. Засвистал, побежал.
Что тут делать? Я ведь в ответе.
Хватил я камень да за пароходом швырнул. Камень от размаха по воде заподскакивал. Коли камень по воде скачет, то мне чего ждать? Разбежался, размахнулся, швырнул себя на воду. Да вскачь по реке!
Только искры полетели. Верст двадцать одним дыхом отмахал.
Догонил пароходишко, за мачту рванул, на гору махнул да закинул за баню да задне огородов. И говорю:
— Тут посвисти да поостынь. У тебя много паров и больше того всяких правов.
Плот свой наладил, песню затянул, да таку, что и в верховьях и в низовьях — верст на пятьсот зазвенело! Я пел про теперешну жону, — товды она в хваленках ходила и видом и нарядом цвела.
Смотрю — семга идет.
— Охти! Да ахти! А ловить-то и нечем.
Сейчас штаны скинул, подштанники скинул и давай штанами да подштанниками семгу ловить. В воде покедова семга в подштанники идет-набивается, я из штанов на плот вытряхиваю. Штаны в реку закину, — за подштанники возьмусь.
А рыба пушше пошла. Я и рубаху скинул под рыбну ловлю. А сам руками машу во всю силу — для неприметности, что нагишом мимо жилья проезжаю. Столько наловил, что чуть плот не потоп.
Наловил, разобрал, — котора себе, котора в продажу, котора в пропажу. В пропажу — это значит от полицейских да от чиновников откупаться.
Хорошо на тот раз заработал. Бабке фартук с оборкой купил, а дедке водки четвертну да мерзавчиков два десятка. (Была мелка така посуда с водкой, прозывалась — мерзавчики.)
Четвертну на воду, мерзавчики на ниточках по воде пустил.
А фартук с оборкой на палку парусом прицепил и поехал вверх по Двине.
Сторонись, пароходы,
Берегись, баржа,
Катит вам навстречу
Сама четвертна!
Так вот с песней к самой Уйме прикатил.
На берег скочил — четвертну, как гармонь, через плечо повесил, мерзавчиками перестукивать почал.
Звон малиновой, переливчатой.
Девки разыгрались, старики козырем пошли!
Не все из крашеного дома, не все палтусину ели, а форс показать все умели.
Моя-то баба в тот раз меня и высмотрела.
А пароходишко-то тот, которого я на гору выкинул, — неусидчив был, он колесами ворочал да в лес упятился.
Стукоток да трескоток там поднял.
У зверья и у птиц ум отбил.
А у птиц ума никакого, да и тот глупой.
Пароходски оглупевших зверей да птиц голыми руками хватали.
Тут мужики эдакой охоте живо конец положили.
С высокой лесины на пароход веревку накинули, пароход вызняли, артелью раскачали и в обратну стать на реку кинули.
Я в ту пору уж дома был. Бабке фартук отдал, дедку водкой поил.
С промыслом мимо чиновников
В старопрежно время над нами, малограмотными, всячески измывались да грабили. К примеру скажу: приходили мы с промысла и чуть к берегу причаливали — чиновники да полицейски уж статьи выписывали и сосчитывали, сколько взять:
Приходно,
Проходно,
Причально,
Привально,
Грузово,
Весово!
Это окромя всяких сборов, поборов, налогов да взяток.
Ну, и мы свои извороты выдумывали. Раз акулу добыли. Страшенна, матерушша увязалась за нами.
Акула в море, что шшука в реке, что урядник в деревне. Шшуку ловим на крючок и акулу на крючок. На шшуку крючок с вершок, а на акулу аршин десять крючишше сладили да для крепости с якорем запустили.
Акула дождалась, разом хапнула и попалась!
Сала настригли полнехонек пароход. Все трюмы набили и на палубе вровень с трубой навалили. Шкуру акулью за борт пустили.
Налетел шторм. Ревет, шумит, море выворачиват! А мы шкурой от воды загородились, нас и не качат. Едем, как в гостях сидим, чай распивам, песни распевам.
Вот к городу заподходили. Жалко стало промысел в чиновничью ненасытну утробу отдавать.
Мы шкурой акульей пароход и перевернули кверху килем. Едем, как аварийны, переоболоклись во все нежелобно — староношенно. Морды постны скорчили, — видать, что в бурю весь живот потеряли.
Ну, мы-то — мы, про нас неча и говорить, а пароход-то, пароход-то, — подумай-ко-се! Ведь как смысляшшой, тоже затих, машину упустил втихомолку, а винтом ворочал и вовсе молчком.
Нам страховку выдали и вспомошшествование посулили. Посулить-то посулили, да не дали, да мы не порато и ждали.
Проехали с промыслом мимо чиновников, — само опасно это место было. Пароход перевернули, он и заработал в полный голос, и винтом шум поднял, и засвистел во все завертки!
Сало той акулы страсть како вкусно было. Мы из того сала колобы пекли, и таки ли сытны колобы, что мы стали впрок наедаться. И так ведь было, что колоб съешь — два месяца сыт.
У нас парень один — гармонист Смола — наелся на год разом. И показывался ездил по ярманкам. Сделали ему такой яшшик стеклянной с дырочкой для воздуху.
Смолу смотрели, деньги платили, а он на гармони нажаривал. И все без еды, и есть не просит, и из яшшика не просится. Учены всяки наблюденья делали: и как дышит, и как пышет.
А попы Смолу святым хотели сделать и доход обешшались пополам делить, да Смола поповского духу стеснялся.
Год показывался, денег полну пазуху накопил и устал. Сам посуди, как не устать: глядят да глядят, до кого хошь доведись — устанет.
А мне эти колобы силу давали. Жона стряпат да печет, а я ем да ем. Жона только приговариват:
— Не в частом виданьи эки колобы, да в сытом еданьи. Ешь, ешь, муженек, я сала натоплю да ишшо напеку!
Я наелся досыта. И така сила стала у меня, что пошел на железну дорогу и стал вагоны переставлять, работал по составу составов. Вагоны гружены одной рукой подымаю и куды хошь несу. Составы каки хошь в минуту составлял.
Раз слышу разговор. Губернатор с чиновниками идет и говорит:
— Потому это я ехать хочу, что оченно доходно — с каждой версты прогоны получу за двенадцать лошадей.
«Ох ты, — думаю, — прогоны получит, а деньги с кого? Деньги с нас, с мужиков, да с рабочих».
Стал свору губернаторских чиновников считать и в уме держу, что всякому прогоны выпишут да выплатят.
А тут с другой стороны заголосили пронзительны голоса, а за ними толсты голоса как рявкнули. Я аж присел и повернулся.
К поезду архиерей идет, его монашки подпирают и визжат скрозь уши. За ними следом дьякона-бассишши, отворят ротишши, духу наберут, ревом рыгнут, — дак земля стрясется.
Монашки все кругленьки да поклонненьки, буди куры-наседки, — идут да клюют, идут да клюют, и поют, устали не знают.
Губернаторски чиновники блеск мундирной выпятили и завыступали индюками перед монашками.
А я все счет веду: архиерею опять за двенадцать лошадей, монашки да дьякона тоже взять не опоздают.
Вот дождал, ковды все в вагон залезли. Хватил тот вагон — да и в лес, да в болото губернатора с архиереем да со сворой ихной и снес. Сам скорей домой, чаю горячего с белыми калачами напился, и сила пропала. От чаю да от калачей белых человек слабнет. Для того это сделал, чтобы по силе меня не разыскали.
Губернатор да архиерей с сопровожатыми из вагона вылезли, в топком болоте перемазались, в частом лесу наряды да одежду оборвали, — до дому добрались в таком виде, что друг на дружку не оглядывались. В тот раз и за прогонами не поехали.
Белуха
Сидел я у моря, ждал белуху. Она быть не сулилась, да я и ждал не в гости, а ради корысти. Белуху мы на сало промышляем.
Да ты, гостюшко, не думай, что я рыбу белуху дожидался, — нет, другу белуху, котора зверь и с рыбиной и не в родстве. Может стать, через каку-нибудь куму камбалу и в свойстве.
Дак вот сижу, жду. По моим догадкам, пора быть белухину ходу. Меня товаришши артель караулить послали. Как заподымаются белы спины, я должон артели знать дать.
Без дела сидеть нельзя, это городски жители бывалошны без дела много сиживали, время мимо рук пропускали, а потом столько же на оханье тратили: «Ах, да как это мы недосмотрели, время мимо носу, мимо глазу пропустили. Да кабы знатье, да кабы ум впору!»
Я сидел, два дела делал: на море глядел, белуху ждал да гарпун налаживал.
Берег высокой, море глубоко; чтобы гарпун в воду не опустить, я веревку круг себя обвязал и работаю глазами и руками.
Море взбелилось!
Белуха пришла, играт, белы спины выставлят, хвостами фигурными вертит.
Я в становишше шапкой помахал, товаришшам-промышленникам знать дал. Гарпуном в белушьего вожака запустил — и попал. Рванулся белушьий вожак и тем рывком сорвал меня с высокого берега в глубоку воду. Я в воду угрузнул мало не до дна. Кабы море в этом месте было мельче верст на пять, я ведь мог бы о каку-нибудь подводность головой стукнуться, а на глубе-то я только отфыркнулся.
Все белушье стадо поворотило в море в голоменье — в открыто место, значит, от берега дальше.
Все выскакивают, спины над водой выгибают, мне то же надо делать. Люби не люби — чашше взглядывай, плыви не плыви — чашше над водой выскакивай!
Я плыву, я выскакиваю, да над водой спину выгинаю.
Все белы, я один черной. Я нижно белье с себя сташшил, поверх верхной одежи натянул. Тут-то я по виду взаправдашной белухой стал, то над водой спиной выстану, то ноги скручу и бахилами, как хвостом, вывертываю. Со стороны поглядеть, дак у меня от белух никакого отлику нет, ничем не разнился, только весом меньше: белухи — пудов на семьдесят, а я своего весу.
Пока я белушьи фасоны выделывал, мы уж много дали захватили, берег краешком чуть темнел.
Иностранны промышленники на своих судах досмотрели белуху, а меня не признали; кабы признали меня — подальше бы увернулись. Иностранцы в наших местах безо всякого дозволения промышляли в бывалошно время. Они вороваты да увертливы.
Иностранцы погнались за белухами да за мной. Я в воде булькаю и раздумываю: настигнут да на гарпун подцепят.
Я кинул в вожака запасной гарпун да двумя веревками от гарпунов правлю на мелко место. Мы-то, белушье стадо, проскочили через мель, а иностранцы с полного разбегу на мели застопорились.
Я шни-вожжи натянул и к дому повернул. Тут туман растянулся по морю и толсто лег на воду.
Чайки в тумане летят, крылами шевелят, от чаячьих крыл узорочье осталось в пустоте туманной. Я узоры эти в память взял, нашим бабам да девкам обсказал.
И по сю пору наши вышивки да кружева всем на удивленье!
Я ногами выкинул и на тумане «мыслете» написал. Так «мыслете» и полетело к нашему становишшу. Я дальше ногами писать принялся и отписал товаришшам:
«Други, гоню стадо белух, не стреляйте, сетями ловите, чтобы мне поврежденья не сделать».
Мы с промыслом управились. Туман ушел. А иностранцы перед самыми нами на мели сидят.
Вот иностранцы забоялись, что мы их в город по начальству представим. Бывалошно начальство, всяки чиновники — умели грабить. Мы раньше-то лето промышляли, зиму промышляли, а жили — едва ноги тянули, все начальство отымало.
Кабы иностранцев остановил чиновник, какой на пароходе проходяшшой, дак иностранцам и охать не пришлось бы. Чиновники в одиночку за ром да за виску како хошь угожденье иностранцам делали.
Иностранцы с судов голосят, выкуп сулят. Нам чужого не надо, мы народ трудовой, нам наше отдай. Взяли у иностранцев промысел, который в нашей воде добыт.
А чтобы не налетел чиновник по чужим делам, — сам-то себя он звал чиновником по крестьянским делам, — да чтобы нас не ограбил, мы иностранцев освободили.
Мы море раскачали! Рубахами да шапками махали-махали. Море сморшшилось, и волна пошла, и валы поднялись, и белы гребешки побежали, вода стенкой поднялась и иностранны суда смыла, как слизнула с мели.
Иностранцы обрадели, что от ответу избавились, нам кричат:
— Русиш бра, много бра!
Это значит: русски добры, очень добры. Мы им в ответ свое слово:
— Ладно, убирайтесь, вперед не попадайтесь, чтобы добротой своей мы не поломали ваших костей, от нашей доброты надорвете животы!
Промысел у нас остался богатой. Перво дело — я стадо пригнал, второ дело — иностранцы нам наловили. В бывалошно время начальство нам не дозволяло иметь настояшшо приспособление для промыслу, как у иностранцев.
Кислы шти
Сегодня, гостюшко, я тебя угошшу для разнолику кислыми штями, — это квас такой есть бутылошной, ты, поди, и не слыхивал про тако питье, про квас такой. Скоро и званья не останется от этого названья.
Вот повсеместно варили кислы шти, а против наших хозяек уемских никому не выстоять. В нашей Уйме кислы шти были первеюшши и такой крепости, что пробки, как пули, выскакивали из бутылок.
Да я вот охотник и на белку с кислыми штями завсегда хожу. Приспособлю пробку, белку высмотрю и палю. И шкурка не рвана, очень ладно выходит.
Раз я в белку только наметил стрелить — гляжу, а меня волки обступили. Глазишшами сверлят, зубишшами шшелкают по-страшному.
А у меня ни ружьишка, ни ножишка, только бутылки с кислыми штями.
Ну, я пробки поослабил да кислыми штями в волков, — да по мордам, да по глазам!
Кислоштейной пеной едучей волкам глаза залепило. Вот они закружились, визгом взялись и всяко соображенье потеряли.
Я волков переловил, хвостами связал, на лыжи стал да в город. На рынок прикатил и продал живьем для зверинца в увоз.
А один волк в кустах остался, там о снег да лапами глаза прочишшал. Глаза прочистил, нашел бутылку кислых штей, — это я обронил, — хватил бутылку зубами, а пробка выскочила да в волка, кислы шти в волка.
И так его зарядили и так волком выпалили из лесу, что волка-то в город бросило!
А тут на углу Буяновой у трактира — у «Золотого якоря» истуканствовал городовой полицейский, он пасть открыл — орал на проходяшших.
Волк со всего маху да городовому в пасть!
А летел волк вперед хвостом. Так ведь и застрял в пасти. Да оттуда и лает на проходяшших жителев да за карманы хватат.
Из карманов деньги и всяко добро падат, полицейский городовой руками махат, чужо добро грабит да в будку к себе сваливат.
Потом этому городовому медаль дали за то, что хорошо лаял на жителев.
Сколько делов всяких у нас с этими кислыми штями было, что и не пересказать.
Да вот хоша бы и птицы.
День был праздник, тепло, сидел я на улице, ладился кислы шти пить да с соседом хороший разговор завел.
Кислы шти посогрелись, пробка выпалила, и шти вверх выфоркнули на полторы версты.
Тут вороны не проворонили, налетели кислы шти пить.
Гляжу — ястреб. И норовит каку ни на есть ворону сцапать.
«Ах ты, — думаю, — полицейска ты грабительска птица, не дам тебе ворон изобижать. Ворона — она птица обстоятельна, около дому приборку делат».
Я в пробку гвоздь всадил — да в ястреба. Ну, известно, наповал.
Это что. А вот орел налетел. Высоко стал над деревней и высматриват. И наприметил-таки, что моя баба коров на поветь загнала — три коровы да две телки — и сама доить стала.
Орел крылами шевельнул, упал на деревню, хватил поветь и вызнял и понес поветь и с коровами, и с телками, и с бабой моей.
Я хватил бутылку кислых штей, гвоздь барочной в пробку вбил да и стрелил кислыми штями в орла.
Гвоздем-то орла проткнуло.
Орел в остатнем лете вернул-таки поветь и с коровами, и с телятами, и с бабой. На те же сваи угодил, малость скособочил.
Думашь, вру? Подем, покажу, сам увидишь, что поветь у меня в одну сторону кривовата.
А с чиновником оказия вышла, и все из-за кислых штей.
Прискакал к нам чиновнишко-сутяга и почал грабить, — давай ему того и другого. И штей кислых бочонок. Жонки бочонок порастрясли да в тарантас под чиновника и сунули. Чиновник на бочонок плюхнулся и придумыват, что бы ишшо стребовать?
Пиво согрелось, бочка, как пушка, разорвалась!
Чиновника выкинуло столь высоко, что через два дня воротило.
Кислы шти пеной взялись, да больше, да больше, да пол-Уймы пеной закрыло. Хорошо, что половину, — друга пол-Уймы нас откопала. Пену кислоштейну топорами рубили да на реку бросали.
По реке что твой ледоход. На пять ден всяко движенье пароходно остановилось.
А рыба пеной этой наелась и така жирна стала, что нырять силы не было, так по верху воды и плавала. Мы рыбу голыми руками ловили.
А птицы столько рыбы наели, что сами ожирели, от жиру пешком ходить стали. Мы и их голыми руками имали.
А звери столько птиц сожрали, что сами ожирели и скоро бегать от жиру занемогли. Мы и их голыми руками ловили.
И лисиц, и куниц, и соболей, и всяких других зверей, которых у нас и вовсе нет.
И были бы мы первыми богатеями, да мы-то имали да ловили голыми руками, а нас чиновники грабили в перчатках.
Дрова
Памяти вот мало стало.
Друго и нужно дело, а из головы выраниваю. Да вот поехал я за дровами в лес, верст эдак с пятнадцать уехал; хватился, а топора-то нет!
Хоть порожняком домой ворочайся, — веревка одна.
Ну, старой конь борозды не портит, а я-то что? И без топора не обойдусь?
Лес сухостойник был. Я выбрал лесину, кинул веревку на вершину да дернул рывком. Выдернул лесину. Пока лесина падала, сухи ветки обломились.
Кучу надергал, на сани навалил, сказал Карьку:
— Вези к старухе да ворочайся, я здесь подзаготовлю!
Карька головой мотнул и пошел.
А я лег поудобней. Лежу да на лесины веревку накидываю, и так, лежа да отдыхаючи, много лесу навалил. Карька до потемни возил. С последним возом и я домой пришел.
Баба-то моя с ног сбилась, дрова сваливала да укладывала. А я выотдыхался.
Баба захлопотала и самовар скорей согрела и еду на стол поставила. Меня, как гостя, угошшат за то, что много дров заготовил.
С того разу я за дровами завсегда без топора езжу. Только табаком запасаюсь, без табаку день валяться трудно.
Своя радуга
Ты спрашивашь, люблю ли я песни?
— Песни? Да без песни, коли хошь знать, внутрях у нас одни потемки. Песней мы свое нутро проветривам, как избу полыми окошками. Песней мы себя, как лампой, освешшаем.
Смолоду я был песенным мастером, стихи плел. Девки в песенны плетенки всяку ягоду собирали. Вот под квас али под молоко стихоплетенье не годилось. Покеда не пропето, все решотно живет.
Песни люблю, рассказы хороши люблю, вранья не терплю! Сам знашь: что ни говорю — верно, да таково, что верней искать негде.
Раз ввечеру повалился на повети и чую: сон и явь из-за меня друг дружке костье мнут. Кому я достанусь? Сон норовит облапить всего, а явь уперлась и пыжится на ноги поставить.
Мне что? Пушшай себе проминаются. Я тихим манером — да в сторону, да в ту, где девки поют, да и до девок не дошел.
Мимо песня текла широка, гладка. Как тут устоишь? Сел на песню, и понесло и вызняло меня в далекой вынос.
Девки петь перестали, по домам разошлись, а меня все ишшо несет, да все выше и выше, — куды, думаю, меня вынесет? Смотрю, а впереди радуга. Я в радугу вцепился, уселся покрепче и поехал вниз.
Еду, не тороплюсь, не в частом быванье ехать — в радужном сверканье. Еду да песни пою, — это от удовольствия: очень разноцветно-светло вокруг меня. Радугу под собой сгибаю да конец в нашу Уйму правлю, да к своему дому, да в окошко. Да с песней на радуге в избу и вкатился!
А баба моя плакать собралась, черно платье надела да причитанье в уме составлят; ей соседки насказали:
— Твоего-то Малину невесть куда унесло, его, поди, и в живности нет, ты уж, поди, вдова!
Как изба-то светом налилась, да как песню мою услыхала жона, разом на обрадованье повернула. Самовар согрела, горячих опекишей на стол выставила.
И чай в тот раз пили без ругани. И весь вечер меня жона «ягодиночкой» да «светиком» звала.
На улице уже потемень, а у нас в избе светлехонько. Мы и в толк не берем — отчего, да и не думам. А как я шевельнусь, свет по избе разными цветами заиграт!
— Что такое?
А дело просто. Я об радугу натерся, — вот рубаха да штаны и светят. А сам знашь: протерты штаны завсегда хорошо светятся, а тут терто об радугу. Но и спать пора и нам и другим, а свет из наших окошек на всю деревню, все и не спят. Снял рубаху да штаны, в сундук убрал. А как потемни наступят, мы выташшим рубаху али штаны и заместо лампы подвесим к потолку.
И столь приятственный свет был, что не только наши уемски, а из дальних деревень стали просить на свадьбы для нарядного освешшенья.
Эх, показать сейчас нельзя. Вишь портки на Глинник увезли, а рубаху — на Верхно Ладино. Там свадьбы идут, дак над столами повесили мою одежду, как лимонацию.
Да ты, гостюшко, впредь гости, на спутье захаживай, приворачивай. Будут портки али рубаха дома, — полюбуешься, сколь хорошо, когда своя радуга в дому.
Рыбы в раж вошли
Весновал я на Мурмане, рыбу в артели ловил. Тралов в ту пору в знати не было, ловили на поддев, ловили ярусами — по рыбе на крючок. Так это мешкотно было, что терпенья не стало глядеть.
А рыбы в воде вперегонки одна за другой: столько рыбы, что вода кипит.
Надумал я ловить на подман. Прицепил на крючок наживку да в воде наживкой мимо рыбьих носов и вожу. Рыбы в раж вошли, норовят наживку слопать. А я ловчусь, кручу да мимо продергиваю.
Рыбы всяку свою опаску бросили, так их разобрало. И треска, и пикша, и палтусина, и сайда — все заодно, хвостами по воде бьют, шумят:
— Отдай нам, Малина, наживку, аппетиту нашего не дразни!
Я ногами уперся да приослабил крючок с наживкой. Рыбы кинулись все разом. За крючок одна ухватилась, а друга за ее, а там одна за другу!
Вот тут надо не зевать. Я натужился, чуть живот не оборвал, махнул удилишшем да и выкинул рыбу из воды. Да с самого с Мурмана перекинул в нашу Уйму!
Рыбу отправил, а как будут знать, чья рыба и откудова?
Я живым манером чайку рыбиной подманил, за лапы да за крылья схватил. К носу бумажку с адресом нацепил, а на хвост — записку жоне и отписал:
«Рыбу собирай, соли. Да не скупись — соседям дай. В море рыбы хватит. Я малость отдохну да опять выхвостывать начну».
Об этом у кого хошь спроси, вся деревня знат. А чайка приобыкла и часто у нас гашшивала да записочки носила из Уймы на Мурман, а с Мурмана в Уйму, и посылки, если не велики, нашивала, так и звали — «Малининска чайка».
Как домой воротился — на пароходе али в лодке? На! На пароходе!
Его жди сколько ден! Мурмански пароходы ходили одинова в две недели, да шли с заворотами. А я торопился к горячим шаньгам.
Смастерил ходули, да таки, чтобы по дну моря шагать, а самому над морем стоять, и чтобы волной не мочило. Табаку взял пять пудов. Трубку раскурил, дым пустил — и зашагал. С трубкой иттить скорей, и устали меньше.
Потом береговые сказывали, что думали: какой такой новой пароход идет? Над водой одна труба, а дыму за пять больших пароходов. Эдакова парохода ишшо ни в заведеньи, ни в знати нет!
Вышагиваю себе да дым пушшаю. Пристал. А тут иностранец меня настиг. Ну, ухватку ихну иностранскую я знаю: капитан носом в карту либо в кружку с пивом, штурмана на себя любуются или счет ведут, сколько наживут; команда друг дружку по мордам лупят (это у них заместо приятного разговора — мордобой, и зовут эту приятность «боксой»).
Я остановил ходули, трубку выколотил. Иностранец со мной сравнялся, я на его и ступил да ходулями к мачтам прижался, оно и неприметно, и еду. Есть захотел. Вижу — капитану мясо зажарили, полкоровы. Я веревкой мясо зацепил и поел. Так вот до городу доехал. Иностранцы смотрят только на выгоду и ни разу на верех не посмотрели.
А от города до Уймы — рукой подать.
Пляшет самовар, пляшет печка
Согрела моя баба самовар, на стол горячий вызняла, а сама коров доить пошла. Сижу, чаю дожидаюсь. Страсть хочу чаю. Самовар — руки в боки, пар пустил до потолку и насвистыват, песню поет:
Топор, рукавицы,
Рукавицы, топор!
Я глядел– глядел, слушал-слушал да подхватил самовар за ручки, и пошли мы в пляс по избе.
Самовар на цыпочках, самовар на цыпочках. А я всей ногой, а я всей ногой!
Печка в углу напыжилась, сначала на нас и не глядела, да не вытерпела, присела, попыхтела да и двинулась. Да кругом по избе павой, павой! А мы с самоваром за ней парой, парой. Да вприсядку! Самовар на цыпочках, самовар на цыпочках, а я всей ногой, а я всей ногой!
Печка пляшет да песню поет:
Я в лесу дрова рубила,
Рукавицы позабыла!
Самовар паром пофыркиват и звонко подсвистыват:
Березова лучина,
Растопка моя!
Мне бы молча плясать, да как утерпишь, ковды печка поет, заслонкой гремит. Самовар поет, отдушиной свистит. Я и не стерпел да тоже запел:
Эх, рожь не молочена,
Жона не колочена!
Только поспел эти слова выговорить, слышу — в сенях жона подойником гремит да по-своему орет:
Ох, лен не молочен,
Да муж не колочен!
Я едва успел в застолье заскочить, на лавку шлепнуться. Самовар на стол скочил. Печка что! Печка в углу присела, заслонкой прикрылась, посторонком тепло пушшат, как так и надо, как и вся тут!
А каково нам с самоваром? Я едва отдыхиваюсь, а у самовара от присядки конфорка набок, кран разворотился, из крана текет, по столу текет, по полу мокрехонько!
Вот жона взялась в ругань! На что я к этому приобык, и то в удивленье пришел: и откуда берет, куды кладет?
Отвернулся я к стене, а под лавкой поблескиват штоф, полуштоф да четвертна. И все с водкой. Поблескивают, мне подмигивают, в компанию зовут.
Я и ране их слышал, как с самоваром вприсядку плясал. Слышал, что кто-то припеват да призваниват нашему плясу. А это значит, склянцы под лавкой в свой черед веселились. Я их туды от жоны спрятал да и позабыл.
Ну, я к ним, я к ним и одну бутыль за пазуху, другу за другу, а третью в охапку — и на поветь.
В избе жона ругатся-заливатся!
Наругалась баба, себя в сердитость загнала, к кровати подскочила, головой на подушку шмякнулась, носом в подушку сунулась, а ноги от сердитости на полу позабыла. И вот носом ругательски высвистыват-спит, а ногами по полу, что силы есть, стучит. К утру от экова спанья-отдыха из сил баба выбилась пушше, чем от работы. Подумай сам — чем боле баба спит, тем боле ногами об пол стучит!
А я на повети водку выпил, голову на подушку уложил, а всего себя на сене раскидал, ноги в сторону, руки наотмашь. Сплю — от сна отталкиваюсь!
Сила моей песни плясовой
Сплю это я веселым сном да во сне носом песню высвистываю.
Утресь, глаза отворить ишшо не успел, — слышу топот плясовой, поветь ходуном ходит: я уж весь проснулся, а носом плясовую тяну-выпеваю.
Глянул глазами: на повети пляс! Это под мой песенной храп вся живность завертелась.
Куры кружатся, петух вертится, телка скоком носится, корова ногами перетоптыват, свинья хвостиком помахиват, а сама — кубарем да впереверты. Розка-собачонка порядок ведет — показыват, кому за кем по роду-племени в круге иттить. Розка показыват, ковды вприсядку, ковды вприскок.
Глянул во двор, а по двору Карька пляшет, гривой трясет, хвост вверх подбрасыват, ногами семенит с переборами. От Карькиной пляски весь двор подскакиват, дом ходуном пошел!
Баба моя сердито спала ту ночь, вся измаялась. И сердитым срывом меня в город срядила, огородно добро на рынок везти.
Стала баба на телегу груз грузить, сама себя не понимат, а сердитой бабе не перечь!
Картошки натаскала возов пять, да брюквы, да репы, да свеклы, да хрену, да редьки, да моркови, да капусты кочанами, да гороху стрючками — и все возами.
Я только стою да умом прикидываю — на сколько это подвод? Да хватит ли во всей Уйме коней, ежели всю эту кладь разом везти?
А Карька глянул на меня, глазом моргнул — это знак подал, что не я поташшу, а он.
Я на телегу скочил, песню запел развеселу. Карька ногой топнул, другой топнул и заприплясывал на все четыре. Телега заподпрыгивала, кладь заподскакивала, да вверх, да вверх, да вся и вызнялась над телегой!
Брюква с картошкой, с репой, со свеклой вызнялись стволами, редька с хреном, с морковью — ветками, Гороховы стрючки — листиками, а капустны кочаны — как цветы на большом дереве!
Вся кладь над телегой, а пусту телегу катить натуга не нужна. Карька пляшет, телега скачет, кладь над телегой идет.
Увидели жители, что я небывалошны дерева на рынок везу, и бросились за моим возом. А как услыхали, что я пою, песню мою подхватили да всем городом запели. Ох и громко! Ох и звонко!
Да кого хошь коснись, — всем антиресна эка небывальшина.
За Карькой, за мной, за телегой моей, за возом моим до самого рынку народ шел густой толпой, и все песню пели.
На рынке я Карьку остановил. Карька стал, телега стала, кладь моя по корзинам да по кучам склалась и больше, чем полрынка!
Живым манером все распродал. Деньги в карман положил.
А тут чиновник один подвернулся, ко мне в карман, как к себе домой, как в свой и заехал. А в кармане у меня завсегда кот сидит, ковды в город еду. Кот царапнул чиновника за руку. Чиновник сначала взвыл, потом выфрунтился, под козырек взял и извинительным тоном гаркнул:
— Прошу прошшенья, как есть я не знал, что в вашем кармане сберегательная касса с секретным замком!
Я ответного слова сказать не успел. Тут поднялся переполох. Я думал и дело како. А всего-то полицмейстер на паре прикатил. Полицмейстер, вишь ты, услыхал пенье многоголосо, ковды я без мала со всем городом пел.
— Како тако происшествие? Почему песни поют без мого дозволенья? — Это полицмейстер орет.
Полицейский подскочил, рапортует:
— Как есть этого мужичонка лошаденка привезла всякого припасу разом на полрынка, жители увидали и от удивленья безо всякого позволенья проделали общее пенье!
Полицмейстер — ко мне, да все криком:
— Может ли твоя лошадь меня везти? Меня пара коней через силу возит, как есть я чин с большим весом!
Отвечаю:
— Карька увезет, ваше полицейство, только прикажите городовым полицейским на телегу сесть да для параду шашки наголо взять кверху.
Полицмейстер посвистал, городовы полицейские сбежались, на телегу уставились тесно, шашки вверх подняли. Полицмейстер посередке сел вольготно.
Я песню завел веселу, Карька взвился плясом-топотом. Телегу заподбрасывало. Полицейски заподскакивали да теснотой держатся. Полицмейстер выскочил над телегой да на шашки и присел, его подкинуло — да обратно на шашки. Его и дальше подбрасывает да обратно на шашки садит. Хоша шашки и тупы, а штаны полицмейстера в клочье прирвали!
Народ хохочет с прозвизгом. Полицмейстеру неохота показать, что попался мужику. Полицмейстер подскакиват с улыбочкой да шинелишкой голы места закрыват. Скоро и шинелишка в клочье. Полицмейстер около своего дому изловчился, скочил в сторону, к народу передом повернулся, чтобы драного места не видно было, да так задом в калитку, задом на крыльцо, задом в дом ускочил!
А полицейские подскакивают да «ура» кричат! Я их очумелых поперек улицы в пять рядов поставил, чтобы никто мне домой ехать не мешал.
Тут купцы со всего рынка пристали ко мне:
— Подвези ты нас на этой лошади, мы тебе по полтине с рыла дадим!
Тут разным жителям загорелось ехать на моей телеге. Прибежали охотники, их двадцать пять, рыболовы, их двадцать пять, ягодников двадцать пять, грибников двадцать пять, дачников двадцать пять, гуляюшших двадцать пять, провожаюшших двадцать пять и купцов двадцать пять, уж на телеге сидят, — и всех до Уймы.
Чем телега хуже трамвая? И на телеге можно друг на дружку сажать.
Деньги собрал. Песню свою запел, поехал. Телегу заподбрасывало, гостей заподкидывало, да ряд над рядом, ряд над рядом. Которой седок не порато высоко-скоро выскакиват и на телегу норовит присесть, — того я быдто ненароком ременкой огрею, он и выше подскочит.
На телеге только я один. Карьке легко, мне весело!
В Уйму приехал, гостей по домам самоварничать пустил. Жоне деньги за огородно добро высыпал, обсказал, что кот сберег.
Баба мого кота молоком напоила, мне самовар поставила и светлым словом заговорила.
Сижу это я у горячей печки с горячим самоваром, с жоной словами говорю, а с печкой, с самоваром переглядкой разговор веду, и договорились мы: как моя баба спать повалится — мы сызнова спляшем. От пляски не устанешь — только разомнешься.
Зажигалка
Была у меня зажигалка раздвижна. В обыкновенно время — для простого закуру цигарок, а коли куда порато скоро запонадобится — я колесико у зажигалки на полной ход крутану и еду, как на лисапеде. Ежели по ровному месту али под гору, то ходко идет.
Да что, — я на лисапедных гонках перву премию получил!
Мою зажигалку не одинова брали на рыбалку. Там зажигалкой огонь разводили, в зажигалке уху варили, чай кипятили, — мне свежу рыбу привозили. Сам ел, кошек кормил.
Зажигалка у меня, как подзорна труба, была. Фитиль выдерну, зажигалку переверну и далеко вижу. Раз вот так смотрю на дорогу, а верст за десять от меня обоз с водкой идет, из Архангельского городу водку по деревням в кабаки везут, подвод боле полста. У задней подводы веревки ослабли, и яшшик с бутылками на дорогу скатился. Я зажигалку обернул другим концом и прокричал мужикам, чтобы яшшик подобрали.
Мужики ко мне заехали, четвертную водки завезли. И все бы ладно, зажигалка всем бы на пользу была, да дело вышло с теткой Бутеней, что в Лявле живет.
Скрозь зажигалку глядеть — все одно как из ружья стрелять: так же навылет и через все видно.
Гляжу это я тихим манером скрозь зажигалку свою и увидал: в деревне Лявле тетка Бутеня спать повалилась. В зажигалку я все еенны сны вижу.
Тетка Бутеня страсть охоча в гости ходить. Куды ее позовут — она и идет и приговариват:
— Сегодня — мы к вам, а завтра — нас к вам милости просим.
А коли приведется, что у тетки Бутени гости соберутся, дак она, тетка Бутеня, с поклонами угошшат и скорыми словами приговариват:
— Что вы все едите, так не посидите.
Да растяжно добавлят:
— Ку-шай-те, по-жа-лус-та!
Спит это тетка Бутеня и видит во снах, что в гостях во всем удовольствии сидит.
Перед теткой Бутеней пироги понаставлены: пирог с треской, пирог с палтусиной, пирог с шепталой, пирог с морошкой и всяческо друго печенье и варенье.
Столько наставлено, столько накладено, что и с натугой не съесть.
А хозяйка вьюном вьется круг тетки Бутени.
А тетка Бутеня рассказыват для наведки, — она здря слов не бросат, — как еенны две кумы из гостей домой голоднехоньки пришли, и какой это страм был хозявам, у которых гостили. Одна кума на Юросе гостила, друга — в Кривом Бору. И быдто тетка Бутеня спрашивала у кумушек:
— Почто, желанны, невеселы, почто ноги не плетут, из гостей идучи, головушки не качаются, глазыньки не светят и личики ваши не улыбчаты? Али нечем угошшаться было?
Одна кума и заговорила:
— Всего было много наготовлено и налажено, на стол наставлено. Только ешь. Да угошшали без упросу.
Другая кума таку ужимку сделала, так жалостливо заговорила — ажно слезу прошибло:
— Где я была, там тоже всего напасено — на стол принесено, ешь всей деревней, — на столе не убудет. И угошшали с упросом, — да чашку без золота подали. Я и есть и пить не стала.
Хозяйка завертелась, буди ее шилом ткнули, в кладовку сбегала, достала чашку бабкину всю золоту. Тетку Бутеню угошшат с великим упросом.
А тетка Бутеня от удовольствия даже икнула, а сама от стола малость отпятилась и ишшо рассказала:
— А третья моя кумушка в гостях была, — чаем-кофеем и всяким хорошим угошшали, а выпить и не показали.
Хозяйка подскочила, руками плеснула:
— Ах, да как это я! Да видно ли дело, чтобы в Малинином рассказе да без малиновой настойки!
Достала хозяйка посудину стеклянну, рюмки налила, тетке Бутене на подносе поднесла. И хозяйка и гостья заколыхались поклонами. Поклоны все мене и мене и с самым маленьким, с самым улыбчатым — рюмки ко рту поднесли — пригубить приладились.
Я зажигалку перевернул да и крикнул в само ухо тетке:
— Тетка Бутеня!
От тетки Бутени сон отскочил и с пированьем, и с чашкой золотой, и с рюмкой налитой.
Ты не гляди, что до меня было тридцать пять верст, — тетка Бутеня так меня отделала, что я сколько ден людям на глаза не показывался.
Снежны вехи
Простое дело — снег книзу уминать, — ногами топчи, и все тут. Я вот кверху снег уминаю, — делаю это, ковды снег подходящий, да ковды в крайность запонадобится.
Вот дали мне наряд дорогу вешить. А мне неохота в лес за вехами ехать. Тут снег повалил под стать густо. Ветра не было, снег валился степенно, раздумчиво, без спешности, как на поденшшине работал.
Я стал на место, куды веха надобна, растопырился и заподскакивал. Снег сминаться стал над головой, аршин на пятнадцать выстал столб. Я в сторону поддался, столб на месте остался.
Я на друго место — и там столб снежной головой намял. И каким часом (али минутошно более) я всю дорогу обвешил, столбы лопатой приравнял да два про запас припас.
Перед самой потеменью солнышко глянуло и так малиново-ярко осветило мои столбы-вехи.
Я сбоку да скоком водой плеснул, свет солнечно-малиновой в столбы и вмерзнул.
Уж ночь настала, темень пала, спать давным-давно пора, а народ все живет, все на свет малиновой любуется, по дороге мимо ярких вех себе погуливат.
Старухи набежали девок домой гнать:
— Подите, девки, домой, спать валитесь — утром рано разбудим! Не праздник всяко сегодня, не время для гулянки!
А как увидали старухи столбы солнечно-малинового свету, на себя оглянулись. А при малиновом сияньи все старухи, как маковы цветы, расцвели и таки ли приятственны сделались!
Старухи сердитость бросили, личики сделали улыбчаты и с гунушками да утушками поплыли по дороге.
Да ты знашь ли, что гунушками у нас зовут? Это ковды губки бантиком, с маленькой улыбочкой.
К старухам старики пристали и песни завели, дак и песни звонче слышны, и песни зацвели.
А девки — все, как алы розаны!
Это по зимной-то дороге сад пошел. Цветики — красны маки да алы розаны. А песни, как широки огнисты ленты, тихими молньями полетели далеко вокруг, сами светят, звенят и летят-летят над лесами, над полями в самую дальну даль.
Вот и утро стало, свет денной в полную силу взошел. Мои столбы-вехи уж не светят, — только сами светятся, с светлым днем не спорятся.
Время стало по домам иттить, за кажнодневну работу приматься. Все в черед стали, и всяк ко мне подходил с благодарением и поклон отвешивал с почтением и за работу мою, и за свет солнечной, что я к ночи припас. Девки да бабы в согласьи за руки взялись, вереницей до Уймы да по всей Уйме растянулись.
Вся дорога расцвела!
Проезжи мужики увидали, от удивленья да от умиленья шапки сняли. «Ах!» — сказали и до полден так и стояли. После одели шапки набекрень, рукавицы за пояс, рожи руками расправили и — за нашими девками да за бабами вослед.
Мы им поучительной разговор сделали: на чужой каравай рта не разевай.
Проезжи разговор по-хорошему обернули:
— А ежели мы сватов зашлем?
Мы ответили:
— Девок не неволим, на сердце запрету не кладем.
А худой жоних хорошему дорогу показыват.
В ту зиму сваты да сватьи к нам со всех сторон наезжали. Всякой деревне лестно было с Уймой породниться. Наши парни тоже не зевали, где хотели — выбирали.
Нас с жоной на свадьбы первоочередно звали и самолутчими гостями величали.
Ну, ладно. В то-то перво утро, как все по домам да на работу разошлись, я запасны столбы к дому прикатил да по переду по углам и поставил прямь окон. С вечера, с сумерок и до утрешново свету у нас во всем доме светлехонько, и по всей Уйме свет.
Прямо нашево дому народ на гулянку собирался, песни пели да пляски вели.
Так и говорили:
— Пойдемте к Малинину дому в малиновом свету гулять!
Днем столбы не гасли, а светили про себя, как камни-самоцветы, а с вечера полным светом возьмутся.
У меня каждой день гости и вверху и внизу. И свои и городски — наезжи. Моя жона перьвы дни с ног сбилась: стряпала, пекла, варила да жарила. Моя жона у нас на Уйме перьвой хозяйкой живет.
Слыхал, поди, стару говору: «Худа каша до порогу, хороша — до задворья», — а моя жона кашу сварит — до заполья идешь, из сыта не выпадешь!
Наши уемски народ совестливой: раза два мы их угошшали, а потом со своим стали приходить. Водки не пили, ругань бросили. Сидим по-хорошему, разговаривам али песни поем. Случится молчать, то молчим ласково, с улыбкой.
Городски с собой всякой съедобности корзины привозили. Мы с жоной только самовары ставили.
Девки к моим малиновым столбам изо всех сил выторапливались. Кака хошь некрасива, во что хошь, одета, — как малиновым светом осветит, — и с лица кажет распрекрасна, и одежой разнарядна. Да так, что из-под ручки посмотреть. Из-за реки в гости звали, рукава обрывали!
Говорят: «Куру не накормишь, девку не оденешь, девкам сколько хошь обнов — все мало».
В ту зиму одели-таки девок — малиновым светом! Матери сколько денег сберегли, новых нарядов не шили. Наши девки нарядней всех низовских богатеек были.
Река уже стала
В старо время наша река шире была. Против городу верст на полтораста с прибавком. Просторно было и для лодок, для карбасов, для купанья, ну, и для пароходов места хватало.
Оно все было ладно, да заречным жонкам далеко было с молоком в город ездить. Задумали жонки заречны тот берег к этому пододвинуть, к городу ближе, втемяшилась эта затея жонкам, мужики отговорить не могли.
Что ты думашь? Пододвинули! Дело известно: что бабы захотят, то и сделают.
Вот заречны жонки собрались с вечера. В потемках берег нашшупали, руками в берег уперлись, ногами от земли отталкиваются, кряхтят, шепотом «Дубинушку» запели:
Мужикам мы уважим,
Давай, жонки, приналяжем, —
Эй, дубинушка, сама пойдет!
Берег-то и сшевелился и заподвигался. Бабы не курят, на перекурошну сижанку время не тратят. Берег-то к самому городу дотолкали бы, да согласья бабьего ненадолго хватило.
Перьво дело кажной жонке охота свою деревню ближе к городу поставить, ну, как тут не толкнуть соседку, котора свой бок вперед прет? Начали переругиваться по-тихому, а как руганью подхлестнулись, и голосу прибавили.
Из Лисестрова тетка Задира задом крутанула да в заостровску тетку Расшиву стуконула. Обе разом во весь голос ругальной крик подняли. А другим-то как отстать?
И лисестровски, глуховски, заостровски, ладански, кегостровски, глинниковски, и ближнодеревенски, и дальнодеревенски в ругань вступились. Друг дружку стельными коровами обозвали. Ругань — руганью, да и толкотня в ход пошла!
Ведь у всех жонок под одеждой полагушки с молоком, простокваша в крынках двурушными корзинами, а под фартуками туеса с пареной брюквой. Заречны жонки все до одной с готовым товаром собрались. Думали берег дотолкнуть, да в рынок кажна хотела первой скочить и торговать.
Жонки руганью да потасовкой занялись и берег сдвигать с места бросили. Над рекой от ругани визг переполошной, да от полагушек брякоток столь громкой, что спяшшие в городу проснулись. А приезжие громко сдивовались:
— Совсем особенны и музыка и пенье. Слыхать, что поют ото всего сердца и со всем усердием!
Приезжие особенны записаны граммофоны наставили и визжачу ругань и полагушечной стукоток на запись взяли.
Как ободнело, осветило, городски жители долго глаза протирали, долго глазам не верили, друг дружке говорили:
— Гляньте-ко, что оно такое? Река уже стала! Завсегды река была полтораста верст, а тут до того берега и всего три версты, а мало где пять. Кто дозволил тот берег чуть не под нос городу поставить?
Ближе всех к городу кегостровски неуемны выперлись.
Пока жонки толкались да дрались, все полагушки опрокинули, молоко пролили. Молоко над рекой текет. Простокваша со сметаной в крынках у берега плешшется. В тот день городски жители молока нахлебались задарма, в кого сколько влезло. Водовозы в бочках молоко по домам развозили заместо воды. Молоко — рекой над рекой — и в море, все море взбелело. С той поры и по сю пору наше море Белым и прозыватся.
Начальство хотело тот берег обратно поставить за полтораста верст, да приспособиться не смогло. Руками в берег упереться можно, а ногами от воды не много оттолкнешься. Меня не спросили как. А сам я называться не стал.
Тешшина деревня ближе стала, мне и ладно.
Апельсин
Да вот на прежной ширине реки ехал я вечером на маленьком пароходишке. Река спокойнехонька, воду прогладила, с небом в гляделки играт — кто кого переглядит. И я на них загляделся. Еду, гляжу, а сам апельсин чишшу и делаю это дело мимодумно.
Вычистил апельсин и бросил в воду, в руках только корка осталась. При солнешной тиши да яркости я и не огорчился. На гладкой воде место заприметил. Потом, как семгу ловить выеду, спутье не спутье, а приверну к апельсиновому месту поглядеть, что мой апельсин делат?
Апельсин в рост пошел: знат, что мне надо скоро, — растет-торопится, ветками вымахиват, листиками помахиват. Скоро и над. водой размахался большим зеленым деревом и в цвет пустился.
И така ли эта была распрекрасность, как кругом — вода, одна вода, сверху — небо, посередке — апельсиново дерево цветет!
Наш край летом богат светом. Солнце круглосутошно. Апельсины незамедлительно поспели. На длинных ветвях, на зеленых листах — как фонарики золоты поблескивают.
Апельсинов множество, видать, крупны, сочны, да от воды высоко — ни рукой, ни веслом не достанешь, на воду лестницу не поставишь.
Много городских подъезжало, вокруг кружили, только все безо всякого толку.
Раз буря поднялась, воду вздыбила. Я в лодку скочил, карбасов штук пятнадцать с собой прихватил, к апельсиновому дереву подъехал. Меня волнами подкидыват, а я апельсины рву. Пятнадцать карбасов нагрузил с большими верхами, и лодка полнехонька. На самой верхушке один апельсин остался. Пятнадцать карбасов да лодку с апельсинами в деревню пригнал. Вся деревня всю зиму апельсинами сыта была.
Франт и франтиха
Меня раздумье берет, как достать остатний апельсин. В праздник, в тиху погоду подъехал в лодочке к апельсиновому дереву. А около дерева, тоже в лодочке, франт да франтиха крутятся. Франт весь обтянут-перетянут — тонюсенькой, как былиночка. А франтиха растопоршена безо всякой меры, у нее и юбка на обручах. Франтиха выахиват:
— Ах, ах! Как мне хочется апельсина! Ах, ах! Не могу ни быть, ни жить без апельсина!
Франт отвечат:
— Для вас, апельсин? Я-с сейчас!
Поднялся обтянутой, тонконогой и, как пружинка, с лодки скочил. Апельсина не достал, на лодку упал на самую корму. Лодка носом выскочила — франтиху выкинуло. Франтиха над водой перевернулась, на воду юбками с обручами хлопнулась и завертелась, как настояшша пловуча животна!
Франт в лодке усиделся, франтихе веревочку бросил и мимо городу на буксире повез.
Франтиха на лице приятность показыват, ручкой помахиват и так громко говорит:
— Теперь ненавижу в лодках ездить, как все, и ах как антиресно по реке самоходом гулять на особицу!
Городски франтихи с места сорвались, им страсть захотелось так же плыть и хорошими словами, сладким голосом на берегу гуляюшших дразнить. Франтихи в воду десятками скакать почали.
Народ, которой безработной был, много в тот раз заработали — мокрых франтих из воды баграми выволакивали. Смотреть было смешно, как на балаганно представление.
К апельсиновому дереву воротился, дерево нагнул и апельсин сорвал.
Дело стало к вечеру, вода стихла, выгладилась, заблестела. Небо в воду смотрится, на себя любуется.
Я стал апельсин чистить без торопливости, с раздумчивостью. Это я под стать реке того часа тихим стал.
Вычистил апельсин, на себя оглянулся, а у меня только корки в руках. Апельсин я опять мимодумно в воду бросил. Должно, опять впрок положил.
Чтобы всего себя не разбудить
Вот скажу тебе, гость разлюбезной, как я дом-от этот ставил. Нарубил это я лесу на дом, а руки размахались, устатка нет, — стал рубить соседу на избу, да брату, да свату, да куму с кумой, да своим, да присвоим. Нарубил лес, — вишь, дом слажен, что нать.
А как домой лес достать? Лошади худы. И эстолько лесу возить время много нать.
Вот я уклал лес по дороге до самой деревни, укладывал в один ряд концом на конец. Подождал, ковды спать повалятся наши деревенски, чтобы как грехом не зашибить кого.
Вот уж ночь, все угомонились. Я топором по последнему бревну стуконул что было силы! Бревно выгалило, да не одно, а все на попа стали. На попа стали да перевернулись и сызнова на попа, да впереверт, и так до моего дому. У дома склались кучей высоченной.
Посмотрел кругом — все спят. По времени знаю — долго ишшо не заживут. А моя стара избенка ходуном ходит, — это жона моя храп проделыват. Хотел поколотиться, да будить боязно, как бы чем не огрела.
Залез на бревна на верех и спать повалился. Заспал крепко-накрепко с устатку.
Утресь просыпаться почал, — жить уж пора. Да хорошо, что проснулся не разом, а вполсна. Смотрю, а мои соседи да родня лес из-под меня раскатали, кому сколько надобно, а я в высях лежу на крепком сне, как на подпорке, да носом песни высвистываю!
Скорей рукой один глаз прихватил да половину рта.
Одной половиной сплю-тороплюсь, а другой в соображение пришел и вполголоса, чтобы всего себя не разбудить, кричу вниз:
— Сватушки, соседушки! Ташшите лестницу да веревки, — выручайте тако спанье перводельное!
Приладился на снах крепких спать. Коли где в высях засплю и жить время придет, то я только норовлю легонько просыпаться. Как попроснусь, так и опушшусь, а как совсем глаза открою, — я уж на земле али на крыше какой.
Одинова я заспал так в высях, а меня ветром в город отнесло да и спустило на пожарну каланчу, на саму маковку, где сигналам место. Проснулся, а внизу — шум, тревога, народ всполошился. Ишшут: где горит? Это меня за сигнал приняли.
Даже не били — домой отпустили. Только полицейский штрафу рупь содрал за спанье в неуказанном месте.
В одно время в двух гостях гошшу
Всяка пора быват: в другу пору никто не дергат, никуды не зовут, дома сижу и сам с собой разговор веду: спорю редко, больше по согласью расспрашиваю да себя слушаю. С хорошим человеком хорошо поговорить.
Ты думашь, я только и умею сам с собой говорить? Нет, я умею разом в разны стороны ходить. Быват так, что здеся неловко, а то в работу запрягают, в каку не хочу, — я даюсь, на место становлюсь, а сам надвое, да так, что и здеся и в сторону на хороший разговор, а то просто в спанье. Только спать не во всю ширину разворачиваюсь, — половина-то меня в работе али в перепалке какой, а друга половина спит.
В другу пору почетить начнут, меня и жону в гости звать станут. Особливо в праздники разом в разны стороны зовут, приглашают. Да не то что зовут да быть не велят, а с упросом, с уговором, с принукой за руки тянут.
Иных зовут:
— Милости просим мимо наших ворот с песнями!
Мы с жоной экого званья не слыхивали, на все с поклоном:
— Садитесь — прижмитесь, хвастайте — языком хрястайте!
Ну, вот, в гости зовут, да из разных деревень. Жона хочет в одну, где чаем поить будут, а мне охота в другу, где пивом угошшать станут. Хошь разорвись.
С жоной спорить не стал, а попросту я разорвался, да так, что весь я здесь с жоной, и весь я в другу деревню к пиву тороплюсь.
Пришел туды, — а там пиво наварено, вино напасено. Пришел с жоной сюды, — тут самовар кипит.
Я обеими половинами слышу и вижу и для проверки языком ворочаю. Жона оборотилась ко мне со словами:
— Что, муж, городишь без толку?
А как толком говорить, коли я тут и там здороваюсь? Тут с хозяевами об руку, а с остальными гостями да гостьями поклоном не всех поименно, а всех вообще. Опосля хозяев здешних я об руку там здоровался с хозяевами да с разлюбезными приятелями.
Потчевать стали, ну, я отказываюсь: тут — от чаю, там — от пива-вина. Так, для прилику, с час поотказывался. Потом здеся стакан взял, стал ложкой болтать, а там хлопнул пива стакан, водки стакан да вина стакан. Про чай здешной и позабыл. Здешна хозяйка и спрашиват:
— Кум Малина, что ты ложкой болташь, а сахару не кладешь, чаю не пьешь?
А у меня рот выпивкой занят, мне не до чаю, я и объяснение даю:
— Коли эдак семьдесят пять разов болтонуть, то чай сладкой станет и без сахару. Только болтать не считать: коли боле али мене семидесяти пяти разов — сладости не будет.
Вот все взялись здесь ложками болтать, только звон пошел. А я туды, там к куме Капустихе и присел. Капустиха — баба ладна, крепка, как брюква. Все чередом пошло. Здеся чай пью с прохладкой, разговор веду молчанкой. А там я язык распустил, словами сыплю, за своими словами, своими мыслями сам едва поспеваю, над столом разговорны сузоры развесил. А мне чарки — то хозяин-кум, то хозяйка-кума, то сват-сосед, то кума Капустиха подносят. Я на ножки стал, поклон отвесил да от всех за всех и выпил. Это и здесь к разу пришлось: от здешной хозяйки чаю стакан горячего принял, — холодной за окошко выплеснул. Моя баба ко мне с улыбчатыми словами:
— Ах, муженек, сколь ты сегодня расхорошой, и с чаю у тебя глаза заблестели, засмеялись!
Я на жонино слово уши развесил да оттудова сюды одну загогулину словесну и перекинул! Там-то с пивом да с водкой загогулина под раз была. А тут хозяйка да гости успели чаем обжегчись; ну, мужикам, хоша и тверезым, конфуз не нужон, — мужики хохотом грохнули:
— Ну-ко, ишшо, Малина! Молчал-молчал да сказанул!
Там по новому стакану обносят, там пью, там куму Капустиху прихватил и в пляс пошел, а здеся все застолье ходуном пошло.
От пляски меня скружило, и я заместо Капустихи свою бабу обнял. Баба моя закраснелась, как в перву встречу, и говорит:
— И… что ты, ведь я-то, чай, тебе жона!
Я отсюда — туды, к Капустихе: там пляшу, здеся пот утираю.
От тихого сиденья, от пляса, от молчанья да от веселого разговору, от чаю да от хмельного меня закружило. Позабывать стал, которо здесь, которо там. Там тверезым показался, — все пьяны сдивились, мне кричат:
— И силен же ты, Малина, на хмельно! Гляньте-ко, бабы, девки, на Малину: выпил в нашу меру, а с виду нисколь не приметно.
Сюды пьяным обернулся, тут гогочут:
— Ну, и приставлюн, ну и притворшшик, Малина! С нами чай пил, а сидит, как пьяной!
Кума, хозяина здешнего, по уму ударило, он мне тихим шепотом:
— Дай-косе и мне развеселья выпить.
Как кума не уважить? Я оттуда сюды стакан за стаканом — да в кума, да в кума. Кум мой мало несет головой и вскорости на четвереньках по избе пошел.
Я там с Капустихой парой в кадрели скачем. Сюда при саживаюсь для разгону жониного сумленья. От деревни до деревни, где я гостил, пять верст, ежели без обходов. Я и мечусь, устал, а от тамошней гостьбы отстать жалко, а от здешной никак нельзя, потому тут баба моя.
Там пляшу, оттуда куму пиво ношу, — мы с кумом уж и распьянехоньки, языками лыко вяжем.
Наши бабы хихиньки в сторону бросили и за нас взялись вместях со всеми гостьями и — ну нас отругивать.
Мы с кумом плетеным лыком, что язык наплели, от бабьей ругани, как от оводов, отмахивалися. Бабы не отстают, орут одно:
— Давайте и нам пива! Ишшо како заведенье заводят сами напились, а нам и пригубить не дали!
Мы с кумом ногами пьяны, руками пьяны, языком поворачивам через большую силу, а головами понимам, — в головах-то все в разны стороны идет, а то, что нам сейчас надобно, то посередке разуменья держим. Бабам объяснение сказали:
— Бабы, мы того — двистительно — как есть. Только это не от выпивки, а от чайного питья. Мы — как, значит с вами сидели, с вами чай пили, — окошки были полы. В той-то деревне пиво варили, вино пили, ветер все это сюда нес. Нас пьяным ветром и надуло и развезло. Да вам же, бабам, ладней, ковды мужики веселы.
Бабам выпить охота, они и тараторят:
— Выдумшшики вы, и кум и Малина. Плетете-плетете всяку несусветность. Мы пива наварим да дух по деревням пустим, ваши слова испытам.
Так ведь и сделали. Обчественно пиво наварили, по соседним деревням с приглашеньем пошли:
— Покорно просим нашего пива испить, к нам не ходя, дома сидя. Только окошки отворите да рот откройте. Нашего пива ждите, коли ветер будет в вашу деревню.
Время к вечеру, ветер подходяшший дунул. Бабы посудины с пивом прямь ветру поставили пива попробовали, нас покликали угошшаться.
Я не утерпел, здеся выпил да разорвался надвое: один я весь здесь, а другой тоже весь наскоро по деревням побежал. Наша деревня трезвей всех — у нас пьян, кто пьет, а там, кто не хочет и рот зажимат, только носом свистит, — и тот пьян.
Из соседней деревни сигналы подают, мужики шапками машут, бабы подолами трясут, чтобы больше пивного пьяного духу по ветру слали. Выискались горлопаны, крик до нашей деревни кинули:
— Хорошо в гостях, дома лутче! А того лутче дома гостем сидеть. За угошшенье благодарим, и напередки ваши гости дома сидя!
Ветер свое дело делат, по деревням окресь пьяной дух гонит. Деревни-то кругом распьяны, с песнями — хороводами взялись.
А в лесу, а в поле что творится!
Поехали из городу охотники, — ветром пьяным на охотников пахнуло, а у городских головы слабы, их разморило. Увидали охотники пьяно зверье, хотели стрелить, да позабыли, которой конец стрелят. Ну, охотники взяли зверье за лапы и ведут в деревню к нам. А сами охотники с ног валятся. Зверье — медведи, да волки, да пара лисиц — на ногах крепче, они от хмелю злость потеряли, веселы стали. Звери охотников — за руки да за ноги, да волоком до деревни, тут с лап на лапы нашим пьяным собакам и сдали.
Охотники хвалятся:
— Гляньте, сколь мы храбры, сколь мы ловки. Живых медведей, волков и пару лисиц в деревню пригнали!
Нам пьяной ветер много разов службу сослужил.
Как каки разбойники, грабители на нашу деревню нацелятся — к примеру: чиновники, попы, полицейски, — мы навстречу им пьяной ветер пустим, а пьяных обратно в город спроваживам.
Белы медведи
Вот теперича на Нову Землю ездить стало нипочем. А в старо время, ковды мы, промышленники, туды дорогу протаптывали, своими боками берега обминали, — солоно товды доставалось.
К примеру скажу, как я впервой попал на Нову Землю и как белы медведи меня ловили, а я их поймал.
Пришел это пароход к Новой Земле. Меня на берег выкинули. Да как выкинули! От берега далеко остановились, места для проходу не знали. Чиновник, что начальствовал на пароходе, говорит:
— Нет расчета в опасно место соваться, к берегу подходить, швырнем на веревке.
Меня веревкой обвязали, размахали да и кинули на берег. Посвистели, дымом, как хвостом, накрылись и ушли.
Остался я один на пустом месте. Кругом голо место и посередке камень торчит, и всего один. А у берега лесу нанесло множество. Я веревку за камень прихватил, а другим концом давай бревна на берег вытаскивать. И стал дом строить.
Выставил дом уж высоко, только окон да дверей не прорубил, — топора не было, да крышей покрыть не успел.
Место, в которое меня выкинули с парохода, — медвежье было, проходно для медведей, вроде как медвежой постоялой двор. Белой медведь высмотрел меня, и ко мне — со всех ног. А мне куды девать себя? Место голо, в дом без дверей да без окошок не вскочишь. Я привязался к концу веревки да от медведя кругом камня, а медведь за мной, что силы есть, ухлестыват. Веревка натянулась, я оттолкнулся ногами от земли, меня и вынесло на натянутой веревке и понесло кругами.
А медведь по земле лапы оттоптыват. А я ногу на ногу, цигарку закурил, дым пустил да медведя криком подгоняю. Мне что, меня выносом носит, и я устали не знаю, сижу себе да кручусь!
Медведь из силы выбился и упал, ему дыханье сперло. Я веревку укоротил, медведя дернул за хвост и в дом бескрышной закинул.
Гляжу — опять медведь. Я и этого таким же ходом прокрутил до уморенья и в дом закинул. А медведи один за одним идут и идут. Мне дело стало привычно, я и ловлю.
К осеннему пароходу наловил медведей ровно сто.
Чиновник счет-расчет произвел, высчитал с меня и за землю, и за воду, и за сто медведей белых мне один пятак дал.
Пятак дал да две копейки с грошом отобрал на построение кабака и говорит:
— Понимай, как мы о вас, мужиках, заботу имеем. Здесь на пустом месте кабак поставим да попа со звоном посадим.
Это ковды денег с вас наберем.
Я знал, что чиновники слушают, только ковды им выгода есть. Я и подзадорил чиновника самому медведей ловить. Чиновник до конца и слушать не стал, на наживу обзарился, веревкой обвязался и — бегом кругом камня. Я его словом подгоняю:
— Шибче бежи, ваше чиновничество, скоро и медведь за тобой побежит!
Медвежья пора прошла в этом месте, в это время медведи не ходят.
Чиновник подскочил, натянута веревка его высоко вызняла, а заместо медведя наскочил ветришшо да с грозишшой. Я только малость веревку надрезал, — как рванет чиновника! Веревка треснула. Чиновника унесло. Над морем пронесло — и в Норвегу, в город Варду, да там с громом, с молнией среди города с неба кинуло!
Норвежены — в страх.
— Андели! Что такое? — кричат. — Не иначе как небесной житель из раю!
Поп норвежской в колокол зазвонил, кадилом замахал и к чиновнику пошел. А прочий народ дожидат дозволенья прикладываться к небожителю.
Чиновник очухался, огляделся да как заорет и на попа, и на всех норвеженов. Норвежены слов не поняли, а догадались, о чем чиновник кричал. Попу и говорят:
— Коли эки жители в раю, то мы в рай не хотим.
Норвежской полицейской просмотрел гостя, услыхал винной запах, светлы пуговицы да всяки знаки увидал. Признал в небожителе чиновника и говорит:
— Этот нам нужон: чиновники для нас, полицейских, перьвы помощники народ в страхе держать да доходы собирать.
Поп норвежской свое гнет:
— Ни в жизнь не отступлюсь, ни в жизнь не отдам этого святого. В нашем деле поповском чиновник нужней, чем в вашем полицейском. А вам, полицейским, без нас, попов, с народом не справиться. Мы через этого святого большой доход заимеем. А что народ говорит, что он в рай не хочет, дак мы не спросим и под конвоем в рай отправим. Раньше в рай-то каленым железом загоняли, и то народ терпел.
Чиновника унесло — мне легше стало. Я дом на воду столкнул. Хорошо, что без окон, без дверей: вода не заливат. Медведей всех сто запряг и поехал на медведях по морю. Скорей всех пароходов. Да что пароходы! Им надо дорогу выбирать, а я и по воде и посуху на медведях качу. Под дом полозье из бревен наколотил, оно и легко. Дом вот этот самой, в котором сидим. Потрогай рукой, потопай ногой, убедись, что настояшшой дом из заправдашного дерева, тронь — и будешь знать, что я все правду говорю.
А медведи — ходуны, им все ходу да ходу дай. Запрег медведей и поехал по разным городам. За показ деньги брал да живьем продавал. Одного медведя купили для отсылу в Норвегу, сказывали, что святой чиновник заказывал. Пожалел я норвеженов, что все ишшо со святым возятся, да подумал:
— Натерпятся — сами за ум возьмутся!
Зеленая баня
Запонадобилась мне нова баня, у старой зад выпал да пол провалился. За сосновым али еловым лесом ехать далеко. А тут у нас наотмашь, за деревней, на сыром месте ивы росли, — я их и срубил, четыре столба сваями под углы вбил, поставил баню всю ивову. Да в свежу нову мыться пошел. Баню жарко натопил.
Вот моюсь да окачиваюсь, моюсь да окачиваюсь, а про веник позабыл.
— Охти мнеченьки, как же париться без веника!
Отворил дверь из бани, глянул, — а я высоко над деревней.
Умом раскинул и в разуменье пришел: ивовы столбы от теплой банной воды проросли да и выросли деревами и вызняли меня в поднебесну, да и вся баня зеленью взялась. Я от стен да от дверных косяков ивовых веток свежих наломал, веник связал. И так это я в полну меру напарился!
Из бани вышел — жона догадалась лесенку приставить.
А банной пар из бани тучей выпер, поостыл да дожжиком теплым и пал.
Это дело я в уме стал держать.
Вот стало время жарко-прежарко, а без дождя. Хлеба да сена почали гореть.
Вижу — поп Сиволдай с конца деревни обход начинат, кадилом машет и вопит во всю глотку:
— Жертвуйте мне больше, я вам дождь вымолю!
Я забежал с другого конца деревни и тоже заорал, да свое:
— Не давайте Сиволдаю ни копейки, ни гроша! Я вам дождь через баню достану, приходите, кому париться охота!
Баня натоплена самосильно. Старики да старухи у банной лесенки стабунились, дожидают мово приказу в баню карабкаться. Я велел им стать чередом да парами и задыматься по две пары.
Старики да старушонки скинули одежонки и стоят, милые, нагишом, только вехотки в руках заместо всей одежи.
А я парю– хвошшу да пары поддаю! Старье только покряхтыват.
Как отпарю две пары — на веревке вниз спушшу. Двери банны настежь отворю — пар стариковской тучей толстой выпрет. А родня стариков, что парились, — подхватят тучу вилами да граблями и волокут на свое поле. Там туча поостынет и дождем теплым падет.
Столько в тот год у нас наросло, такой урожай был, что сами были сыты и всю округу прокормили.
Поп Сиволдай большу сердитость на меня заимел, в город побежал, начальству жалился на меня да баней зеленой хвастался.
— Вот у нас в Уйме кака нова баня! Растет, зеленеет и тень дает. В бане паримся, а около в тени прохлаждаемся!
Начальству захотелось в экой бани париться. К нам послали полицейских, дьячков да мелких чиновников. Всяко начальство — своих: у кого кто под рукой. Набежали полицейские, дьячки, мелки чиновники, стали баню топить. Моего согласья не спрашивали.
Я дело задумал и для виду оченно согласен баню топить и говорю хлопотунам:
— Для ваших начальников поповских, полицейских, чиновничьих надобно баню самолутче натопить да наладить пар подходяшшой, а здоровей пивного нет пару никакого.
Приташшил я летного пива, цельной бочонок не пожалел. Летным пивом пару наподдавали. Начальство наехало, в баню париться вызнялось. С банных стен все ветки обломали на веники.
Я дверь припер покрепче, столбы, на которых баня высилась-росла, подпилил. Летно пиво баню надуло, сделало баню летательной.
Баня крутанулась, с места сорвалась, понеслась — фыркнула, только ветер сделала! Моряки сказывали, что в море баню кинуло.
Нам все одно куды, лишь бы от нас подальше да другим хорошим людям не на помеху.
Самоварова семья
Чайны чашки ручки в бок изогнули, на блюдечках подскакивают, донышками побрякивают и поют:
Папа скоро закипит,
Папа скоро закипит!
Чайник, старший из самоваровых робят, пошел по столу чаем засыпаться и широким боком нос отбил молочнику. Молочник заплакал, молоко пролилось.
Самовар закипел, пар пустил, песней забурлил, конфорку одел, ручки растопырил и на стол стал.
Чайник к папе подбежал, чай заварил, на конфорку скочил, крышкой прихлопыват, папе подпеват.
Пошел чайник чай разливать, а сахарница на пути подвернулась и чайнику рыло отбила.
Когда молочнику нос отбили, так как так и надо, только в сторону отодвинули, а как чайнику рыльце разбили — все в беспокойство пришли. Чайнику сделали рыльце новое — серебряное, по пути и молочнику сделали серебряный нос.
Чай отпили. Самовар кланяться стал, задние ножки приподымат, конфоркой киват, этим показыват:
В другой раз гостите,
Чай пить приходите!
Чайны чашки вымылись, вытерлись, в буфете на блюдечках спать повалились. Чайник вытрясся, намылся и тоже в буфет спать пошел. А молочник на холод вынесли, чтобы не скис. Молочник обиделся, хотел было уйти в кофейну семью, да вспомнил, что кофейник высоко нос задират и чашки кофейны маленькой разговор кофейной заводят на час, а чайной разговор заведут с утра до вечера, — остался в своей семье.
Раз тетка Бутеня в гости пришла. Чай-то уж допивали, самовар поклоны отвешивал, задни ножки подымал, конфоркой кланялся, за компанию благодарил.
Тетку Бутеню зовут за стол садиться, чаю напиться, горячим согреться.
Бутеня чай пьет помногу, пьет подолгу. Самовару хлопотно, надо доливаться, надо догреваться, и не одиножды. Тетка и к столу не подходит и с обидой говорит:
— Благодарю за приглашение, благодарю за угошшение. Из пустого самовара не напьешься, у холодного самовара не согреешься.
Самовар со стола скочил, водой долился, подогрелся.
Самовар закипел, на стол сел, недолго пел — опустел и опять долился. А тут новой гость — поп Сиволдай. Самовар опять долился, подогрелся, а не хочет для попа песни петь, не хочет громко кипеть. Жару много в самоваре, вода кипит, вода клокочет, разорвать его хочет. Самовар зажмурился, пару не показыват. Попу Сиволдаю налили чаю в большую чашку. Поп думат, самовар-то холодный, взял чашку, рот открыл во всю ширину и чохнул в себя всю чашку разом.
Так ожегся, что ни кричать, ни мычать не может, рот не закрыват, руками размахиват и — бегом из дому.
Потом мы узнали: поп Сиволдай двадцать верст пробежался, отдышался, в других гостях едой вылечился. Попы живучи были.
На радостях, что от попа избавились, чайны чашки на блюдечках приплясывали, чайник по столу кругом пошел, чай разливал, молочник с чайником в паре молоко подливал.
Самовар в тот раз долго кипел, новые песни свистел.
Бабы разговаривают
До чего бабы за разговором время теряют! Теперь-то всяка делом занята, дело подгонят, а в прежню пору у них времени для пустого разговору много было. Разговор начинали чинно, медленными словами, а как разгонятся, — ну, и затараторят, от слов брякоток пойдет, бывало.
Перед моей избой столкнулись попадья Сиволдаиха и модница из городу. Им бы идти куда ни на есть, — ну, к той же попадье, да там за самоваром и говорили бы, сколько хотели. Но обе, вишь ты, торопились. Остановились на два слова, начали чинно, и обе в один голос и как одно длинно слово протянули:
— Здравствуйте-как-поживаете-благодарю-вас-ничего!
И всякое другое для разминания языка.
Вскорости заговорили громче, громче и затрешшали, будто зайцев загоняют.
Я час терпел, думаю умом: наговорятся, разойдутся. Второй час прошел. Я ничего делать не могу, в ушах шум, гул. Повязал голову жониной кофтой ватерованной, закутал фартуком.
А под окном громче заговорили, в спор вошли, на крик перешли.
Я на чердак вылез с ушатом воды и из чердашного окошка стал водой поливать.
Бабы зонтик растопырили и еще громче заголосили.
Хватил я лопату — да песком, что на чердаке над потолком был. Лопатой сгреб — да в окошко, да на Сиволдаиху и на городску модницу! Сыпал, сыпал! Слышу — стихло: ушли, значит.
Я умаялся, прилег отдохнуть. И только разоспался по-хорошему — слышу шум-звон. Что тако?
А это поп Сиволдай в колокол звонит, попадью ишшет. Из города прибежали — модницу ишшут. Ко мне урядник колотится, ругается, велит кучу песку с улицы убрать.
Глянул я на улицу, а перед домом моим поперек улицы на самой дороге большая куча песку.
— Мне како дело до улицы? Кабы во дворе, я убрал бы, а тут место обчественно, пусть обчеством и убирают!
Куча-то проезду мешала. Стали песок разгребать, дорогу очишшать. Я со всеми тоже работал. Песок разрыли, а там под зонтиком Сиволдаиха с модницей одна другой в космы вцепились, ревмя ревут, криком кричат. У них спор вышел о новом модном наряде: куда бант прицепить, спереди али сзади?
Это дело тако важно, что бабы со всей Уймы в спор вступились, проезжаюшши городски тоже прицепились.
Полторы сутки спорили, кричали, нас обедом не кормили, чаем не поили.
Полицейско начальство глупому делу не мешало. Мы уж своей волей вольнопожарной командой в баб воду пустили — и то едва по домам разогнали!
Модница
Приходит в магазин модница. Вся гнется, ковыляется — нарядну походку выделыват. Руки раскинула, пальчики растопырила.
Говорить почала, и голосок тоже вывертыват, то скрозь нос, то скрозь зубы, то голос как на каблуки вздынет.
Модница хочет показать, что всегда по-иностранному разговариват, по-русскому только понимат и то не в большу силу, и вся она почти иностранка. А сама модница только по-русскому выворачиват, а ежели ругаться хватится, так всяко носово и горлово придыханье в сторону кинет и своим настояшшим голосом как в барабан ударит! Кого хошь переругат, да не то что одного — весь рынок переругивала!
Так вот пришла модница, фасонность и ногами, и руками, и всем телом проделала, головой по-особенному мотнула, глазами сначала под лоб завела, потом кругом повела и завыговаривала:
— Ах, ах, ах! Надобно мне-ка материи на платье! И самой модной-размодной! Чтобы ни у кого не было модней мого! Чтобы была сама распоследня мода!
Приказчик кренделем изогнулся, руки фертом растопырил, ноги колесом закрутил и тоже в нос да с завыванием залопотал под стать моднице:
— Да-с, у нас для вас есть в аккурат то, что вам желательно– с!
Дернул приказчик с верхной полки кусок материи, весь пыльной, о прилавок шлепнул — пыль тучей поднялась. А приказчик развернул материю, моднице опомниться не дает:
— Вот-с, как раз для вас, пожалте-с, сорт особенной поолкоо-тьерс!
Модница от пыли платочком заотмахивалась, даже нос заткнула, на материю и прямо, и сбоку поглядела, руками пошшупала, ей и не очень нравится, а коли модная материя, то что будешь делать?
— А отчего эки пятна на материи?
— Это цвет ле-жаа-нтьин-с! К вашей личности особенно очень подходяшший. Извольте примерить, к себе приставить. Ах, как пристало! Даже убирать неохота, так к вам подошло!
Модница очень довольна, что сыскала особенну модну материю.
— А кака отделка к этому поол-коо-тьеру цвета лежаантьин?
Приказчик выташшил из-за прилавка обрывки старых кружев, которым пыль вытирали. Голос выгнул так, что и сам поверил своему уменью говорить на иностранный манер.
— Для этой материи и только для вас, другим и не показывам, вот-с, извольте-с, отделка-с, проо-ваас-дуу-р!
И что бы вы думали?
Купила-таки модница материю полкотер, цвета лежантин, с отделкой про вас, дур…
Подруженьки
Как звать подруженек, сказывать не стану, изобидятся, мне выговаривать почнут. Сами себя узнают, да виду не покажут, не признаются.
Обе подруженьки страсть как любили чай пить. Это для них разлюбезно дело. Пили чай всегда вместе и всяка по-своему. На стол два самовара подымали. Одной надо, чтобы самовар все время кипел-разговаривал.
— Терпеть не могу из молчашшого самовара чай пить, буди с сердитым сидеть!
Друга, как самовар закипит, его той же минутой крышкой прихлопнет:
— Перекипела вода, вкус терят, с аппетиту сбиват!
Обе голубушки, с полного согласия, в кипяшшой самовар мелкого сахару в трубу сыпали. Это для приятного запаху. Оно и угарно, да не очень.
Чай пили — одна вприкуску, друга внакладку. Одной надо, чтобы чашечка была с цветочком: хошь маленькой, хошь с одной стороны, а чтобы был цветочек. «Коли есть цветочек, я буди в саду сижу!»
Другой надо чашечку с золотом: пусть и не вся золота, пусть только ободочек, один крайчик позолочен, — значит, чашечка нарядна!
Одна пила с блюдечка: на растопыренных пальчиках его держит и с краю выфыркиват, да так тонкозвучно, буди птичка поет.
Друга чашечку за ручку двумя пальчиками поддерживат над блюдечком и чаем булькат.
Пьют в полном молчании, от удовольствия улыбаются, маленькими поклонами колышутся.
Самовары ведерны. По самовару выпили, долили, снова пить сели. Теперь с разговором приятным. Стали свои сны рассказывать. Сны верны, самы верны: что во сне видели, то всамделишно было.
Одна колыхнулась, улыбнулась и заговорила:
— Иду это я во сне. И така я вся нарядна, така нарядна, что от меня буди свет идет! Мне даже совестно, что нарядне меня нет никого. Дошла до речки — через речку мостик. Народом мостик полон, — кто сюда, кто туда. При моей нарядности нельзя толкаться. Увидали мою нарядность: кто шел сюда, кто шел туда — все приостановились, с проходу отодвинулись, мне дорогу уступили.
Заметила я, что не все лица улыбаются. Я сейчас же приветливым голосом сказала слова громоотводны: «Извините, пожалуйста, что я своим переходом по мостику вашему ходу помешала, остановку сделала». Все лица разгладились, улыбками засветились. Ясный день светле стал. Речка зеркалом блестит. Глянула я на воду — на свою нарядность полюбоваться, — рыбы увидали меня, от удивленья рты растворили, плыть остановились, на меня смотрят-любуются. Я сняла фартук с оборками, зачерпнула полный рыбы и с поклоном в знак благодаренья за оказанно уваженье отдала народу по эту сторону мостика. Ишшо зачерпнула рыбы полный фартук и отдала народу по ту сторону мостика. Зачерпнула рыбы третий раз — домой принесла.
Кушайте пирог с той самой рыбкой, котору во сне видела. Вот какой у меня верной сон!…
Друга подруженька обрадовалась, что пришел ее черед рассказывать. Вся улыбкой расцвела и про свой сон рассказ повела:
— Видела я себя такой воздушной, такой воздушной! Иду по лугу цветушшему, подо мной травки не приминаются, цветочки не наклоняются. Я прозрачным облачком лечу. И дошла я до берега. Вода серебром отливат, золотом от солнца отсвечиват. А по воде лодочка плывет, лаком блестит. Парус у лодочки белого шелка и весь цветами расшит.
И сидит в той лодочке твой муженек, ручкой мне помахиват, зовет гулять с ним в лодочке…
Не пришлось голубушке свой сон досказать до конца.
Перва подруженька подскочила, буди ее подкинуло! Сначала задохнулась, потом отдышалась и во всю голосову силу крик подняла:
— Да как он смел чужой жоне во снах сниться! Дома спит, буди и весь тут! А сам в ту же пору к чужой жоне в лодочке подъезжат! Да и ты хороша! Да как ты смешь чужого мужа в свой сон пушшать! Я в город пойду, все управы обойду, добьюсь приказу, строгого указу: чтобы не смели мужья к чужим жонам во сны ходить!
Как купчиха постничала
Уж така ли благочестива, уж такой ли правильной жизни была купчиха, что просто умиленье!
Вот как в масленицу сядет купчиха с утра блины есть, и ест и ест блины: и со сметаной, и с икрой, с семгой, с грибочками, с селедочкой, с мелким луком, с сахаром, с вареньем, с разными припеками, ест со вздохами и с выпивкой.
И так это благочестиво ест, что даже страшно. Поест, поест, вздохнет и снова ест.
А как пост настал, ну, тут купчиха постничать стала.
Утром глаза открыла, чай пить захотела, а чай-то нельзя, потому — пост.
В посту не ели ни молочного, ни мясного, а кто строго постил, тот рыбного не ел. А купчиха постилась из всех сил — она и чаю не пила и сахару ни колотого, ни пиленого не ела, ела же сахар особенный — постный, вроде конфет.
Дак благочестивая кипяточку с медом выпила пять чашек, да с постным сахаром пять, да с малиновым соком пять чашек, да с вишневым пять, да не подумай, что с настойкой, — нет, с соком, и заедала черными сухариками.
Пока кипяточек пила и завтрак поспел, съела купчиха капусты соленой тарелочку, редьки тертой тарелочку, грибочков мелких рыжичков тарелочку, огурчиков соленых десяточек, запила все квасом белым.
Взамен чаю стала сбитень пить паточной.
Время не стоит, оно к полудню пришло. Обедать пора. Обед весь постный-постный! На перво жиденька овсянка с луком, грибовница с крупой, лукова похлебка. На второе: грузди жарены, брюква печеная, солоники — сочни-сгибни с солью, каша с морковью и шесть других разных каш с разным вареньем и три киселя: кисель квасной, кисель гороховой, кисель малиновой. Заела все вареной черникой с изюмом.
От маковников отказалась.
— Нет, нет, маковников есть не стану, хочу, чтобы во весь пост и росинки маковой в роту не было.
После обеда постница кипяточку с клюквой и с пастилой попила.
А время идет да идет. За послеобеденным кипяточком с клюквой да с пастилой и паужне черед пришел.
Вздохнула купчиха, да ничего не поделать — постничать надо!
Поела гороху моченого с хреном, брусники с толокном, брюквы пареной, тюри мучной, мочеными яблоками с мелкими грушами в квасу заела.
Ежели неблагочестивому человку, то эдакого поста не выдержать — лопнет.
А купчиха до самой ужны пьет себе кипяточек с сухими ягодками. Трудится — постничат.
Вот и ужну подали.
Что за обедом ела, всего и за ужной поела. Да не утерпела и съела рыбки кусочек — лешшика фунтов на девять.
Легла купчиха спать и глянула в угол, а там лешш, глянула в другой, а там лешш! Глянула к двери — и там лешш! Из-под кровати лешши, кругом лешши! И хвостами помахивают.
Со страху купчиха закричала.
Прибежала кухарка, дала пирога с горохом — полегчало купчихе.
Пришел доктор, просмотрел и сказал:
— Первой раз вижу, что до белой горячки объелась.
Дело-то понятно: доктора образованны и в благочестивых делах ничего не понимают.
Собака Розка
Моя собака Розка со мной на охоту ходила-ходила да и научилась сама одна охотиться, особливо за зайцами.
Раз Розка зайца гнала. Заяц из лесу, да деревней, да к реке, а тут шшука привелась. Заяц от Розкиной гонки недосмотрел, что шшукина пасть разинута, — думал, в како хорошо место спрячется, — в пасть шшуки и прыгнул. Розка за зайцем в шшукино пузо скочила и давай гонять зайца по шшучьему нутру. Догнала-таки!
Розка у шшуки бок прогрызла, выбежала, зайца мне принесла.
Со шшукой у нас было много хлопот. Дом-то мой, видишь, задне всех стоит. Шшуку мы всей семьей да всей родней домой добывали.
Ташшили, кряхтели, пыхтели. Приташшили. Голова на дворе, хвост в воде. Вот кака была рыбина!
Мы три зимы шшуку ели. Я в городу пять бочек соленой шшуки продал.
Вот — пирог на столе. Думашь, с треской? Нет, это шшука. Розкина лова, только малость лишку просолилась. Да это ничего, поешь, обсолонись, — лучше попьешь! Самовар у меня ведерной, два раза дольем — и оба досыта чаю попьем.
Я вот про Розку при жоне говорить стал заезжим охотникам. Охотники слушают по-настояшшему. Да как и не слушать! Коли говорю — значит, правда, сказано в словах: «говоримое в говори живет».
Вот и говорю: умна собачонка Розка, особливо на медведя. Как в лес ступит, так и завынюхиват, где медведь спит. Вынюхает, лапу подымет и идет. Идем дальше, к медведю ближе, Розка вторую лапу подымет и идет.
Как близко заподходим, Розка третью лапу подымет и идет.
Как к берлоге подойдем… Тут я только что хотел сказать, как Розка четверту лапу подняла, и только для пушшей понятности руку поднял и говорю: «Вот Розка че…» — баба моя рявкнула, как из берлоги:
— Только соври у меня, что Розка четверту лапу подняла и пошла! Самовар греть брошу!
А Розке куды иттить? Уж пришли. Розка на хвост уперлась и четверту лапу подняла. Этим показала, что медведь тутотки.
Охотилась собачонка Розка на зайцев. Утресь поела и — на охоту. До полден бегала в лес да домой, в лес да домой, — зайцев таскала.
Пообедала Розка, отдохнула, — тако уж старинно заведенье после обеда отдыхать. И снова в лес за зайцами.
Розку волки заприметили и — за ней. Хитра собачонка! Быдто и не пужлива, быдто играт, — кружит около одного места: тут капканы были поставлены на волков. Розка кружит да через капканы шмыгат. Волки вертелись-вертелись за Розкой и попали в капканы.
Хороши волчьи шкуры были, большушши таки, что я из их три шубы справил: себе, жоне и бабке. А как волки-то Розкиной ловли, я и Розку не обидел. У шубы своей сзади пониже пояса карман сделал и для Розки. Розка тепло любит, в кармане спит и совсем неприметна, и избу караулит, — шуба в сенях у двери висит, ну, никому чужому и проходу нет от Розки. А как я в гости засобираюсь, Розка в карман на свое место скочит: по гостям ходить — для Розки перво дело. В одних гостях увидал поп Сиволдай мою шубу, сразу обзарился и говорит:
— Эка шуба широка, эка тепла! Шубу эту мне носить больше пристало
Надел поп Сиволдай шубу, а Розка как стала зубами шшолкать, попа сзаду хватать. Поп Сиволдай шубу скинул и говорит:
— Больно горяча шуба, меня в пот бросило!
Тут урядник не утерпел: у урядника руки к чужому сами тянутся.
— Коли шуба жарка — значит, для меня как раз.
Надел урядник шубу, по избе начальством пошел. А Розка дело свое знат. Урядника рванула зубами. Не выдержал урядник, скинул шубу и говорит:
— Здорово шуба греет, да одно неладно, — в носке тяжела!
Хозяйка в застолье звать стала с поклонами, с упросами. Мы сели. Поп Сиволдай присел было, да подскочил (Розка по-настояшшому накусала) и на коленки стал у стола.
— Я буду на коленях молиться за вас, пьяниц, и, чтобы вы не упились, лишно вино в себя вылью.
Урядник тоже присел было, да выскочил, как обжегся, и проговорил, дух переводя:
— Коли батюшка поп Сиволдай на коленях, дак и я так же стану.
Стоят на коленях перед водкой поп да урядник, водку в себя хлешшут, пироги уплетают. В избе народу набилось полнехонько, всем охота поглядеть на попа да на урядника в эком виде.
Какой-то проходяшшой и украл мою шубу, в охапку подхватил и по деревне как каку дельну ношу понес. За деревней проходяшшой шубу надел. Розка его хватила сзаду. Проходяшшой не своим голосом взвыл. На всю Уйму отдалось.
Мы сполошились: что такое стряслось? Из застолья выскочили и видим: за деревней человек удират, за зад руками держится, а по деревне к нам шуба бежит. По дороге шуба расширилась, полами размахиват, рукавами вскидыват, воротником во все стороны качат, собак пугат.
Урядник торопится, пирог доедат, на меня наступат:
— Говори, Малина, кака така сила в твоей шубе?
У попа в руках в кажной по большому пирогу, а во рту варена рыба, поп только мычит да головой трясет. А говорить и ему пора. Поп Сиволдай пироги в карманы, а варену рыбину за пазуху и заорал:
— Это колдовство! Дайте сюды воды святой. Я шубу изничтожу!
Дали воды из рукомойки, Сиволдай брызнул на шубу — раз да и два на Розку водой попал. Розка водяного брызганья не терпит, с шубой вместях подскочила, попа Сиволдая за пузо рванула. Ох, заверешшал поп! За брюхо руками хватился и за угол дома забежал, оттуда визжит, будто его режут.
Шуба к уряднику. Это Розка все своим умом выделыват, мое дело сторонне; урядник ноги заподкидывал да бегом из нашей деревни. И долго к нам не заглядывал.
Городски полицейски уж знали мою шубу; коли в волчьей шубе по городу иду — не грабили.
Поросенок из пирога убежал
Тетка Торопыга попа Сиволдая в гости ждала. И вот заторопилась, по избе закрутилась, все дела за раз делат и никуды не поспеват! Хватила тетка поросенка, водой сполоснула да в пирог загнула. Поросенок приник, глазки зажмурил и хвостиком не вертит. Торопыга второпях позабыла поросенка выпотрошить.
А поп зван есть пирог с поросенком.
Тетка Торопыга шшуку живу на латку положила, на шесток сунула. Взялась за пирог с поросенком, в печку посадила, а под руку друго печенье-варенье сунулось. Торопыга пирог из печки выхватила, в печку всяко друго понаставила. Пирог недопеченной да шшуку сыру на стол швырнула. У пирога тестяны корки чуть прихватило. Поросенок в пироге рылом в тесто ткнул и жив отсиделся.
Торопыга яйца перепечены по столу раскидала. Сама тетка Торопыга вьется, ног не слышит, рук не видит, вся кипит!
Поросенок из пирога рыло выставил и хрюкат шшуке:
— Шшука, нам уходить надо, а то поп Сиволдай придет, нас с тобой съест, — не посмотрит, что мы не печены, не варены.
Шшука в латке булькнулась:
— Как уйдем-то?
— За пирог, в коем я сижу, зубами уцепись, хвостом от стола отмахнись, по печеным яйцам прокатись да норови к печке.
Шшука так и сделала. За пирог зубами уцепилась, хвостом от стола отмахнулась, по печеным яйцам прокатилась да к печке.
Пирог на шесток шлепнулся, корки разошлись, поросенок коротенько визгнул, из пирога выскочил, да на улицу, да к речке и у куста притих.
А шшука у самого шестка от пирога отцепилась и в ушат с водой угодила, на само дно легла и ждет.
Торопыга пусты корки пироговы в печку сунула, — допекла.
Гости в избу. Поп Сиволдай ишшо в застолье не успел сесть, — пирог в обе руки тем краем, из которого поросенок убежал, повернул ко рту и возгласил:
— Во благовремении да с поросенком… — и потянул в себя жар из пирога.
Жаром поповско нутро обожгло. В нутре у попа заурчало, поп с перепугу едва слово выдохнул:
— Кума, я поросенка проглотил! Слышь — урчит.
Крутанулся Сиволдай по избе — да к речке, упал у куста и вопит:
— Облейте меня водой холодной, у меня в животе горячий поросенок!
Тетка Торопыга заместо того, чтобы воды из речки черпнуть, выташшила ушат с водой и чохнула на попа.
Шшука хвостом вильнула, в речку нырнула.
Поросенок это дело увидал, из-за куста выскочил и с визгом ускакал в сторону.
Поп закричал:
— Не ловите его, он уж съеден был!
Поп вызнялся, оглядел себя всего. После экого угошшенья он не то что не сыт, а даже отошшал весь.
Угольно железо
Запонадобилось жоне моей уголье, и чтобы не покупное, а своежженое. Я было попытал словом оттолкнуться:
— Не робята у нас, хватит с нас, робята будут — сами добудут.
Баба взъершилась. И на всяки лады, на всяки манеры меня изругала.
— Семеро на лавке, пять на печи, ему все ишшо мало!
Я от жониной ругани подальше. Из избы выбрался, сел за угол. Как подумал о работе, так и устал. Отдохнул. Про работу вспомнил — опять устал. Так до полден от несделанной работы отдыхал.
Время обеденно, жона меня сыскала:
— Старик, уголье нажег уже?
— Нажгу ужо!
После обеда соснуть не пришлось — прогнала баба на работу. Только я угнездился для спанья — старуха кричит:
— Старик, уголье нажег уже?
— Нажгу ужо!
За подходяшшим матерьялом надо в лес иттить, а мне неохота; я осиннику наломал, — тут под рукой рос, — кучу наклал, зажег. Горит, чернет, а не краснет. Како тако дело? Водой плеснул — созвенело, в руки взял — железо. В руки взял: весом — деревянно уголье, а крепостью — всамделишно железо. Я из осинника всяких штук хозяйственных настрогал: и самоварну трубу, и кочергу, и вьюшки, заслонки, и чугунки, и ведра, лопату — ну, всяку полезность обжег, жоне принес, думал — будет сыта, а жона обновки угольно-железны заперебирала, языком залопотала:
— Поди скорей, старик, нажги, принеси: ухваты, шшипцы, грабли да вилы, железной поднос, на крышу узорной обнос, сковородки, листы, да гвоздей не забудь, новы скобы к избенным да к банным дверям, да флюгарку с трешшоткой, обручи на ушат, рукомойник, лоханку, пуговицы к сарафану, пряжки к кафтану. Я отдохну, снова придумывать начну. Иди, жги, поворачивайся!
Я свернулся поскорей, пока баба не надумала чего несуразного. Наделал все по бабьему говоренью, нажег, к избе приволок, все очень железно и очень деревянно!
Кабы тешшина деревня была на этом берегу, ушел бы, там чаю напился бы, блинов, пирогов, колобов наелся бы. Тешша за рекой живет. Придумал мост через реку построить, к тешше в гости ходить.
Обжег большушшую осину, толстушшую дубину со столб ростом. А этот столб в берег вбил, начало мосту сделал. Сидел около, соображаю: какой меры да какого вида штуки для моста обжигать?
Вдруг инженер царской налетел на меня, криком пыль поднял
— По какому полному праву зачал мост строить, ковды я инженер казенной царской, а плана не составил и задатка не пропил? Перестать строить и столб убрать!
Я ему, инженеру казенному царскому, и говорю:
— Не туго запряжено, можно и вобратно повернуть, а столб дергать мне неохота.
Столб-то хошь и из осины, да железной, ево не срубишь, нижной конец в земле корни пустил, его не выдернешь. Бились-бились — отступились.
Весной столб Уйму спас.
Вот как дело было. Вода заподымалась, берег заподмывала. Гляжу — дело опасно. Я Уйму веревкой обхватил, к столбу прихватил, привязал накрепко. Наша Уйма была вся в куче, — дом возле дому, все в тесноте. Водой подмыло Уйму и с места сдернуло! Веревка в море не пустила, на месте удержала, Уйма в ряд вытянулась да так и до сего дня стоит. Не веришь — сходи проверь. Пока с одного конца до другого пойдешь, не раз есть захошь.
Ко мне инженер казенной царской пристал с расспросом:
— Где это особенно железо достал?
У меня ответ уж готов:
— В болоте экого железа сколь надобно!
Инженер казенной план составил, задаток пропил, — стали болото сушить. Канавы копают, а железа нету. Стали-таки канавы копать, по которым вода из болота да опять в болото.
Много товды работал царской инженер казенной — ничего не наработал, да много заработал.
На уйме кругом света
Взбрело на ум моей бабе свет поглядеть. Ежеденно мне твердит:
— Хочу круг света объехать, поглядеть, как люди живут, как все есть на свете! Да так объехать, чтобы здешних новостей не терять, чтобы тамошно видеть и про здешно знать: кто на ком женится, кто взамуж идет, у кого нова обнова, у кого пироги пекут!
— Как так свет объехать, все оглядеть и в ту же пору про Уйму все знать? В город поедешь на полден — дак уемских новостей короба накопятся, а ты на особицу хошь и там и тут все знать! Как так?
— Как сказала, так и делай, а не перетакивай!
В это дело запасны ветры сгодились. Я под Уймой в разных местах дыр навертел, туда ветров натолкал, за завязки дернул. Уйму ветрами вызняло высоко над землей. С той высоты широко стало видать.
Бабы забегали, заспорили, который венец деревни носовой, которой кормовой? Остроносы кричат, что ихно место на носу, с носу первы все высмотрят, первы всем расскажут.
Попадья с Перепилихой в спор взялись. Чуть не в драку: которой кормой быть? Попадья кричит:
— Толшше меня нет никого, про меня все говорят: шире масленицы. Я и буду кормой!
Перепилиха не отступат:
— Я шире всех, на мне больше всех насдевано, я буду кормой. Я буду Уймой в лете править!
Чтобы баб угомонить, я под Уйму с разных концов сунул встречны ветры, они и держат деревню на одном месте. У деревни все стороны носовы стали, со всех сторон вперед гляди.
Уйма на ветрах на месте стала, а земля свой ход не меняет, под нами поворачивается.
В Уйме у нас, как мы на одном месте стоим, и день прошел, и вечер череду отвел, и ночь стемнела, и обутрело и опять до полден, а земля под нами полным ходом идет, и на ней всю пору полден, все время обеденно. Земля под нами разны места показыват в полной дневной ясности.
Так вот мы на ветреном держанье, с места не сходя, весь свет объехали. Что в других краях — сверху высмотрели. Сверху больше видать, чем земным ездокам.
Много стран мы поглядели, а жить нигде не захотели, окромя нашей Уймы. Наш край не то что сейчас, а и в старо время был самолутчим, кабы не полицейски да не попы.
С попом Сиволдаем и с урядником особо дело вышло, они ничем ничего не видали, ничего не понимаюшшими и остались.
Сиволдай услыхал, как Уйма колыхнулась и шевелиться стала, — от страха и в колодец скочил и сел на дно. Воду из колодца на тот час всю на огороды вычерпали, как по заказу. Урядник во всех делах с попом заодно и по примеру поповскому в другой колодец полез, а колодец-то с водой. Урядник чуть-чуть не утоп, шашкой в стенку колодца воткнулся, ногами в другу растопырился — эдак много верст продержался. Дно-то у колодца было тонко — поддонная земля осталась на земле. Над чужой стороной где-то вода из колодца выпала, урядника выплеснуло.
Завсегда говорят: не плачь — потерял, не радуйся — нашел. Мы потеряли — не плакали. И не оглянулись, куда урядника выкинуло: от нас далеко — нам и любо. Обрадовались ли там, где нашли, об этом до нас вести не дошли.
На месте деревни осталось одно ничего, а на меня от колодца мокро место, а на мокром месте поп Сиволдай сидит не шевелится, от страху дыхнуть боится.
Мы сутки не спали, во все глаза глядели.
Видели мы разны всяки страны, видели разных народов. У всякого народа своя жизнь. Над всякими народами свой царь либо король сидит и над народом всячески изгиляется да измывается. Народным хлебом цари, короли объедаются, на народну силу опираются да той же силой народной народ гнетут. А чтобы народ в разум не пришел, чтобы своих истязателей умными да сильными почитал, цари-короли полицейских откармливают и на народ науськивают. Разномастных попов развели, попы звоном-гомоном ум отбивают, кадилами глаза туманят. Непонимающий народ отпору не дает, думат — так и надо.
Как мы это усмотрели да в толк взяли — в таку ярость взошли, что кабы не так высоко мы были, кабы наши руки дотянулись — мы бы разом всех царей-королей прикончили, да в те поры у нас руки были коротки.
Бабы кричать пробовали народам, растолковать хотели, чтобы те в работе на царей не потели, а работали бы для себя. Да опять-таки дело не вышло: мы на разных языках говорили. Тогда у нас общего языка ишшо не было.
Тетка Бутеня пойло свиньям варила и не стерпела: в одного царя злого, обжористого шваркнула всем горшком и с пойлом.
Горшок вдребезги, и царь вдребезги.
Сбежались царски прихвостни и разобрать не могут, которо царь, которо свинска еда?
Други бабы — не отстатчицы. С приговором: «Хорошо дело — не опоздано!» — давай в королей-царей палить всем худым (даже таким, о чем громким словом и не говорят)!
Ученые собирали все, что в царей попадало, обсуждали и в книгах писали, из чего небо состоит. Нашу Уйму за небесну твердь посчитали. Тогдашны учены про небо всяки небылицы плели и настояшшой сути небесной не знали.
Ученым надо было с другого конца начать рассуждать. Не из чего небо состоит, а что в царей летит, что для царей подходяшшо.
С той самой поры наша деревня понимаюшшей стала. И начальство полицейско-поповско нам, уемским, нипочем и ни к чему стало.
Сиволдай да урядник ничего не видали, так темными и остались. От урядника мы избавились, а Сиволдая просто без вниманья оставили. Из моды вышел — и все тут.
Перепилиха с попадьей во все стороны глядели, а ругаться не переставали. Попадья ругалась, крутилась, подолом пыль подняла — силилась всем попадьям чужестранным пыль в нос пустить!
Перепилиха заверешшала голосом пронзительным, на целом месте дыру вертеть стала. Мелкой крошеной землей да крупной руганью отборной царских-королевских чиновников здорово обсыпала.
Пропилила Перепилиха сквозну дыру. Обе ругательницы были руганью, как делом, заняты, обе зараз и провалились в дыру.
Это было уже в остатнем пути земельного поворота. Перепилиха и попадья упали в наш город, в рынок, в саму середину.
В рынке стало тесно. Торговки удивились, устрашились — замолчали (до этого случая молчаливых торговок мы не видывали!). Котора торговка язык остановить не могла, та руками рот захлопнула.
Прилетны гости, как говорильны газеты, вперебой сначала, а потом обе в один голос стали рассказывать, каки страны, каких народов видели, где во что одеваются, где что едят. А потом, как путевы, вроде понимаюшших себя выказали и заговорили про царей-королей. Рассказали, как показали, какой они силой держатся. И коли народ за ум возьмется, вместях соединится, то всех живодеров-обдиралов в один счет стряхнет с себя.
За эдаки беспокойны неподходяшши слова чуть не заарестовали говоруний. Начальство так объявило:
— Говорят не от своего разуму. Надобно вызнать, каким ветром в Перепилиху да в попадью надуло экой разговор.
Полицейски, которы в рынке не были, и те переполошились; видели длинну темноту над городом.
В само то время, как суткам быть, Уйма на свое место села. И потеперя на том месте. Можете проверить — сходить поглядеть.
Поп Сиволдай из колодца выскочил, и как раз впору: колодец водой налился — вода накопилась (дожидалась), колодец полон, а вода — через край да сама на огороды поливкой.
Мы полдничать сели, к тому череду поспели.
По дороге пыль поднялась: больше да шире, больше да ближе. До деревни пыль докатилась — это чиновники из городу после Перепилихиной да попадьевой трескотни прибежали, бумагами машут, печатями страшшают, требуют штраф, налог, а и сами не знают, за что про что.
Мы уж понимали, что чиновники только мундиром да пуговицами страшны. Мы всей деревней на них гаркнули. Чиновники подобрали мундиришки, бумагами прикрылись, печатями припечатались, мигом улепетнули.
В городе губернатору докладывали:
— Деревня Уйма сбунтовалась! Ни за что ни про что денег платить не хочет, на нас, чиновников, непочтительно гаркнула вся деревня, кабы мы не припечатались — из нас дух бы вылетел! Ваше губернаторство, можете проверить — от Уймы до городу наши следы остались.
Губернатор свежих чиновников собрал, полицейских согнал, к нам в коляске припылил. Из коляски не вылезат, за кучера полицейского держится, сам трепешшется и петухом кричит:
— Бунтовщики, деньги несите, налоги двойны платите! Деньги соберу — арестовывать начну!
Выташшил я штормовой ветришше. Мужики помогли раздернуть прямь губернатора, чиновников, полицейских. Раздернули да дернули! А он, ветер штормовой, так рванул губернатора с коляской, чиновников с бумагами и печатями и с полицейскими, — как их и век не бывало!
Опосля того начальство научилось около нас на цыпочках ходить, тихо говорить.
Да мы ихны тихи подходы хорошо знали.
Штормовы ветры у нас наготове были — и пригодились.
Сладко житье
Посереди зимы это было. И снег, и мороз, и сугробы — все на своем месте. Мороз не так чтобы большой, не на сто градусов, врать не буду, а всего на пятьдесят. Я лесом брел. От жоны ушел. Моя жона говорлива, к ней постоянно гостьи с разговорами, с новостями, с пересудами — я и ушел в лес, от бабьего гомону голову проветрить.
Иду, снегом поскрипываю, а мороз по деревам постукиват.
Гляжу — пчелы!
Ох ты — пчелы? И живы и летают! Покажется это пчелка, холоду хватит да в туман и спрячет себя.
Как бы я от кума шел, ну, тогда дело просто — с пива хмельного в глазах всяка удивительность место находит Кабы я из полицейской кутузки был выпушшен, тогда бы и память и пониманье всяко были бы отшиблены. А я в на стояшшем своем виде, во всем порядке.
И пчелы!
Я к ним, к пчелкам, и шагнул. В туман стукнулся. От тумана на меня сладким теплом дохнуло. Нюхнул — пахнет медом, пряниками, лампасьем хорошим.
Я шагнул в туман, а он подается, а не раздается, в себя не пушшат. Хотел я напролом проскочить, напором взять, а туман тугой — упором держится, тихо-тихо, а вытолкнул меня вобратно на холод.
А пчелки трудяшши шмыгают в тумане, похоже — зовут к себе в гости. Хотел я пчелкам слово сказать, рот отворил, а туман сладостью конфетной мне рот набил. Я прожевал — оченно даже приятно. К чаю это подходяче.
Стал топором туман рубить. Прорубил в сладком тумане ход, протолкал себя на ту сторону.
И попал я на сладки воды, на теплы воды. На те самы, которы в нашей холодности хранили себя.
Стою я в ласковом тепле. Вижу, озерко лежит в зеленой травке. На травке цветочки всяки покачиваются, леденцовыми колокольчиками позванивают.
Берег озерка усыпан разноцветным лампасьем. Озерко гладку волну вздымат на берег, новы пригоршни лампасья кинет, у берега вспенится пена, сахаром на берегу остается.
Пчелки золотыми кругами носятся, золоты узоры ткут, на воду чуть присядут и с медовым грузом к берегу. На берегу мед — ровными стопками: кажна стопка ростом с овин, а то и с два. Это тройке воз, если мерить на увоз.
Для испытанья хлебнул воду. Вода тепла, сладка.
И все место так хорошо туманом спрятано, что никакому полицейскому не пронюхать.
А кругом дела делаются. От моего прихода тепла прибавилось. Мед на берегу заподтаивал и потек на воду, с сахарной пеной тестом замесился и готовым пряником двинулся.
Я посторонился. Туман раздвинулся. Пряники, широчашши, длинняшши, двинулись по моим следам. Пчелки трудяшши, работяшши на пряниках медом-сахаром письменно-печатно узорочье вывели. Лампасье изловчилось да под пряники для колесного ходу рассыпалось и к нам в деревню, к моему двору вместях с пряниками прикатилось.
Чтобы сладко добро от захватчиков спрятать, я туман захватил за край и растянул занавеской на весь путь пряникам и с той и с другой стороны.
Через туман не видно пряников самоидушших, скрозь туман без особой сноровки не проскочишь! Дело большое, хорошее и никому не известное.
Кабы пряники были с воротину ростом, дело было бы просто, мы по поветям, по амбарам, под навесами уклали бы от жадных глаз, от грабительских лап. Пряники шириной с улицу!
А пряники идут и идут. Мы их на ребро да к дому. Пряник во всю стену. Мы домы пряниками обставили, крыши пряниками накрыли. В пряниках окошки прорубили. У пряничных домов углы, обоконники и крыши лампасьем леденцовым разноцветным облепили. Даже издали глядеть сладко.
Туман не остановился, тянется от сладкого озера и у нас на задворках вьется, в сладки кучи складывается.
Пряники без устали самоходно себя месят, пекут, к нам себя катят, кучами складываются.
Народ у нас артельной, на помошшь пришли, пряники к себе расташшили. Дома, сидя за чаем, сладким угошшаются, потчуются.
К нам коли хороший человек поколотится, мы пряничны ворота отворим, с поклоном принимаем, с упросом угошшаем. Накормим, напоим, с собой запас дадим.
Поколотился урядник, поп, чиновник, мы скрозь окошки кричим:
— Милости просим, заходите, гостите, для вас самовар ставим, на стол собирам, рюмки наливам, только ворота пряничны не отворяются. Уж вы не стесняйте себя церемонией, поешьте пряники. Коли проедите дыру в меру своей вышины, ширины, то в избу зайдете, гостями будете.
Поп, урядник, чиновник на пряничны ворота набросились, пряник ломают, животы набивают, руками разглаживают, чтобы умять и больше втолкать. Карманы пряниками нагрузили, в руках большие охапки, а ходу к нам нет.
Вот без полицейских и без чиновников у нас и стало сладко житье.
Пряники
Пряники беспрерывно прибавляются. У нас в Уйме места уйма, а от пряников тесно стало. Надо в город везти хорошему простому народу в угошшение, а остальным в продажу.
По зимней ровной дороге мы крупного лампасья насыпали, на лампасье пряник на пряник поставили вышиной на аршин выше дома, шириной ровно в улицу, для сохранности сладким туманом прикрыли, покатили.
До городу восемнадцать верст в две минуты доехали. По улицам пряники за туманом двигают себя на круглом лампасье. В ту пору ни конному ни пешему в тех улицах ходу нет.
На что полицмейстер, — кажется, страшней его не было никого, — а и тот от пряничного напору со всей своей тройкой свернул в узенький переулок и до потемни, до конца торгового дня из переулка высвободиться не мог.
О своем товаре мы не кричали, не объявляли, и так всем ведомо стало: пряничной дух всех с места скинул. Все на рынок за пряниками пришли.
Простому хорошему народу мы пряники так давали, кто сколько мог на себе унести. Чиновничьему люду продавали. Цена нашим пряникам та же, что и лавошным, только мера другая. В лавках цена за фунт, а у нас за ту же цену бери махову сажень. Как-никак махова сажень — два аршина с лишним, а коли кто длинный меряет, то и три аршина. Бери сажень в вышину, в ширину!
Попервости чиновники фыркали:
— Много навезено, задешево продавают, значит, нестояшшой товар! Нам угодно того, чего мало али вовсе нет и что втридорога стоит.
Носом повертели, а не утерпели, попробовали — и отстать не могут. Пряники — еда вманчива!
Все ели одинаково, а действие было разно.
Простой народ ел, сытел, в тело входил, спину разгибал, голову подымал, на ногах крепче держался.
Чиновники, полицейские, попы, богатеи едят, а их то корежит, то распират. Солоны им пряники, не по нутру пришлись, а едят. Весь народ хвалит — значит, в пряниках что-то есть. Охота полицейским, чиновникам и их помошникам до сладкого добраться.
Хорошему народу трудяшшему мы пряники давали со всей писаностью, со всей печатностью. А полицейским от тех же пряников и большшушши куски отворачивали, а на них завсегда или пусто место, или точка. Полицейским не спится, не сидится, надо им вызнать: как, что, с чего повелось, откуда завелось?
Полицейски тихим обходом дело начали, ко мне тонкими лисами подъехали:
— Так и так, Малина, ты мужик справной, хорошо живешь, помалу не пьешь. Скажи на милость, откудова в Уйме пряников така уйма?
Спрашивают секретным, особым голосом. Я им в том же виде отвечаю:
— Ежели скажу да покажу, то ваше начальство и у нас, мужиков, и у вас, полицейских, все себе отберет. Я покажу только вам по секрету — приходите ко мне в сутемки, сыты будете.
Были у меня бочки сорокаведерны припасены для медового запасу. Бочки я медом густо смазал.
Как стемнело, полицейски заявились. Я их пряниками накормил до раздутья. И по одному к бочкам подводил. Бочки без днишш, да на боку да в потемни очень схожи с потайным ходом.
Полицейски в бочки сунулись, в мед влипли, я днишша заколотил, для воздуху дырки просверлил. На бочках надпись вывел: «Перевертывать!»
Кто идет, тот и пнет. За околицу выпинали в минуту. На дороге бочки не застаивались: всегда было кому пнуть, перевернуть. От полицейских миром избавились!
По большим дорогам большое начальство на тройках разъезжало, а бочки поперек дороги выкатывались. Начальство, как полагалось, медвежьей болезнью сейчас же болело и кричало: «Ой, ай, бомба!»
На поверку оказывался полицейский городовой!
В городе у нас тишина, спокой. Никто в морду не бьет, никто не орет, никого не грабят, никого в кутузку не тянут.
Полицейски заправилы всеми приказами кричат:
— Это беспорядок — во всем городе порядок!
Царь в поход собрался
А пряники тянутся, к нам тянутся, в штабеля ставятся. По всей деревне задворки пряниками загружены. Мы-то едим, надо дать и другим! Стали по железной дороге в разны города посылать Пряники нагрузили на платформы. Туманом легонько прикрыли, чтобы узоры на пряниках не портились, чтобы письменность пряников писаных полицейским на глаза не попадала.
Полный состав не очень большой отправили — всего пять верст длины, а потом уж и по десяти, но больше двадцати пяти верст состава не делали.
Покатили наши пряники писаны-печатны по селам, деревням, по городишкам, городам. Дошла весть о пряниках до царя, до министеров, до важных начальников, до царского двора, до царской подворотни.
Все переполошились, даже пьянствовать остановились. Царь выкрикиват:
— Как так, из голодной губернии в урожайны места сытость идет? Запретить, прекратить!
Царица заверешшала:
— Дайте мне пряника самоходного, я таких не едала, не видала. Ни жить, ни быть не могу — давайте пряника скореича!
Министеры духу набрали и прокричали:
— Ваше царско, пряники-то печатны!
— Как так печатны?
Царь заскакал, всем министерам, всем генералам по зубам надавал. Успокоился и всем по царской награде привесил. Дух перевел и заговорил:
— Я же своим царским словом приказал: учить — обучайте, а понимать не позволяйте. Я большу грамоту запрешшаю.
— Ваше царско, по твоему приказу в тот край политиков ссылали. Кабы их на тройках прокатили, оно бы ничего, а они пешком шли и каждым шагом народу пониманье несли.
Царь схватил бутылку с водкой, о донышко ладошкой стукнул, пробку умеючи вышиб, в один дух водку выпил и царско слово сказал:
— Заботясь неизменно о благе своем, приказываю пряники писаны-печатны опечатать и впредь запретить!
Министеры разными голосами в один голос рапортуют:
— Ваше царско, дозвольте доложить: архангельскому народу нельзя запретить — из веков своевольны, и пока по железной да по большим дорогам пряники посылают — это ничего. По большим путям народ и сам терят почтенье и к чину и к богатству, а как дойдут пряники писаны-печатны до глухих углов, тогда трудно будет нам. Надо умных людей послать, чтобы сладко житье прикончили, теплы воды изничтожили, народ к голоду поворотили. С сытым народом да грамотным нам не справиться.
Царь ногами дрыгнул, кулаком по короне стукнул:
— Я умней всех! Сам в Уйму поеду, сам распорядок наведу, сам хороше житье прикончу!
Царь распетушился, на цыпочки вызнялся, чтобы высочайшество свое показать — да не вышло. Ни росту, ни духу не хватило. Тут два усердных солдата от всего старанья царя за опояску на штыки подцепили и вызняли высоко, показали далеко.
И… крик поднялся! Вопят, голосят царица с царевятами, министеры с генералами.
— Что вы, полоумны, делаете? Разве можно всему народу показывать настояшшу видимость царску! Народу показывать можно только золоту корону, а что под короной, то не показывается, про то не говорится.
Царь в поход собрался.
— Еду, — кричит, — в Уйму, вот моя царска воля!
Выташшили трон, хотели на дровни поставить, да узки, поставили на розвальни, веревками привязали.
Стали царя обряжать, одевать: надо царску видимость сделать. На царя навертели, накрутили всяко хламье-старье — под низом не видно, а вид солидней. Поверх тряпья ватной пинжак с царскими знаками натянули, на ноги ватны штаны с лампасами, валенки со шпорами. Сапоги с калошами рядом поставили.
Трудно было на царя корону надеть. Корона велика, голова мала. На голову волчью шапку с лисьими хвостами напялили, пуховым платком обвязали и корону нахлобучили. Чтобы корону ветром не сдуло, ее золочеными веревками к царю привязали.
Под троном печку устроили для тепла и для варки обеда. Царю без еды, без выпивки часу не прожить.
Трубу от печки в обе стороны вывели, чтобы на ходу из-под трона дым и искры летели для народного устрашения. Царь, мол, с жаром.
Все снарядили. В розвальни тройку запрягли. По царскому приказу ишшо паровоз в упряжку прибавили, на паровоз подгоняльшшика верхом посадили.
В колокола зазвонили, в трубы затрубили. Народ палками согнали, плетками били. Народ от боли орет. Царь думат — его чествуют.
На трон царь вскарабкался, корону залихватски набекрень сдвинул, печать для царских указов в валенки сунул, шубу на плечи накинул второпях левой стороной кверху.
Царица со страху руками плеснула, о снег грохнулась и ногами дрыгат. Министеры, генералы и все царски прихвостни от испугу завопили:
— Ай, царь шубу надел шиворот-навыворот, задом наперед. Быть царю биту!
Кабы не паровоз, кони — вся тройка — от этого крику на месте не удержались бы, унесли бы царя и с печкой, и с троном, и с привязанной короной. Паровоз крику не боится. Сам не пошел и коней не пустил.
Вышел один из министеров, откашлянулся и так слово сказал:
— Ваше царско, не езди в Уйму, я ее знаю: деревня длинновата, река широковата, берега крутоваты, народ грубоват. И впрямь — побьют.
Царь едва из-под короны вылез, с трона слез, сел на снегу рядом с царицей и говорит:
— Собрать мою царску силу, отборных полицейских и послать во все места, где народишко от писаных-печатных пряников сытым стал. Пускай моя царска сила старается и сытых в голодных повернет.
Царь на снегу расписался: быть по сему.
К нам приехали полицейски — царска сила. Мы таких страшилишш и во снах не видывали. Под шапками на месте морды что-то кирпично и пасти зубасты растворены — смотреть страшно. Животы что амбары, карманы — товарны вагоны, а зад — хошь рожь молоти, хошь овин на нем ставь.
Страшны, сильны, а на жадности попались. Увидали пряники вкруг наших домов — от жадности затряслись и с разбегу, с полного ходу вцепились зубами в пряничны углы у домов. Урчат, животы набивают, жрут. А нам любо — ведь на каждом пряничном углу пусто место или точка и как раз для полицейских — для царской силы та точка-то. Много полицейски старались, жрали, пыхтели, а дальше углов не пошли: нутра не хватило. Вышла полицейским — точка. Их расперло в огромадну толшшину. Мы радовались, что зимой на холоду, а не летом. В жарку пору тут бы их и разорвало.
Объелись полицейски. Мы у них пистолеты отобрали, в кобуры всяко друго наклали, туши катнули.
И покатилась от нас царска сила.
Царь в город записку послал; спрашивал: как царска сила — полицейски действуют? Записка в подходяшши руки попала и ответ был даден:
— Полицейски от нас выкатились. Царску силу мы выпинали. Того же почету вам и всем царям желам.
Девки в небе пляшут
Перед самой японской войной задумали наши девки да робята гулянку в небе устроить.
На пьяных вызнали, для какого лету сколько пить надобно.
Вот вызнялись девки в гал. Все разнаряжены в штофниках, в золотых коротеньких, в золотых жемчужных повязках на головах. Ленты на шелковы шали трепешшутся, наотмашь летят.
Все наряды растопырились, девки расшеперились.
В синем небе — как цветы зацвели!
Девки гармониста с собой взяли, по прозвишшу Смола.
Смола в небе сел сбоку хоровода, ногу на ногу, гармонь — трехрядка с колокольчиками. Смола гармонь раздернул и почал зажаривать ходову плясову.
Девки в небе — в пляс!
Девки в небе песней зазвенели!
А моя-то баба, на пляс натодельна, в алом штофнике с золотыми позументами выше всех выгалила, да вприсядку в небесном-то кругу пошла.
И у нас на земле пляс. Не отступам, по-хорошему ногами кренделя откалывам.
И разом остановка произошла!
Урядник прискакал с объявлением войны японской.
Да как распушился урядник!
— По какому, — кричит, — полному праву в небе пляску устроили? Есть ли у вас на то начальственно разрешение?
Перевел дух да пушше заорал:
— И это вы военны секреты сверху высматриваете!
Ну, мы урядника ублаготворили досыта, летного пива в его утробу с ведро вылили.
А жаден был урядник, упрашивать не надо, только подноси.
Вот урядника расперло, вызняло и понесло и невесть куда унесло. А нам искать не под нужду было. Рады, что не стало.
Мобилизация
Было это в японску войну. Мобилизацию у нас объявили. Парней всех наметили на войну гнать. Тут бабы заохали, девки пушше того. У каждой, почитай, девки свой парень есть. Уж како тако дерево, что птицы не садятся, — кака така девка, что за ней парни не вьются?
Одначе девки вскорости охать перестали, с ухмылкой запохаживали.
«Что, — думаю, — за втора така?»
А у каждой девки на подоле — то по рубахе, то по юбке — мужички понавышиваны.
Старухи не раз унимали:
— Ой, девоньки, бесперечь быть войне; эстолько мужичков навышивывали!
Девки по деревне пошли, подолами трясли, вышитых стрясли, а взабольшны парни у подолов остались.
Вышиты робята выстроились, как заправдашны рекрута.
Девки в котомки шапок наклали, чтобы было чем врагов закидывать.
Тут начальство прискакало, загрохотало на всю улицу:
— И так не так и этак не так. Да давайте лошадей, новобранцев в город везти!
Была у нас старушонка-бобылка, по прозвишшу Сахариха. Вот Сахариха всех новобранцев собрала, веревкой связала, на спину закинула да и в город двинулась.
В вышитых-то — сам понимаешь — тяжесть не сколь велика.
Начальство как увидало, что одна старушонка таку силу показала, да поскорей на коней, да прочь от нас.
А мы тому и рады.
Наутро за мной пришли. Моя-то баба не выторопилась вышивку сделать да заместо меня сдать в солдатчину.
Явился, куда указано.
Доктор спрашиват:
— Здоров?
— Никак нет, болен!
— Чем болен?
— Помалу есть не могу!
Повели меня на кухню. Почали кормить. Съел два ушата штей, два ушата каши, пять ковриг хлеба, выпил ушат квасу.
— Сыт? — спрашиват доктор.
— Никак нет, ваше докторово, только в еду вхожу, дозвольте сызнова начать.
— Что ты, — кричит доктор, — лопнутие живота произойти могет!
— Не сумлевайтесь, — говорю, — лишь бы в брюхо попало, а там брюхо само знат, что куды направить.
Начальство совет держало промеж себя и написали постановление:
«По неграмотности и невежеству родителей с детства приучен много есть и для армии будет обременителен».
Отпустили меня. Пошел по городу брюхо протрясать. Иду мимо нарядного дома, окошки полы стоят.
Вижу — начальство пировать наладилось, рюмки налили, рюмками стукнулись и ко рту поднесли.
Я воздух в себя потянул — все вино мне в рот!
Налили опять. А мне пить охота. Я воздух к себе потянул да попушше, — из всех рюмок, стаканов да из всех бутылок вино все в меня.
Начальство заоглядывалось.
«Ну, — думаю, — коли меня заприметят, то не видать мне своей бабы».
Чтобы от греха убраться, хотел почтой, да до нас почта долго идет: я на телеграфну проволоку скочил, телеграммой домой доставился. Оно скоро по телеграфу ехать, да на стаканчиках подбрасыват, весь зад отшиб.
Мало время прошло, встретил меня поп Сиволдай и кричит:
— Малина, да ты жив? А народ говорит, что ты живот свой положил за кашу!
Я без ухмылки отвечаю:
— Выхолопнул я, отец Сиволдай, живу наново!
— Вот и ладно, — говорит Сиволдай, — я тебя в город справлю да в солдаты сдам; скажу, чтобы тебе туже живот стягивали, есть будешь в меру.
— Ну-к, что ж, — говорю ему, — справь, да за руку веревку привяжи, — быдто дезертира приведешь; награду получишь каку ни есть.
Вот привязал Сиволдай веревку к моей руке, а другой конец — к своей руке. А я лыжи одел да припустил ходу по дороге. Поп вприпрыжку, поп вскачь!
Одначе живуч, в городу отдышался.
По уговору сдал меня не как Малину, а как Вишню, — это за то, что я дозволил вскачь бежать, а не волоком ташшил.
Отправили меня на Дальний Восток.
Как есть охота придет, — открою двери теплушки, в которой с товаришшами ехал, — понюхаю, где вареным да печеным пахнет. С той стороны воздух в себя потяну, — из офицерских вагонов да из рестораций все съедобное ко мне летит. Мы с товаришшами двери задвинем и едим.
Приехали.
Пошел я по вагонам провианту искать. Какой вагон ни открою — все иконки да душепользовательны книжки — и заместо провианту, и заместо снарядов боевых.
Почали бой. Японцы в нас снарядами да бомбами, снарядами да бомбами! А мы в них иконками, иконками!
Кабы японцы нашу веру понимали, их бы всех укокошило. Да у них вера своя, и наша пальба для японцев дело посторонне.
Взялись за нас японцы ну — куда короб, куда милостыня!
Стоял я на карауле у склада вешшевого, — у ворот столб был с надписью: «Посторонним вход воспрешшен». Как тряхнет снаряд! Да прямо в склад, все начисто снесло! Остался столб с надписью: «Вход посторонним воспрешшен», а кругом чисто поле, — узнай тут, в котору сторону вход воспрешшен?
Одначе стою. Дали мне медаль за храбрость да с банным поездом домой отправили.
Наполеон
Это что за война. Вот ковды я с Наполеоном воевал!
— С Наполеоном?
— Ну, с Наполеоном. Да я его тихим манером выпер из Москвы. Наполеона-то я сразу не признал. Вижу — идет по Москве офицеришко плюгавенькой, иззяб весь. Я его зазвал в трактир. Угошшаю сбитнем с калачами да музыку заказал.
Орган затрешшал: «Не белы-то снеги».
Вдруг кто-то кричит:
— Гляди, робята! Малина с Наполеонтием приятельствует.
Оглядел я свово приятеля, — и впрямь Наполеон. Генералы евонны одевались, из моды вон лезли, а он тихонечко одет, только глазами сверлит. Звал меня к себе отгашшивать. Говорю я ему, Наполеону-то:
— Куды в чужу избу зовешь? Я к тебе в Париж твой приеду. А теперь, ваше Наполеонство, вишь кулак? Присмотрись хорошенько, чтобы впредки не налетать. Это из города Архангельского, из деревни Уймы. Ну, не заставь размахивать. Одноконечно скажу:
— Марш из Москвы, да без оглядки!
Понял Наполеон, что Малина не шутит, — ушел. Мне для памяти табакерку подарил. Вся золота с каменьем. Сейчас покажу. Стой, дай вспомню, куда я ее запропастил. Не то на повети, не то на полатях? Вспомню — покажу, — там и надпись есть: «На уважительну память Малине от Наполеона».
— Малина, да ты подумай, что говоришь: при Наполеоне тебя и на свете не было.
— Подумай? Да коли подумать, то я и при татарах жил, при самом Мамае.
Мамай
Вишь ножик, лучину которым шшиплют? Я его из Мамаевой шашки сам перековал.
Эх, был у меня бубен из Мамаевой кожи. Совсем особенной: как в его заколотишь, так и травы и хлеба бегом в рост пустятся.
Коли погода тепла, да солнышко, да утречком в Мамаев бубен колотить станешь, вот тут начнут расти и хлеба и травы. К полдню поспеют, а вечером и коси и жни. А с утра заново вырашшивай, вечером опять хлеб собирай, и так — кажной теплой день. Только анбары набивай да кому надобно — уделяй.
А ты говоришь — не жил в то время. Лучше слушай, что расскажу, — сам поймешь, — не видавши не придумать.
Мамай, известно дело, басурманин был, и жон у его цельно стадо было, все жоны как бы двоюродны, а настояшша одна — Мамаиха. И очень эта Мамаиха мне по нраву пришлась: пела больно хорошо. Бывало, лежим это мы на полатях (особенны по моему указанию в еенном — Мамаихином шатру были построены). Лежим это, семечки шшолкам да песню затянем. Запели жалостну протяжну. Смотрю, а собака Кудя, — вишь, имя запомнил, а ты не веришь! Дак сидит эта собака Кудя и горько плачет от жалостной песни, лапами слезы утират. Мы с Мамаихой передохнули да развеселу завели.
Птицы мимо летели, сердешны, остановились да к нашему пенью прибавились голосами. Даже Мамайка, — это я Мамая так звал, — сказывал не однажды:
— И молодец ты, Малина, песни тянуть. Я вот никакой силе не покоряюсь, а песням твоим покорен стал.
Надо тебе про Мамая сказать, какой он был, чтобы убедить тебя, что во ту пору я жил. Я тако скажу, что ни в каких книгах не записано, только я в памяти держу. К примеру вид Мамаев: толстой-претолстой, — живот на подпорках, а подпорки на колесиках. Мамай ногами брыкат, подпорки на колесиках покатят, будто лисапед какой особого манеру.
Ну, кто тебе скажет про Мамаевы штаны? А таки были штаны, что одной штаниной две деревни закрыть было можно.
Вот раз утресь увидал я с полатей, — идет на Мамая флот японской. Мамай всполошился. Я ему и говорю:
— Стой, Мамай, пужаться! С японцами я справлюсь.
Выташшил я пароходишко, — с собой был прихвачен на всякой случай. И пароходишко немудряшшой, — буксиришко, что лес по Двине ташшит.
Ну, ладно. Пары развел, колесом кручу, из трубы дым пустил с огнем. Да как засвишшу, да на японцев!
Японцы от страху паруса переставили да домой без остановки.
Я ход сбавил и тихим манером по морю еду с Мамаихой. Рыбы в переполох взялись. Они, известно, тварь бессловесна, но нашли-таки говоряшшу рыбу. Выстала говоряшша рыба и спрашиват:
— По какому такому полному праву ты, Малина, пароход пустил, ковды пароходы ишшо не придуманы?
Я объяснил честь честью, что из нашего уемского времени с собой прихватил. Успокоил, что вскорости домой ухожу. Прискучило мне Мамая терпеть. Я и говорю ему:
— Давай, кто кого перечихнет. Я буду чихать первой.
Согласился Мамай, а на чих он здоров был. Как-то гроза собралась. Тучи заготовку сделали. Большушши, темняшши. Вот сейчас катавасию начнут. А Мамай как понатужился, да полно брюхо духу набрал, да как чихнет! Да тучи-то — которы куда. И про гром и про молнью позабыли.
Ну, ладно, наладился я чихать, а Мамай с ордой собрался в одно место. Я чихнул в обе ноздри разом. Земля треснула. Мамай со всем своим войском провалился.
Мне на пустом месте что сидеть? Одна головня в печке тухнет, а две в поле шают.
Пароходишко завел да прямиком на Уйму. Товды городов мало было, а коли деревня попадалась, то малость подбрасывало.
Остался у меня на память платок Мамаихин, из его сколько я рубах износил, а жона моя сколько сарафанов истрепала.
Да ты, гостюшко, домой не торопись, у меня погости. Моя баба и тебе рубаху сошьет из Мамаихинова платка. Носи да стряхивай, и стирать не надо, и износу не будет, и мне верить будешь.
Министер и медведь
Пошел я на охоту, еды всякой взял на две недели. По дороге присел да в одну выть все и съел. Проверил боевы припасы, — а всего один заряд в ружье. Про одно помнил — про еду, а про друго позабыл — про стрельбу.
Ну, как мне, первостатейному охотнику, домой ни с чем иттить?
Переждал в лесу до утра.
Утром глухари токовать почали, сидят это рядком. Я приладился — да стрелил.
И знашь сколько? Пятнадцать глухарей да двух зайцев одной пулей! Да ишшо пуля дальше летела — да в медведя: он к малиннику пробирался.
Медведя, однако, не убило, он с испугу присел и медвежью болезнь не успел проделать — чувства потерял! Я его хворостинками прикрыл, стало похоже на муравейник и вроде берлоги.
Глухарей да зайцев в город свез, на рынке продал.
А в город министер приехал. Охота ему на медведя сделать охоту.
Одинова министер уже охотился. Сидел министер в вагоне, у окошка за стенку прятался.
Медведя к вагону приволокли, стреножили, намордник надели. Ружье на подпорку приладили.
Министер– охотник за шнурочек из вагона дернул да со страху на пол повалился. А потом сымался с медведем убитым. В городу евонну карточку видел.
Министер — вроде человека был, и пудов на двенадцать. Как раз для салотопенного завода.
Вот этому «медвежатнику» я медведя и посватал. Обсказал, что уже убит и лежит в лесу.
Ну, всех фотографов и с рынку и из городу согнали, неустрашимость министеровску сымать.
К медведю прикатили на тройках. Министер в троечной тарантас один едва вперся. Вот выташшился «охотник»! А наши мужики чуть бородами не подавились — рот затыкали, чтобы хохотом не треснуть.
Взгромоздился министер на медведя и кричит:
— Сымайте!
А я медведя скипидаром мазнул по тому самому месту.
Медведь как взревет благим матом, да как скочит!
Министера в муравьиную кучу головой ткнуло. Со страху у министера медвежья болезнь приключилась. Тут и мы, мужики, и фотографы городски, и прихвостни министеровски — все впокаточку от хохоту, и ведь цельны сутки так перевертывались, — чуть передыхнем, да как взглянем — и сызнова впокаточку!
А медведь от скипидару, да от реву министерского, да от нашего хохоту так перепугался, что долго наш край стороной обходил.
А на карточках тако снято, что и сказывать не стану.
Только с той поры как рукой сняло: перестали министеры к нам на охоту приезжать.
Железнодорожной первопуток
Ишшо скажу, как я в первой раз поехал по железной дороге.
Было это в девяносто… В том самом году, в кольком старосты Онисима жена пятерню принесла, и все парней, и имя дала им всем на одну букву — на «мы». Митрий, Миколай, Микифор, Микита да Митрофан. Опосля, как выросли, разом пять в солдаты пошли. А опосля солдатчины староста Онисим пять свадеб одним похмельем справил.
Так вот в том самом году строили железну дорогу из Архангельского в Вологду.
А наши места, сам знашь, — топь да болото с провалами. Это теперь обсушили да засыпали.
Инженеры в городу в трактирах — вдребезги да без просыпу. В те поры инженеры мастера были свои карманы набивать да пить, — ну, не все таки были, да другим-то малу почету было.
По болотной трясине-то видимость дороги сладили и паровоз пустили. Машинист был мой кум, взял меня с собой.
Сам знашь, — всякому антиресно по железному первопутку прокатить.
Свистнули — поехали!
Только паровоз на болотну топь ступил, под нами заоседало, да тпрукнуло, да над головами булькнуло!
И летим это мы скрозь болота и скрозь всю землю. Кругом тьма земельна, из паровоза искорки сосвечивают да тухнут в потемни земельной, да верстовы столбы мимо проскакивают.
И летим это мы скрозь болота и скрозь всю землю. Спереди свет замельтешил.
«Что тако?» — думам.
А там — Америка! Мы землю-то паровозным разбегом наскрозь проткнули да и выперли в самой главной город американской. А там на нас уже расчет какой-то заимели. Выстроили ворота для нас со флагами да со всякими прибасами. И надписано на воротах:
«Милости просим гостей из Архангельского, от вас к нам ближе, чем до Вологды».
Музыка зажариват.
Гляжу, у ворот американски полицейски. Я по своим знал, что это тако. По сегодень спина да бока чешутся.
Слова никому не сказал. Выскочил, стрелку перевернул, да тем же манером, скорым ходом — в обратный путь.
А железну дорогу, с которой провалились, по которой ехали, веревкой прицепил к паровозу, чтобы американцы к нам непоказанным путем не повадились ездить.
Выскочили на болото. Угодили на кочку.
Паровоз размахался, — бежать ему надобно. Мы его, живым манером, на дыбы подняли, А на двух-то задних не далеко уйдешь, коли с малолетства приучен на четырех бегать.
Строительно начальство нам по ведру водки в награду дало, а себе по три взяло.
Паровоз вылез — весь землей улеплен, живого места званья нет.
Да что паровоз! Мы-то сами так землей обтяпались, что на вид стали, как черны идолы.
Счистил я с себя землю, в горшок склал для памяти о скрозьземном путешествии. В землю лимонно зернышко сунул. Пусть, — думаю, — земля не даром стоит.
А зернышко расти-порасти да и деревцом выросло. Цвести взялось, пахло густо.
Я кажинной день запах лимонной обдирал, в туесье складывал. По деревне раздавал на квас. В городу лимонной дух продавал на конфетну фабрику и в Москву отправлял, — выписывали. Вагоны к самому моему дому подходили, я из окошка лимонной дух лопатой нагружал да на вагонах адрес надписывал, — разны фабрики выписывали-то.
Года три цвел цветок лимонной, подумай на милость, сколь долго один цветок держаться может!
Прошло время, — поспел лимон, да всего один.
Стал я чай пить с лимоном. Лимон не рву. Ведро поставлю, сок выжму, и пьем с чаем всей семьей.
Так вот и пили бы до самой сей поры. И всего неделя кака прошла, — как моя баба лимон-то сорвала.
У жониной троюродной тетки, у сватьи племянницына подруженька взамуж выдавалась, а до лимонов она страсть охоча. Дак моя-то жона безо всякого спросу у меня сорвала лимон: она как присвоя — свадебничала, на приносном прянике и поднесла невесте.
Видел, в горнице у окошка стоит лимонно деревцо? Оно само и есть. Давай сделам уговор такой: как зацветет мой лимон, я тебе, гостюшко, лимонного запаху ушат пошлю.
Письмо мордобитно
Вот я о словах писаных рассуждаю. Напишут их, они и сидят на бумаге, как не живы. Что кто прочитат. Один промычит, другой проорет, а как написано, громко али шепотом, и не знают.
Я парнем пошел из дому работы искать. Жил в Архангельском городе, в немецкой слободе, у заводчика одного на побегушках. Прискучила мне эта работа. Стал расчет просить. Заводчику деньги платить — нож вострой. Заводчик заставил меня разов десять ходить да свои заработанны клянчить. Всего меня измотал заводчик да напоследок тако сказал:
— Молод ты ишшо за работу получать, у меня и больши мужики получают половину заработка, и то не на всяк раз.
Я заводчику письмо написал.
Сижу в каморке и пишу. Слово напишу да руками придержу, чтобы на бумаге обсиделось одним концом. Которо слово не успею прихватить, то с бумаги палкой летит. Я только в сторону увертываюсь. Горячи слова завсегда торопыги.
Из соседней горницы уж кричали:
— Малина, не колоти эк по стенам, у нас все валится, и шшекатурка с потолка падат.
А я размахнулся, ругаюсь, пишу — руками накрепко слова прихватываю: один конец на бумагу леплю, а другой — для действия. Ну, написал. Склал в конверт мордобитно письмо, на почту снес.
Вот и принесли мое письмо к заводчику. Я из-за двери посматриваю.
Заводчик только что отобедал, сел в теплу мебель, — креслой прозыватся. В такой мебели сидеть хорошо, да выставать из нее трудно.
Ладно. Вот заводчик угнездился, икнул во весь аппетит и письмо развернул. Стал читать. Како слово глазом поднажмет, то слово скочит с бумаги одним концом и заводчику по носу, по уху али по зубам!
Заводчик из теплой мебели выбраться не может, письмо читат, от боли да от злости орет. А письмо не бросат читать. Слова всяко в свой черед хлешшут!
За все мои трудовы я ублаготворил заводчика до очуменности.
Тут губернатор приехал. Губернатор в карты проигрался, дак за взяткой явился.
Заводчику и с места не сдвинуться, кое-как обсказал, что вот письмо получил непочтительно, и кажет губернатору мое письмо.
Губернатор напыжился, для важного упора ноги растопырил, глазишшами в письмо уперся — читат.
Слово прочитат, а слово губернатора — по носу!
Ох, рассвирепел губернатор! А все читат, а слова все бьют, и все по губернаторскому носу.
К концу письма нос пухнуть стал и распух шире морды. Губернатор ничего и не видит, окромя потолка. Стал голову нагинать; нагинал-нагинал, да и стал на четвереньки. Ну, ни дать ни взять — наш Трезорка.
Под губернатора два стула поставили. На один губернатор коленками стал, на другой руками уперся ишшо схоже с Трезоркой, только у Трезорки личность умней.
Губернатор из-под носу урчит:
— Водки давайте!
А голос, как из-за печки. Принесли водки, а носом рот закрыло. Губернатор через трубочку напился водки и шумит из-под носу:
— Расстрелять, сослать, оштрафовать, арестовать, под суд отдать!
Орет приказы без череду: спервоначалу расстрелять, а опосля уж все остально. Взятку губернатор не позабыл — взял, в коляску на четвереньках угромоздился, его половиками прикрыли, чтобы народ не видал да насмех не поднял.
Заводчик губернатора выпроводил, а сам в хохот, — любо, что попало не одному ему.
Письму ход дали.
Вот тут я в полном удовольствии был!
Дело в суд. Разбирать стали. Я сидел, как посторонной народ. Судья главной старикашка был — ему и двух слов хватило. Письмо другому судье отсунул и говорит:
— Читай, я уж сыт.
Второй судья пяток слов выдержал и безо всякого разговору третьему судье кинул. А у третьего зубы болели, пестрым платком завязаны, над головой концы торчат. Стал третий судья читать, его по зубам хлестким словом шшолкнуло. Зубы-то и болеть перестали, он и заговорил скоро-скоро, как забарабанил:
— Оправдать, оправдать, оправдать! На водку дать, на чай дать, на калачи дать!
Я ведь чуть не крикнул:
— Мне, мне! Это я писал!
Одначе смолчал. Судья писанье мое читат, за старо, за ново получат, а с кого взыскать, кого за письмо судить — не знат, до подписи не дочитались. Судейских много набежало, и всем попало — кто сколько выдержал слов. Одначе до конца ни один не дочитал. Кабы поумней были, дак сдогадались бы письмо по отдалении поставить и читать через трубу дальнозорну.
Дали письмо читать сторожу, а он неграмотной — темной человек, ну, небитым и остался.
Письмо в Петербург послали всяким петербургским начальникам читать. Этим меня очень уважили. Ведь мое писанье мордобитно не то что простым чинушам, — самим министерам на рассужденье представили. Ну, и по их министерским личностям звездануло за весь рабочий народ!
Чиновники хорошему делу ходу не давали. Подумай сам, како важно изобретенье прихлопнули!
А мне надобно ишшо что сделать: покеда есть знать, так писать. Вот и придумал. Написал большу бумагу, больше этой столешницы. Сверху простыми буквами вывел:
«ЧИТАТЬ ТОЛЬКО ГОСПОДАМ».
А дальше выворотны слова пошли. Утресь раным-рано, ишшо городовые пьяных добивали да деньги отбирали, — я бумагу повесил у присутственных мест, стал к уголку, будто делом занят, и жду.
Вот время пришло, чиновники пошли, видят: «Читать только господам», глаза в бумагу вперят и читать станут, а оттудова их как двинет! А много ли чиновникам надобно было? С ног валятся и на службу раком ползут.
А которы тоже додумались: саблишки выташшили и машут.
Да коли не вырубить топором написанного пером, то уж саблишкой куды тут размахивать! Позвали пожарну команду и водой смыли писанье мое и подпись мою. Так и не вызнали, кто писал, кто писаньем чиновников приколотил.
Потом говорили, что в Петербурге до подписи тоже не дочитали и письмо мое за город всенародно расстреляли.
Поп-инкубатор
Поп Сиволдай к тетке Бутене привернул. Дело у попа одно — как бы чего поесть да попить.
Тетка Бутеня в город ладилась, на столе корзина с яйцами. Поп Сиволдай потчеванья, угошшенья да к столу приглашенья не стал ждать: на стол поставлено — значит, ешь. Припал поп к корзине и давай яйца глотать, не чавкая. Тетка Бутеня всполошилась:
— Что ты, поп! Ведь с тобой неладно станет, проглотил десяток да ишшо две штуки.
— Нет, кума, проглотил я пять, ну, да пересчитывать не стану.
Тетка Бутеня страхом трепешшется, говорит-торопится:
— Поп, боюсь я за тебя и за себя, кабы мне не быть в ответе. Рыгни-ка! Может, недалеко ушло, сколько ни есть обратно выкатятся.
Поп Сиволдай головой мотат, бородой трясет, волосами машет. Жаль ему проглочено отдавать.
— Я сегодня на трои именины зван да на новоселье. Во всех местах пообедаю, ну, и авось того, ничего!
Поп на именинах на троих пообедал и кажной раз принимался есть, как с голодного острова приехал. На новоселье поужинал. И на ногах не держится — брюхо-то вперед перецеплят.
Дали попу две палки подпорами. Ну, Сиволдай подпоры переставлят, ноги передвигат и таким манером до дому доставился, лег на кровать.
А в тепле да в потемни цыплята скоро высиделись. У попа в животе цыплята вывелись, выросли, куры яиц снесли и новых цыплят вывели.
Поп Сиволдай в церкви службу ведет, проповедь говорит:
Мне дров запасите,
Мне сена накосите,
Мне хлеб смолотите,
Мне же, попу же,
Деньги заплатите!
А петухи в поповом животе, как певчие на крылосе, ко всякому слову кричат:
Ку-ка-ре-ку!
Народу забавно: потешней балагана, веселей кинематографа.
Это бы и ничего, да вот для попадье большо неудобство.
Как поп Сиволдай спать повалится, так в нем петухи и заорут. Они ведь не знают, ковды день, ковды ночь, — кричат без порядку времени — кукарекают да кукарекают.
Попадья от этого шуму сна лишилась.
Тут подвернулся лошадиный доктор. По попадьиному зову пришел, попу брюхо распорол, кур, петухов да цыплят выпустил, живот попу на пуговицы стеклярусны застегнул (пуговицы попадья от новой модной жакетки отпорола).
А кур да петухов из попа выскочило пятьдесят четыре штуки окромя цыплят. Тетка Бутеня руками замахала, птиц ловить стала.
— Мои, мои, все мои! Яйца поп глотал без угошшенья, значит, вся живность моя!
Поп уперся, словами отгораживатся:
— Нет, кума, не отдам! В кои-то веки я своим собственным трудом заработал. Да у меня заработанного-то ишшо не бывало!
Тетка Бутеня хватила попа и поволокла в свою избу. Попадье пояснила:
— Заместо пастуха прокормлю сколько-нибудь ден.
Дома тетка дала попу яиц наглотать. Поп без лишной проволочки цыплят высидел. Его, попа-то, в другу избу поташшили. Так вся Уйма наша кур заимела.
Поповску жадность наши хозяйки на пользу себе поворотили.
Мы бы и очень хорошо разбогатели, да поповско начальство узнало, зашумело:
— Кака така нова невидаль — от попа доход! Никовды этого не бывало. Попу доход — это понятно, а от попа доход — небывалошно дело! Что за нова вера? И совсем не пристало попу живот свой на обчественну пользу отдавать!
Предоставить попа Сиволдая с животом, застегнутым на модны стеклярусны пуговицы, в город и сделать это со всей спешностью.
А время горячо, лошади заняты, да и самим время терять нельзя. Решили послать попа по почте. Хотели на брюхо марку налепить и заказным письмом отправить. Да денег на марку — на попа-то, значит, — жалко стало тратить. Мы попу на живот печать большу сургучну поставили, а сзаду во всю ширину написали: доплатное.
В почтовой яшшик поп не лезет, яшшик мал. Мы яшшик малость разломали и втиснули-таки попа. А коли в почтовой яшшик попал, то по адресу дойдет! Только адрес-то не в город написали, а в другу деревню (от нас почтового ходу ден пять будет!).
Думашь, вру? У меня и доказательство есь: с той самой поры инкубаторы и завелись.
Проповедь попа Сиволдая
Поп Сиволдай вздохнул сокрушенно. Народ думал, о грехах кручинится, а поп с утра объелся и вздохнул для облегчения, руки на животе сложил и начал голосом умильным, протяжным, которым за душу тянут.
— Людие! Много есть неведомого. Есть тако, что ведомо только мне, вам же неведомо. Есть таково, что ведомо только вам, мне же неведомо.
Сиволдай снова вздохнул сокрушенно.
— Есть и тако, что ни вам, ни мне неведомо!
Поп погладил живот и зажурчал словами:
— О, людие дороги мои! У меня старой подрясник. Сие ведомом только мне, вам же неведомо.
— О, любезны мои други! Купите ли вы мне материи на новой подрясник шерстяной коричневого цвету и шелковой материи такового же цвету на подкладку к подряснику, — сие ведомо только вам. Мне же сие неведомо.
— О, возлюбленные мои братия! А материя, котору вы купите мне на подрясник, и подкладка к оному подряснику и с присовокупленною к ней материей тоже шерстяной цвета семужьего, с бархатом для отделки подобаюшшей, — понравится ли все сие моей попадье Сиволдаихе — ни вам, ни мне неведомо!
Река дыбом
Запонадобилась моей бабе самоварна труба: стара-то и взаправду вся прогорела, из нее огонь фыркал во все стороны. Пошел я в город. Хотя и не велико дело — труба, а все-таки заделье, а не безделье.
Купил в городе самоварну трубу бабе, купил куме, сватье, соседке. Подумал: всем бабам разом понадобятся трубы — купил на всю Уйму. Закинул связку самоварных труб за спину и шагаю домой. День жаркий, я пить захотел. По дороге речка. В обычно время ее не очень примечал, переходил, и только. На тот час речка к делу пришлась. Взял я самоварну трубу, концом в воду поставил, другой конец ко рту.
Не наклоняться же за водой в речку, коли труба в руках.
Мне надо было воду в себя потянуть, а я всем нутром, что было силы, из себя дунул!
Речонка всколыхнулась, вызнялась дугой высокой над мокрым дном. Я загляделся и про питье позабыл. Всяко со мной бывало, а тако дело в первой раз. А речка несется высоко над моей головой, струйками благодаренье поет и будто улыбатся, так она весело несет себя! Каки соринки, песчинки были в речке — все вниз упали, солнышко воду просветило, ну будто прозрачно золото на синем небе переливатся!
Вдруг полицейской налетел, диким голосом закричал:
— По какому такому полному бесправу выкинул речку сушить? Я тебя арестую и заставлю штраф платить!
Я под речкой пробежал на ту сторону.
— Ты сперва меня достань, а потом про штраф толкуй!
Полицейской только успел на дно речкино обеими ногами ступить, я речку бросил на землю. Речка забурлила в своих берегах, полицейского подхватила и в море выкинула.
Одним полицейским меньше стало. А мне обидно, что не успел ново дело народу хорошему показать.
В Уйме обсказал мужикам. Словами говорил, руками показывал, а мужики все твердят:
— Да как так? Как река текла, как рыба шла?
Роздал всем мужикам по самоварной трубе, рассказал, что надо делать. Выстали мы по берегу у самого города, трубы в воду поставили одним концом. По моему указу (я рукой махнул) и все мужики со всей мужицкой силой разом дунули!
Река и вскинулась над городом дугой-радугой.
Весь ил, весь песок на дно упали. Вода несется, переливатся, солнцем отсвечиват. Рыба вся на виду. Мелка рыбешка крутится во все стороны, крупна рыба степенным ходом вверх по реке идет.
Река одним концом к морю, другим концом к нашей деревне, к Уйме. Которы рыбы жирностью да ростом для нас подходяшши, те сами к нам подходили. Мы их с ласковым словом легким ловом перенимали на пироги, на уху, на засол, на угошшенье хороших людей. В продажу не пускали.
Рыбу нам река дала в благодаренье за проветриванье. Река нам рыбу дарила, а дареным мы не торгуем, а угостить хорошего человека всегда рады.
Городски купцы на мель сели: у которого пароходы, у которого баржи с товаром, у которого лес плотами сплавлялся, а которы около других наживались.
Забегали купцы к начальству с жалобами:
— Сколько нашего богатства в реке пропадат!
Купечески убытки чиновникам не в печаль. Чиновники найдут, что с купцов содрать. А вот рыба в воде вся на виду, а на речном дне всякого дорогого много накопилось — это чиновники хорошо поняли. Ведь ишшо не было такого дела, чтобы реку с места подымали и богатства со дна реки собирали.
Скорым приказом по берегу стражу расставили. Строго заказали никого на дно не пускать!
На высоки крыши лестницы поставили. Чиновники в реку удочки закидывали. Просто дело для чиновников было ловить рыбу в мутной воде. А в проветренной, солнцем просветленной кака рыба на удочку пойдет? Рыбья мелкота издевательски крутится, а крупна большим размахом хвостом махнет, чиновников-рыболовов водой обольет — и дальше идет.
Чиновники приказы написали, к приказам устрашаюшши печати наставили.
В приказах рыбам были указы: каким чинам кака рыба ловиться должна. С высоких лестниц приказы в реку выкидывали.
Для рыб чиновничьи приказы были делом посторонним.
Приказы с печатями устрашаюшшими на мокро дно падали, грязи прибавляли.
Собрались чиновники на берегу, сговорились, кому како место на дне обшаривать.
Бросились чиновники больши и малы с сухого берега по илистому дну ногами шлепать, руками грязь раскидывать.
Мы, мужики, поглядели и решили: таку грязь, такой хлам оставлять нельзя,
Разом трубы отдернули.
Река пала на свое место, всех чиновников, больших и малых, со всей донной грязью подхватила и в море выкинула!
Без чиновников у нас житье было мирно. Работали, отжились, сытыми стали.
В старо время мы себя сказками-надеждами утешали.
В наше время при обшшем народном согласьи и реки с нами в согласьи живут. Куда нам надо, туда и текут. И рыбу, каку нам надо и куда нам надо, туда и несут.
Месяц с небесного чердака
На военной службе я был во флоте. В морском дальном походе довелось быть на большом корабле.
Шли мы, шли и до самого краю земли дошли. Это теперь вот у земли края нет да небо куда-то отодвинули. А в старо бывалошно время дошли мы кораблем до угла, где земля в небо упиралась, и мачтой в небо ткнулись, в небе дыру пропороли.
Я на мачту, а с мачты на небо залез. А там — ну, как на всяком чердаке, — хламу разного навалено кучами. Старые месяца держаны, звезды ломаны, молньи ржавы, громы кучами навалены, грозовы тучи — их я сторонкой обошел. Ну-ко тронь их — что будет?
Хотел было просту тучу взять на рубаху каждоденну, да подходячей выбрать не мог: то толста очень, то тонка и в руках расползатся. Что взять для памяти? Звезду? А что их с неба хватать!
Выбрал месяц, которой не очень мухами засижен, прицепил на себя. Как раз во весь живот пришелся, как по мерке. Шинель застегнул — месяц не видно.
Высунулся с неба, а корабль отошел, до него сразу пропасть стала.
Что делать? Не сидеть же век на небе! Размотал шарф с шеи, распустил его в одну ниточку, кинул вниз и почти до корабля хватило. До палубы недостало каких-нибудь верст полтораста. Такой-то кусок пустяшной и скочить не сколь хитро!
Начальство переполошилось, что в небе дыру пропороло, и не заприметило, как я на небо забрался и с неба воротился.
Вечером па поверке я шинель распахнул.
Что тут сталось! Свет от месяца на моем животе на полморя полыхнул. Это для неба месяц вроде перегоревшей лампочки, а здесь, на земле, от него свет даже свыше всякой меры.
Командиры забегали, себя руками хлопают, руками машут, кричат мне:
— Малина, не светь!
Я вытянулся, месяцем выпятился и рапортую:
— Никак нет, ваше командирство; не могу не светить. Это мое нутро светит тоской по дому. Как получу отпускную, так свет сам погаснет.
Начальство сейчас написало увольнительну записку домой, печати наставило для пушшей важности. Я шинель запахнул — и свету нет.
А в нос мне всякой пыли с небесного чердака напало: и ветровой, штормовой, грозовой, громовой. Я на корму стал да как чихнул ветром, штормом, грозой, громом!
Разом корабль к берегу принесло.
В те поры, надо сказать, страсть уважали блеск на брюхе. Всякой дешевенькой чиновнишко светлы пуговицы нацеплял, а который чином поболе, то всяки блестяшши отметины на себя лепил. У самых больших чиновников все брюхо было в золоте и зад золоченой. Им и спереду и сзаду поклоны отвешивали.
У кого чина не было, а денег много, тот золоту цепь поперек брюха весил. Народ приучен был золотым брюхам поклоны отвешивать.
Я это знал распрекрасно.
Вышел я на берег — и прямо на вокзал, и прямо в буфет. Шинель распахнул, месяцем блеснул.
Все заскакали, закланялись. Ко мне не то — с поклонами, а с присядкой подлетели услужаюшши и говорят:
— Ах… — и запнулись, не знают, как провеличать, — не хотите ли есть? Вот и выпивка готова!
Я сутки напролет сидел да ел, ел да пил, ел не только досыта — ел до устали.
Как платить запонадобилось, я месяцем сосветил и на поезд пошел. В вагон не полез: в вагоне с месяцем тесно, да никто не увидит моей нарядности. Сел я на платформу. Меня подушками обложили. Шинель я снял. Ну и сияние пошло! Это для неба месяц был не гож да прошломесячной, а для нас дак очень даже светел.
Светило не с неба на землю, а с земли до неба, и така была светлая ясность, что всю дорогу встречали, провожали с музыкой и пели: «Светит месяц».
Только вот месяц на небе в холоду держался да ветром обдувался, а здесь на земле тухнуть стал — и погас.
В хозяйстве все в дело идет. На том месяце наши хозяйки блины пекут. Как сковородка месяц и великоват, ну да большому куску рот радуется.
В гости приходи — блинами угостим: блины-то каждый с месяц ростом, поешь — верить станешь.
Лунны бабы
Доняла меня баба руганью. И не пей, и не пой, и работай молчком. Ну, как это не петь, как молчать? У меня и рот зарастет. Работа с песней скорей идет, а разговором от иного дела и отговориться можно.
Тут скочила мне в память стара говоря. Попал дедка в рай, бабка в ад — и рады оба, что не вместе.
Ну, куда ни на есть, да надо от бабы подальше. И придумал убежать на луну. Оттуда и за домом и за бабой присматривать буду.
Для проезда на луну думал баню приспособить, да велика. Обернуться не во что было.
А лететь-то надо паром. Я самоваров пару к себе приладил: один спереду, другой сзаду. Взял запас уголья, взял запас хлеба, другого прочего, чего надо.
Взял бабкину ватну юбку — широченна така, к подолу юбки парусину пришил. Верх у юбки накрепко связал и перевернул. В юбке дыру проделал, в дыру банно окошко вставил. Окошко взял у старой бани, нову портить посовестился.
В ватной юбке сижу, парусиной накрылся, самовары наставил. Самовары закипели. Паром юбка да парусина надулись и вызнялись. И понесло меня изо дня в день, изо дня в день, да скрозь ночь полетел!
Стукнулся на луну, в мягко место попал и не разбился. Угодил в деревню обликом на манер нашей Уймы. Из ватной юбки не вылезаю, только в окошко гляжу, как на луне живут? Гляжу да место для своего жилья выбираю.
Вижу, из белого дому на белой двор зелена баба лунна выскочила, морда у бабы злюшша, зубы острюшши. Гонит баба мужика, что-то ругательно кричит, мужика колошматит то с маху, то наотмашь!
И скорехонько измочалила, видать — дело привышно. Хватила зеленая гребень редкой, вычесала мужика буди лен. За пряжу села, опосля и за тканье взялась — соткала лоскутну помене фартука и на зад нацепила — мужниной памятью утешаться и для обозначения, что, мол, вдова и взамуж охоча.
Я тихим шагом, — в юбке да с двумя самоварами не пора-то заторопишься! — да так тихим шагом по луне пошел житье да былье глядеть. Холодно там, все бело, только бабы лунные от злости зелены, да это и отсюдова видать.
Смотрю, бабы на мужиках землю пашут, на мужиках сидят да хворостиной подгоняют. Дошел до гумна, а там хлеб молотят и опять-таки мужиками. Держит баба мужика за руки али за голову, над своей головой размахнет да как цепом и вдарит. Бабы норовят молотить мягким местом, а мужики норовят пятками стукнуть.
Худо мужиково житье на луне! Правов у мужиков никаких нету. Жонки над ними выхаживаются, как придумают. Мужиков в щепы шшиплют, из мужиков веретено точат. С мужиков лыко дерут. Лунны бабы быкову трубу плетут. Уж длинную выплели, хотят ишшо длинней выплести, а для этого виновных мужиков надо извести. Как выплетут до большого конца, так на землю нашим бабам прокричать хотят лунны жонки, как над мужиками верх взять, мужиков в смирность привести и чтобы по бабьей указке все делали и по бабьей дудке плясали.
Я решил, что для нас это не подходяшшо, и на луне я жить расхотел.
Гляжу — лунны жонки гулянкой идут, и у всякой на заду да на переду навешаны лоскутины из мужиков тканые, да не по одному — по пять да по десять висит. Жонкам и тепло, и нарядно, а каково мужикам?
Увидали меня лунны бабы зелены и заподскакивали и завывертывались. То круглы, как месяц полнолунной, то тонехоньки обернутся, как месяц на ущербе. Это меня подманивают, то толстостью, то тонкостью пондравиться хотят. А меня от них в оторопь бросат, лихорадкой трясет.
Я маленькими шагами ушагиваю от лунных баб подале, из самоварных труб искрами сыплю, подступу не даю.
Вижу, лунны жонки, зелены рожи, каку-то машину ко мне прут. Жернова в разны стороны поворачиваются. К жерновам мельничьи розмахи прилажены. Розмахи, как руки, размахались, меня зацепить норовят.
Кабы не самовары, тут и конец бы мой пришел. Молодцы самовары! Как раз впору закипели. Я самоварной кран из юбки высунул, на лунных баб кипятком прыснул. Да круто повернулся, меня на землю в обратный ход понесло.
Только успел заприметить, что зеленые жонки от теплой воды осели и присели. Видел, как лунны мужики на лунных баб уздечки накинули, сели да поехали поле пахать да всяку первоочередну работу справлять.
Меня несет, меня несет! Из ночи в ночь, из ночи в ночь! Домой прилетел как раз поутру.
Тут меня ждут. Чиновники думают, не привез ли золота, руки ловчат отнять. Поп ждет, чтобы узнать, на котором я небе был? И ему все обсказал, пока помню. Ждут полицейски урядники, чтобы арестовать да оштрафовать.
Ждут, на дороге и место налажено, приманкой стакан водки да огурец с селедкой положены. Моя жона окошки в избе настежь отворила, мне на лету и видно, что она напекла, наварила, а водки четвертна на столе.
Народушку сбежалось меня глядеть множество, от народу темно кругом. Глядят во все глаза, как увернуться? А увернуться беспременно надобно. Меня затолкают, из ума вышибут, от полицейского допросу, от поповского расспросу, коли жив останусь, то в суд поведут, под штраф подведут.
Я самоварной кран из юбки выставил, горячу воду пустил, а сам верчусь, кручусь, разбрызгиваюсь.
Народ, кто успел, в сторону шарахнулся, кто не успел, те подолами да пиджаками накрылись, полицейски в шинельки завернулись.
Я той порой от дороги в сторону, на огород за баню. Чтобы не стукнуться, самоваров не примять да кипятком не ошпариться, у меня к ногам раздвижна тренога прицеплена, мне ее для этого дела дал проезжий сымалыцик-фотограф. Я треногу вытянул, в землю ткнулся. Ноги одна в одну, одна в одну — и стоп!
Я на землю. Из юбки выпростался, самовары трубами в разны стороны поставил, в самоварах мешаю, искры пушшаю. Народ, как от окрика, осадил.
Я так возврату на землю обрадел, что с жоной наскоро обнялся. Жона меня лопухами прикрыла, еды да питья принесла. Я за землю держусь крепко, ем да запиваю, выпиваю да закусываю, промеж лопухов смотрю, что творится около да в избе.
Моя баба самовары долила, на стол поставила, юбку ватну да парусины на другой стол положила. Сама баба моя плачет, заливатся и причет ведет:
Ох, соседушки, сватьи, кумушки!
Вы мово слова послушайте,
Да совет мне посоветуйте,
Как теперь: зватися мне
Вдовой али мужней жоной?
Муженек мой разлюбезной, ягодиночка,
Спела ягодка малиночка,
Остался на холодной луне одинешенек!
Скоро ль ночка настанет,
С неба мужнин глазок ласково глянет!
Век прожила — с тучами не спорила.
Теперича тучи будут разлучницами!
Закроют от меня ясной месяц,
Муженька любимого!
Уж вы, жоночки, подруженьки,
Скажите-ко тучам тем,
Пусть закроют от меня белой день,
Пусть оставят мне ясну ноченьку!
Не обнять мне мужа милого,
Дак погляжу на луну
Мужу в ясны оченьки!
Как остатной привет,
Послал мне муж юбку,
Ватну юбку теплую,
Не согреет меня сам
Мой сокол летный!
Столь ласково, столь жалостливо жона песней-причетом льется, что я носом фыркнул, пирог с морошкой доел и заревел. Реву, что один без жоны остался на луне. От жониного плачу и я поверил, что там на луне сижу, позабыл, что на огороде под лопухами водку заедаю шаньгами.
Гляжу, а поп Сиволдай с урядником секретной разговор произвели, ватну юбку объявили юбкой с первого неба, юбку на палку нацепили, лентами обвязали, цветами облепили и по деревне понесли.
Народ в те поры вовсе глупой был, попу да уряднику денег полны карманы наклали. Поп с урядником и по другим деревням юбочной ход сделали.
Городски попы это дело вызнали, архиерею рассказали. Архиерей говорит:
— Деревенски глупы, городски не умней, что тем, что другим — было бы погромче да почудней! Деньги сыпать станут, — только карман растопыривай!
Ты вот думашь — я все вру, а впрямь тако время было!
«Что со мной сделали?»
Да ковды дело дошло до доходу, про меня позабыли!
Как я чиновников потешил
Городско начальство стало примечать — изо всех деревень, и ближних, и дальних, мужики да жонки в город приезжают сердиты, а из Уймы все с ухмылочкой, — вроде как все веселы. Что за оказия така? Все деревни одинаково под полицейскими стонут, а уемски все с гунушками, а то и смехом рассыплются, будто вспомнят что.
Дозналось начальство. Да наши деревенски сами рассказали: не велик секрет, не наложен запрет.
— Дело, — говорят, — просто. Наш Малина веселы сказки плетет, песни поет. Порой мы не знам, где правду сказыват, где врать начинат — нам весело, мы смехом и обиду прогоням и усталь изживам.
Дошло это до большого начальства. Большое начальство затопоршшилось:
— Как так смешно да весело мужикам, а не нам? Подать сюда Малину! И во всей скорости!
Набрал я всякой еды запас на две недели, пришагал в город к дому присутственных мест, стал по переду дома, дух вобрал да гаркнул полным голосом:
— Я, Малина, явился! Кому нужен, кто меня требовал, кто меня спрашивал?
Да так хорошо гаркнулось, что в окнах не только стекла — рамы вылетели, в присутственных палатах столы, стулья, шкапы с бумагами подбросило, чиновников перекувырнуло и мягким местом об пол припечатало.
Худо бы мне было от начальства за начало такое, да губернатора на месте не было, он по заведенному положению поздней всех выкатился. Поглядел губернатор на перевернутость всю и на чиновников, как те ушибленны места почесывают, а встать-подняться не могут.
Губернатор под мой окрик не попал, а на других глядеть ему весело, он и захохотал.
Чиновникам и больно и обидно, а надо губернатору вторить. Они захихикали мелким смехом.
Губернатор головы не повернул, а мимо носу, через плечо, наотмашь стал слова бросать:
— Вот за этим самым делом, Малина, я тебя призвал, чтобы ты меня и других чиновников важных уважил-смешил.
Сейчас ты меня рассмешил. Ты, сиволапый, долго ли можешь нас, больших людей, смешить?
— Да доколе прикажете!
— Ну, ну! Мы над мужиком смеяться, потешаться устали не знаем, нам это дело привышно. Потешай, пока у тебя силы хватит. Загодя скажу — ты скорей устанешь, чем мы смеяться перестанем.
Для хорошего народу трудяшшого, работяшшого сказки говорю спокойно, где надо — смеху подсыплю — народ заулыбатся, рассмеется и дальше опять в спокое слушат. В меру смех — в работе подмога и с едой пользителен.
А чиновников что беречь?
Сердитость свою я убрал, чтобы началу не мешала, сделал тихо лицо, тако мимоходно. Начал тихо, а помалу да помалу стал голосу прибавлять, а смех-то сыпал с перцем, да с крупно точеным, несуразицей подпирал, себя разогнал, ну, и накрутил.
Губернатор взвизгиват, животом трясет, чиновников скололо, руками отмахиваются, значит, передышки просят.
Я смотрю, чтобы смех не уминался, чтобы смех не убывал. Завернул я большой смех часа на три, а сам в ту пору сел, поел, питья да выпивки велел из трактира принести и на губернаторской счет записать.
Три часа проходят, я ишшо слов пять сказал, как пару поддал, и опять чиновники от хохоту — в круги да впокаточку.
Мне что? Больше смеются — больше смешить стал. Я чиновников-издевательшшиков смехом крепко крутонул, а сам по городу пошел — разны дела делал, порученья деревенски справлял.
Время к вечеру пришло. Мне спать пора. Я такое загнул, что губернатор всю ночь глоткой ухал, а чиновники тонким визгом завились.
На другой день я всю сердитость накопленну в ход пустил. И не только словами смешил, потешал, а и руками и ногами всяки кренделя выделывал — это словам на подмогу, как гармонь к песне. Из присутственных мест из разных палат смех да хохот громом летел по городу. Городска беднота только ежилась.
— Опять на нас каку-то напасть выдумывают. Опять шкуру драть ладятся. Такой упряг времени хохочут-грохочут. Семь шкур содрали — восьму содрать хочут.
Чиновники остановиться смеяться не могут. Глянут друг на дружку — их как ременкой подстегнет на новой смех. Через столы переваливаются, по полу катаются.
Каждому смешно, что не он один в такое дело попал. И до того досмеялись, что мелки чиновники только ножками дрыгали да икали, а губернатор только булькал да пузыри пускал.
Чиновники народ был хилой, мундирами держались, а смеяться, надсмехаться над мужиками да над простым народом были сильны. Неделю смеху выдержали и только второй недели не дотянули — извелись, а губернатор лопнул.
Инстервенты
Ты вот, гость разлюбезной, про инстервентов спрашивашь; не охоч я вспоминать про них, да уж расскажу.
Ну, вот было тако время, понаехали к нам инстервенты, да и инстервенток привезли, — тьфу!
Понимали, видать, что заскочили на одночасье, и почали воровать вперегонки.
Как наши бабы стирано белье для просыху повесят, вышиты рубахи, юбки, спичники, — так тою ж минутой инстервенты все сопрут. И перечить не моги!
По разным делам расстервенились инстервенты на нашу деревню и всех коней угнали. Хошь дохни без коней! Сам понимашь, как без коня землю обработать? Тракторов в те поры не было, да и были бы, дак и трактора угнали бы инстервенты.
Меня зло взяло: коня нет, а сила есть.
Хватил телегу и почал кнутом огревать!
Телега долго крепилась, да не стерпела, брыкнула задними колесами и понесла!
Я на ходу соху прицепил, потом борону. Вспахал всю землю, нековды было разбирать, котора моя, котора соседа, котора свата али кума, — всю под одно обработал да засеял, и все в один упряг. Да ишшо все огороды справил. Телегу я смазал досыта и поставил для передыху.
Вдруг инстервенты прибежали, от горячки словами давятся, от злости на месте крутятся. Наши робята в хохот, на их глядя. Инстервенты из себя лезут вон, истошными голосами кричат:
— Кто землю разных хозяв под одну спахал? Что это за намеки? Подать сюда этого агитатора!
Мы телегу выташшили.
— Вот она виновата, ейна проделка.
Инстервенты к телеге бросились, а я телегу по заднему колесу хлопнул: знай, мол, што надо делать.
Телега лягнула, оглоблями размахнула, инстервентов которых в болото, которых за реку махнула. Сама вскачь в город побежала ответ держать!
Я — за телегой: как ее одну оставить? Телега разошлась, моего голосу не слышит, сама бежит, себя подгонят.
В городу начальство инстервентско на соборной площади собралось, все в голос кричат:
— Арестовать! Расстрелять! Колеса снять!
Телега без раздумья да с полного маху оглоблями размахнулась на все стороны. Инстервенты — на землю, а которы не успели опрокинуться, у тех скулы трешшат. Работала телега за всю Уйму!
Инстервенты сабли достали, из пистолетов палят, да куды им супротив оглобель!
Я за угол дома спрятался и все вижу; и увидал: волокут пушки большушши, в. телегу палить ладят.
Я закричал из-за угла:
— Телега! Ты нам нужна! Как мы без тебя? Телега, телега, выворачивайся как-нибудь!
Телега услыхала, оглоблями пушше замахала, а сама к берегу к воде пятится. Пароходы, что за реку в деревни бегают, да буксиры, — народ, наш рабочий брат, — увидали, что телега в эком опасном положении, пароходы из выручку заторопились. Пароходы по воде — вскачь! К месту происшествия прибежали, задами повернулись, кормы приподняли, винтами воду на берег пустили. Инстервентов обмочили, пушки водой залили, пушки и палить не могут. С инстервентов форс смыло, и такой у них вид стал, что срам глядеть. Жонки, которы из деревни, подолами прикрылись, а городски — зонтики растопырили и зонтиками загородились.
Пароходы телегу на мачты подхватили. Я успел, на телегу сел. Пароходы свистками марш засвистывали и привезли телегу домой целехоньку.
Мы телегу в другой двор поставили для сбереженья от инстервентов. У телег отлика не велика, — поди, распознай, котора воевала?
Тебе скажу по дружбе, котора телега: как в Уйму придешь, и считай четырнадцатой дом от краю, — у повети стоит телега, — та сама.
Стерлядь
Ко мне в избу генерал инстервенской заскочил. От ярости трепешшется, криком исходится. Подай ему живу стерлядь!
У меня только что поймана была, не сколь велика, такая — аршина с три гаком. Спрятать не успел, держу рыбину под мышкой, а сам трясусь, коленки сгибаю, оторопь проделываю, быдто уж очень я пужлив, а сам стерлядь тихонечко науськиваю.
Стерлядь, ты сам знаешь: с головы остриста, со спины костиста.
Вот инстервент пасть разинул, штобы дыху набрать да криком всю Уйму напугать.
Я стерлядь ему — в пасть! Стерлядь скочила и наскрозь проткнула. Головой по ногам колотит, а хвостом по морде хлешшет! Генерал инстервенской ни дыхнуть, ни пыхнуть не может. Стерлядь его по деревне погнала, солдаты фрунт делали да кричали:
— Здравье желам!
От крику стерлядь пушше лупила инстервента, он шибче бежал.
Стерлядь в воду — и пошла мимо городу, инстервент лапами всеми четыреми машет, воду выкидыват, как машина кака.
В городе думали, что нова подводна лодка идет. Флагами да свистками честь отдавали и все спорили, какой нации новой водяной аппарат?
А как распознать инстервентов? Все на одну колодку. Тетка жоны моей, старуха Рукавичка, сказывала:
— Не вызнать даже, — кто из них гаже!
А стерлядь мимо Маймаксы да в море вышла. По морю к нам ишшо напасть несло. Шли военны пароходы инстервентски, и тоже нас грабить. Увидали в подозрительну трубу стерлядь с генералом, думали — мина кака диковинна на них идет, закричали:
— Гляньте-ко: русски какую-то смертоубийственну машину придумали! Мы за чужим идем, но в самоповрежденье попадать не хотим.
В большом страхе заворотились в обратну дорогу, да порато круто заворотились: друг дружке боки проткнули и ко дну пошли.
Одной напастью меньше!
Сплю у моря
Анне Константиновне Покровской
Анне Константиновне Покровской
День проработал, уработался, из сил выпал, пора пришла спать валиться. А куда? Ежели в лесу, то тесно: ни тебе растянуться, ни тебе раскинуться — дерева мешают, как повернешься, так в пень али во ствол упрешься. Во всю длину не вытянешься, просторным сном не выспишься. Повалиться в поле — тоже спанье не всласть. Кусты да бугры помеха больша.
Повалился спать у моря. Песок ровненькой, мягонькой. Берег скатыватся отлого. А ширь-то — раскидывайся, вытягивайся во весь размах, спи во весь простор!
Под голову подушкой камень положил (один — на двух подушках не сплю, пуховых не терплю: жидкими кажут). На мягкой подушке думы теряются и снам опоры нет.
Улегся, вытянулся, растянулся, раскинулся — все в полну меру и во всю охоту. Только без окутки спать не люблю. Тут мне под руку вода прибыла. Ухватил воду за край, на себя натянул, укутался. И так ладно завернулся, так плотно, что ни подвертывать, ни подтыкать под себя не надо. Всего обернуло, всего обтекло.
И слышу в себе силу со всей дали, со всей шири. Вздохну — море всколышется, волной прокатится. Вздохну — над водой ветер пролетит, море взбелит, брызги пенны раскидат.
Спал во весь сон, а шевелить себя берегся. Ежели ногой двину — со дна моря горы выдвину. Ежели рукой трону — берега, леса, горы в море скину.
Сплю, как спится после большой работы, — сплю полным отдыхом, молча, без переверта.
Чую, кто-то окутку с меня стягиват. Поперек сна соображаю: что за забаву нашел кто-то сну-отдыху мешать? Я проснулся вполпросыпа. Глаза приоткрыл.
А это солнце. Оно к воде подошло. Время полночь была, вода золотым одеялом на мне светилась. Солнце дошло до края моря, на ту сторону заглядыват (ему надо было поглядеть, все ли там в порядке), а чтобы на той стороне долго не засидеться, солнце ухватилось за воду, за море, за мое одеяло — с меня и стаскиват.
Я за воду, за край ухватился — тут межень прошла; вода прибыла — я море опять на себя натянул: мне поспать надо, я ведь недоспал.
Солнце вверх пошло, меня пригрело. Я выспался так хорошо, что до сих пор устали не знаю.
Старики говорят: один в поле не воин. Я скажу: один в море не хозяин. Кабы в тогдашно время мог я с товаришшами сговориться, дак мы бы всем работяшшим миром подняли бы море краем вверх, поставили бы стоймя и опрокинули бы на землю. Смыли бы с земли всех помыкаюшших трудяшшими, мешаюшших налаживать жизнь в обшшем согласье.
Да это ишшо впереди.
Теперь-то мы сговоримся.
Народные предания и сказки, пересказанные С. Г. Писаховым
Соломбальска бывальщина
В бывалошно время, когда за лесом да за другим дорогим товаром не пароходы, а корабли приходили, балласт привозили, товар увозили, — в Соломбале в гавани корабли стояли длинными рядами, ряд возле ряду. Снасти на мачтах кружевьем плелись. Гаваньские торговки на разных языках торговаться и ругаться умели.
В ту пору в распивочном заведении вышел спор у нашего русского капитана с аглицким. Спорили о матросах: чьи ловчей? Агличанин трубкой пыхтит, деревянной мордой сопит:
— У меня есть такой матрос ловкач, на мачту вылезет да на клотике весь разденет себя. Сышшется ли такой русский матрос?
Наш капитан спорить не стал. Чего ради время напусто тратить? Рукой махнул и одним словом ответ дал:
— Все.
Ладно. Уговорились в воскресенье проверку сделать.
И вот диво — радии не было, телефону не знали, а на всю округу известно стало о капитанском споре и сговоре.
В воскресенье с самого утра гавань полна народом. Соломбальски, городски, из первой, второй и третьей деревень прибежали. Заречны полными карбасами ехали, наряды в корзинах на отдельных карбасах плавили. Наехали с Концов и с Хвостов — такие деревни живут: Концы и Хвосты.
От народу в глазах пестро, городски и деревенски вырядились вперегонки, всяка хочет шире быть, юбки накрахмалили, оборки разгладили. Наряды громко шуршат, подолы пыль поднимают. Очень нарядно.
Мужики да парни гуляют со строгим форсом — до обеда всегда по всей степенности, а потом… Ну, да сейчас разговор не о том!
Дождались.
На кораблях команды выстроились. Агличанин своему матросу что-то пролаял. Нам на берег слышно только: «г а у, г а у!»
Матрос аглицкой стал карабкаться вверх и до клотика докарабкался. Глядим — раздевается, одежду с себя снимат и вниз кидат. Разделся и как есть нагишом весь слез на палубу и так голышом перед своим капитаном стал и тоже что-то: «г а у, г а у!» Очень даже конфузно было женскому сословию глядеть.
Городски зонтиками загородились, а деревенски подолами глаза прикрыли.
Наш капитан спрашиват агличанина:
— Сколько у тебя таких?
— Один обучен.
— А у нас сразу все таки.
Капитан с краю двух матросов послал на фок-мачту и на бизань-мачту.
А тут кок высунулся поглядеть. Кок-то этот страсть боялся высокого места. На баню вылезет — трясется. Вылез кок и попал капитану под руку. Капитан коротким словом:
— На грот-мачту!
Кок струной вытянулся:
— Есть, на грот-мачту!
Кок как бывалошным делом лезет на грот-мачту. Смотрю, а у кока глаза-то крепко затворены.
На фок-мачте, на бизань-мачте матросы уж на клотиках и одежу с себя сняли, расправили, по складкам склали, руками пригладили, ремешками связали. На себе только шапочки с ленточками оставили, это чтобы рапорт отдавать — дак не к пустой голове руку прикладывать!
Коли матросы в шапочках да с ленточками — значит, одеты, на них и смотреть нет запрета.
А кок той порой лезет и лезет, уж и клотик близко, да открыл кок глаза, оглянулся, у него от страху руки расцепились, и полетел кок!
Полетел да за поперечну снасть ухватился и кричит агличанину:
— Сделай-ка ты так!
Агличанин со страху трепешшется, головой мотат, у него зубы на зубы не попадают, он что-то гаукат. Аглицкой капитан рассердился, надулся:
— Как так, аглицкого матроса надобно долго обучать, а русски отроду умеют и даже ловче?
Как соль попала за границу
(Сказку эту я слышал от Варвары Ивановны Тестовой в деревне Верхне-Ладино)
Во Архангельском городу это было. В таку дальну пору, что не только моей памяти не хватит помнить, а и бабке с прабабками не припомнить году-времени. Мы только со слов на слова кладем да так и несем: которо растрясется, которо до записи дойдет.
Дак вот жил большой богатой человек. Жил он лесом, в разны заграницы лес продавал. Было у такого человека три сына. Старшой да средней хорошо вели дело: продавали, обдували, считали, обсчитывали и любы были отцу.
Младшему сыну торговля не к рукам была, ему бы песней залиться да плясом завиться. Да и дома-то он ковды-нековды оследиться. Все с компанией развеселой время вел — звали этого молодца Гулена. Парень ласковой, обходительной, на поклон легок, на слово скор, на встрече ловок. Всем парень вышел, только выгодных дел делать не умел.
Задумал большой человек сбыть парня Гулену. И придумал это под видом большого дела. Отправил всех трех сынов с лесом-товаром в заграницы.
Старшому (а был тот ледяшшой, худяшшой, до чужого жадный, загребушшой), ему отец корабль снарядил дубовой, паруса шелковы, лес нагрузили самолутчей, первосортной.
Второй был раскоряка толстенной, скупяшшой-перескупяшшой. Про себя хвалился: «у скупа не у нета», а от его никто не видал ничего.
Этому второму корабль был дан сосновой, паруса белополотняны, лес — товар второсортной.
А третьему, развеселому, снарядил отец посудину разваляшшу и таку дыряву, что из дыры в дыру светило, а вода как хотела, так и переливалась, рыбы всяки как на постоялой двор заходили, уходили.
В этой посудине пряма дорога на дно. Поверх воды держится, пока волной не качнет.
А товар нагружен насмех: горбыли, обрезки да стары кокоры, никуда не нужны которы, парусом — старой половик.
Никудышно судно снаряжено, товар никудышной нагружен. Вот как Гулену на борт заманить?
Придумал богач тако дело: по борту разваляшшего суденышка наставил штофов, полуштофов с водкой, а на корму цельну четвертну. По-за бутылками зеркалов наставил. С берега видится, что все судно водкой полно.
Увидал Гулена развеселый груз на суденышке, созвал, собрал своих приятелев собутыльников, балагуров, песенников. Собрались, поглядели и песню запели:
Мы попьем, попьем,
Мы по морю сгуляем.
Отдали концы корабли и суденышко в одно время в одну минуту. Ледяшшой худяшшой да раскоряка толстяшшой большим передом опередили Гулену и в море вышли. А Гулена с товаришшами-приятелями чуть двигаются, водку пьют, песни поют и не примечают, что идут десятой день девяту версту. Водку выпили, в море выплыли. А тут развернулась погодушка грозной бурею. Вода вздыбилась, волны вспенились.
Гулена за борт выкинул горбыли, обрезки да стары кокоры. Порожно суденышко на воде, как чайка, сидит да по волнам летит. Гулене с товаришшами дело одно: хошь стой, хошь ложись, только крепче держись!
Ветер улетел, море отшумело, отработалось, в спокой улеглось.
Видит Гулена: по переду судна на воде что-то очень белет и блестит, белет и сверкат и похоже на остров. Гулена суденышком да о самой остров и пристал. А остров-то из чистой соли был.
Ну, мешкать не стали, дыры сквозны законопатили, соли нагрузили. Попутна вода да поветерь в заграницу суденышко пригнали. В гавани к стенке стали, люки открыли, солью торгуют.
Люди заграничны подходили, на язык соль брали, плевались, уходили.
Взял Гулена малой мешок соли и пошел по городу. В городу, в самой середине, царь жил. У царя гостьба была, понаехали разны цари-короли. В застолье сели, обеда дожидаются, разговоры говорят, всяк по-своему.
Гулена зашел в кухню. Сначала обсказал: кто и откудова и с чем приехал, соль показал. Повар соль попробовал:
— Нет, экой невкусности ни царь, ни гости цари-короли есть в жизнь не станут!
Гулена говорит:
— Улей-ко в чашку штей!
Повар налил, Гулена посолил.
— Отпробуй теперича.
Повар хлебнул да ишшо хлебнул, да и все съел.
— Ах, како вкусно! Я распервеюшшой повар, а эдакого не едал!
Гулена все, что нужно, посолил. Поварята еду на стол таскают больши блюда, по пяти человек несут, а добавошны к большим кажной по одному ташшит, а добавошных-то блюдов по полсотни.
Мало погодя в кухню царь прибежал, кусок дожевыват и повару кричит:
— Жарь, вари, стряпай, пеки ишшо, гости все съели и есть хотят, ждут сидят. И что тако ты сделал, что вся еда така приятна?
— Да вот человек приехал из Архангельского городу и привез соль.
Царь к Гулене:
— Много ли у тебя этой соли? И сколько чего хошь, чтобы мне одному всю продать! Други-то цари-короли еду с солью попробовали, им без соли ни быть ни жить больше. А как соль будет у меня одного, то буду я над всеми главным.
Гулена отвечат:
— Ладно, продам тебе всю соль, но с уговором. Чтобы вы, цари-короли, жили мирно, без войны, всяк на своем месте, своим добром и на чужо не зариться, на этом слово дай. Второ мое условие: снаряди корабль новой из полированных дерев с златоткаными парусами, трюма деньгами набей: передний носовой трюм бумажными, а задний кормовой золотыми. И третье условие — дочь взамуж за меня отдай, а то соль обратно увезу.
Царь согласился без раздумья. Делать все стал без промедленья.
Скоро все готово. Корабль лакированный блестит, паруса златотканы огнем светятся.
Гулена сам себе сватом к царской дочери с разговором:
— Что ты делать умешь?
— Я умею шить, вышивать, мыть, стирать, в кухне обряжаться, в наряды наряжаться, петь да плясать.
— Дело подходяшшо, объявляю тебя своей невестой!
Девка глаза потупила, сама заалела.
— Ты, Гулена, царям-королям на хвосты соли насыпал, за это да за самого тебя я иду за тебя!
Пир– застолье отвели.
Поехали. Златотканы паруса горят: как жар-птица летит.
Оба старши брата караулили Гулену в море у повороту ко городу Архангельскому. Увидали, укараулили и давай настигать. Задумали старши младшего ограбить, все богатство себе забрать.
Тут спокойно море забурлило, тиха вода зашумела, вкруг Гулениного корабля дерево забрякало, застукало. Все хламье, что заместо товару было дадено: горбыли, обрезки да стары кокоры столпились у Гуленина корабля, Гулене, как хозяину, поклон приветной отдали да поперек моря вызнялись. Гуленин корабль от бури и от братьев-грабителей высоким тыном загородили.
Море долго трепало и загребушшего и скупяшшего. Домой отпустило после того, как Гулена житье свое на пользу людям направил.
Время столько-то прошло. Слышит Гулена, что царь, которой соль купил, войну повел с другими царями. Гулена ему письмо написал: что, мол, ты это делашь да думашь ли о своей голове? Слово дал, на слове том по рукам ударили, а ты слово не держишь? Царски ваши солдаты раздерутся да на вас, царей, обернутся.
Царь сделал отписку, послал скору записку. Написана на бумажном обрывке и мусленым карандашом:
— Я царь — и слову свому хозяин! Я слово дал, я вобратно взял. Воля моя. Мы, цари, законы пишем, а нам, царям, закон не писан.
Малы робята и те понимают — кому закон не писан.
На корабле через Карпаты
(Слышал у Малины)
Я вот с дедушкой покойным (кабы был жив — поддакнул бы) на корабле через Карпаты ездил.
Перва путина все в гору, все в гору. Чем выше в гору, тем больше волны.
Экой качки я ни после, ни раньше не видывал.
Вот простор, вот ширь-то! Дух захватыват, сердце замират и радуется.
Все видно, как на ладони: и города, и деревни, и реки, и моря.
Только и оставалось перемахнуть и плыть под гору с попутным ветром. Под гору завсегды без качки несет. Качат, ковды вверх идешь.
Только бы нам, значит, перемахнуть, да мачтой за тучу зацепили. И ни в ту, ни в ну.
Стой, да и все тут.
Дедушка относа боялся главне всего. А ну как туча-то двинет да дождем падет? Эдак и нам падать приведется. А если да над городом да днишшем-то угодим на полицейску каланчу али на колокольню?
Днишше-то прорвет, а на дырявом далеко не уедешь.
Послал дедушка паренька, — был такой, коком взяли его, и плата коку за навигацию была — бочка трески да норвежска рубаха.
Дедушка приказ дал:
— Лезь, малец, на мачту, погляди, что оно там нас держит? Топор возьми; коли надобно, то у тучи дыру проруби али расколи тучу.
Парень свернулся, провизию забрал, сколько надо: мешок крупы, да соли, да сухарей.
Воды не взял: в туче хватит.
Полез.
Что там делал? Нам не видно. Чего не знаю, о том и говорить не стану, чтобы за вранье не ругали.
Ладно.
Парень там в туче дело справлят и что-то на поправку сделал. И уронил топор.
Мачты были так высоки, что топор, пока летел, весь изржавел, а топоришшо все сгнило. А мальчишка вернулся стариком. Борода большушша, седа!
Но дело сделал, — мачту освободил.
Дедушка команду подал:
— Право на борт! Лево на борт!
Я рулем ворочаю. Раскачали корабль. Паруса раскрыли. Ветер попутной дернул, нас и понесло под гору.
Мальчишке бороду седу сбрили, чтобы старше матери не был, опять коком сделали.
И так это мы ладно шли на корабле под гору, да что-то под кормой зашебаршило.
Глянули под корму, — а там мезенцы морожену навагу в Архангельск везут!
За дровами и на охоту
(Старинная пинежская сказка)
Поехал я за дровами в лес. Дров наколол воз, домой собрался ехать да вспомнил: заказала старуха глухарей настрелять.
Устал я, неохота по лесу бродить. Сижу на возу дров и жду. Летят глухари, Я ружье вскинул и — давай стрелять, да так норовил, чтобы глухари на дрова падали да рядами ложились.
Настрелял глухарей воз. Поехал, Карьку не гоню, — куды тут гнать! Воз дров, да поверх дров воз глухарей.
Ехал– ехал да и заспал. Долго ли спал — не знаю.
Просыпаюсь, смотрю, а перед самым носом елка выросла! Что тако?
Слез, поглядел: между саней и Карькиным хвостом выросла елка в обхват толшшиной.
Значит, долгонько я спал. Хватил топор, срубил елку, да то ли топор отскочил, то ли лишной раз махнул топором, — Карьке ногу отрубил.
Поскорей взял серы еловой свежой и залепил Карькину ногу.
Сразу зажила!
Думать, я вру все?
Подем, Карьку выведу. Посмотри, не узнашь, котора нога была рублена.
Как поп работницу нанимал
(Пинежская сказка)
Тебе, девка, житье у меня будет легкое, — не столько работать, сколько отдыхать будешь!
Утром станешь, ну, как подобат, — до свету. Избу вымоешь, двор уберешь, коров подоишь, на поскотину выпустишь, в хлеву приберешь и
спи — отдыхай!
Завтрак состряпашь, самовар согреешь, нас с матушкой завтраком накормишь —
спи — отдыхай!
В поле поработашь, али в огороде пополешь, коли зимой — за дровами али за сеном съездишь и —
спи– отдыхай!
Обед сваришь, пирогов напечешь: мы с матушкой обедать сядем, а ты —
спи — отдыхай!
После обеда посуду вымоешь, избу приберешь и —
спи — отдыхай!
Коли время подходяче, — в лес по ягоду, по грибы сходишь, али матушка в город спосылат, дак сбегашь. До городу — рукой подать, и восьми верст не будет, а потом —
спи — отдыхай!
Из города прибежишь, самовар поставишь. Мы с матушкой чай станем пить, а ты —
спи — отдыхай!
Вечером коров встретишь, подоишь, попоишь, корм задашь и —
спи — отдыхай!
Ужину сваришь, мы с матушкой съедим, а ты —
спи — отдыхай!
Воды наносишь, дров наколешь, — это к завтрему, и —
спи — отдыхай!
Постели наладишь, нас с матушкой спать повалишь. А ты, девка, день-деньской проспишь — проотдыхашь — во что ночь-то будешь спать?
Ночью попрядешь, поткешь, повышивашь, пошьешь, и опять —
спи — отдыхай!
Ну, под утро белье постирашь, которо надо — поштопашь да зашьешь и —
спи — отдыхай!
Да ведь, девка, не даром. Деньги платить буду. Кажной год по рублю! Сама подумай. Сто годов — сто рублев. Богатейкой станешь!
Как парень к попу в работники нанялся
Нанялся это парень к попу в работники и говорит:
— Поп, дай мне денег вперед хоть за месяц.
— На что тебе деньги? (Это поп говорит.)
Парень отвечат:
— Сам понимашь, каково житье без копейки.
Поп согласился:
— Верно твое слово, — како житье без копейки!
Дал поп своему работнику деньги вперед за месяц и посылат на работу. Дело было в утрях. Парень попу:
— Что ты, поп, где видано не евши на работу иттить!
Парня накормили и — опять гнать на работу. Парень и говорит:
— Поевши-то на работу? Да я себе брюхо испорчу. Теперича надобно полежать, чтобы пишша на место улеглась.
Спал парень до обеда. Поп на работу посылать стал.
— На работу? Без обеда? Ну, нет, коли время обеденно пришло, дак обедать сади.
Отобедал парень, а поп опять на работу гонит. Парень попу толком объяснят:
— Кто же после обеда работат? Уж тако завсегдашно правило заведено — тако положенье: опосля обеда — отдыхать.
Лег парень и до потемни спал. Поп будит:
— Хошь теперича иди поработай!
— На ночь-то глядя? Посмотри-кось: люди добры за ужну садятся да спать валятся. То и мне надоть.
Парень поел, до утра храпел. Утром наелся, ушел в поле, там спал до полден. Пришел, пообедал и опять в поле спать. Спал до вечера и паужину проспал. К ужину явился, наелся. Поп и говорит:
— Парень, что ты сегодня ничего не наработал?
— Ах, поп, поглядел я на работу: и завтра ее не переделать, и послезавтра не переделать, а сегодня и приматься не стоит.
Поп весь осердился, парня вон гонит:
— Мне экого работника не надобно. Уходи от меня!
— Нет, поп, я хошь и задешево нанялся, да деньги взял вперед за месяц и буду жить у тебя. Коли очень погонишь, я, пожалуй, уйду. Ежели хлеба дашь ден на десять.
Лень да отеть
(Старинная пинежская сказка, коротенька)
Жили– были Лень да Отеть.
Про Лень все знают: кто от других слыхал, кто встречался, кто и знается, и дружбу ведет. Лень — она прилипчива: в ногах путатся, руки связыват, а если голову обхватит, — спать повалит.
Отеть Лени ленивей была.
День был легкой, солнышко пригревало, ветерком обдувало.
Лежали под яблоней Лень да Отеть. Яблоки спелы, румянятся и над самыми головами висят.
Лень и говорит:
— Кабы яблоко упало мне в рот, я бы съела.
Отеть говорит:
— Лень, как тебе говорить-то не лень?
Упали яблоки Лени и Отети в рот. Лень стала зубами двигать тихо, с передышкой, а съела-таки яблоко. Отеть говорит:
— Лень, как тебе зубами-то двигать не лень?
Надвинулась темна туча, молнья ударила в яблоню. Загорела яблоня, и большим огнем. Жарко стало.
Лень и говорит:
— Отеть, сшевелимся от огня. Как жар не будет доставать, будет только тепло доходить, мы и остановимся.
Стала Лень чуть шевелить себя, далеконько сшевелилась. Отеть говорит:
— Лень, как тебе себя шевелить-то не лень?
Так Отеть голодом да огнем себя извела.
Стали люди учиться, хоть и с леностью, а учиться. Стали работать уметь, хоть и с ленью, а работать. Меньше стали драку заводить из-за каждого куска, лоскутка.
А как лень изживем — счастливо заживем.
Примечания
1. Плавание по Белому морю, Северному Ледовитому океану и их залиням требовало большого опыта и знаний. Наука кораблевождения в той или другой части Белого моря и океана обозначалась у поморов термином «знание». Различались Новоземельское знание — умение водить корабли вдоль западных берегов Новой Земли; Двинское и Соловецкое знание — вождение судов в сложном фарватере Двины, среди многочисленных островов и шхер. — Прим. автора.
2. Каяне — от названия городка Каяна, на территории нынешней Северной Финляндии, с которого шведы (свеи) не раз делали набеги (находы) на Поморье. — Прим. автора.
3. «Виноградец» примечает, что в начале царствования Алексея Михайловича Кыркалов и Ушаков ходили на Новую Землю и на Вайгач для отыскания серебряной руды, слюды и олова.
4. Сальница — сковорода с налитым в нее салом. В носок вставлялась льняная светильня.
5. Петр Первый в молодости дважды бывал в Архангельске.
6. Деревня в устье Северной Двины.
7. Деревня, и сейчас существующая, в Архангельской области, в Мезенском районе.
8. Подразумевается в Архангельске.
9. Рваная.
10. Деревня близ Архангельска.
11. Попавшие в морской унос поморы спасались в «час кроткой воды», то есть во время отливного течения. — Прим. автора.
12. Юго-западный ветер с реки Шелони.
13. Турья гора на западном берегу Белого моря. — Прим. автора.