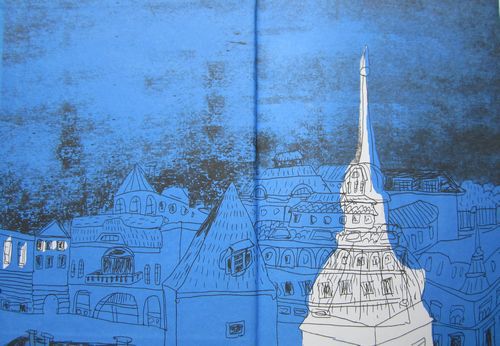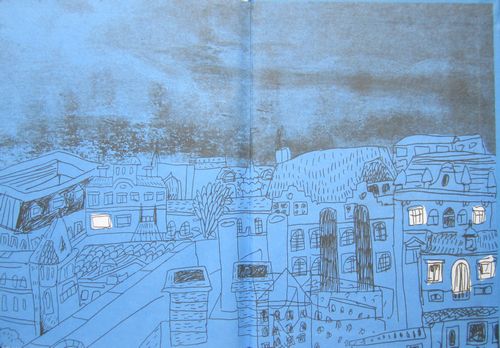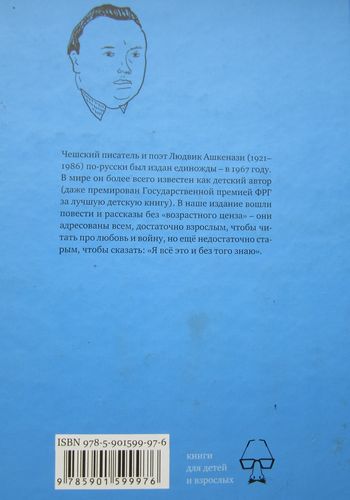Людвик Ашкенази
Собачья жизнь и другие рассказы
Брут
Пер. П.Гуров
«Как это прекрасно — служить человеку! — сказал себе Брут, немецкая овчарка. — Как это возвышенно — носить корзинку. Пойду-ка я помедленнее, чтобы растянуть удовольствие».
Брут неторопливо брёл по улице Гумбольдта на Виноградах. Он рассеянно смотрел прямо перед собой; в зубах у него покачивалась плетёная корзинка, с какой ходят за покупками. В ней лежали два плохо пропечённых рогалика, три сигареты, завёрнутые в «Дер Нейе Таг», и одна скверная, почерневшая гнилая свёкла.
Такая медлительность вовсе не была у него в натуре. Это была преднамеренная, гурманская медлительность. Таким способом Брут продлевал минуты радости. Немало уже написано о собачьей верности, но никто, кажется, ещё не сказал, что верность — это счастье. Кто служит тому, кого любит, тот уже получает свою награду.
В этот ранний час Брут не встречал на улице Гумбольдта ни собак, ни интересных людей; он увидел только клячу почтальона, которая вот уже восемнадцать лет каждое утро стояла у трактира. Кобыла была добродушна, но ещё не смирилась с тем, что постарела, и поэтому всем завидовала. Она завидовала Бруту за его лёгкий бег, за его лёгкую поклажу и вообще за всю его лёгкую жизнь. Она не могла себе представить, как это кто-нибудь от рождения до смерти ходит без почтовой тележки, да к тому же ещё видит обоими глазами сразу. Она смотрела на Брута только левым глазом, а правый устремляла на другой тротуар, завидуя другой собаке.
Около кобылы Брут совсем замедлил шаг; он вызывающе покачал корзинкой, которую держал в зубах, и ещё издали втянул ноздрями запах лошади, чтобы узнать, сколько ей осталось жить. Каждый день он ждал, что она вот-вот подохнет. И втайне надеялся, что это случится около трактира.
Когда-то давно-давно, до войны, когда кобыла была ещё в теле, Бруту приснился сон, что у собак случается очень редко; ему приснилось, будто он во главе своры серых овчарок гонится по снегу за почтовым возком. Они тогда загрызли кобылу почтальона. С тех пор Брут всегда чуял терпкий запах её крови. И стыдился этого, потому что был домашней собакой и жил в семье филолога-латиниста. Он даже знал одно латинское слово — «Брут».
«Когда я миную кобылу, запахнет гуляшом или перцем, — сказал себе Брут. Там можно на минутку остановиться; это единственное место на всей улице, где варят мясо уже к завтраку и при этом не закрывают окна».
Запах живущих там людей был очень хорошо знаком Бруту, и нельзя сказать, чтобы люди эти ему нравились. Он знал, что, когда они с Маленькой во время прогулки проходят мимо, занавеска на окне часто приподнимается; и то, что при этом говорят, похоже на плевок.
В оправдание чувств Брута можно сказать, что за окном, где варили мясо уже к завтраку, жил дворник, который был платным осведомителем гестапо. Брат у него был мясник, а дочку он выдал за богатого крестьянина, так что дом у него был полная чаша, ел он всегда досыта и время от времени на кого-нибудь доносил, лишь бы самому жить спокойно.
«Что бы я сделал, — подумал Брут, — если бы они как-нибудь налили мне тарелку подливки и выставили на тротуар?»
Из врождённой деликатности он не ответил себе на этот вопрос, а только облизнулся и тихонько, про себя, заскулил; он уже давно не наедался досыта, потому что хозяйка его была бедна и жили они голодно. Но он никогда не сердился на неё за это: как все собаки — хотя и не все люди, — он чувствовал, что хороший обед ещё не означает хорошей жизни.
Он стал думать о своей хозяйке и о том, как отдаст ей корзинку. Оставалось пройти ещё три дома и много ступенек. А потом скрипнет дверь, Маленькая кивнёт ему, и этот кивок скажет всё, что может получить собака за принесённую корзинку: что есть на свете война и голод, но есть ещё и любовь и верность.
У каждого этажа был свой запах. На первом жил стоматолог, которого к тому же звали Юлий Цезарь. Мимо этой двери Брут пробегал торопливо и с отвращением: он чувствовал, что там делают больно людям, а может быть, и того хуже — собакам. Через щели, через замочную скважину, через дверной глазок оттуда всё время струились облачка эфира и какой-то странный гнилостный запах. Лишь изредка Брут задерживался здесь — когда в дверь звонили дамы. Он чувствовал к ним симпатию и жалость, которые были отражением его великой любви к Маленькой. Он мысленно предостерегал их, а потом уже поднимался на второй этаж. Там пахло кипячёным молоком и пелёнками.
На третьем этаже царил запах тонкой пыли, какая собирается на книгах, а на четвёртом уже пахло Маленькой — сиреневым мылом, сладким потом и овечьей шерстью, из которой люди ткут материю. И запах этот был как запах шерсти Ливии, матери Брута, которая когда-то в молодости стерегла овец в Калабрии.
Люди мало знают о собачьем сердце; и они мало знают о той великой и благостной силе, которой обладают почесывающие и поглаживающие пальцы и ласковый взгляд. Лишь мгновение смотрел Брут в глаза человека и сейчас же отворачивался, чтобы не увидеть перемены, чтобы сохранить то, что ему дали, унести с собой то, что он получил. Никто лучше собак не знает, как переменчива людская привязанность.
«Сейчас я поскребусь в дверь, — сказал себе Брут. — Сначала только чуть-чуть поскребусь. Если она услышит — тем лучше. Это значит, что она прислушивается, что она ждёт меня. А если не услышит, поскребусь чуточку погромче. И только уж на самый худой конец тявкну. Жаль, что мы, собаки, не можем ни о чём говорить с людьми, а то мы научили бы их по запаху распознавать добро и зло».
Но дверь открыла не Маленькая. На площадку вышел низенький человечек, мятый и пыльный, от которого пахло волглой периной и суррогатным мармеладом; он споткнулся о Брута, которого сперва не заметил, испугался и побежал вниз по лестнице так быстро, что Бруту ужасно захотелось броситься за ним. Он презирал всех, кто его боялся, и узнавал их безошибочно. Но не трогал, потому что их было слишком много.
Он вошёл в дверь, которая так и осталась открытой, и услышал, что Маленькая плачет. Поэтому он понёс прямо к ней рогалики и сигареты — но главное, рогалики, так как предполагал, что чаще всего люди плачут от голода. Как обычно, он сел перед ней и стал смотреть на неё так называемым преданным собачьим взглядом, который на самом деле выражает много больше, чем простую преданность. В нём есть также готовность повиноваться и огромная благодарность за самый малый знак привязанности.
— Благодарю вас, господин пёс, — сказала Маленькая. Глаза у неё были красные.
Тогда он положил корзинку к её ногам и особым собачьим чутьём понял, что тому, жёлтому, от которого пахло волглой периной, не следовало приходить. Он не только боялся, сказал себе Брут, он отвратительно вонял.
Брут не знал, для чего существует бумага, и не умел читать. Он не понимал, что этот человечек был всего только мелким служащим, разносившим смертные приговоры. На пустом кухонном столе возле чашки с желудёвым кофе лежал лист бумаги, на котором было написано:
«Согласно распоряжению Заместителя Имперского Протектора Чехии и Моравии всем лицам, которые до настоящего времени не смогли доказать своё арийское происхождение, запрещается держать домашних животных, а именно: собак, как породистых, так и беспородных, кошек (и котов), а равным образом и обезьян, кроликов, морских свинок, белых мышей, хомяков и других млекопитающих; а также домашнюю птицу, как-то: кур, цесарок, голубей и иных птиц из семейства куриных, а кроме того, попугаев, канареек, колибри, трясогузок, щеглов и прочих птиц; далее — рыб, как аквариумных, так и прочих, а также, буде таковые окажутся в наличии, змей, ящериц, черепах и других пресмыкающихся.
Вышепоименованные животные должны быть сданы в течение 18,19, 20 и 22 чисел сего месяца в центральный приёмник в Трое[1] с получением соответствующей справки.
Настоящее распоряжение издано в удовлетворение настойчивых и многочисленных пожеланий различных обществ по охране животных, а также широких масс населения, уже давно и вполне справедливо требующих положить конец ритуальным убийствам бессловесных животных, а также садизму, содомизму и иным видам жестокого обращения с таковыми.
Подлинный подписал: группенфюрер К.-Г. Франк.
С подлинным верно: доктор юриспруденции Дионизиус Коза-Филипповский».[2]
Ашкенази Людвик » Собачья жизнь и другие рассказы — читать книгу онлайн бесплатно

Конец
Книга закончилась. Надеемся, Вы провели время с удовольствием!
Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями:
Оглавление:
-
Брут Пер. П.Гуров
1
-
Псих Пер. П.Гуров
8
-
Зизи, или Собачья жизнь Пер. П.Гуров
11
-
Рассказы
14
-
Дети Пер. Г. Гуляницкая
14
-
Голубая искра Пер. Г. Гуляницкая
16
-
Ромео Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер
20
-
Лебл Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер
21
-
Пропал кондитер Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер
23
-
Про Это Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер
25
-
Бюст Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер
27
-
Двадцатый век Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер
30
-
Яичко Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер
31
-
Послесловие…
32
-
…и комментарии
33
Настройки:
Ширина: 100%
Выравнивать текст
Не для детей. Однозначно не для детей. Для подростков, лет с 12 КАК МИНИМУМ.
Знаю, что издательство «Теревинф» издает хорошие детско-подростковые книги. Знаю, как факт. Взяла все не глядя. Оформление мне, если быть до конца честной, не нравится совсем, но эта как раз та литература, которую я беру из-за текста.
Сейчас я нахожусь в процессе чтения данной книги. Прочла пока половину, но уже то, что я прочла ясно показало мне что книга НЕ ДЕТСКАЯ. Все ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ рассказы Людвика Ашкенази пронизаны любовью, это так, но пронизаны они еще и болью, трагизмом и невыносимой печалью… Читать — лично мне — очень тяжело, никогда не назову его рассказы легкими. Наворачиваются слезы и душит боль. Да, я прекрасно понимаю, что есть вещи, которые НЕЛЬЗЯ ПОНЯТЬ, НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ и НЕЛЬЗЯ ПРОСТИТЬ… Но кроме этого есть еще и Страна Детства, куда эти понятия не должны быть вписаны.
Я очень благодарна моей семье, за то, что они в свое время подарили мне эту Страну. В мире моего детства не было боли, но было Волшебство, Чудеса и Радость. Моей няней была Мэри Поппинс, я дружила с Питером Пэном, общалась с Муфтой, Полботинком и Моховой Бородой, смеялась над проделками Карлсона и бывала в гостях у принца Мио. И теперь я понимаю, насколько это важно для каждого ребенка.
«Собачью жизнь» я бы рекомендовала прочесть всем, но только не детям. Творчество этого Писателя с большой буквы не рассчитано на детей… Мне бы хотелось, чтобы мой ребенок как можно позже узнал, что такое Холокост, и что в Чехии когда-то было так:
10.1936: запрет евреям пользоваться читальными залами публичных библиотек.
10.1938: евреям запрещен доступ в театры, кино- и концертные залы, музеи, на выставки, открытые доклады и лекции, спортивные соревнования, катки, бассейны — общественные и частные.
12.1938: евреям запрещено брать в библиотеке книги на дом и иметь водительские права.
09.1939: запрет выходить из дома после 8 часов вечера.
08.1940: запрет входить в городские парки и сады. Запрет пользоваться телефоном.
10.1940: конфискация у евреев швейных и пишущих машинок.
11-12.1941: распоряжение о сдаче евреями биноклей и фотоаппаратов, запрет пользоваться телефонами-автоматами и ездить в автобусах (разрешено только в трамвае, на передней площадке прицепного вагона).
03-04.1942: запрет на пользование трамваем. Запрет покупать цветы и иметь продуктовые запасы, появляться на вокзале.
05.1942: запрет держать домашних животных — собак, кошек, птиц.
Собачья жизнь и другие рассказы
Ашкенази Людвик
Чешский писатель и поэт Людвик Ашкенази (1921–1986) по-русски был издан единожды — в 1967 году. В мире он более всего известен как детский автор (даже премирован Государственной премией ФРГ за лучшую детскую книгу). В это издание вошли повести и рассказы без «возрастного ценза» — они адресованы всем, достаточно взрослым, чтобы читать про любовь и войну, но еще недостаточно старым, чтобы сказать: «Я все это и без того знаю».
Брут
Пер. П.Гуров
«Как это прекрасно — служить человеку! — сказал себе Брут, немецкая овчарка. — Как это возвышенно — носить корзинку. Пойду-ка я помедленнее, чтобы растянуть удовольствие».
Брут неторопливо брёл по улице Гумбольдта на Виноградах. Он рассеянно смотрел прямо перед собой; в зубах у него покачивалась плетёная корзинка, с какой ходят за покупками. В ней лежали два плохо пропечённых рогалика, три сигареты, завёрнутые в «Дер Нейе Таг», и одна скверная, почерневшая гнилая свёкла.
Такая медлительность вовсе не была у него в натуре. Это была преднамеренная, гурманская медлительность. Таким способом Брут продлевал минуты радости. Немало уже написано о собачьей верности, но никто, кажется, ещё не сказал, что верность — это счастье. Кто служит тому, кого любит, тот уже получает свою награду.
В этот ранний час Брут не встречал на улице Гумбольдта ни собак, ни интересных людей; он увидел только клячу почтальона, которая вот уже восемнадцать лет каждое утро стояла у трактира. Кобыла была добродушна, но ещё не смирилась с тем, что постарела, и поэтому всем завидовала. Она завидовала Бруту за его лёгкий бег, за его лёгкую поклажу и вообще за всю его лёгкую жизнь. Она не могла себе представить, как это кто-нибудь от рождения до смерти ходит без почтовой тележки, да к тому же ещё видит обоими глазами сразу. Она смотрела на Брута только левым глазом, а правый устремляла на другой тротуар, завидуя другой собаке.
Около кобылы Брут совсем замедлил шаг; он вызывающе покачал корзинкой, которую держал в зубах, и ещё издали втянул ноздрями запах лошади, чтобы узнать, сколько ей осталось жить. Каждый день он ждал, что она вот-вот подохнет. И втайне надеялся, что это случится около трактира.
Когда-то давно-давно, до войны, когда кобыла была ещё в теле, Бруту приснился сон, что у собак случается очень редко; ему приснилось, будто он во главе своры серых овчарок гонится по снегу за почтовым возком. Они тогда загрызли кобылу почтальона. С тех пор Брут всегда чуял терпкий запах её крови. И стыдился этого, потому что был домашней собакой и жил в семье филолога-латиниста. Он даже знал одно латинское слово — «Брут».
«Когда я миную кобылу, запахнет гуляшом или перцем, — сказал себе Брут. Там можно на минутку остановиться; это единственное место на всей улице, где варят мясо уже к завтраку и при этом не закрывают окна».
Запах живущих там людей был очень хорошо знаком Бруту, и нельзя сказать, чтобы люди эти ему нравились. Он знал, что, когда они с Маленькой во время прогулки проходят мимо, занавеска на окне часто приподнимается; и то, что при этом говорят, похоже на плевок.
В оправдание чувств Брута можно сказать, что за окном, где варили мясо уже к завтраку, жил дворник, который был платным осведомителем гестапо. Брат у него был мясник, а дочку он выдал за богатого крестьянина, так что дом у него был полная чаша, ел он всегда досыта и время от времени на кого-нибудь доносил, лишь бы самому жить спокойно.
«Что бы я сделал, — подумал Брут, — если бы они как-нибудь налили мне тарелку подливки и выставили на тротуар?»
Из врождённой деликатности он не ответил себе на этот вопрос, а только облизнулся и тихонько, про себя, заскулил; он уже давно не наедался досыта, потому что хозяйка его была бедна и жили они голодно. Но он никогда не сердился на неё за это: как все собаки — хотя и не все люди, — он чувствовал, что хороший обед ещё не означает хорошей жизни.
Он стал думать о своей хозяйке и о том, как отдаст ей корзинку. Оставалось пройти ещё три дома и много ступенек. А потом скрипнет дверь, Маленькая кивнёт ему, и этот кивок скажет всё, что может получить собака за принесённую корзинку: что есть на свете война и голод, но есть ещё и любовь и верность.
У каждого этажа был свой запах. На первом жил стоматолог, которого к тому же звали Юлий Цезарь. Мимо этой двери Брут пробегал торопливо и с отвращением: он чувствовал, что там делают больно людям, а может быть, и того хуже — собакам. Через щели, через замочную скважину, через дверной глазок оттуда всё время струились облачка эфира и какой-то странный гнилостный запах. Лишь изредка Брут задерживался здесь — когда в дверь звонили дамы. Он чувствовал к ним симпатию и жалость, которые были отражением его великой любви к Маленькой. Он мысленно предостерегал их, а потом уже поднимался на второй этаж. Там пахло кипячёным молоком и пелёнками.
На третьем этаже царил запах тонкой пыли, какая собирается на книгах, а на четвёртом уже пахло Маленькой — сиреневым мылом, сладким потом и овечьей шерстью, из которой люди ткут материю. И запах этот был как запах шерсти Ливии, матери Брута, которая когда-то в молодости стерегла овец в Калабрии.
Люди мало знают о собачьем сердце; и они мало знают о той великой и благостной силе, которой обладают почесывающие и поглаживающие пальцы и ласковый взгляд. Лишь мгновение смотрел Брут в глаза человека и сейчас же отворачивался, чтобы не увидеть перемены, чтобы сохранить то, что ему дали, унести с собой то, что он получил. Никто лучше собак не знает, как переменчива людская привязанность.
«Сейчас я поскребусь в дверь, — сказал себе Брут. — Сначала только чуть-чуть поскребусь. Если она услышит — тем лучше. Это значит, что она прислушивается, что она ждёт меня. А если не услышит, поскребусь чуточку погромче. И только уж на самый худой конец тявкну. Жаль, что мы, собаки, не можем ни о чём говорить с людьми, а то мы научили бы их по запаху распознавать добро и зло».
Но дверь открыла не Маленькая. На площадку вышел низенький человечек, мятый и пыльный, от которого пахло волглой периной и суррогатным мармеладом; он споткнулся о Брута, которого сперва не заметил, испугался и побежал вниз по лестнице так быстро, что Бруту ужасно захотелось броситься за ним. Он презирал всех, кто его боялся, и узнавал их безошибочно. Но не трогал, потому что их было слишком много.
Он вошёл в дверь, которая так и осталась открытой, и услышал, что Маленькая плачет. Поэтому он понёс прямо к ней рогалики и сигареты — но главное, рогалики, так как предполагал, что чаще всего люди плачут от голода. Как обычно, он сел перед ней и стал смотреть на неё так называемым преданным собачьим взглядом, который на самом деле выражает много больше, чем простую преданность. В нём есть также готовность повиноваться и огромная благодарность за самый малый знак привязанности.
— Благодарю вас, господин пёс, — сказала Маленькая. Глаза у неё были красные.
Тогда он положил корзинку к её ногам и особым собачьим чутьём понял, что тому, жёлтому, от которого пахло волглой периной, не следовало приходить. Он не только боялся, сказал себе Брут, он отвратительно вонял.
Брут не знал, для чего существует бумага, и не умел читать. Он не понимал, что этот человечек был всего только мелким служащим, разносившим смертные приговоры. На пустом кухонном столе возле чашки с желудёвым кофе лежал лист бумаги, на котором было написано:
«Согласно распоряжению Заместителя Имперского Протектора Чехии и Моравии всем лицам, которые до настоящего времени не смогли доказать своё арийское происхождение, запрещается держать домашних животных, а именно: собак, как породистых, так и беспородных, кошек (и котов), а равным образом и обезьян, кроликов, морских свинок, белых мышей, хомяков и других млекопитающих; а также домашнюю птицу, как-то: кур, цесарок, голубей и иных птиц из семейства куриных, а кроме того, попугаев, канареек, колибри, трясогузок, щеглов и прочих птиц; далее — рыб, как аквариумных, так и прочих, а также, буде таковые окажутся в наличии, змей, ящериц, черепах и других пресмыкающихся.
Вышепоименованные животные должны быть сданы в течение 18,19, 20 и 22 чисел сего месяца в центральный приёмник в Трое [1] с получением соответствующей справки.
Настоящее распоряжение издано в удовлетворение настойчивых и многочисленных пожеланий различных обществ по охране животных, а также широких масс населения, уже давно и вполне справедливо требующих положить конец ритуальным убийствам бессловесных животных, а также садизму, содомизму и иным видам жестокого обращения с таковыми.
Подлинный подписал: группенфюрер К.-Г. Франк .
С подлинным верно: доктор юриспруденции Дионизиус Коза-Филипповский ». [2]
«Как хорошо я сделал, — сказал себе Брут, — что не потерял ни одного рогалика, и свеклу тоже. Как это возвышенно — носить корзинку для Маленькой и делать так, чтобы она переставала плакать».
— Тут пишут о тебе, — сказала Маленькая тихо и немножко хрипло. — Ты ведь знаменитая собака, о тебе будет теперь заботиться сам Протектор.
И по её голосу Брут понял, что на самом деле она вовсе и не переставала плакать, а там, внутри, плачет всё сильней и сильней.
На следующее утро Брут получил ливерную колбасу. Он знал о ней уже два дня и радовался, что в воскресенье устроится под столом и будет ждать, чтобы ему бросили шкурку. А теперь она лежала перед ним вся, пахнущая салом, солью и майораном, длинная, толстая, вызывающая и в то же время покорная. «Она так чудесна, — подумал Брут, — что сначала я потрогаю её носом. Потом надкушу двумя зубами, чуть-чуть прорву шкурку и оставлю. Подожду, пока не вывалится кусочек начинки, потом лизну его и опять подожду».
Он и выдерживал характер — пока не надкусил шкурку. Потом запил колбасу водой, лёг у печки и стал смотреть, как Маленькая одевается перед зеркалом. Он видел, что их две, но чувствовал, что запах есть только у одной. И знал, что та, другая, в зеркале, — не настоящая, но всё равно любил её, хотя и удивлялся, что она идёт влево, когда настоящая — вправо, и сердился на неё, когда она покидала настоящую.
«Я-то её никогда не покину, — говорил он себе, — и, пока она захочет, буду ей принадлежать. И даже если не захочет, всё равно буду ей принадлежать».
Он смотрел, как Маленькая завязывает платок, под которым исчезли светлые кудри и розовые уши с крохотными серёжками.
Потом колбаса одолела его, и он уснул, а когда проснулся, Маленькая сидела около него на полу, скрестив ноги, и говорила ему всякие слова, и была немножко новой, а немножко — совсем-совсем прежней, как в те дни, когда его принесли к ней ещё щенком.
Одно слово было — «дурашка». Другое — «мохнатенький». А третье — «волчик».
Он совсем ошалел от счастья и не пытался понимать её, а только слушал. Он знал, что у людей важны не столько слова, сколько тон, которым они произносятся, что люди умеют говорить длинные слова ничего не значащим голосом, а короткие, которые сами по себе ничего не значат, — голосом тяжёлым и страдальческим, а иногда лёгким, как пенье жаворонка.
«Чего ты хочешь, милая, маленькая? — спрашивал Брут влажными глазами, весь трепеща от радости. — Как чудесно, что ты сидишь рядом со мной, раскинув по полу пахнущую овцой юбку! Как великолепно всё, что надето на тебе, и как изящно! Как чиста твоя кожа и как белы твои зубы! Как вкусна была твоя колбаса — много лучше рогаликов, которые принёс тебе я!»
Потом он ощутил в шерсти за ушами кончики её пальцев, блаженно застонал и закрыл глаза, чувствуя, что ни одна собака в мире не может быть счастливее.
А потом они шли в приёмник: Маленькая в платке, а немецкая овчарка Брут в наморднике — его проволока холодила чувствительный собачий нос. Брут искоса посматривал на хозяйку и вертел хвостом, который специалисты называют флагом. И некоторое время они так и шли с поднятым флагом, словно это была не прогулка, а манифестация.
Ещё на их улице Маленькую остановил дворник, у которого уже к завтраку варили гуляш. И завёл с ней откровенный разговор о жизни. Это было его любимое занятие и любимый способ ловли жертв.
— Вы меня знаете, сударыня, — сказал он. — А я ещё помню вашу покойную матушку, как она ходила к вам по субботам. Когда ещё тут жил пан профессор. Эх, если бы тогда знать, до чего мы доживём в нашей родной Чехии, да я бы, сударыня, первым пустил себе пулю в лоб!
— Мне пора идти, пан Пакоста, — сказала Маленькая. И в самом деле двинулась было дальше.
— Я мог бы привести вашу собачку обратно, — торопливо зашептал Пакоста. — Но это обойдётся в две косых — и то только для вас, пани Вогрызкова, мы же соседи. Они-то, эти немцы, они ведь все… хапен зи гевезен. К ним только надо уметь подойти.
Но тут дворник поспешил распрощаться, потому что Брут даже в наморднике производил на него не очень приятное впечатление.
Чем дальше они шли, тем больше попадалось им собак; а город вонял юфтью и бензином.
В ворота центрального приёмника, словно в Ноев ковчег, вливался поток всяких животных. И как в Ноев ковчег, они шли парами, только вторым в каждой паре был грустный человек. Больше всего было собак: шпицы, дворняжки, пудели всяческих пород — карликовые, большие и шнуровые; гончие, сеттеры, фокстерьеры — длинношёрстые, короткошёрстые и жесткошёрстые, мальтийские и японские пинчеры, пекинские болонки и виноградские спаньели; были тут даже одна маленькая люцернская гончая, вестфальский волкодав, шотландская борзая и крапчатый далматский дог, пёстрый, как праздничный галстук.
Испуганно пищали в клетках канарейки, попугаи поглядывали вокруг хмурыми стариковскими глазами, золотые рыбки нервно метались в аквариумах от стенки к стенке. И над всем этим стоял неумолчный шум.
Раздавались лай и мяуканье, чириканье и писк — и старый чиновник, заведовавший регистрацией домашних животных, окидывал генеральским оком всю эту толпу евреев и их живность. И с горечью говорил себе: «Надо же — как не повезло! Ведь в апреле-то я был бы уже на пенсии».
Потом вспомнил военные учения в Младой Болеславе и решил внести в этот хаос хоть какое-то подобие военного порядка.
— Становитесь попарно! — закричал он громким фельдфебельским голосом. — Собаки к собакам налево, кошки к кошкам в противоположный угол, птицы впереди, рыбы сзади, остальная мелюзга — ждать на тротуаре. Имя и фамилию, пожалуйста! Адрес и вероисповедание не нужно, и без лишних разговоров. И приготовить родословные — только для собак.
И он сел за дощатый стол под открытым небом, которое выгнулось над ним, как выкрашенный синей краской свод огромной канцелярии.
Самыми недисциплинированными оказались собаки. Они не были знакомы и обязательно должны были обнюхать друг друга. Проделывали они это очень церемонно и с большим увлечением. Обнюхивались главным образом уши, пах и зад. Брут нашёл только одну суку, которую счёл достойной себя. И сразу же недвусмысленно дал ей это понять. Сукой этой оказалась упомянутая уже крапчатая далматинка, собака весьма утончённая, с изящными томными движениями.
— Что тут происходит? — спросил её Брут коротким тявканьем.
— Не обращай на всё это внимания, — ответила далматинка, — а поухаживай за мной. Ну поторопись, я жду!
А длинная очередь неполноценных владельцев домашних животных всё текла и текла мимо грубо сколоченного стола, за которым восседал чиновник пражской магистратуры. В этот момент перед ним стояла маленькая старушка с немного скованными движениями; она была в праздничном платье, в шляпе с кокетливой вуалеткой, а на её щеках пылал огонь искусственного румянца.
— Ему уже сто тридцать седьмой год, — говорила она чиновнику, — и он всегда ел точно в семь, в двенадцать и в шесть часов. Если бы вы были так любезны записать это для имперских властей, они могли бы оценить подобную аккуратность.
А её старый, зелёно-жёлтый и столь бесконечно опытный попугай глядел из клетки стеклянными глазами, такими пустыми, что, видимо, только он один и понимал весь ход истории; медленно подняв голову, он выкрикнул почти человеческим голосом:
— Мешигене юдине, verrückt!
И потом молча смотрел, как его позолоченную клетку поставили в ряд с шестнадцатью другими клетками.
Старушка засеменила от стола и, только очутившись на улице, заплакала, прижимая к лицу батистовый платок. И таинственными знаками стала издалека давать попугаю какие-то инструкции относительно его дальнейшей жизни. Ей не хотелось возвращаться к себе: видно, она давно уже не выходила из дому, и всё это было для неё значительным и волнующим событием. Она даже начала утешать других грустных женщин, особенно бездетных.
— Никто не принесёт вам столько радости, как домашнее животное, — говорила она им. — Ведь от человека никогда не знаешь, чего ждать.
После двух ехидных такс и одной надменной, капризной и злобной ангорской кошки подошла очередь немецкой овчарки Брута. Он обнюхал стол и установил, что кто-то долго хранил в нём печёночный паштет. Потом исследовал чиновника, но тот не произвёл на него особого впечатления. И наконец с удовольствием отбежал к ограде, где его уже ждала изысканная далматинка. С Маленькой он не попрощался — он знал, что такое прощанье, но сейчас не видел для него никаких оснований.
А Маленькая, которая пережила уже много прощаний и разлук, помогла одному старичку разнять двух попугайчиков, неожиданно сцепившихся не на жизнь, а на смерть, и подождала, не оглянется ли на неё Брут. Она даже позвала его, но он не услышал, потому что вокруг стоял громкий крик. Тогда она ушла — без того сосущего ощущения где-то под ложечкой, которым обычно сопровождается горькое расставание, ушла, постукивая высокими каблучками и немножко презирая себя за одну унизительную мысль: она подумала, как хорошо было бы поджарить к ужину колбасу, которую съел Брут.
На самом деле её вовсе не звали Маленькой. Её настоящее имя было Ружена Вогрызкова, и у неё была скобяная лавка на Либеньском острове. Потом она вышла замуж за профессора классической филологии, и не очень удачно. Он ценил в ней классический профиль, а она в нём — несколько педантичную любовь к Ружене Вогрызковой. А потом настал день, когда она ушла от него, — и это во время войны, когда совсем уж неразумно было уходить от мужей, хотя бы и совершенно никчёмных, но всё-таки с безупречным происхождением. И вместе с ней ушёл Брут, немецкая овчарка с великолепной родословной. Хотя вряд ли прилично это подчеркивать, но она уважала Брута гораздо больше, чем профессора классической филологии, — за его преданность, за крепкие мышцы и за скрытую хищность. Кроме того, она всегда немножко его побаивалась, но не показывала вида, и это ещё больше укрепляло их отношения.
Первую ночь без Маленькой Брут провёл спокойно. Правда, перед сном он проделал то, что делал только щенком и больше никогда; прежде чем лечь, он несколько раз покрутился на месте — по обычаю своих далёких предков, которые приминали таким способом высокую степную траву. Наверное, он поступил так потому, что ночь была лунная и он впервые после долгого времени ночевал под открытым небом и среди других собак.
Он лежал рядом с далматинкой и грел её, потому что шерсть у него была длиннее и гуще. Спал он из-за яркого лунного света вполглаза и всё время настороженно принюхивался, стараясь разобраться во всех долетающих до него запахах и найти среди них те, которые знал и любил. Но этих запахов не было и в помине.
Когда начало светать, некоторые собаки завыли — не от тоски и ещё не от голода, а просто от скуки; Брут не присоединился к их хору, но слушал его с удовольствием, чувствуя, что по его телу словно пробегает незнакомый, странный, дразнящий и возбуждающий ток.
В этом хоре был и призыв, и вызов, и побуждение.
Но Брут знал, что всё это — городские собаки, а один фокстерьер был даже с той улицы, по которой он каждый день ходил за рогаликами. Он знал, что этого фокстерьера вовсе не манят дали. А ему самому в эту ночь опять снилась кобыла почтальона, он глухо ворчал и взлаивал, и далматинка всем телом прижималась к его боку.
Остальные животные молчали, только одна надоедливая канарейка, чью клетку некому было прикрыть, пускала трели — больше по привычке, чем от радости.
Утром пришли первые получатели; прежние собственники поторопились подыскать их ещё ночью. Чиновник не устраивал им никаких затруднений; он проверял удостоверение личности и без долгих разговоров выдавал всякую мелюзгу, заставляя только расписываться в книге. Если кто-нибудь приходил во второй раз, он смотрел на это сквозь пальцы, лишь бы поскорей избавиться от всей этой живности.
Так по очереди исчезли все канарейки, рыбки, попугаи, кошки и пинчеры. Остались лишь большие собаки. Им была уготована иная карьера — они должны были пройти полицейскую выучку. Несмотря на их длительный контакт с неполноценной расой, Империя намеревалась вернуть им своё доверие.
На третий день Брут внезапно похолодел при мысли, что он никогда уже больше не увидит Маленькую. Но он отогнал эту мысль, как отгонял мух, одним движением хвоста. Всю вторую половину дня он лаял, отчаянно и яростно, так что сорвал голос и у него пересохло в горле. Он лаял долго и упорно, как никогда в жизни, и сам этому удивлялся. Но он знал, что собакам от тоски лучше лаять, чем скулить, потому что лай выходит наружу, а скулёж остаётся внутри.
Новый хозяин Брута пришёл одним из первых. Под мелким неприятным дождем, весь словно обвешанный клоками серой мглы, во двор вошёл низенький офицер с белым лицом альбиноса и выпуклыми глазами, которые всегда были устремлены в одну к ту же точку где-то на уровне колен, но тем не менее всё видели и всё замечали. В нём не было ничего особенно уродливого и ничего особенно красивого — один из тех, на кого не обратишь внимания ни в толпе, ни в пустом кафе. Бросались в глаза только губы — пухлые, немного похожие на девичьи и всегда сложенные в трубочку, словно он собирался свистнуть. Это, наверное, объяснялось тем, что он уже много лет занимался обучением собак.
Брут обнюхал его плащ — он был из кожи яловой коровы. Офицер принял это вполне доброжелательно, погладил его по спине, от ушей до хвоста, потом ласково, но профессионально пощупал мышцы на груди и плечах и сказал неожиданно тонким голосом:
— Tschüs, Hündchen, wie hieß denn dein Jude? Muneles oder Tzitzes? Oder Toches?
Брут оскалил зубы, и немец засмеялся. Он подозвал чиновника и быстро выполнил все необходимые формальности.
Чиновник, сам бывший солдат, почувствовал в нём старую казарменную шкуру и сделал ему уступку, оформив дело через голову некоторых высших инстанций, ведавших, кроме всего прочего, и собачьими судьбами.
— Ich mache aus ihm einen Hundf, — сказал офицер, — aus diesem jüdischen Hochem.
И исчез с Брутом в тумане, словно сам был клоком тумана.
Собаки не знают, как называются города, в которых они живут. Но это был собачий город, и Брут дал ему название. Он называл его Конурград, а иногда — Костегорье или кратко — Псищи.
На самом деле это был питомник, где полицейских собак обучали для особых целей; он располагался в красивой лесистой местности неподалёку от небольшого концлагеря Т. В концлагере не было постоянных заключённых; он представлял собой лишь небольшое помещение перед печами, на котором красовалась надпись: «Reinigungsbäder».
Из смеси множества запахов обонятельный анализатор Брута выделил несколько главных: запах горелого мяса, липкого мыла и удушливого дыма, который, впитав в себя лесные ароматы, уносил их к облакам вместе с сажей, бывшей недавно человеческой плотью.
Но всё это не беспокоило Брута, потому что кормили его регулярно и обильно. Работы же было очень мало, да и та больше походила на игру. Обучали его два раза в день, перед первой едой и перед последней. И требовалось от него только одно: чтобы он твёрдо-натвердо запомнил, кто его хозяин, а кто — враг хозяина. Трудно ему дались только первые дни. К нему приходил человек в полосатой куртке и надевал на него парфорс. А потом привязывал его к столбу и начинал издеваться над ним, как только может человек издеваться над собакой: он пододвигал к нему миску с водой и забирал её раньше, чем Брут успевал попить; а потом выливал её на размокшую землю, которой вовсе не требовалось поливки, потому что местность тут была сырая и в старых земельных реестрах называлась просто болотом.
Кроме того, человек этот стегал его прутом, свежим и гибким, и покатывался со смеху, когда Брут плакал от унижения.
И Брут запомнил полосы на этой куртке, запомнил её запах и научился ненавидеть их до мозга своих собачьих костей. И узнал, что на помощь к нему всегда придёт только маленький офицерик в зеленоватом мундире — он строго кричал на его мучителя и тут же на месте наказывал его, а Брута отвязывал, снимал с него парфорс, гладил и давал ему кусок сахару. И по лицу офицера было видно, как он возмущён и недоволен тем, что с его собакой обходятся столь несправедливо. Последнее утешало Брута больше, чем сахар, и было намного слаще, потому что он не забыл, как его воспитывала Маленькая, и знал, что поглаживание дороже целой миски еды.
— О, du armes Hündchen, — говорил офицер. — Они тебя мучают, эти арестанты. Хватай их за горло, рви их, ты, дурачок!
И конечно, не говорил ему, что человек в арестантской куртке — это его помощник, которого он перед каждым уроком сам подробно инструктирует, как именно надо мучить Брута, согласно правилам обучения полицейских собак, составленным профессором физиологии и психологии собак, доктором медицины и ветеринарии Хильгертом Фреем из Гейдельбергского университета.
Помощника лейтенанта Хорста звали Кохом, и в прошлом он был живодёром в Кёнигсберге; он вылечился от туберкулеза собачьим салом и с тех пор по-своему полюбил собак. Они вместе сиживали в буфете, пили тминную и обсуждали характеры собак.
— Так вот, Кох, — говорил Хорст, — этот, как его, Брут, он — обыкновенная Schlosshund. Он относится с доверием ко всем людям, Кох. И это идиотство надо выбить у него из башки. Ведь он же — немецкая овчарка, а глаза у него, как у влюблённой проститутки.
— Он слишком долго прожил у жидов, господин лейтенант, — отвечал Кох. — И всё время их лизал.
— Помните, Кох, — продолжал Хорст, — собака может любить только одного человека, но и его она тоже должна ненавидеть. Я заметил в нём эту мягкость в первый же день, и мне стало его жаль. Ведь он мог бы прожить всю жизнь, как пудель на диване, а то и того хуже!
— У него хорошие резцы, — заметил Кох. — Но у него ещё остался один молочный клык. Разрешите, я его вырву, господин лейтенант.
— Рви, Кох, — сказал Хорст. — Мы из этого пса сделаем человека.
После того как Брут трижды подряд бросился на человека в арестантской куртке, метясь на горло, тот уже больше никогда не появлялся. Маленький офицер, которого звали Хорстом, научил Брута ещё идти по следу и из множества встречающихся запахов выбирать самый важный — запах людей, которые боятся. В этом заключалась работа Брута, и за неё он получал мясо. Он стал уже хорошо обученным убийцей и знал, что смысл жизни заключается в ожидании приказа.
Днём у Брута было много свободного времени, и он, свернувшись, спал на солнышке около своей конуры. Большую часть дня он обычно проводил в приятном ничегонеделанье и лишь изредка, когда было не слишком жарко и не слишком холодно, бродил по узким проходам между маленькими домиками и поднимал заднюю ногу у бетонных столбов. На мелком сером песке он встречал следы своего хозяина, Хорста, но не шёл по ним — он знал, что Хорст приходит к нему, а не он к Хорсту.
Он стал упитанным, но без подушек излишнего жира, великолепно себя чувствовал, легко и быстро бегал и ещё лучше прыгал. Среди собак у него было несколько приятелей, но тесной дружбы он не заводил ни с кем. Его приятелями были длинный и тонкий колли с глазами разного цвета — один голубой, а другой зелёный; иссиня-чёрный доберман, которого люди звали Вольф, а собаки — Рубленый Хвост; и ещё финская ездовая лайка, которую привезли из финского похода, — у неё была короткая массивная морда и раскосые ледяные глаза, которые иногда загорались синим и белым пламенем, холодным, как северное сияние. Но днём им было почти не о чем говорить, и каждый занимался своим делом. Все они как-то странно стыдились друг друга, потому что были, в сущности, честными и добропорядочными псами и чувствовали, что их нынешнее ремесло — волчье, а не собачье. Только по ночам они держались вместе, единой сворой, и работали до изнеможения, пока не срывали голос.
Тонкий слой жирка под их кожей слагался и из яичного желтка, и из почек и печени, а кроме того, им давали в молоке кофеин, чтобы они были стремительнее.
Каждый вечер — чаще всего около полуночи — свора из двенадцати собак отправлялась на маленький железнодорожный вокзал в Т.
Вокзальчик этот построили ещё при императоре; он был много роскошнее, чем требовалось для такого маленького селения, но неподалеку находился охотничий замок, куда, случалось, приезжали и эрцгерцоги, а раз как-то приехал сам рейхсфельдмаршал с польским министром Беком. Вокзалу уже не раз приходилось слышать лай гончих, которых привозили псари в специально оборудованных товарных вагонах: на половине высоты этих вагонов были устроены нары — из хорошо пригнанных досок, чтобы моча с верхнего яруса не стекала на нижний. У собак Геринга были, кроме того, ещё и замшевые подушки с монограммой «Г. Г.». Хотя по железнодорожным правилам позволялось перевозить в таком вагоне двадцать восемь собак, этих всегда возили только по десять.
Свора первым долгом окружала зал ожидания, в котором никто никогда не ждал. Потом, насторожив уши, собаки прислушивались к чёрной дали, в которой таился высокий свист перегруженного паровоза, такой высокий, что человеческий слух его не улавливал. Поезд был ещё очень далеко, но собаки уже знали о его приближении. Морды их становились влажными, носы поднимались к тёмному горизонту, зубы сверкали в ночной мгле.
Поезд подходил к перрону медленно и совершенно идиллически. Паровоз был старенький, с каким-то древним цилиндром вместо трубы, окутанным тучей искр и белым паром; он освещал собак двумя немножко близорукими глазами — свет был голубой, его маскировали, чтобы не привлекать внимания русских самолетов. Но собаки смотрели в эти глаза, напряжённо подобравшись, так как хорошо знали, что будет потом. Весь отряд хорошо сработался, и в приказах не было нужды. Деревянные, обитые сталью двери вагонов откатывались легко, с глухим стуком, и в ноздри собак ударяла волна запахов: пахло карболкой, одеколоном, чёрствым хлебом, испражнениями, пудрой, йодом и гнилью. И все эти запахи заглушал раздражающий, ненавистный собакам запах людей, которые боятся, людей, которые не похожи на их хозяев.
И все собаки лаяли — бешено, грозно, вне себя от злобы. Они окружали людскую толпу, как отару овец, и хотя знали, что кусать пока нельзя, глаза их горели, как у волчьей стаи, которая бежит по снегу и ждёт, кто первым упадёт с саней.
А люди, которые всегда и везде стараются сохранить хоть какую-то видимость нормальной жизни, перекликались в темноте:
— Маржена, портфель у тебя?
Или:
— Panie Emilu, panie Emilu, gdzie pan jest?
Или:
— Reb Jizchok, ich trug ir broit. Hobn sie nit moire?
Или:
— Herr Doktor Huggenheim, bitte zu ihrer Tochter, sie hat Kopfschmerzen.
Тем временем старый паровоз набирал воду и отправлялся за новой партией. Он уже второй год ходил по этому маршруту каждый день, или, точнее говоря, каждую ночь.
Вот так и текла собачья жизнь Брута.
И чем больше наливались кровью его глаза, чем самоувереннее становился лай, чем больше нравился ему почечный и печеночный жир, тем чаще вспоминал он кобылу почтальона с их улицы, которой когда-то мечтал вцепиться в горло. Теперь она снилась ему почти каждую ночь, особенно после возвращения с работы. И каждый раз он настигал её, и каждый раз её кровь была горячей и вкусной.
И лишь где-то глубоко-глубоко, на самом дне его сердца, тихонько тлел огонёк его прежней любви к людям. Но любовь эта не была оплачена страданием и потому ещё ждала своего дня и своего часа. Ибо за любовь в этом мире надо платить, и это закон не только для людей.
Была пятница. Декабрь в этом году выдался холодней, чем обычно. Подмораживало, падал лёгкий снег, и одна снежинка была прелестнее другой. Эти снежные крупинки жили свою короткую жизнь, ложились на землю, блестели и таяли.
Собаки уже устали, потому что эшелон сегодня всё не шёл и не шёл: то ли его задержали русские самолеты, то ли какой-нибудь семафор. Линия была перегружена перебросками войск с западного фронта на восточный и эвакуацией раненых в тыл. Было много обмороженных.
Брут заигрывал с финской лайкой, которая относилась к нему с особой, хотя и неустойчивой привязанностью. Она изменяла ему где и с кем только могла, и синий огонь с отблеском ледяных торосов вспыхивал в её глазах часто и для кого угодно. Но Брут привлекал её особенно, потому что она угадывала в нём затаённую преданность другой самке, у которой не было ни запаха, ни шерсти. Та, другая, была даже вообще не плотью, а лишь сиянием звёзд и отблеском слабого света, дрожащего где-то в самой глубине зрачков Брута.
— Оставь меня в покое, — сказала она, когда Брут пощекотал её влажным носом под поднятым хвостом. — Оставь меня в покое и занимайся своим делом.
А её сильные ноги дрожали от странного предчувствия, какое бывает иногда у самок, и сердце сжималось от ревности.
Наконец подошёл поезд, и всё было как всегда. Только звали уже не Эмиля, а Метека, и голова болела у другой дочери другого доктора. Голубые глаза близорукого паровоза светили во мгле пригашенно и уютно. Плакали внезапно разбуженные дети, и кто-то снова и снова кричал:
— Дают там мыло или надо взять свое?
Потом все они, собаки и люди, шли во тьму под холодным звёздным небом, и вдоль лесной дороги тихо шумели ели. Лай долетал до окрестных деревень, будил там дворняжек и заставлял их дрожать от ужаса, потому что деревенские дворняжки понимают общий собачий язык, хотя сами и лают на особом диалекте.
— Los! Los! — И опять: — Los!
Брут и чёрный доберман занимались отставшими. Это было забавно, и они успевали наиграться досыта. Ещё ни разу не случалось, чтобы не встал тот, кого они подошли обнюхать, разве что он был уже мёртв. Если же он только притворялся мёртвым, достаточно было укусить его за ногу, чтобы ему сразу захотелось жить.
— Ты займись вон тем, под ёлкой, — сказал доберману Брут, который был старшим в наряде. — А я подожду, пока та тень не доберётся до лунной полосы на повороте дороги.
Доберман повиновался, и «вон тот под ёлкой» подскочил и побежал за остальными.
Тень продвигалась вперед медленно и неровно, то пропадая в канаве, то вытягиваясь далеко в сторону по откосу. Однако прошедший хорошую выучку убийца Брут знал, что исчезают только тени, но не люди. Эта медлительность, эта слабость, это зловоние понемногу пробуждали в нём бешеную ярость. Он тихонько заворчал и взрыл задними ногами обледеневший снег, чтобы удобнее было оттолкнуться. Потом с громовым лаем рванулся вперёд и, почувствовав ненавистный запах, свалил человека на землю. И секунду стоял над ним, жарко и бурно дыша, весь наполненный радостным ощущением своей силы. Потом укусил упавшего в бедро и почувствовал солёную человеческую кровь, вкус которой уже был ему знаком. И в отличие от своих хозяев он знал, что кровь заключённых из Салоник и из Парижа, из Жижкова и из Магдебурга на вкус одинакова.
Человек слился со своей тенью, и теперь это был один бесформенный клубок, чёрный и скорбный клубок страдания.
— «Обнюхаю его, — сказал себе Брут. — И буду долго обнюхивать. А потом порву ему куртку и дам ещё раз попробовать моих зубов. Лаять буду мало — и так во рту пересохло. А лужи уже замерзают».
И тут внезапно и быстро, словно горный ключ, вырвавшийся из скалы, его обдал другой, забытый запах лежащего перед ним тела. И поток этот унёс его, как полая вода, от которой никуда не убежать, и залил его всеми запахами не только той жизни, которой он жил теперь, но и всех минувших, реальных и приснившихся у огня. Ему почудилось, что он вот только-только сейчас подошёл к человеческому жилью, сложенному из закопчённых бревен, — а может быть, это была пещера, — и у того, кто звал его войти, был низкий гортанный голос, а пахло от него козлом и рыбой. Звавший коснулся Брута рукой, и Брут его не укусил.
Потом он почувствовал себя щенком, слепым и беззащитным, и ощутил во рту сосок. И тепло матери.
А потом он словно шёл по лестницам дома, в котором было много этажей, и на одном пахло кипячёным молоком, а на другом — тонкой пылью, какая собирается на книгах, а с третьего струился запах сиреневого мыла, сладкого пота и овечьей шерсти, из которой люди ткут материю. И запах этот был как запах шерсти Ливии, матери Брута, которая в молодости стерегла овец в Калабрии.
Так он понял, что случилось и кто теперь лежит перед ним.
«Это Маленькая, — подумал он, — но ведь это и полосатая куртка». Эти два запаха не подходили друг к другу.
И он стал ждать, чтобы раздался голос, который покажет, какой запах — настоящий. Но женщина в лунном пятне лежала неподвижно, лицо её было молочно-белым, веки опущены, как жалюзи, а волосы острижены так коротко, что не могли рассыпаться по снегу.
Она то ли спала, то ли потеряла сознание. Только маленькое облачко пара, пронизанное бледным лунным светом, вылетало из её губ, словно крошечный призрак, готовый вот-вот пуститься в путь.
«Посижу около неё, — сказал себе Брут, — и никуда от неё не двинусь. Изо рта у неё идёт пар, и он тёплый. Я вдохну его и ещё раз проверю».
Лай своры затихал вдалеке. На лесной тропинке трижды тявкнул доберман, сообщая о себе и ожидая распоряжений. Но Брут ему не ответил.
Люди уже дошли до полосатой сторожки, над которой вился флаг с красным крестом. Здесь остались старики и дети, которых было немного; их по очереди, одного за другим, деликатно приглашали в большую, ярко освещённую приемную, где уже ждали два старика, или двое детей, или старик и ребенок; они сидели на кушетках, обитых розовым плюшем, или в удобных глубоких креслах под картинами в золочёных рамах и под люстрой из чешского хрусталя, и смотрели на обитую белым дверь, которая вела дальше. За дверью была яма и человек с револьвером — он стрелял в затылок каждому, кого вызывали из приёмной в кабинет врача.
А в другой приёмной, которая немного смахивала на парикмахерскую, стригли под машинку тех, у кого ещё были волосы. Это было преддверие газовой камеры. Они входили в камеру с поднятыми руками — не в знак того, что сдаются, а чтобы больше поместилось. И умирали остриженные, но не вымытые.
И собаки лаяли им отходную.
Но Брута там не было. Он сидел около Маленькой и дрожал, серый, как волк, замёрзший, несмотря на свою длинную шерсть.
«Если бы у меня была корзинка, — подумал он, — я сходил бы за сигаретами и за рогаликами. И за красной свёклой. Но корзинки здесь нигде не видно, да и рогаликов тоже. И к тому же светит луна, а при луне за рогаликами не ходят».
И он глянул вверх, поднял свою длинную острую морду и вздохнул так, как только может вздохнуть собака, которая не знает, куда ей идти и за кем.
В это мгновение Маленькая открыла смертельно усталые глаза и увидела над собой голодного волка. Увидела страшную морду и горящие, алчные, зелёные, хищные глаза. И попросила своё сердце остановиться. И просьба её была исполнена.
Испокон века собаки воют на луну, и для этого им не нужно никаких особых причин. Финская лайка услышала протяжный вой; несколько секунд она прислушивалась, насторожив уши, а потом села своим крепким задом на обледенелый снег и тоже завыла.
Но собачий вой никогда не долетит до луны, потому что это другая планета, а голоса земли остаются на земле — и смех, и плач, и писк новорождённого, и хрип умирающего.
Псих
Пер. П.Гуров
Его называли Ярдой, и ещё — Ярдой Помешанным, а чаще всего — Психом. Но он был, скорее, флегматиком, ступал медленно и осторожно и глядел на свет со всей мудростью, какая только возможна в его шкуре. Все его любили, и никто не боялся — даже мухи, которых он отгонял беззлобно, терпеливо и чуть ли не ласково. Он был тощий, добродушный и немножко смешной; и если бы всё это не происходило в 1955 году, на нём мог бы ездить добрый идальго Алонсо Кихано из некоей деревни в Ламанче, известный также под именем Дон-Кихота.
Не будем скрывать, что Ярда был лошадью, старым гнедым мерином, и к тому же ветераном, которому не дали ни пенсии, ни медалей, ни даже табачной лавочки.
У Кралей в Серебряном Перевозе он появился сразу же после великой войны, десять лет назад; на нём приехал солдатик, такой же тощий и добродушный, как он сам, и к тому же заика. Он продал Ярду очень дёшево, за две курицы, десяток яиц и одну восковую позолоченную свечку. Свечка эта сохранилась в семье Кралей ещё с тех времён, когда служили мессу по дедушке Вацлаву, который пал в далёкой Герцеговине за государя императора (и его семью).
Коня звали Гвардеец, но никто из Кралей не мог правильно выговорить это имя, и поэтому, похлопав его по худому боку, они переиначили Гвардейца в Ярду, да так оно и осталось. Солдатик прощался с ним очень грустно: он долго стоял в грязи у забора и гладил мерина одним пальцем по гнедой шерсти за ушами и по большим жёлтым зубам.
— Ну, ннавоевался ты, уродина, — говорил он неожиданно сердитым голосом, — пппостреляли вокруг ттебя и из автоматов, и из миномётов, и из гггаубиц, и из пппротивотанковых ружей, ннамучились вы, лошадки! Прости ммменя, гголубчик, что мы тебя впутали в эту войну. Мммы ведь её тоже не хотели.
И мерин Ярда, в недавнем прошлом Гвардеец, серьёзно кивал головой, словно почтенный крестьянин; и только когда солдатик ушёл, выяснилось, что он кивает всё время, лишь изредка останавливаясь. Это был след войны — его контузило где-то на Лабе, когда уже казалось, что и для лошадей наступают лучшие дни. Ещё накануне он досыта наелся светлой зелёной травы, клевера и люцерны и, хотя был мерином, поиграл на одном немецком лужке с кобылой из саксонского поместья, которая забрела в казачий полк и, несмотря на свою аристократическую родословную, была не прочь поразвлечься с простыми колхозными работягами. А на следующий день разверзшееся небо изрыгнуло тысячи огненных языков, и земля кричала от боли, потому что ее жёг белый фосфор и раздирало пламя, много всадников погибло в тот день, и ещё больше лошадей, хотя война была современная и кавалерии в ней, собственно говоря, нечего было делать. С этого дня Ярда и кивал своей длинной лошадиной головой; у человека это назвали бы нервным шоком или тиком, но кому какое дело до лошадиных нервов?
Вот так и прощался солдатик, и, прощаясь, даже забыл восковую свечку, и она до сих пор ждёт своей мессы, если только её не сожгут как-нибудь в грозу, когда колинская электростанция выключит ток. Солдатик ещё что-то наказывал и всячески в чём-то убеждал Кралей, но никто его толком не понял, потому что говорил он по-русски, да еще с нижневолжским акцентом, и сверх того заикался. Он всё время повторял, что «не надо при лошади стрелять», потом облупил сваренное вкрутую яйцо, жадно съел его прямо без соли и побрёл по сазавской грязи, которая ничем не лучше нижневолжской, из Серебряного Перевоза куда-то на восток. Никто его больше никогда не видел и никто о нём не вспоминал — ведь сколько их тут прошло, худых и толстых, нижневолжских и донских, московских и зауральских!
А Ярда остался у Кралей, потому что он был нужен в хозяйстве. Деревенская жизнь пошла ему на пользу, и он привык к великой тишине, царившей в Серебряном Перевозе. Он возил сено, свёклу и картошку, пропахал тысячи борозд и терпеливо и бескорыстно катал двоих детей. Все уже привыкли к тому, что это хороший конь, немножко не такой, как низкорослые деревенские лошади, но ничем не хуже. Привыкли и к тому, что он всегда кивает головой, а дети хвастались соседям и учителю, что с Ярдой можно разговаривать не только в сочельник, когда все животные обретают дар речи, но и круглый год.
Однажды его хотел купить известный дрессировщик домашних животных Геверле. Он говорил, что научит коня читать и считать до тринадцати и будет показывать его на сазавской ярмарке, в Броде, и Колине, и в Лондоне. Но дети не захотели расставаться с Ярдой, и Краль его не продал.
Прибежав из школы и бросив портфели, они первым делом шли в конюшню посмотреть, не вернулся ли Ярда, и больше всего им нравилось, что он кивает головой.
— Ярда, — спрашивали дети, — ты лошадь?
И Ярда кивал, что да.
— Ярда, — продолжали дети, — пустит нас отец в субботу в кино?
И Ярда кивал, что отец пустит.
— Ярда, — расспрашивали они дальше, — будет завтра дождь?
Будет — кивал Ярда и не ошибался: если дождь не шёл завтра, то уж послезавтра обязательно.
А один раз они спросили:
— Ярда, будет война?
И Ярда кивнул, печально, но решительно. Однако он ничего не сказал о том, где она будет и когда.
Ярдой Помешанным его стали звать после того, как однажды в субботу в Серебряный Перевоз приехали охотники и устроили охоту на косуль. В воскресенье, едва только стало светать, в лесу позади двора Кралей началась стрельба. Бах, бах и опять — бах! Ярда стоял в хлеву возле Пеструхи, наслаждаясь воскресным отдыхом, и потихоньку жевал большими жёлтыми зубами овёс. Едва раздался первый выстрел, он запрядал ушами, весь вспотел и перестал есть. Когда же выстрелили во второй и в третий раз, он опустился на колени, тяжело и неповоротливо, потому что был уже немолод, и сунул длинную чувствительную морду под ясли. Хозяйка как раз пришла подоить Пеструху и всё это видела.
— Ярда, — сказала она, — помешанный ты, что ли? Чего ты боишься? Это же охотники стреляют косуль.
Но Ярда только заржал — тихо и так тоскливо, что вслед за ним завыл во дворе пес Борек и голуби перестали ворковать; только куры продолжали клевать и важно перекудахтываться между собой — как всегда, ни о чём.
Когда же грохнуло в лесу у самого дома, Ярда сорвался с привязи и сумасшедшим галопом умчался из Серебряного Перевоза куда-то на восток. Его не было всё воскресенье и всю ночь на понедельник, а в понедельник он притрусил домой уже к вечеру, похудевший и измученный, с мутными глазами и опущенной головой. Хозяин побил его кнутовищем — немного, больше для порядка; потом задал ему овса и, вернувшись в горницу, сказал жене:
— Этот мерин — совсем как человек.
— То-то ты его лупишь, — отозвалась жена.
— А человека надо лупить больше всего, — ответил Краль. — Да и лупят. Если лошадь — как человек, то ей же хуже.
Дети смотрели на Ярду с любопытством, но и некоторым недоверием. Как его били, они не видели, потому что пришли позже; они забежали к нему в стойло, дали понюхать сахар, но тут же отдернули. Ярда словно потерял в их глазах своё лошадиное лицо. Они заметили, что его большое веко время от времени закрывается само собой, и выглядело это очень жалко. Дети спросили его немного насмешливо:
— Ярда, ты помешанный?
И Ярда закивал головой, что да.
Это их очень развеселило.
Для верности они спросили ещё раз:
— Ярда, ты псих?
И Ярда опять кивнул. Это стало известно всему Серебряному Перевозу и его окрестностям, и все узнали, что конь у Кралей — помешанный, вообще-то хороший работяга, но если неподалёку стреляют, то он становится психом.
Никого это не беспокоило — в деревне все знают, что людей на свете сумасшедших много, так почему же не может свихнуться и лошадь?
Жил в Серебряном Перевозе один хулиган школьного возраста, Франта Росак. Вот он доставлял соседям много беспокойства, хотя они и знали, что хулиганство — это тоже вид помешательства, только помешательства буйного и чаще всего жестокого. Хулиган развлекается за чужой счет, потому что с самим собой ему скучно. Он выискивает слабых и обессилевших, добродушных и наивных и, издеваясь над ними, доказывает преимущества наглости.
Ему уже многое простили: и спалённый участок леса, и козу, повешенную просто так, для забавы, и бабушку Тумову, которую он ужасно перепугал ночью старым испытанным способом — с помощью метлы, простыни и свечки. Но одной его шутки ему долго не могли простить — шутки, которую он сыграл с помешанным Ярдой.
Однажды хулиган Франта Росак узнал, что старый кавалерийский конь Ярда боится взрывов.
В Сазане как раз была ярмарка, и на этой ярмарке в голову Франты пришла гениальная идея. Он купил полдюжины петард, которые взрываются, если на них наступить. Из Сазавы он вернулся с петардами в кармане и с подлым замыслом под рыжим ёжиком волос; разбросал все шесть петард на шоссе, как раз там, где от него отходит дорожка ко двору Кралей, потом спрятался за буком, а может, за берёзой, и стал ждать, что произойдёт.
Ярда Помешанный, в новой сбруе, вычищенный до блеска, спокойно и весело вёз по шоссе воз сена, кивая головой, словно старый крестьянин, — не хватало только трубки да кружки пенящегося пива. Он дошёл до своей тропки и хотел было повернуть ко двору, как вдруг с земли со страшным треском и грохотом подскочили огненные петарды, выбросили чёрный и красный дым, и запахло адской серой и фосфором. Франта корчился за буком в безмолвном восторге.
Хозяин натянул вожжи и подумал: «Ну, всё, я этого психа не удержу!»
Но помешанный Ярда ничего не сделал. Он не понёс. Секунду он стоял, трясясь всем своим костлявым телом, как осина, и капли пота, словно бриллианты, одна за другой выскакивали на его шерсти, гуще всего на тонкой шее и на гнедой спине. Внезапно ноги его подкосились, он упал на колени, как раненый человек, и начал жаловаться таким высоким ржанием, с которым не сравнился бы никакой женский плач; это был долгий пронзительный и душераздирающий вопль, и слышно его было по всей деревне. Три старых деда, служившие когда-то в драгунах, не выдержали и вышли из своих домов на разных концах деревни, и их старые солдатские сердца сжались. Старший сказал себе:
— Вот так ржали кони, когда их травили газом под Дос-Альтос.
Второй вспоминал:
— Точь-в-точь так умирал мой Рыжий, когда ему под Равой-Русской попала в живот разрывная пуля.
А третий, который был на год моложе первых двух, подумал:
«Пуля в голову, как тогда в Черногории! Больше ничем тебе не поможешь!»
А день стоял ясный, сирень ещё только-только начинала расцветать, и от неё лился слабый девственный запах. И небо было чистое, весеннее и весёлое, лишь на западе тянулся тоненький серебристый след самолёта.
Ярда уже не ржал. Он лежал на асфальте и всё слабее кивал своей длинной и чувствительной лошадиной мордой.
— Вставай, Ярда, — сказал хозяин. — Не бойся, лошадка!
Ярда в последний раз кивнул головой, словно показывая, что понял, но так и не встал. Это был обыкновенный нервный шок, который случается не только у лошадей, но и у людей, над головой которых много стреляли.
Не бросайте им под ноги петарды. Из-за этого их может настигнуть смерть, которая и так всегда держит всех на учете.
Зизи,
или Собачья жизнь
Пер. П.Гуров
Они у меня вот тут, под столом, если хотите взглянуть. В корзине, чтобы не задохнулись. Любовь к животным, пан директор, это у человека врождённое. Вот я, пан директор, иду их топить. А на душе кошки скребут; и я в последнюю минуту взял да и вытащил их из мешка и положил в корзинку, чтобы они не задохлись по дороге.
Ну кто разберётся, какой в этом смысл? Всё равно ведь сейчас брошу их в реку, а у самого только и заботы, чтобы им хорошо дышалось. Я вам, пан директор, не сумею этого объяснить, да и самому себе тоже. Может, всё дело в том, что человеку всегда хочется загладить свою вину, а если это можно сделать наперёд, оно ещё лучше.
Так вот и кончилось дело с этой Зизи, бедненькой бедняжкой. Не знаю, когда вы тут были в последний раз, но, наверное, очень давно, — пожалуй, ещё перед войной? А, во время мобилизации! Ну конечно, я теперь вспомнил, как вам не хотели заменить сапоги, которые жали. Господи боже ты мой, неужели уже больше двадцати лет? И вам тоже кажется, что время быстро летит? А у меня — будто один день прошёл, и даже только полдня: пообедал человек, вздремнул, закурил сигару, включил радио — и двадцати лет как не бывало.
Вы знали тогда Зизи, чёрную такую таксу? Ну, она ещё жила у лесничего Скршиванека, а потом ему пришлось её продать, потому что она от охоты шарахалась, как епископ от содовой.
Да не могли вы её не знать, раз вы здешний. Её все знали. И уж вы-то, пан директор, обязательно должны были её знать. Разве вы не ходили завтракать в «Золотой лев»? Только иногда? И ни разу не заметили там собаки? Ну конечно, у таких больших людей, как вы, другие заботы. Вам, пан директор, приходится думать и день и ночь, — что вам какая-то там сучка!
А я помню её ещё щенком. Я тогда был на государственной службе, и свободного времени у меня хватало. И меня, пан директор, очень занимала история этой собачонки. Обо мне в городе болтают, будто я ем собак, но бог свидетель, пан директор, я ел шницель из собачатины всего один раз в жизни, и то ещё на русском фронте. И скажу вам, собачье мясо — просто объеденье. Деликатес.
Но я не из тех, кто идёт против обычаев, хотя бы даже и в еде. Однако же, если, не дай бог, дело дойдёт до того, чтобы есть собак, я вас тогда приглашу, и вы сами увидите, что можно сделать из этого мяса. Вы ведь всегда знали толк в еде, пан директор, а ваш папаша даже шампиньоны для себя выращивал.
Да, так об этой собаке. Я за ней много лет наблюдал — интересная, скажу вам, псина. Лесничий Скршиванек продал ее пани Ледвиновой, и очень дёшево, но возьми она её хоть задаром, всё равно прибыли ей от этого было бы немного. Пани Ледвинова вышила ей подушку с вензелем, кормила паштетами с луком, а раз я сам видел, как она покупала ей кость от окорока. Я никому не завидую, а уж собакам тем более, но тут я себе сказал — хотел бы я быть пёсиком у этой старухи.
А Зизи?
Зизи сбежала от неё через неделю. Нет-нет, не подумайте, что с каким-нибудь там таксой или доберманом, куда там, этим она не занималась. Просто ей не нравилось ни гоняться за зайцами, ни храпеть на подушке с вензелем. У неё было своё представление о жизни, и очень твёрдое. Понимаете, пан директор, у этой сучки был такой характер, что многим людям стоило бы у неё поучиться.
Где она ночевала, никто не знал. Но по утрам она всегда приходила в «Золотой лев» позавтракать обрезками. Ее там называли «постоянным клиентом», и у неё было даже своё место — под угловым столиком, где обычно сиживал нотариус Здерадичек, тот, которого хватил удар в сочельник.
Обедала она в «Короне», а ужинала в «Вороном коне». Только по четвергам, когда в «Золотом льве» бывала горячая колбаса, она и ужинала тоже там. Ну и жизнь была у этой сучки! Все к ней подмазывались, каждый старался сунуть ей кусок. Да только она-то брала не у каждого. Она принюхивалась не к еде, а к человеку, и будь он хоть сам директор бойни, но если он ей не понравился, так она есть не будет. Тут уж как её ни называй — и Зизи, и Зизинька, и собачка, и пёсик, — куда там! Даже ухом не поведёт. Только посмотрит эдак ласково и участливо, — так и кажется, будто она твой самый лучший друг. То ли в насмешку, то ли ещё почему, кто её знает.
У меня она брала даже чёрствую корку, но на это были свои причины, я вам потом расскажу.
Очень меня удивляло, что ею не заинтересовался ни один директор цирка. Наверное, потому, что большие цирки к нам не ездят, а маленьким дай бог и своих-то зверей кое-как прокормить.
А уж каким комиком она была! Обхохочешься! Котелок бы ей да тросточку — ни дать ни взять Чарли Чаплин.
Многие хотели взять её к себе — все наши местные аристократы: из этого даже моду сделали, назло пани Ледвиновой. Договорились, что, если кто-нибудь заманит Зизи к себе, тому ставят три бутылки шампанского.
Но Зизи ходила своей дорожкой. Нрав у нее был совсем кошачий, только фальши в ней не было, ну, и изнеженности.
Сколько раз мы со старым Здерадичком о ней разговаривали!
Я ему говорю:
— Вот скажите мне, пан нотариус, почему эта собака не хочет, чтобы у неё был хозяин?
А он мне отвечает:
— А почему вы, Михейда, не хотите, чтобы у вас был хозяин?
А я ему:
— Простите, пан нотариус, но я-то ведь всё-таки не собака. У меня душа есть.
Но Здерадичек только качал головой, выпускал дым колечками и заказывал ещё рюмочку горькой. Заглянет под стол, тут ли собака, и бросит ей кусочек свинины попостнее. А после его хватил удар, в самый сочельник. Я его как живого вижу, нотариуса Здерадичка…
Году, наверное, в сороковом, — тут уже немцы были, — приехал в наш городок один профессор из Праги. Поселился-то он здесь, а преподавал в Кутной Горе — то ли в гимназии, то ли ещё где. Почему ему пришлось уехать из Праги, я не знаю, и почему он не мог жить в Кутной Горе, тоже не знаю. Правда, этот профессор, бывало, разговорится — не остановишь, но о себе он никогда не рассказывал.
Как сейчас помню, какой ужасный конфуз получился, когда наши аристократы устраивали в «Золотом льве» вечер в его честь. Были у нас аптекарь, асессор, два адъюнкта и старый Здерадичек, но вот профессора в нашем городишке ещё не случалось. А этот был к тому же дважды доктором, философии и ещё каких-то наук. И глаза у него были синие и красивые, и вообще, если хорошенько приглядеться, приятный был человек.
Решили, значит, устроить в его честь вечер, и готовились целый месяц. В маленьких городишках, пан директор, всегда так: все хотят, чтобы что-нибудь случилось, и в то же время все боятся, как бы чего не случилось.
Вот почему мы любим всякие там скрипичные концерты, обеды по случаю забитой свиньи — пока не объедимся, конечно, — маскарады в физкультурном зале нашего училища и вечера в чью-нибудь честь. Так вся наша жизнь и идёт: неделю разговариваем о том, что в субботу будет бал, а потом ещё неделю рассказываем друг другу, что произошло на этом балу. А дальше? Что потом будем делать? Ах да, господи, ведь на следующей неделе будет вечер в честь такого-то.
Я был на этом вечере. Не то чтобы из любопытства — мне это вовсе и не любопытно, — а чтобы отведать горячей колбасы, потому что дело было в четверг. И Зизи, дрянь мохнатая, конечно, тоже была. По четвергам мы с Зизи всегда там встречались. Календарь она знала назубок.
В «Золотом льве» все уже восседали за столом, дамы в лучших своих нарядах, мужчины в крахмальных воротничках. Столы составили буквой «П». Все, значит, сидели, разговаривали, смеялись и пили понемножку. У кого были карманные часы, тот вынимал их из кармана, а дамы, у которых были наручные, заводили их, чтобы они не останавливались. А этот самый учитель всё не шёл и не шёл.
Наконец он явился, но надо было вам его видеть: рубашка мятая, словно по ней дорожный каток ездил, а на воротничке хоть петрушку сажай. И конечно, не побрился, а щетина у него была сивая с рыжиной. Складки на брюках у него никогда не бывало, и обувь он не чистил, это было против его принципов.
И он даже не сказал: «Добрый вечер!», только посмотрел на всех от двери каким-то рассеянным и вроде бы смущённым взглядом. И чуть-чуть насмешливо. Я даже спросил себя: «Где это я видел такой взгляд?»
И тут меня осенило — Зизи!
Ну, точь-в-точь Зизи, когда к ней приставали: собачечка, на тебе, золотко, косточку, покушай мясца или там гуляшу. Вот так же смотрел и этот человек. Ласково и даже сочувственно, и в то же время будто посмеиваясь — над всеми сразу, а больше всего над самим собой.
Ну, тут все прямо остолбенели и ни гугу. Словно актер вышел на сцену и вдруг позабыл, что он должен говорить. И никто не знает, смеяться или жалеть его. Только одна пожилая девица хихикнула — та самая, на которой этого доктора будто бы хотели женить. Может, затем и вечер-то затеяли.
Потом этот доктор разговаривал с нотариусом Здерадичком о греческих софистах, а после он всё убеждал ту самую пожилую девицу, что лучший спорт для женщин — классическая борьба.
— Ну что вы, пан доктор! — твердила девица, совсем уж отчаявшись. — А сами вы изволите быть спортсменом?
— Только теоретически, — отвечал он. — Дело в том, что меня часто мучают газы.
Тут эта пожилая девица покраснела, и после этого он с ней говорил только о Млечном Пути и вообще о галактиках.
— Боже мой, — всё время повторяла девица, — неужели же это возможно? Неужели звезд действительно так много?
Но когда увидела, что это всё равно ни к чему не ведёт, то первой ушла с вечера и на другой день всем говорила, как, мол, странно, что у доктора с двумя дипломами такие низменные интересы и такие грязные воротнички.
В конце концов осталось нас в «Золотом льве» только трое — профессор, Зизи и я. Он попросил у трактирщика скрипку и сыграл нам какую-то грустную-грустную песенку, уже не знаю о чём, — то ли о листьях, то ли о могиле, то ли о кругах, которые расходятся по воде. Пива мы с ним выпили по десять кружек и кофе с ромом — по шесть чашек.
А Зизи лежала под столом и по-своему, по-собачьи радовалась.
— Чья это собака? — спросил профессор.
— Своя собственная, — ответил я ему. И всё рассказал — и о лесничем Скршиванеке, и о пани Ледвиновой, и о том, какой у этой собаки нрав.
Он слушал меня и только изредка улыбался, но всякий раз это было, словно зажигали люстру. В жизни я ни у кого не видел такой доброй улыбки — как будто для других он хотел всего самого лучшего, а для себя — ничего. Но люди видели в этой улыбке только ехидство, и все его немножко побаивались — ведь он, мол, столько знает, и неизвестно, что он о них думает.
Потом он заплатил за пиво и за кофе с ромом и пошёл к двери — совсем твёрдо и прямо.
А Зизи встала и пошла за ним.
Я её зову:
— Зизинька, не ходи, туман на дворе, подожди, куда ты?
Но она даже не оглянулась.
С тех пор у Зизи был хозяин.
Правда, слово «хозяин» к профессору очень не подходило; оно говорит о какой-то силе, а он весь был какой-то слабый и беспомощный.
Наверное, из-за этой своей слабости и беспомощности он всё старел и хирел: одним докторская степень прибавляет самоуверенности, а у других отнимает. Тот, кто очень гордится своими знаниями, тот ничего не знает, это уж будьте уверены. А кто действительно много знает, тот никогда не гордится, он только больше страдает.
Не могу вам сказать, что мучило этого дважды доктора; но ведь и то правда, жизнь никогда не была такой бессмысленной, пустой и мерзкой, как в те времена. Ну, ведь вы сами всё это испытали, пан директор.
Зизи-то, собственно, была большим щенком. И от этой своей любви она стала такой буйной и весёлой, что даже в те печальные дни можно было, глядя на неё, помереть со смеху. Может, она хотела его позабавить, а может, просто от счастья с ума сходила. Всякая любовь, пан директор, хотя бы вначале, выражается вот в таких штуках, — наверное, для смелости.
Ну и номера выделывала эта собака, пан директор, — умора! Прямо прирождённый комик! И походочка у неё была — чистый Чарли Чаплин, что спереди, что сзади. Плоскостопие у неё собачье было или ещё что — не знаю, но если впереди неё шёл кто-нибудь, особенно наш священник или зеленщица, она начинала вертеть задом точь-в-точь как они.
Очень она любила ездить на автомобиле и всегда садилась рядом с шофёром, — надеть бы ей, пан директор, шляпку с хризантемой, так никто бы даже и не догадался, что это не баронесса Флайшханцль, «Кожа, резиновые изделия, керамика».
А в остальном Зизи жила по-прежнему, ходила в «Золотой лев» и в «Корону», да ещё каждый день в четыре двенадцать — к автобусу из Кутной Горы, встречать своего профессора.
Где бы она ни была, но как только часы на церкви Святого Иакова пробьют четыре, она сейчас же встаёт и бежит на остановку, быстро и с такой радостью, что я порой ей даже завидовал.
Несколько раз я видел, как они встречались. Это всегда было одинаково. Глянут они друг на друга, вроде бы кивнут и потом идут вместе домой.
Про них ещё можно было бы много чего порассказать, пан директор, но я же понимаю, у таких больших людей, как вы, свои заботы; я только посмотрю, как там щенята в корзине. Но что меня в этой собачонке удивляет, так это — что она теперь взяла да и согрешила.
Профессора немцы забрали после убийства Гейдриха, и он так больше и не вернулся. Через два дня его фамилию назвали по радио, и на этом красном плакате, списке расстрелянных, он так и значился как дважды доктор. Что он, собственно, сделал, этого никто долго не знал, и все только головами качали — вот, дескать, опять гестапо сцапало не того. Он ведь и мухи не обидел бы. А старый Здерадичек вспоминал, как принёс однажды доктору листовку, которую нашёл, когда ходил по грибы, и как доктор посоветовал сдать её в полицию, потому что немцы тоже хорошие грибники и могли эти листовки разбросать сами.
А после войны оказалось, что ему пришлось скрываться у нас потому, что он руководил в Праге большой боевой организацией и спас от Печкарни и концлагерей больше тридцати людей. Хороший он был человек и интеллигентный, вот только об одежде не думал и денег не берёг.
Так вот, представьте себе, пан директор, что эта собака двенадцать лет каждый день, и зимой и летом, ходила к автобусу в четыре двенадцать. И каждый раз бежала во всю прыть, со всем собачьим усердием — только лапы мелькали.
И возвращалась по тем же улицам, повесив голову, горюя, что опять её профессор не приехал и надо ждать до завтра, когда пробьёт четыре часа.
Я часто за ней наблюдал. И автобус-то уже три раза сменился, у него теперь автоматические двери и отопление, кондуктор теперь женщина, и из тех, кто ездил в Кутную Гору перед войной, мало кто остался.
Посмотрели бы вы, пан директор, на глаза этой собаки, когда она глядит на дверь автобуса. Я видывал, как умирают собаки, и скажу вам, эта сучка умирала каждый день!
Я уж её и так и эдак уламывал, говорю: — Зизи, что же ты своих штук не выкидываешь, дурочка ты мохнатая? И на мотороллере не прокатишься. Ну что, скажи на милость, тебе в этом автобусе так нравится?
Эта собака мне доверяет и даже часто у меня ночует. Из моих рук она возьмёт и чёрствую корку. Но хозяином она меня все-таки не признаёт, и я на неё за это не сержусь. Я её понимаю.
Когда человек теряет возлюбленную, он часто привязывается к тем, кто знал их обоих. Такой человек говорит себе: «В тот день, когда на ней был красный свитер, мы встретили Гонзу». И бежит за Гонзой посмотреть, не пристала ли к его пиджаку красная ниточка. Ну, вы меня понимаете, пан директор, я ведь ещё хорошо помню, как вы расстались с Боженой — или это была Лидочка?..
Но разрешите, я вам расскажу конец истории. С этой собакой случилось то, что ей, наверное, было меньше всего нужно, ведь животные этого ценить не умеют: она прославилась. Сначала о ней написали в «Народном глашатае», у нас тут один актёр статейками подрабатывал. Вот посмотрите, пан директор, вы сами можете прочесть. Или лучше давайте я вам прочту, а то уж очень она истерлась. Слушайте.
«Верность за верность. От нашего корреспондента. Исключительный случай собачьей верности был отмечен в Верхних Коноедах…»
Ну, я вам всего читать не буду, но очень красиво написано, я бы в жизни так не сумел. А потом приехали из кинохроники и пять часов ждали около этой остановки с киноаппаратом и прожектором — народу там собралось видимо-невидимо. А когда пробило четыре и Зизи пришла, легла и стала ждать, так дети чуть животы не надорвали. Этот оператор снимал ее и так, и эдак, и на корточки садился, прицеливался справа и слева, спереди и сверху, а потом снял дверь автобуса, как она понемногу рывками открывается.
Но потом сказали, что материал никуда не годится, и пленку даже не проявляли. А мне в ту ночь приснилось, что я сижу в кино и смотрю на наш автобус и вдруг вижу, вылезает из него профессор, в той же самой грязной рубашке, в которой он был на вечере.
Я ему говорю:
— Вот хорошо, что вы приехали, пан профессор, а то собачка совсем извелась.
И тут вдруг в этом кино стало светло, и все, кто там был, бледные как мел, бросились из зала, — мол, пожар. И все кричат: «Боже мой, это не та программа, мы же пришли на комедию!»
Проснулся я весь в поту, зажёг свет, чтобы посмотреть на будильник, и вижу, что у постели лежит Зизи. Когда она пришла, я не знаю, она приходила и уходила, когда ей вздумается.
— Зизи, — говорю, — вот тебе кусок колбасы, ведь сегодня четверг, а ты не была в «Золотом льве».
Так ведь не взяла, сучка; и, наверное, в ту самую ночь после киносъёмки она и спуталась с каким-нибудь кобелём. Видно, пришел её час, впервые после стольких лет. Никто не хотел этому верить, но щенята-то — вот они.
Ну, я уж пойду, пан директор, я же вижу, что у вас глаза слипаются. У вас есть о чём подумать о своём, а я вам тут собачью жизнь рассказываю.
Темно уже. Пойду брошу их всех в речку, прямо с корзинкой, а в корзинку положу камень. Никому они не нужны, что же с ними, с беднягами, делать! Ну, пойдёмте, крошки вы, малышки мои, ползунки слепенькие, зизенята маленькие.
А может, возьмёте одного, пан директор, а?
Рассказы
Дети
Пер. Г. Гуляницкая
— Какие там дети! — сказал лейтенант Нестеренко. — Что вы, я ещё холостой. Нет у меня детей, и бог весть, будут ли. Не то чтоб я не хотел! Нет, просто как-то не складывается. Правда, я уже несколько лет переписываюсь с некоей Груней Руденко. Но она живёт под Воронежем, в колхозе имени Августа Бебеля, а я, как видите, сижу тут с вами на лавочке в парке прусского короля Фридриха в Потсдаме, хотя и сам тому не рад. А война уже третий год как кончилась.
Как-то починил я тут одному мальчонке велосипед. Наехал, бедняга, на фонарь и до того растерялся, что глядеть жалко. Привёл я ему велосипед в порядок и говорю: друг мой, надо овладевать техникой, в жизни нельзя полагаться на случайных прохожих…
Нет, детей бы я любил! И язык бы у меня с ними общий нашёлся. Только иногда думается — чувство у меня такое, что не суждено мне это. Есть у меня в Берлине как бы сын. Я его за родного считаю, хоть это чужой ребенок. И может, больше чем чужой. А всё-таки он — мой, хоть и зовут его Генрих. Вот если б привёл я его сюда, к этой скамейке, и спросил: «Heinrich, liebst du mich?»— он бы ответил: «Jawohl, lieber Vater». Здесь, на немецкой земле, я уверился в одном: дети, дружище, — всё равно что воск. Что из них вылепишь, то и получится. Орел или пресмыкающееся. Только рука-то, которая лепит, должна быть нежной и твердой.
Иной раз слышишь дурацкие речи, вроде: «Глянь-ка, рыжий какой. Вот поди свинья». Что такому болвану ответишь? Только одно: «Труха у тебя в голове!»
Родился я недалеко от города Винницы на Украине — вам те места, часом, незнакомы? За домом был у нас яблоневый сад, теперь от него одни голые пни остались. В большие холода немцы любили топить печку дровами из яблонь. И вишней топили, и сливой… Очень это меня бесило, хотя, казалось бы, что тут такого: на войне как на войне.
Была у меня двоюродная сестрёнка Наденька. Я уж и лицо-то её позабыл, помню только что-то голубое и розовое, воздушное платьице, да ещё что любила она карамельки с медовой начинкой. Я брал её с собой на пруд купаться. Ручки у неё были тоненькие — дотронуться страшно.
Ну, а потом я нашёл в саду только её зелёную ленточку. Да голые обрубки, мертвые деревья…
Мы тогда уже двигались на Берлин.
Ох, долог был этот путь…
В Варшаве я видел сошедшего с ума еврейского ребенка. Какие-то поляки держали его в яме рядом с отхожим местом и хлеб ему туда носили. Так и спасли. Я до сих пор не знаю, мальчик это был или девочка. Не распознаешь. Ребенок прожил в яме полтора года. Говорить разучился. Ни слова не мог сказать.
Дал я ему медвежонка и говорю: «Теперь ты будешь с ним спать в белой постельке».
А ребенок смотрел на меня чёрными безумными глазами, будто я не даю, а беру…
Я вам это к тому рассказываю, чтоб вы поняли, — когда я вошёл в горящий Берлин, душа у меня была выжжена. И я уже думал, что никогда не найду покоя. Раньше-то я всё прощал, а теперь само прощение стало мне ненавистным: большая злость была во мне — от горя.
Меня никогда не тянуло побывать в Берлине. Вот в Париже — это да. А я ещё и на Кавказе-то не бывал, Средней Азии не видел, о Сибири только слышал. Так зачем мне Берлин?
Но не мы выдумали этот военный туризм. Они сами напросились.
Так или иначе, а я очутился в Берлине. И едва не задохся, — не от дыма, не от огня, а от страшной ярости; в ней, пожалуй, не было уже ничего человеческого.
И тут такой случай.
Брали мы одну берлинскую улицу, чуть ли не до штыков дело дошло — нам это уж было всё равно, что кусок хлеба отвалить. Опыт был, практика. Много огненных улиц осталось за нами — разве сочтёшь…
И тут кончилось, как всегда: окна пустые, слепые, только там и сям из них дым валит или огонь полыхнет, будто мертвец языком дразнится. И ничего уже не слыхать — только огонь шипит да орудия бахают, далеко где-то, в другом районе города.
Вот эти минуты, когда кончится бой, всегда самые трудные. Тогда, бывало, закурим мы и молчим — долго молчим.
Кашлянёшь, плюнешь — а дальше что? Сколько ещё улиц впереди? А небо над тобой зелёное, как молодой горошек. Тишина; курю я, а всё что-то будто беспокоит. Что за чёрт? Какой-то дробный, тоненький треск — и вспышки… Потом вижу — голубоватый дымок в одном из окон — будто карлики из пушки стреляют.
— Видишь, — говорю я соседу, — слышишь?
Я, говорит, слеп и глух, кончилась для меня война.
Взял я бинокль. Навёл на окно во втором этаже. Впрочем, и без бинокля всё видно: дымок и — словно спичкой чиркают.
Пошёл я туда; поднимаюсь по длинной деревянной лестнице, а руку на спуске держу. И что же я нашёл? Заставил бы я вас погадать, да куда — ни за что не угадаете! Иной раз ведь в жизни такое бывает, что только ахнешь.
Стоит у окна мальчишка, лет восьми, не больше. Бледный, в веснушках, волосы ёжиком, — посмотреть — и не знаешь, смеяться тебе или плакать. В руке у него игрушечный пистолет, на подоконнике коробочка с пистонами, ну и палит из окна — выстрел за выстрелом. Схватил я его за шиворот — перепугался он страшно, а всё-таки навёл на меня свой пистолетик. Глаза у него строптивые, злые, совсем не детские. Нет, то не ребёнок смотрел — зверёныш, хищный, глупый, такой, каким его воспитали.
— Ты что ж, — говорю, — в Красную Армию стреляешь?
А он молчит и смотрит злобно, как кот, — сейчас укусит!
«Что с тобой делать, змеёныш, думаю. Как быть? Ведь это — не ребёнок».
Видеть бы вам его глаза — во что детей превратили, сволочи!
Так и стоим мы друг против друга — смех и грех. Он дрожит весь, но стоит и целится. Я не стал отбирать у него игрушку — любопытно мне было, надолго ли хватит. А на меня секундами затмение, что ли, находит, и чудится вдруг, что он вытянулся, что это — взрослый немец.
В это время по мостовой загрохотала наша полевая кухня. Повар Трофим сидит, попыхивает из немецкой трубки, довольный, что борщ ему удался. Я эту профессию не очень-то высоко ставлю, но Трофим был специалист по части борща. Видно, вкладывал он в борщ частицу своей поварской души, когда не хватало свёклы. Специалист он был что надо, хотя характером подгулял. Но это не страшно.
Вижу, у мальчишки нос сморщился, а худенькая шейка так и задергалась — словно мехи гармошки. Вот теперь стало видно, до чего этот воронёнок маленький, до чего он несчастный и тощенький со своим игрушечным пистолетом… Не выдержал я, крикнул повару Трофиму:
— Пришли-ка мне сюда котелок борща. И кусок хлеба побольше!
«Устоит или нет?» — думаю.
Сначала у него дрогнул кадык, потом он часто-часто заморгал, заерзал, съёжил худые плечики — ну прямо нахохлившийся воробышек: выпал из гнезда и крылышки сломал…
— На, — говорю, — бери… Essen…
Начал он есть, а рука у него так дрожит, что борща на пол больше попало, чем в рот. Взял я тогда ложку и, хоть не было у меня практики — я ведь говорил вам, что не женат, — стал его кормить. Сказать по правде, впервые в жизни пришлось мне тогда кормить ребенка. А пистолетик… Пистолетик лежал на окне. Потом будто порвалось что-то в душе у мальчика — как натянутая струна, — он громко заплакал, и долго так ревел, и хлюпал носом, и трясся… Прижал я его к себе — всю гимнастерку вымочил.
Вот пистолет я у него тогда отобрал — таков был приказ коменданта: сдать оружие в двадцать четыре часа…
Голубая искра
Пер. Г. Гуляницкая
Девушка была так прекрасна, что нельзя начинать рассказ ни с реки, ни с дороги. Было б побольше света — можно бы начать с него…
Но час был предрассветный, ночь уже ушла, а день не наступил. За ночью ещё тянулась её тень, покрывая маленькие тени людей и всё вокруг так, что даже те предметы, для которых уже начался день, всё ещё были частицей ночи. Свет, идущий на землю, был совсем юным.
Девушка стояла на берегу, босая, вся в белом.
Над ней порхал алый отблеск нового солнца, — само оно было ещё за рекой, а может, и за горами. Алый отблеск поиграл с чёрными волосами девушки — бабочкой опустился на них, затрепетал и вдруг сорвался, полетел вверх по откосу, к шоссе, к грохочущим машинам, к зелёным плащ-палаткам, к усталым солдатам, к вездесущей пыли военных дорог — она столько раз поднималась и снова садилась на землю, но была всегда.
Вскоре заалело всё небо — не так, как при пожаре, а будто озарённое очагом. Только теперь белая фигура девушки выплыла из тумана. Девушка вздохнула — такое чудесное утро. Она подумала, что так и должно быть всегда: на грани ночи и дня на берегу рек должны стоять девушки и держать в руках туфли; а потом они уходят в лес или в туман…
Но сама она не ушла; наоборот, спустилась поближе к воде, замочив босые ноги, и долго высматривала в редеющих утренних парах первую тень того утра: лодку посреди реки; отыскав эту тень, девушка крикнула:
— Пан директор, слышите?
— Ну, чего вам? — неприветливо отозвался рыболов.
— Пан директор, войнааа кончилааась…
— Что кончилооось?
— Войнааа…
— Чтооо? Не слышууу…
— Конец… Войне…
Человек в лодке только разочарованно махнул рукой: для него это была не новость.
— Почему вы не в школе? — спросил он строго, доставая коробочку с червями.
— Не могу, — крикнула девушка, — мне хочется плакать!..
— Вы сумасбродка, коллега Глобилова, и это единственное пятно на вашей, в общем приличной, репутации.
Теперь потоки молодого света щедро хлынули на нее, и она подставила им лицо, подобрала подол своего платья из дешёвенького белого ситца, на котором цвели васильки и маки. Ей было приятно, этой девушке в белом: лицо купается в лучах солнца и в слезах, ноги — в зелёной воде. При всём том она не могла не съехидничать — ехидство таилось где-то в самом уголке её души; и она крикнула чуть ли не с торжеством в голосе:
— Пан директор, как вы можете ловить сегодня рыбу?
Директор неторопливо подплыл к берегу и посидел ещё в лодке, очарованный лаской раннего солнышка. Потом он надел очки, придавшие ему ещё более внушительный вид, и сказал удивлённо:
— Ба-ба-ба, это что, слезы?
— Ну да, — с досадой ответила девушка. — Сами так и текут…
— Сумасбродка, — пробормотал директор, собирая рыболовную снасть.
А может, это было потому, что на новое солнце набежало тоже новое, первое в то утро, облако; девушка посмотрела на него хмуро, почти с ненавистью. Потом нагнулась к своим туфлям, стоявшим на камне, и изо всех сил швырнула одну из них вводу.
Деревянная подошва вынырнула на поверхность — туфля смело пустилась в плавание.
Девушка скрылась за поворотом тропинки. Через минуту она появилась на откосе над рекой, утренний ветер трепал на ней платье, голова казалась издали сверкающим пятнышком. Раскинув руки, девушка стояла, полная молодой истомы, — а над её головой грохотало шоссе, по которому шли десятки смертельно усталых людей.
На шоссе валялись сломанные ветки, покрытые почками, которые никогда не распустятся, поблёкшая зелень природы, взятая для маскировки, поблёкшая маскировка, не нужная никому. Потому что уже была подписана капитуляция и лишь запоздалые, шальные пули изредка посвистывали в воздухе.
Самоуверенность не всегда смешна. Иной раз бывает и наоборот.
Рыболов в зеленоватой, порядком поношенной куртке, который со спокойной уверенностью шагал по дороге среди несущихся грузовиков и бронетранспортеров, внушал уважение к себе. Вся его прямая фигура как бы говорила: я у себя дома, уважаемые.
И машины объезжали его, одна за другой. Ни один из водителей не улыбнулся, но ни один из них и не выругался. Как будто каждый день под ногами наступающей армии путались рыболовы с удочкой и коробкой для червей…
Только один человек обратил внимание на рыболова, но этот человек не был моторизован: он поспешал за грузовиками в коляске, запряжённой тремя белыми лошадьми. То была не русская тройка — всего лишь отслуживший своё барский экипаж с красной стёганой обивкой и потёртой маленькой короной на дверцах, на которых потрескался лак. Рыболов и возница отличались чем-то от всего, что их окружало, будто явились сюда из другого века, вероятно, поэтому они и вступили в беседу на повороте шоссе; возница, он же пассажир княжеского экипажа, закурил толстую самокрутку, с несколько критической усмешкой поджидая человека с удочкой.
— Добрый день, — поздоровался возница. Пыль, поднятая проходившей колонной, окутала его вместе с лошадьми; но вот он снова стал видимым — словно раздвинулся занавес. На одежде его было множество пуговиц, значков, ремней, орденов и медалей, но вряд ли он был тщеславен: ни одна пуговица не блестела. Всё на нём было пропылённое, серое, и сквозь эту серость пробивалась синева глаз. Необыкновенно синими были эти глаза, как-то по-особенному проницательные, даже вызывающие; немного насмешливые и в то же время жалостливые. И были они совсем деревенские — ничего в них не было от города!
А по званию он был сапёрный лейтенант.
— Ну как, клевала? — спросил лейтенант с высоты козел.
— Клевала, — ответил директор. — Вы — рыболов?
— Я рыболов, — сказал лейтенант в коляске. — Большой рыболов. Осетров ловлю. И форелей. Четыре кило. Озеро Рица, — знаешь, где оно?
— Знаю. Я преподаю географию.
— Географию? обрадовался сапёр. — А я носил глобус из кабинета.
— Хочешь рыбу?
Сапёр взял связку рыб, с видом знатока взвесил улов на руке и сказал пренебрежительно:
— Маленькие у вас рыбы. Маленькие реки, маленькие рыбы… Значит, преподаёшь… В школе?
— Я директор, — сухо сказал рыболов. — У вас тоже есть директор?
— У нас много директоров. Куда ни плюнь — директор, — ответил сапёр.
И оба так рассмеялись, что, казалось, скинули с плеч все семь лет войны. Смеялись они чуть-чуть над собой, отчасти — над рыбой, над маленькой короной на лакированной дверце и над коренником, который поднял хвост для не вполне приличного действия.
Потом синие глаза стали серьёзными; лейтенант вернул рыбу.
— В школе… мел есть?
— Есть, — ответил директор. — А что?
— Мне надо писать мелом, а мела нет. Мы убираем мины, а потом пишем на шоссе: «Мин нет»! Или пишем: «Я тут был, разминировано». И подпись… Хочешь мину?
— Нет, — подумав, ответил директор. Он вытащил блокнот, нашёл чистую страничку и написал, положив блокнот на коробку с червями:
«Коллега Глобилова, выдайте, пожалуйста, подателю сего мел из школьных запасов в требуемом количестве, но один пакет оставьте для надобностей школы. Зикан. 9 мая 1945 г.».
С ним поравнялось несколько танков. На четырёх, восторженно болтая ногами, сидели ученики пятого класса. Лишь один из них оказался достаточно воспитанным, чтоб вообще заметить директора и выразить это словами:
— Ребятааа, берегись! «Отец родины» нас приметил!
— Я тебе дам «отца родины», Кудрна! — перекричал директор грохот танков. — Вот не разрешу весеннюю прогулку! Никому! Записываю всех вас в блокнот! Я вам снижу отметку за поведение!
Танки проехали, а пан директор, улыбаясь, прошептал своим червякам:
— Счастливый ты, Кудрна! Тебе только десять лет.
И он поднял глаза на вершину холма к школе, перед которой лейтенант одним движением осадил скакавших галопом лошадей.
Лестница в школе была деревянная и скрипела совсем таинственно. Последняя ступенька скрипнула дружески — она была ниже прочих и сильнее подгнила. За лестницей начинался коридор, тёмный, пахнувший плесенью, весной и свежевымытым полом.
Лейтенант по привычке шёл осторожно; через несколько шагов он даже зажёг длинный солдатский карманный фонарик: ему показалось, что в углу кто-то притаился.
А там в самом деле стояла фигура: железный заржавевший рыцарь в серебристом шлеме с перьями, объеденными молью. Честь рыцаря явно страдала оттого, что на груди его висела белая табличка с надписью: «Доспехи XIII (XII) века, дар местной двухклассной школе от княгини Поликсены Турн-Таксис, урожденной де Даламбре». Над рыцарскими перьями висел портрет самой княгини, чрезвычайно тонкой в талии, но весьма пышной выше.
Сапер приподнял у рыцаря забрало: за ним зияла пустота. Рыцарь был без головы. Тогда пришелец по-приятельски щелкнул твёрдым ногтем по железному плечу. Он подумал, что это мог быть немецкий рыцарь-крестоносец — из Померании или из Мариенбурга… И рассердился на рыцаря за то, что тот сначала напугал его, а потом так разочаровал. Он произнёс какие-то неприличные слова, правда, по-русски, и пошёл дальше по коридору — к двери, под которой лежала полоска весёлого света.
Он тихонько отворил дверь и заглянул внутрь. Ещё открывая дверь, сапёр увидел последовательно три достопримечательности: пятно на стене — след от протекторатного герба, большую полотняную карту с наколотыми флажками — ничуть не меньшую, чем карта генерального штаба, — и, наконец, белый ситец с васильками и маками. Только после этого взгляд его нашёл четвёртую, самую примечательную достопримечательность: босоногую девушку, которая спала на кафедре, уронив на неё голову.
«Посвистеть? — спросил сам себя лейтенант. — Постучать? Кашлянуть? Или сесть за парту и обождать?»
Он выбрал последнее, сообразив, что при желании можно кашлять, стучать и свистеть сидя за партой, но что всё это не обязательно. Можно просто сидеть и смотреть, и не будет в этом никакого забвения долга: просто, исполняя служебную обязанность, ждёт человек выдачи мела.
Сидел он, сидел, осматривался. Побарабанил по парте — но тихонько, чтоб никого не разбудить. Потом в желобке парты нашёл маленький, совсем тоненький карандашик, неумело очинённый мальчишеским ножом. Из парты он вытянул довольно грязную тетрадь. На первой странице кто-то сообщал, что «Снег белый», что «У кобылы худые бока» и что «Тополь высокое дерево». Лейтенант согласился, хотя и не совсем понял. В конце одной из фраз не было точки. Лейтенант осторожно пририсовал её тоненьким карандашиком в надежде, что никто не заметит, что эта точка — русская.
Он ещё не поднял головы, как почувствовал, что его застали врасплох. И порадовался, что глаза, смотревшие на него, — такие молодые и затуманенные — может быть, со сна, а может быть — от природы. Глаза были удивленно круглые и чёрные — как будто все ученики посадили в них чернильные кляксы.
Девушка смотрела на его правую руку, большую и загорелую; рука лежала на коричневой крышке парты, словно была сделана из того же куска дерева. «Ногти бы подстриг, медведь», — подумала она строго.
А так как под этой мыслью скрывалась ещё одна, которую не пускали всплыть, — мысль об этой руке, о том, какова она, если прикоснуться к ней, — то девушка быстро проговорила первое, что ей пришло в голову:
— Кто вы? Что вам надо?
— Я сапёр, — ответил он смущённо и ещё раз мимолетно глянул туда, куда смотреть не следовало: по опыту военного человека он знал — то, что видишь сегодня, завтра, быть может, уже не будет. Он поднялся с парты тяжело, неохотно — давно ему так хорошо не сиделось; на весь класс скрипнули его потрескавшиеся, нечищеные старые сапоги; сапёр так старался не споткнуться, что споткнулся.
Когда солдат смущён, он начинает ругаться или как-либо иначе проявляет свою мужественность. Ругаться лейтенанту было нельзя, поэтому он начал искать что-то по карманам, а было их у него очень много. В конце концов он всё-таки выругался, но по-русски и вполне литературно, и тут нашёл записку директора, правый верхний угол её успел замаслиться, но прочитать её ещё было возможно.
— Читай, — сказал он, — директор тебе пишет.
И впервые он окинул синим взглядом васильки и маки на белом ситце, босую щиколотку и голые пальцы на ногах. Пальцы чуть-чуть поджались.
Девушка быстро прошла к доске. Там она чувствовала себя увереннее. Взяла мелок и спросила, широко раскрыв глаза:
— То?
— То, — кивнул он и обрадовался, что так скоро научился по-чешски.
— Почкей, — произнесла она строго. — Я гнед пршиду.
Но в дверях обернулась, чувствуя, что он стоит и смотрит на неё. И сказала высоким, неуверенным голосом:
— Седни си до лавице а чти си.
И он — поскольку так быстро научился по-чешски — послушно сел за первую парту и посмотрел на девушку с таким умным видом, что она не могла уйти и закрыть за собой дверь.
Но он больше ничего не говорил. Вытащил из парты букварь, весь в чернильных кляксах; каждая клякса была обведена красным карандашом. Лейтенант медленно переворачивал страницы: несколько картинок без надписей, потом — первое слово этой первой книги. И это слово было: «ма-ма».
Он прочитал его вслух; дверь скрипнула — и вдруг девушка почувствовала волнение, словно она-то и была матерью этого парня в замасленной гимнастерке.
— Маму машь? — спросила она.
Глаза его закрылись, а губы ответили:
— Машь.
— Пише?
— Не пишет.
Теперь сконфузилась она — не за высказанный вопрос, а за тот, который уже вертелся на языке. Единственное, что она сумела, — выдержать холодный, безразличный тон. Ей это удалось, хоть никто её этому не обучал.
— Жена е?
— Нет! — ответила парта.
— А девушка е?
— Нет! — повторила парта.
— Неповидей! — сказала учительница. — Ты лжёшь.
Но парта клялась так искренне, как это делают все школьные парты.
— Это я-то лгу? — говорила парта. — Я, который никогда не врал? Я, у которого нет никого? И я — лгу?
— Лжешь, — скрипела обрадованная дверь, — лжешь а лжёшь. Я ти видим до душе. На дно ти видим. А е там черны флек!
Тогда парта очень огорчилась, как умеют огорчаться школьные парты, — не вполне искренне.
А дверь радовалась, что у парты никого нет, и стыдилась своей радости. Она подумала:
«Что же мне делать? Уйти — ему будет грустно одному. А остаться — он не получит мела…» — И она сказала:
— Пойдь!
Она пошла по коридору впереди. Остановилась возле баночки из-под горчицы, в которой стояла бледная повилика. Наклонила слегка голову и сказала — может, цветку, а может, себе:
— Мало машь светла, мало.
Лейтенант, человек практический и хорошо узнавший ещё в бытность свою на родине, что такое свет, подошёл к окну и сорвал чёрную бумажную штору. Так что для этой школы война окончилась только сейчас.
Оба стояли у окна, омытые ярким майским солнцем, — и вдруг у девушки, уже в третий раз сегодня, на глазах выступили слезы — а ведь плакала она очень редко. Она порывисто вздохнула — опытному лейтенанту даже не надо было оборачиваться. Он тоже вздохнул — из дипломатической вежливости. Этот человек прошёл войну, и впервые до него дошло, что вот он её и пережил. Он засмеялся, тихонько, про себя, так что она ничего не заметила, и подумал по-русски:
«Ах ты, краса, красавица моя…»
И мы не знаем, имел ли он в виду свою жизнь или девушку, потому что в русском языке и «жизнь» — женского рода.
Это была очень странная комната, нечто среднее между учительской на двоих учителей, музеем природоведения и краеведческой коллекцией для всех поколений одной деревни.
Здесь царил зеленоватый полумрак от большого аквариума, в котором плавала одинокая рыбка. Она одна из всего аквариума пережила войну, — вероятно, потому, что была не такой золотой, как те, которые погибли.
Посередине стоял длинный стол, такой же, как во всех учительских в начальных и сельских школах; к столу придвинуты два стула — один во главе, для директора, второй — на другом конце, для младшей учительницы, Глобиловой.
В углу прижалась захватанная фисгармония, противоположную стену занимала большая застеклённая витрина с чучелами: два довольно облезлых скворца; орёл с распростертыми крыльями, очень мирного вида, видимо, твёрдо решивший никогда и никуда больше не лететь; полевая мышь, которая и после смерти сохранила недосягаемую красоту хвоста, а также бодрый и лукавый вид, присущий её племени; рыжая лиса, ящичек с бабочками и под большой паутиной — паук-крестовик и его супруга.
Сбоку от витрины стоял поникший скелет. Вид у него был скромный и довольно приветливый. Все наиболее важные кости были налицо, потому что этот экспонат внушал уважение и даже некоторую робость учащейся молодежи.
Этот бывший человек оказался первым предметом, на который упал взор несколько взволнованного лейтенанта. Он подошёл к скелету с легким колебанием, по-приятельски поднял его руку, хрустнувшую от неожиданности, и пробормотал что-то вроде: «Здорово, кума!»
Ведь в русском языке смерть — тоже женского рода.
— Здорово, Евгений, — тонким голосом ответил он вместо скелета, полагая, что днем скелеты не разговаривают.
— Ушёл я от тебя, кума, — сказал он потом своим обычным голосом.
— Ушёл, Геня, — согласилась смерть.
— Так как же, кума, — произнес голос сапера. — Дальше-то что?
— Ничего, сынок, я ещё приду, — отозвалась смерть.
Учительница Глобилова сидела на своём месте, на нижнем конце длинного стола; ей не смеялось.
— Нэх го, — сказала она. — Нэжертуй, Евгений…
Выговорив это, она осеклась и покраснела — вся, до самых щиколоток.
А он даже не заметил, что она назвала его по имени; он осматривал этот маленький, странный музей: подошёл к одинокой, почти золотой рыбке, пожалел её, а лотом отвернулся — увидел в углу фисгармонию.
— Играешь? — спросил он.
— Мало, — ответила девушка и впервые по-настоящему об этом пожалела.
— Сыграй, — попросил он.
Она подошла, начала играть, и, к её удивлению, получалось неплохо. Знала она много песен, знала и Баха, и играла теперь песню о том, как «летел сокол, белая птица», и всё повторяла, повторяла мелодию в новых и новых вариациях, всё нежнее, взволнованнее.
Дождалась своего часа старая фисгармония — впервые с тех пор, как влюбилась в молодого гонведа госпожа Поликсена Турн-Таксис, урождённая де Даламбре, а гонвед потешился её любовью, да и уехал.
И кабинет природоведения дождался своего часа; сапер оценил все его прелести — облезлого скворца, рыжую лису, орла, который не хочет больше летать, и самое кумушку-смерть, стянутую медной проволокой, оставшейся от радиопроводки.
Он ходил от одного экспоната к другому, с удовольствием курил и слушал. А девушка играла и уговаривала себя, что вовсе не видит, как он курит, потому что курить в школе запрещено.
Он смотрел — почти что украдкой — на её спину, видел хрупкость девушки и белизну, видел чёрное гнездо её волос, и сладкое чувство закралось ему в сердце. Но он был старый сапёр, и он сказал себе:
«Ты на рыжую лису смотри, Евгений, на золотую рыбку взгляни, на коллекцию бабочек!»
Девушка резко оборвала песню посреди соколиного полёта, встала и подошла к маленькому шкафчику с большим висячим замком. Потом молча выложила шесть больших пачек мела и сказала, глядя на лейтенанта ещё влажными глазами:
— Вот — всё.
Он смял окурок и положил его на угол длинного стола, перед стулом директора.
— Спасибо, — сказал он. — А как тебя звать, учительница?
— Угадай!
— Ты Вера?
— Я не Вера.
— Ты Надя?
— Я не Надя.
— Ты Соня?
— Я не Соня, — сказала она ревниво. — Ты их всех знал?
— Я? — спросил он. — Я — нет!
— Чего ты смотришь?
— Я смотрю? Нет.
— Смотришь, — сказала она. — Евгений, бери пакет. И иди.
— Я?
— Да, ты, — сказала она печально.
— Дать расписку? — серьёзно спросил он.
— Не надо, — ответила она неожиданно слабеньким и таким девичьим голоском. И снова подошла к шкафу с большим висячим замком, за которым был скрыт ещё один экспонат, причём так хорошо, что совсем ускользнул от внимания сапёра. Это был аппарат для опытов по электричеству, большое колесо с рукояткой — одно из тех простых приспособлений для совершения чудес, которые вызывают пристальный интерес к физике даже у самых рассеянных и заядлых — у тех, кто читает книжки под партами, дуется в шарики да лазает по вишневым и грушевым деревьям.
Девушка поставила аппарат на шкафчик и раскрутила колесо.
На двух стержнях были насажены серые шарики. Казалось, каждый из них — сам по себе. Но вдруг между ними с легким треском проскочила искра.
— Молния, — сказала девушка. И вышла. «Эх, не умеешь ты с девушками обращаться, — строго сказал Евгений не то скелету, не то самому себе. — Тебе бы поговорить о Пушкине, об Онегине и Татьяне, о Джульетте, об этой… как её… о Маргарите. Не хватает тебе образования, не хватает терпения, и плохо ты изучил тактику боя малыми подразделениями. Не умеешь ты держать себя за границей, Евгений Иванович. Ты осёл».
Он покачал головой, покрутил колесо, чтобы полюбоваться детской молнией — маленькой голубой искрой. Потом забрал мел — все шесть пачек одной рукой — и заглянул в класс; там никого не было. Он вошёл, положил мел на первую парту, взял тот самый мелок, который держала она, и написал на доске большими буквами свой адрес:
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ БЫЧКОВ
БАКУ, УЛИЦА РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 193
Внизу он нарисовал несколько волнистых линий — и это было Чёрное море. Затем нарисовал нефтяную вышку — а что означало это, знает один господь бог. Потом он тщательно завернул мелок в записку директора и спрятал в левый верхний карман гимнастерки.
Из первой пачки он вынул три больших мелка и положил их на то место, где взял кусочек. И, выйдя, стегнул кнутом по всем трём своим белым коням и покатил в пыли — то была уже не военная пыль, но всё та же пыль. Лейтенант ни разу не оглянулся, не посмотрел ни на одно окно, ни на одну дверь. И всё твердил себе, что в другой раз прежде всего спросит, как зовут: Марженка или Гелена, Квета или Лида, Анастазия или Тереза.
А на берегу реки черноволосая девушка в белом платье бросала в воду камешки, притворяясь, что ловит туфлю с деревянной подошвой, которая давным-давно плыла где-то по направлению к морю. Вблизи никого не было, одни только деревья, и девушка сбросила с себя васильки и маки и погрузилась в холодную воду. Над ней было небо с двумя чёрными тучами, которые едва-едва разминулись. Обе несли в себе положительные заряды — и так и унесли их вдаль.
Девушка видела их в глубине реки — тучи купались вместе с ней. Она дала им уплыть и, достав ногами песок, встала. Солнце было высоко над рекой, сосало воду каплю за каплей. Девушка посмотрела на тонкую фигурку в воде, неподвижную среди кустов, разбегающихся во все стороны. И в ней шевельнулась странная мысль: что у неё, собственно, два тела, но только одно принадлежит ей.
Директор, проходя по коридору, увидел приоткрытую дверь в кабинет. Он убрал на место аппарат для производства детских молний, накормил почти золотую рыбку и брезгливо вытер стол возле своего места, где ещё тлел толстый окурок. Затем он вошёл в класс, удивился при виде трёх больших мелков и, как человек экономный, спрятал два из них в ящик кафедры. Ещё больше он удивился, взглянув на исписанную доску. Взял тряпку, намочил её и стёр — сначала буквы, потом волны и, наконец, маленькую нефтяную вышку, бог знает что означавшую. Потом он пополоскал тряпку под краном, выжал её и повесил сушиться на гвоздик под сверкающей чёрной пустотой доски.
Ромео
Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер
Редкая эпоха благоприятствует влюблённым, собственно говоря, ни одна им не благоприятствует. Вечный Ромео и Вечная Юлия скитаются по свету; только балконы меняются да нянюшек становится меньше, а злобы людской — гораздо больше. За окном по тёмной улице блуждает ревущий раскалённый танк. Ищет свою колонну.
Это, конечно, не мешает влюблённым; их либо не разбудишь, либо не заставишь уснуть. Они жмутся друг к другу на тесном ложе; от этого, естественно, и стеснение у них в груди.
Одна чешская, не в меру синеглазая Юлинька из старого пражского рода оптовых торговцев копчёностями, некая Медвидкова, нашла себе в нескладные годы протектората смугловатого Ромео на чуть смешных журавлиных ногах, с наивной, хотя и еврейской головой. Выбрала его Юлинька добровольно и безоговорочно. Сказала себе — он будет мой, а уж чего Медвидковы захотят, того добьются. Юлинька полюбила Ромео за робость и за неё же горько упрекала его долгими взглядами, которые могли означать не только упрёк, но и многое другое. Им не было ещё восемнадцати, даже семнадцати лет. Кто-то зажёг их любовь, как свечу на заброшенном кладбище, и её ласковый огонёк теплился в дождливой ветреной темноте, освещая могилы мягким жёлтым светом. Это был единственный дозволенный свет в годы затемнения — и не столько дозволенный, сколько умалчиваемый. Некстати было поминать кладбище в распоряжениях властей.
Полгода Юлинька гуляла с Ромео, буквально гуляла. От долгих прогулок у Юлиньки уже болели ноги. А они у неё были прелестные, со светлым пушком и удивлёнными лодыжками.
Однажды наш долговязый Ромео получил повестку на отправку в концлагерь. Он показал её Юлиньке; они стояли у серой пражской стены, облепленной плакатами.
— Разорви, — сказала Юлинька, — и поцелуй меня. Но не так, как ты всегда меня целуешь. По-другому. Не закрытым — открытым ртом.
Так наступила их ночь. Они решили, что будут принадлежать друг другу. Юноша только подумал об этом, а Юлинька всё устроила. Позади одной из отцовских колбасных, в которой нечего было продавать, была каморка. Юлинька, как могла, убрала её, на стену повесила «Голубую Прагу» Шателика, самую голубую из всех, настольную лампу накрыла розовым в крапинку абажуром. Рядом с лампой посадила куклу — ужасно симпатичного бродягу, очевидно, забулдыгу и пьяницу, в общем, настоящего мужчину. Кровать в комнатке была, как полагается, узкая, но с чистым бельем, а на столе стоял будильник, чтобы оливковый Тонда не проспал отправки. Повестку аккуратно подклеили. Её подклеил папа Тонды — он работал в страхкассе.
— Тонда, ну скажи хоть слово! — попросила его наша Юлинька. — Или ничего не говори, ты прав. Давай есть сардины. Тонда, ты мне рад?
Юлинька была нарядной в своем чёрном бархатном платье и в мамином великолепном белье. Её маленькие груди излучали тепло, и это было очень кстати. В комнатке, правда, стояла железная печурка, но угля для неё не было. На ужин они ели сардины с лимоном и крутые яйца с солью, а потом, взявшись за руки, сидели на белой кровати, потому что стульев не было. Юлинька смотрела на длинные руки Ромео, и они дрожали. Ей очень нравилось, что они дрожат. Потом она просто легла на кровать, как-то очень честно и, может быть, — соблазнительно.
— Что у вас было на обед? — спросила она. — Тонда, как бы мне хотелось покупать с тобой мебель! Я бы выбирала, а ты — соглашался со мной.
Тонда задумчиво смотрел на мужественного бродягу, а Юлинька, рассердившись, спросила:
— Что тебе, собственно, нравится во мне? Ведь сама я себе страшно не нравлюсь.
Тонда всё ниже склонялся над Юлинькой, как рок, его тёмные глаза стали серьёзными и, не зная, что сказать, он потянул серебряную молнию на левом боку платья. Молния была красиво сделана, но — из материала военных лет, а Ромео был деликатным юношей. Однако он потянул ещё раз.
— Нет, нет, Тонда, прошу тебя, нет, — шептала Юлинька. — Пожалуйста, Тоник, будь умницей, не надо, ладно?
И вдруг одним рывком, в котором воплотилась вся извечная женственность, она приподнялась, подставляя молнию к его губам. Запрокинув светлую славянскую головку, со словами: «Нет, нет, прошу тебя, нет…» — Юлинька ожидала приближающуюся сладостную бурю. Ей хотелось, чтобы её перенесли через порог и бросили на ложе. Втайне она надеялась и на непрочность маминого шёлкового белья. У неё была чудесная мама.
— Юлинька, — сказал Ромео, который не ел как следует уже три дня, а может, и три года, — я так люблю тебя. Понимаешь? Ужасно. Просто ужасно.
Потом он сел. И сидя заснул.
Бледное осеннее утро застало их на белой кровати, чуточку, совсем чуточку измятой. Юлинька всё ещё была в своём праздничном платье из самого чёрного бархата, у Ромео был небрежно распущен галстук, а пиджак висел на вешалке. Они разговаривали о мебели, какая она была бы, если б была…
Всю войну сколько плакала Юлинька оттого, что Тонда её не хотел, и почему он её не хотел, и как это могло случиться, что он её тогда не хотел. Она смотрелась в зеркало и в конце концов всегда улыбалась — так она себе нравилась.
Она собиралась попробовать это с другим, проверить, есть ли в ней то, что привлекает мужчин, но не решилась и прождала Тонду целых семь лет. А потом, в двадцать пять лет, вышла замуж за фармацевта, который был также пловцом-спортсменом.
Лебл
Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер
В годы второй мировой войны некоторым крестьянам в Бржезинках жилось неплохо. Они осознали своё значение. А когда читали сообщения с фронта, всё им чудилось, как шуршит жёлтое зерно, лениво пересыпаясь в закромах.
Время от времени их дразнил запах окорока в кладовке, но крестьяне не трогали его. Плескалось винцо в оплетённых бутылях, но они его не пили. Они стали вроде лавочника на пороге лавки: ждали, потирая руки. Встречая кого-нибудь на дороге, не здоровались: «Благословен Иисус Христос!», а смотрели, вежливо ли поздоровается с ними прохожий, велик ли его чемодан и что он в нём несёт.
Большое чувство собственного достоинства появилось тогда у крестьянского сословия; и предки в могилах распрямили кости.
Поэтому все были поражены, когда Вацлав Лебл, тоже крестьянин, и довольно зажиточный, отколол такую штуку. Все мы любим почудить, говорили крестьяне, но ведь и чудить надо с умом. Чуди, да знай меру. И в политику не суйся, помни о своей скотине, которая два раза в день есть хочет.
Леблы жили в Бржезинках испокон веков, их поля тянулись от речки до леса, да ещё за рекой был сочный луг. Их уважали и почитали за бережливость и трудолюбие; жили они подолгу, а хоронили их пышно, иной раз с двумя оркестрами. Все Леблы брали себе жен из Бржезинок, и только двое привели невест из Коломази. Ну и поплатились за это.
Только Вацлав Лебл женился на сироте неизвестного происхождения из районного города; звали её Рези, и о ней шушукались, причём не очень тихо, что она еврейка.
Это была невзрачная, робкая женщина, похожая скорее на батрачку, чем на хозяйку, малость неряшливая, не умная и не глупая, в общем, ни то ни се. Почему женился на ней этот Лебл и за что он так по-городскому любил её, никто понять не мог — ни преподобный отец, ни староста.
Женщины, правда, догадывались, и каждая говорила про себя: «Вашек, Вашек, неужели ты думаешь, что я так не сумела бы?»
Рези родила Вацлаву близнецов, двух совершенно одинаковых четырехкилограммовых мальчишек, синеглазых и горластых. Это подняло её в общем мнении и принесло ей почет. Никто больше не сплетничал, что она доит коров в грязный подойник.
Во время войны Вацлав Лебл получил повестку от старосты. Пошёл он к нему и слышит такой вздор:
— Вацлав, правда, что твоя Рези еврейка? Прости, Вацлав, что я об этом спрашиваю, для меня еврей и цыган тоже люди, но вот предписание из гестапо… Что тебе объяснять, Веноуш? Лучше, если ты прямо скажешь. Ну, как же? Да или нет?
— Я не знаю, — ответил Вацлав Лебл, а сам покраснел как варёный рак. — Я её никогда об этом не спрашивал и спрашивать не буду.
Так ничего толком и не добились от него.
В конце концов староста, — тогда старостой был Иозеф Хумачек, — видя такое упорство, вышел из себя и говорит:
— Значит, еврейка она, Вацлав! И ещё скажи мне, как мужчина мужчине: вы сами-то, Леблы, не странный ли народ? Не обижайся, Вацлав, но где ты видел в Чехии мужика с фамилией Лебл?
— Я зовусь Лебл, — отвечает Лебл, — а кому это не нравится, пусть поцелует меня в задницу. Ах ты, паршивая рожа, голь перекатная, нахал, может, ещё о чём спросишь?
— Я тебя спрашиваю как официальное лицо, и нечего ругаться! — захрипел Иозеф Хумачек. — А не умеешь вести себя по-человечески, так бери этот конверт и отправляйся с богом. Здесь висит портрет главы государства, и говорить здесь о задницах не полагается.
Вышел Вацлав Лебл на солнышко, пахнуло на него свежим воздухом с навозной кучи старосты, и он подумал: «Хорошо ещё, что в деревне честное дерьмо…»
Потом Вацлав раскрыл письмо на имя пани Рези Лебловой от какой-то религиозной общины или чего-то в этом роде; в письме была жёлтая полотняная звезда — только одна, для пани Рези.
Вацлав Лебл всё-таки происходил из старого крестьянского рода, и потому он первым долгом завернул в трактир. Там он выпил — всему вёлся точный счет — одиннадцать рюмок водки, шесть кружек пива и ещё рюмку. Потом потребовал от трактирщика Шпидлы английскую булавку и при всём честном народе приколол себе большую жёлтую звезду; выпятив грудь, он закричал на весь трактир:
— А ну, ступайте-ка к этому косоглазому бесноватому болвану и скажите, мол, в верхнем трактире в Бржезинках сидит старый еврей Вацлав Лебл и ждёт, чтобы его забрали.
Под бесноватым болваном он подразумевал, конечно, самого главу Германской империи.
Это слышали двадцать два человека, в том числе один шпик, один доносчик и один гайдовец.
Весь трактир с изумлением оглянулся на Вацлава, который никогда до такого не допивался. Наоборот, в пьяном виде он обычно делался плаксивым, ласковым и сентиментальным.
Шпик, который во всём любил ясность, спросил его:
— Вацлав, ты это про кого?
— Боже мой, — говорит Вацлав Лебл, — я и не знал, как прекрасно быть евреем. Вот смотрю я на вас, католики несчастные, святоши глупые, и жалко мне вас! И коли хватит смелости принять от меня, — хозяин, угощаю всех!
Смелости хватило у всех, в том числе у трактирщика Шпидлы. А шпик выпил первым, чтобы успеть сбегать в жандармский участок. На прощанье они ещё обнялись с Вацлавом Леблом и похлопали друг друга по спине.
— Вацлав, — говорит этот тайный агент, некий Выкус, — у тебя спина как у быка, только ради бога не дерись, что бы ни было.
— Господи, ребята, до чего же мне вас жалко, что вы не евреи! — твердил Вацлав Лебл.
Он сел, и видно было, что ему в самом деле их жалко. Он пристально разглядывал всех по очереди.
Его арестовали ещё до ужина, но звезду он не позволил снять.
— Франтишек, — сказал он вахмистру, — оставь ты мне эту звезду, и я пойду по-хорошему.
Потом он попрощался с семьёй, но как — этого никто не знает. Вахмистр сохранил служебную тайну.
Все Бржезинки провожали Вацлава Лебла до распятия На козичке, женщины плакали, а мужчины качали головами, — мол, что за дурь нашла на этого Вацлава. Вспомнили, что двое из Леблов, Вавржинец и Ржегорж, были гуситами и сражались ещё под Хлумцем. В конце концов сошлись на том, что Вацлав свихнулся, и разошлись по домам кормить скотину.
В участке составили протокол. В нем было записано примерно следующее:
«Вацлав Лебл, родившийся в Бржезинках, район… и т. д. 24 февраля 1889 года, по национальности чех, вероисповедание римско-католическое, гражданин протектората „Böhmen und Mähren“ [32] , раса арийская, самовольно приколол себе в общественном месте (трактир) звезду Давида, эмблему международной еврейской плутократии (а также сионских мудрецов), оскорбил фюрера германской нации и т. д. и т. п.».
Случилось так, что в то время не было чрезвычайного положения, и Вацлав Лебл отделался отправкой в концлагерь. Разбирая развалины после воздушного налета, он познакомился там с Мошелесом, бывшим главным раввином Роттердама. Родом Мошелес был из чешского города Тршебич.
Когда Вацлав Лебл рассказал ему свою историю, Мошелес воспылал к нему искренней симпатией и подумал: «Как прозорлив бог толп! В то время, когда дети Израиля падают, будто колосья, скошенные огненной косой, он внушает этому твердолобому крестьянину мысль приколоть звезду Давида и воскликнуть: блажен сын избранного народа. Аминь!»
У Мошелеса зародилась тайная мысль, и он принялся наставлять Вацлава Лебла в иудаизме. Вацлав ничего не имел против, потому что пан Мошелес, хотя и учил его, но урока не спрашивал.
Настало время, когда высохший, как осенний лист, старый Мошелес, жизнь в котором поддерживал лишь некий таинственный небесный огонь, почувствовал, что огонь этот постепенно угасает. Тогда Мошелес пришёл к Леблу и сказал ему:
— Пан Лебл, раз уж вы надели на себя звезду почёта и позора, перейдите в нашу веру. Она ничем не хуже католической или протестантской, так как обе пошли от нашей веры и все они от бога. Когда я смотрю на ваше стройное загорелое тело, обнажённое на солнце, я думаю: быть может, Лебл будет единственным израильтянином, которому дано пережить это божье попущение, чтоб помолиться за умерших. За всех нас.
Он позволил Вацлаву Леблу обойтись без обрезания, — что Вацлав поставил условием, — принял его в иудейскую веру и научил молиться за умерших. Потом он увидел, что наступил его час, и умер; умер не от огня, не от газа и не от пули в затылок: он уснул на нарах, закрывшись одеялом.
Вскоре после этого кончилась война, и Вацлав Лебл вернулся в Бржезинки. Он возвращался по той же дороге, по которой уходил, — мимо распятия На козичке, мимо верхнего трактира, мимо заново побелённого дома старосты, у которого в амбаре стоял рояль. Лебл шёл прямо, в окна никому не заглядывал — взор его был устремлён вперед. Дома он никого не нашёл, ни Рези, ни близнецов. По привычке он исправил в хозяйстве то, что можно было исправить, подышал запахом доброго навоза, побраконьерствовал туманным утром, а потом продал своё хозяйство и ушёл.
Люди знали, что живёт он в доме для престарелых евреев в одном курортном городке. Но так как Лебл уже никого и ничем не мог удивить, то об этом говорили так, между прочим, без всякого волнения.
За год усы у Лебла приобрели цвет снятого молока и стали такими длинными, что он смахивал на драгунского вахмистра в отставке. Фигура у него была поистине мужицкая, глаза голубые, как незабудки, а нос, хоть и большой, но прямой, как линейка. Так что Лебл несколько выделялся в этом доме для престарелых.
Изредка он тайком заходил в трактир съесть жареной или вареной свинины с хреном, богослужения принципиально не посещал и только раз под Рождество пел коляды. Он весело говорил себе: «Ну я что, Иисус Христос тоже был евреем».
Он даже завёл роман с бывшей прима-балериной венской оперы, и все старушки завидовали, что у неё такой моложавый поклонник, который ещё умеет так взглянуть, что и у старой женщины дух захватит.
Однажды Лебла навестил сын старого Выкуса из Бржезинок. Он приехал на курорт по путевке как образцовый работник сельскохозяйственного кооператива. Молодой Выкус осмотрелся. Он уже успел привыкнуть к роскоши, — ведь его поместили в отеле «Виндзор», в спальне одного из адъютантов принца Уэльского, — но всё-таки нашёл, что Лебл прекрасно устроился на старости лет.
Поговорили о том, как надо сажать картофель, о кукурузе, о старом Выкусе, который только что купил для молодых телевизор с большим экраном и устроил в их доме уборную со спуском.
— Папа часто вас вспоминает, дядюшка, — рассказывал молодой Выкус, — а на днях говорит маме: до самой своей смерти буду жалеть, что тогда я тоже не угостил всех!..
— Что ж, передай ему привет, как будешь писать домой, — сказал Вацлав, — и напиши, что я живу хорошо и всё у меня есть. Но тебе одному я скажу, Войта, отцу об этом не пиши: был бы я здесь совершенно счастлив, да вот не люблю я евреев.
Пропал кондитер
Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер
На свете всегда больше голодных, чем сытых, и рассказы о голоде одно время были даже в моде. Установлено, что газетные сообщения о случаях голодной смерти вызывают выделение желудочного сока. И вот в этом плане я расскажу вам историю некоего Богумила Рошкота, бывшего книготорговца, дегустатора вин и большого гурмана.
Богумил Рошкот попал по недоразумению в один из живописно расположенных концлагерей, в стороне от городской суеты; он прожил там неполных шесть месяцев и за это сравнительно короткое время до того отощал, что даже ложка казалась ему тяжёлой. Остались от него только кожа да воспоминания — о разных ресторанах и барах, о сверкающих стойках, о строгой красоте барменш, заливных угрях, супе «буйябас», пармезане и любимой «Бзенецкой липке».
Итак, он жил воспоминаниями, однако и воспоминания требуют пищи. Под конец он мог уделять им лишь по нескольку минут, перед тем как заснуть на деревянных, умеренно заселённых клопами нарах. Тогда Богумил Рошкот обычно подзывал к себе своего приятеля Альберта Яна из Кромержижи, чтобы всласть потолковать с ним о еде, о том, что они съели бы и какие вообще существуют на свете вкусные вещи.
— Знаешь, Альберт, что бы я съел сегодня? — говорил Рошкот. — Сегодня у меня какие-то изощрённые желания. Ты не поверишь, но я заказал бы обыкновенный картофельный суп, он назывался у нас «баби». А потом попросил бы самую обыкновенную отбивную и салат из огурцов. Нечего удивленно смотреть на меня, сегодня я ничего больше не стану есть. Мне этого вполне хватит. Не желаю я каждый день ломать голову над меню, и не просите. У меня даже фантазия истощилась от недоедания.
— Ну что ж, бывает, — отвечал Альберт Ян, — просто ты вкус потерял, и всё. Это вполне естественно. Значит, тебе сегодня в глотку не лезет. Ты мне только одно скажи, Богоушек: помню, официант у Шроубека принёс мне к кофе два куска рулета, и я один оставил на тарелке или, кажется, только отщипнул маленький кусочек. Скажи, допустимо такое? А если допустимо, то каким образом? Не могу себе представить, Богоуш, чтоб я заказал, скажем… ну, например, сразу сто тридцать одно пирожное, пусть лёгкие, а съел бы только сто тридцать.
Так они сумерничали, а потом засыпали: кожа да кости, и скудные сны под утро.
На следующий день они говорили о гренках и о том, как делается натуральный ростбиф, и чуть навсегда не рассорились из-за галушек.
— Это ты мне объясняешь, что такое галушки? Альберту Яну будешь рассказывать о словацких галушках… Альберту Яну? Кого в наказание перевели в Требишов? Тебя или Альберта Яна?
Потом они помирились, заказали ещё по бефстроганову с хрупкой спаржей и смолянисто-чёрными маслинами и легли спать. И вот от этого восхитительного забытья, розоватого от крови бифштекса, их разбудили.
— Auf! И пошевеливайтесь, свиньи! Schnell, schnell, ruck, zuck! Ну, скоро вы?
В тот вечер блокляйтер примчался мокрый как мышь; ему понадобился… кондитер.
— Скоты, — сказал он, — встать каждому у своих нар, руки по швам, смирно. Кто из вас кондитер, доложи: «Zuckerbäcker hier!» Нам немедленно нужен квалифицированный кондитер, это Staatssache — strenggeheim.
И тогда Богумил Рошкот решился. Такие переломные моменты бывают у всех нерешительных людей. Словно молния озарит всё происходящее — как ландшафт в ночи, — и они выходят из шеренги; но это — лишь насилие над самим собой и не даёт им никакого облегчения. Потому что нерешительный, решившись на что-либо, тотчас жалеет об этом. К счастью — поздно.
— Hier, — произнёс Богумил Рошкот и оцепенел. «Пойду, — сказал он себе мысленно, — каждый философ до некоторой степени и кондитер. Я всего лишь маленький человек — чех, я хочу увидеть сливки и хочу разбивать яйца. Прощай, Альберт Ян, я и за тебя наемся. Господи, что я делаю?..»
Тут к Рошкоту подошёл блокляйтер, рассматривая его уже как квалифицированного кондитера:
— Ну, скажи нам, где же была твоя вонючая кондитерская и какие там были трубочки с кремом? Ходить-то ещё можешь? Ну, отправляйся, да по дороге повтори все известные на свете рецепты — marrons glacees, липецкий торт, лапшу с малиновым соком. Сыпь! Ты, часом, не в сорочке родился?
Но Рошкот родился не в сорочке, и в этом, может, и было всё дело. Он ничего больше не сказал, только обменялся долгим взглядом с Альбертом Яном, который всё ещё стоял смирно, хотя давно скомандовали вольно. Махнув рукой всему бараку, Рошкот исчез.
Блокляйтер лично принёс ему белоснежный поварской колпак и фартук с оборкой ещё белее колпака и удовлетворённо осмотрел его со всех сторон, ибо и блокляйтерам присуща радость творчества.
Перед домиком коменданта они как следует обтерли ботинки, блокляйтер ловко взбил на Рошкоте белый колпак, разровнял оборки на фартуке и сильным тумаком настолько поднял настроение Рошкота, что тот стал выглядеть вполне жизнерадостно.
В домике пахло молотым кофе, корейкой и вообще Gemütlichkeit. Дети орали: «Mutti», часы пробили девять, а у плиты, приятно пышушей жаром, стояла комендантша, тоже в фартуке с оборкой; от нее пахло ванильным порошком и гордым сознанием материнства.
Она приняла рапорт, потом быстро защебетала — Zuckerbäcker, bitteschön… Hauptkommando торжественно подвела онемевшего Рошкота к огромной корзине, из которой выпирали здоровенный кусок жёлтого масла, пятикилограммовая коробка сахара Модржанского рафинадного завода, чуть ли не мешок какао ван Гуттена с изображением розовощекой голландки, изюм, миндаль и искусственный мед. Там же лежало несколько десятков яиц.
В желудке Богумила Рошкота взыграл желудочный сок, подобно прибою, бьющему о скалы. Рошкот подумал об Альберте Яне и мысленно послал ему привет.
— Теперь я скажу вам, — обратилась хозяйка к Рошкоту, — как я себе это представляю. — Это будут скорее предложения, чем пожелания. Я хотела бы, чтобы это было нечто особенно изысканное и в то же время диетическое, в меру, конечно. Дело в том, что к нам приедет Feinschmecker, Sonderbeauftragter Гиммлера, такой милый, редкостной души человек, бывший часовщик и золотых дел мастер.
Однако Рошкот умел делать только бисквит, да и в этом был не совсем твёрд.
— Я бы вам посоветовал бисквит, — сказал он. — Это диетическое блюдо, сударыня. И при этом есть в нем что-то благородное. Бисквит — изысканное блюдо, мадам. И если позволите сделать такое сравнение, это любимый десерт голландской кронпринцессы Юлианы, которая, пардон, столь плодовита. В этом, несомненно, отчасти заслуга и немецкого князя фон дер Липпе, за которым, как вы, наверное, знаете, она замужем.
— Шаумбург-Липпе старинный род, — сказала «мутти». — Мне очень приятно, что из числа заключенных выбрали такого культурного кондитера. Обычно мне присылают совершенных олухов. Не думаете ли вы, однако, что нашему гостю следовало бы предложить что-нибудь более солидное?
— Существует бисквит а-ля Оскар Уайльд, — сказал наш кондитер. — Против него уж никак нельзя возражать, даже со светской точки зрения.
— А знаете, я, в общем, не люблю светское общество, ни капельки! — сказала комендантша. — Меня вполне удовлетворяет общество моего дорогого супруга, к сожалению, я так редко его вижу. Так редко! Но при положении моего супруга это неизбежно. Бедный Эрих, такой милый нелюдим и молчальник. Но что поделаешь!
— Да, ничего не поделаешь, ровным счетом ничего, — согласился Рошкот. — Я искренне вам сочувствую, госпожа комендантша, если позволите.
— Жаль, что нам нельзя побеседовать о книгах и вообще. Понимаете, что я имею в виду, — сказала комендантша. — Вы, должно быть, начитанный человек. Но нам нельзя. Принимайтесь за бисквит.
И она ушла к своим детям, которые не переставая кричали «мутти!».
Богумил Рошкот остался один. Он вспомнил сказку о том, как кошка с собачкой делали торт. Сначала он улыбнулся, а потом заплакал, как маленький, но самолюбивый ребенок, которому стыдно реветь, и он только глотает слезы. Он был уже так слаб, что сам себя разжалобил. Рошкот нагнулся к корзине, и его высокий колпак упал на кучу яиц. Ему стало дурно от сахара и от меда, от какао ван Гуттена и от госпожи комендантши.
«Как странно, — подумал он. — Мне уже не хочется есть. Совсем. Совершенно нет аппетита. Интересно… почему?»
И он повалился вслед за своим колпаком на кучу яиц и тихо умер в корзине, так и не отведав ни одной изюминки.
Про Это
Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер
Она не знала его имени, да тогда это и не имело значения. Она увидела его в лесу, он спал, озарённый мягким предвечерним светом.
Третье военное лето было на исходе.
Ей показалось, что на щеке у него блестит слеза, и это её растрогало. Она смотрела, как он спит, как на его лице густеют тени, а со щеки исчезает не то слеза, не то роса. Сначала она хотела положить ему ромашку на потрепанную шляпу и уйти. Но не ушла, её удержало какое-то терпкое, неведомое ранее томление. Она пригладила его волосы, и тогда этот большой некрасивый человек проснулся, взглянул на нее зелёным глазом и грустно спросил:
— Что ты здесь делаешь, малышка?
И тут она вдруг вспомнила, как вчера у тёмного забора целовались двое и как она им завидовала. И снова её охватило терпкое томление. Она села.
У этой истории начало далеко не так важно, как конец. Может, не следовало рвать ромашку, такую белую в траве, — пожалуй, от этого вся беда, а может, от чего другого. Может, этой Руженке Подольской вообще не следовало родиться. А может быть, и нужно всё это было для чего-то, но для чего?
— Ну, что с тобой, Белоснежка? — спросил незнакомец мягко.
А потом они любили друг друга, как заповедал господь, в этом прелестном уголке среди лопухов, в тёплой ночи. Руженка улыбалась в темноте совсем новой улыбкой, ямочка на щеке у неё углубилась, и каждая жилочка трепетала.
Так и повелось. Незнакомец приходил и уходил, в шляпе или без шляпы, мрачный или просто без улыбки, но Руженке как раз в нём и нравилась эта мрачность. Влюбилась она не задумываясь, по-женски, вся отдавшись любви, но не нашла названия для своей любви. Любовь она называла Это, а того, кто Это вызвал, — Он.
На свиданья она летела, как пчела-работница с ношею меда, и только одно её занимало: что он думал, сказав то-то, и что хотел сказать, посмотрев на неё так-то.
Пухленькой ручкой она гладила его по небритой щеке, по лбу и глазам, стараясь прочесть его мысли, но никогда это ей не удавалось. Порой она колотила маленьким кулачком по его обнажённой груди, словно стучалась в запертый дом, — напрасно. Он засыпал, положив голову ей на колени, а она смотрела на него немножко униженным взглядом и утешала себя:
«Ну зачем расспрашивать его, беднягу, раз он ничего не может сказать мне, неразумной, глупой девчонке? Наверное, он подпольщик, а они тайно поклялись молчать. А я, дура, всё мучаю и мучаю его: как тебя зовут, да кто ты такой? Любишь ли?»
И она успокаивающе и благодарно целовала его некрасивое ухо. А ночью ей снилось, что за домом на склоне у ручья она развешивает детские пелёнки.
Иногда, лежа в его объятиях, она спрашивала:
— Хорошо ли тебе со мной, Тоник? В самом деле хорошо?
Когда он уходил, она чувствовала себя страшно одинокой, ей казалось, будто в ней застряла заноза, но ни за что на свете она не вырвала бы её. Она так и не узнала о нём ничего. Только раз-другой он поминал какое-то имя, а однажды — адрес, но жадная женская память мгновенно запечатлела его. Всё вокруг дышало ароматом тимьяна и еловой смолы. Руженка шептала: «Теперь я знаю, что такое любовь, и никогда больше не нужно мне ни о чём спрашивать».
Потом этот человек стал приходить всё реже и реже. Сначала его не было неделю, потом он пропустил две недели и, наконец, целый месяц. Всякий раз, когда он снова появлялся, он твердил:
— Ни о чём не спрашивай, моя Белоснежка. Если увидишь на нашем камне лист лопуха, значит, я приду. А если его не будет, то жди, пока не увидишь. Ничего не выведывай, Руженка, когда-нибудь всё узнаешь. Всему свое время. И дуться незачем.
Он смотрел в глаза, полные укора, и эти глаза застилало слезами безрассудства и милосердия.
Случилось, что в один из июньских дней имперскому цензору, обер-лейтенанту юридической службы Валлманну, попало в руки письмо, с первого взгляда показавшееся ему подозрительным. В это время гестапо искало человека, убившего Гейдриха и оставившего забрызганный грязью велосипед на широкой улице пражского района Либень.
Обер-лейтенант юридической службы Валлманн подчеркнул толстым красным карандашом несколько фраз подозрительного письма и передал его в надлежащую инстанцию. Присяжный психографолог гестапо на основании почерка дал заключение: умеренно пастозный, в остальном нормально эротический склад характера.
Подчеркнуты были фразы:
«…Никогда я тебя не спрашивала, откуда ты. Разве я тебя спрашивала, Тоник? Милый, я знаю, это письмо большая глупость».
«Я хочу тебя видеть, Тоник, если тебя так зовут. Я до смерти соскучилась, боюсь за тебя…
…Не знаю, правильно ли я написала адрес, он случайно сохранился у меня в памяти. Я сама не знаю, что делаю. Знаю, что писать тебе нельзя, но иначе не могу. Молю бога, чтобы у меня нашлись силы разорвать это письмо. Но где взять эти силы, если я так давно тебя не видела?..»
После короткого, очень несложного расследования была сначала арестована Ружена Подольская, семнадцатилетняя дочь малоземельного крестьянина, по национальности чешка, вероисповедание римско-католическое, постоянное местожительство Лишице, район Кладно. Вслед за ней был арестован Юлиус Шмейкал, двадцати девяти лет, женатый, по национальности чех, вероисповедание римско-католическое, заведующий отделом закупки и продажи кожевенного завода «Утитц и Сыновья», Тройгендер, постоянное местожительство Крочетин, улица Адольфа Гитлера, 216.
Обоих доставили на очную ставку к комиссару доктору Эриху Юргенсу, который лично затребовал дело. Нюх старого криминалиста подсказывал ему, что это ниточка к делу исключительной государственной важности.
Так Руженка Подольская встретилась наконец со своим возлюбленным; только здесь не было ни лопухов, ни еловой смолы.
Она не могла коснуться его, но она его видела, этого ей было достаточно, чтобы быть счастливой. Доктор Эрих Юргенс посадил их друг против друга и в тихом раздумье наблюдал за ними. Его несколько озадачила радость, прячущаяся в ямочке на щеке у допрашиваемой; он встал, обошёл стол и обнаружил, что ямочка есть и на другой щеке. Потом он некоторое время любовался через окно уходящими ввысь сводами собора на противоположной стороне улицы; но в действительности он смотрел только на стекло, в котором отражались лица обоих врагов рейха.
«Девчонка недурна, — размышлял он, — ножки — как у серны; надо стрелять осторожно, эта дичь пуглива. И молоко на губах ещё не обсохло, mein Gott!»
А Руженка смотрела на Юлиуса и печально говорила:
— Тоник…
Она радовалась, что они вместе умрут, раз жизнь не удалась, и думала о всякой всячине: о том, как смеются девушки у ручья, о птичьем гнезде в кустах и о том, как кудахчут куры и как подкладывают в плиту поленья. Она верила, что некоторые люди обязательно встретятся на небе. Она до боли стиснула руки и потупила глаза, сжавшись, как виноградная лоза под напором ветра.
«За всё я тебя вознагражу после смерти, — говорила она ему мысленно, — вот когда я буду только твоя, если ты не сердишься на меня за это письмо. А если и сердишься, я всё равно буду твоей».
— Итак, — сказал доктор Юргенс, — приступим к допросу. Я хочу услышать правду, и только правду. Вы писали это письмо, фрейлейн Подольская? Писали. Нет смысла отрицать, у нас есть заключение присяжного графолога. Этого господина вы, конечно, тоже знаете и не будете утверждать обратное, за вами долго следили соответствующие органы. Вам известна его противогосударственная партизанская деятельность? Вы о ней знали? Знали, нет смысла отрицать. Он ночевал иногда в месте вашего постоянного жительства? Ночевал, не будучи там зарегистрирован. Вы знаете, что он соучастник покушения на господина имперского протектора Рейнгардта Гейдриха? Знаете, он вам доверился, не так ли?
Доктор Юргенс произносил все эти слова спокойно и с видом знатока, как старый юбочник, разглядывая белые крепкие икры допрашиваемой Ружены Подольской.
«Буду молчать, — решила она, — буду молчать, как могила. Не скажу ни слова. Подожду, пока заговорит мой дорогой жених. Драгоценный мой».
И тут произошло нечто неожиданное. Этот скупщик кож, Юлиус Шмейкал, вдруг встал, не дожидаясь вопроса, и проворно бросился в ноги комиссару Юргенсу.
Комиссар брезгливо отодвинулся, однако оставил допрашиваемого в лежачем положении, которое не счёл невыгодным для ведения допроса.
Юлиус, лежа на полу, расплакался: никаких партизан он в глаза не видел, всегда был лояльным, очень лояльным, даже более чем лояльным гражданином протектората «Böhmen und Mähren», а жена его — урожденная Шмидтбергер, и родом она из Судет.
— Пан комиссар, — всхлипывал Юлиус, — произошло недоразумение, ужасное недоразумение. Пан комиссар, вы ведь психолог, это сразу видно. Взгляните на меня, пожалуйста. Разве я похож на подпольщика? Взгляните на меня, пан комиссар. Вы знаете, в чём можно притворяться, а в чём нет. Да, я этой барышне кое на что намекал, очень легкомысленно, но только для того, чтобы она меня не особенно расспрашивала. Пан комиссар, у меня ревнивая жена. Если и любовница начнёт ревновать, то что это будет за жизнь? Рейху нужна кожа, но вы, наверное, понятия не имеете, как трудно нынче доставать её…
— Значит, вы утверждаете, — произнёс комиссар, — что встречались с присутствующей здесь Руженой Подольской только с целью внебрачных половых сношений?
— Ах, господи! — воскликнул Шмейкал. — Пан комиссар, вы так прекрасно это выразили, одной фразой! Я не сумел бы так хорошо сказать. Прямо в точку попали, пан комиссар.
— Ты мне зубы не заговаривай, — сказал Юргенс. — Ну, так что же было дальше?
— Пан комиссар, мне нравилась фрейлейн Подольская. Я этого не отрицаю. Она действительно прекрасно сложена. Ради неё я ходил по девять километров туда и обратно. Разве я бы это делал, если бы она того не стоила! Но не мог же я ей рассказывать, что спешу домой к ужину, или что уезжаю закупать кожу, или что у маленького Фанды корь. Это уж не та музыка. Пан комиссар, вы ведь знаете женщин. Для них эта штука куда важнее, чем для нас, только говорить им об этом нельзя. Тогда для них это будет уже не то. Им без этого никакого удовольствия нет, да и самому-то никакой радости не будет, понимаете? Пан комиссар, вы же психолог, незачем вам это… объяснять. Им нужны слова, пан комиссар, слова, вот я и говорил слова. Если каждая перед этим спрашивает: «Любишь меня?» — что же ей ответить?
Заметив, что комиссар Юргенс слушает его с выражением молчаливого и неофициального одобрения, Шмейкал осмелел ещё больше и почти весело продолжал:
— А ещё, пан комиссар, девчонка таскала мне яйца и сало первый сорт. Бывало, я не мог удержаться, отрезывал себе ломтик, вот такой тонкий, да что я говорю, ещё тоньше; а вообще-то я всё относил детям.
— Брось ломать комедию! — заорал вдруг комиссар Юргенс. — Хватит. Где рация? С кем держал связь? Даю тебе пять минут на размышление, если хочешь уйти на своих ногах. Посмотри на меня хорошенько, я не только психолог. Я так тебе морду набью, что и твоя жена, урожденная Шмидтбергер из Судет, не узнает тебя. С кем ты был связан?
Тут взгляд его упал на Ружену Подольскую в платье голубым горошком. И он увидел её детские губы, а на них каплю крови. За спиной Руженки Подольской висела большая карта Европы, утыканная флажками где-то у Дона и Волги, а сверху, чуть вытаращив глаза, смотрел Адольф Гитлер, самый крупный скупщик кож в мире.
За окном горели витражи собора и вместе с пражским гестапо, Юлиусом Шмейкалом, лопухами, тимьяном, вместе с позором и ужасом и белыми икрами девушки вращались вокруг нашего милого солнца.
От Руженки Подольской веяло кладбищенской грустью, а кровь из прикушенной губы капнула на жёлтый казённый стол. Тогда комиссар Эрих Юргенс понял, что Юлиус Шмейкал не лжёт. И он сказал себе, что не пошлёт этого человека на казнь, потому что такой годится в сотрудники.
Несмотря на то что комиссар был действительно хорошим психологом и вдобавок математиком, он и не заметил, как во вселенной всё остановилось на тысячную долю секунды. Раздался плач под звёздами, и была новая безнадёжность во времени, но не вне его. Говорят, это случается на мгновение — даже во время войн, посреди смертей, когда маленькая женщина оплакивает Это: чей-то вечный Искус (впрочем, кто знает, вечен ли он), который начинается Искушением и кончается Испытанием.
Бюст
Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер
Многие люди никогда не дождутся своего бюста, хотя, собственно, жили они только ради него. Некоторые из них, более скромные, лишь в минуту душевной слабости мечтают о памятнике; но в конце концов такой мечтатель говорит себе: «Меня вполне устроит и бюст». Потом он умирает в столовой, где на концертном рояле стоит его бюст из позолоченного гипса. Голова хищно смотрит в сторону спальни или кладовой.
Некто Шупатко, заместитель лагерфюрера и тенор-любитель, однажды осенью расхаживал по стройплощадке, где ничего не строилось. Там перетаскивали камни слева направо, а потом справа налево. Впрочем, некоторые интеллигенты из числа заключенных находили в этом занятии такой же смысл, как и в любой человеческой деятельности, и это служило им утешением. Бригада носильщиков камней состояла из врагов рейха, профессиональных преступников, двух гомосексуалистов, которые не были членами нацистской партии, шести евреев-марксистов и одного здоровенного пастыря, командовавшего всеми на берлинском диалекте.
В тот день Шупатко был в прекраснейшем настроении. Однако по долгу службы он никак не проявлял этого. Свои положительные флюиды он излучал как бы внутрь, согревая ими собственное нутро.
Мир хотел видеть Шупатко стальным. Не всегда легко угодить миру, однако это необходимо. Шупатко умел это делать, имея для этого все предпосылки. На лице шрам после дуэли, узкие губы, унаследованные от прадедушки, толкователя Библии, и каменный лоб титана; что бы с ним ни случилось, у него всегда был мужественный, даже свирепый вид.
Сегодня он чувствовал себя, если выразиться по-человечески, странно. Да, странно.
Уходила золотая осень, даже в камнях было что-то трогательное. Ласковое тепло таило в себе забвение солнечного жара, утерянную сладостность лета и запах далёких садов. Было что-то благотворное в сиянии дня, это чувствовали даже самые истощенные узники, которым, честно говоря, уже нечем было и чувствовать. Одному чудился всего лишь запах яблок, другому — разлитого вина.
Шупатко пел, — конечно, про себя; он пел «Серенаду» Шуберта «Leise fliehen meine Lieder durch die Nacht zu dir…» — и от непонятной грусти слезы незримо наворачивались ему на глаза.
«Нет, — решил Шупатко, — сегодня не стану бить Тесарика, я не изобью этого типа, эту свинью поганую, а лишь малость постращаю. Если, конечно, его наглая рожа не выведет меня из терпенья. А девке из кухни позволю надеть платок, который она прячет, тот, голубой, — пусть накинет его и идёт к мужскому забору. Живи, шлюха».
Шупатко побледнел, так он испугался собственных мыслей.
— Это что же, тоска? — спросил он сам себя. — Was passiert denn mit mir? Тоска, что ли? А может, я загниваю? Очевидно, загниваю. Но ощущение прекрасное! Теперь я понимаю, почему эти еврейские интеллигенты столько болтали о милосердии. Оказывается, оно действительно приятно, ишь хитрые свиньи, эти коммунисты и попы!
И всё время он не переставал петь. Все его чувства были невольно обращены к искусству. Шупатко-артист вылезал из мундира, привлечённый тлением осени. А может, это был просто инкубационный период гриппа, который Шупатко схватил в субботу. Пути искусства неисповедимы.
Переполненный возвышенными чувствами и бациллами, Шупатко шёл по лагерю. Но его мирское лицо оставалось высеченным из гранита.
Случилось так, что в это время некто Рышанек, рядовой заключённый, бывший скульптор, потерял очки и в отчаянии искал их в грязи.
Здесь уместно сказать, что очкарикам нелегко живётся на свете. Мир хочет видеть естественный блеск и неподдельное чувство. Очкарики всегда кажутся чуточку умнее или загадочнее нормальных людей. Поди знай, что думает человек за своими очками. В очках — он чем-то значительнее других, без очков — чем-то меньше; и то и другое непопулярно.
Впрочем, Рышанек не ломал себе головы над этим; он знал, что в лагере очкарику худо, но без очков он просто погиб. Поэтому скульптор склонил к грязи свой смелый нос, подставив теплу милосердного солнца свой потёртый зад. А когда поднял близорукие глаза, то скорее почувствовал, чем увидел, что над ним стоит сам Конрад Шупатко, заместитель лагерфюрера. Рышанек подумал, что оказаться в этот момент без очков — счастливая случайность, и искать их означало бы только дразнить судьбу, которая, как известно, весьма чувствительна к щекотке. Всё в скульпторе оцепенело; ему казалось, что он, как в сказке, превращается в камень. «Красивая смерть для скульптора, — подумал он, — в стиле: моя единственная сто ящая статуя».
— Это кто же здесь ест глину? — любезно осведомился Шупатко. — Кто это питается здесь землей? Ты что, голоден? Или тебе не нравится наша кухня? Мы недостаточно стараемся? Ведь у нас повар из «Адлона», Берлин, Унтер ден Линден. Ну-ка, посмотри мне прямо в глаза и скажи честно, что ты ищешь?
— Разрешите доложить, — сказал Рышанек, вытянувшись в струнку, — я пробовал глину; по профессии я скульптор и иногда, невзирая на все усилия, не могу удержаться при виде хорошей глины, так и тянет потрогать — даже в рабочее время. Это моя слабость. Прошу прощения или наказания.
Говоря это, он незаметно нащупывал ногой потерянные очки. Он чувствовал себя заживо мертвым.
— О, так ты скульптор? — сказал Шупатко. — Вот видишь, скульптор, мы и послали тебя ворочать камни. Na bitte. Ты, значит, художник. Ein Bildhauer. Ты кто? Чех? Кого лепил? Бенеша? Или, как его… Гуса?
— Разрешите доложить, я художник, — проговорил Рышанек. — Однако я никогда не увлекался гнилым искусством. Я делал надгробные памятники, и то только для честных граждан, не занимавшихся политикой.
— Na gut,—сказал Шупатко. — Постарайся выжить, а после будешь у меня заниматься искусством. Постарайся выжить. А как всё кончится, вас, художников, отпустят первыми. Наш фюрер любит художников, он ведь сам ein Kunstler. И вы не должны на него сердиться, что ему пришлось посадить кое-кого из вас, он-то хорошо знает вашу подноготную. И я тоже знаю. Как ты думаешь, кем я был в гражданке?
— Скульптором? — трепетно спросил Рышанек.
— Нет, тенором, — ответил Шупатко. — Певцом. Но, конечно, мне некогда было этим заниматься, я ушёл в политику, а это смерть для артиста. Ты с этим согласен, не правда ли? Как по-твоему — политика для артиста смерть? Не знаешь, что ответить? Не бойся, я не доносчик. Это просто моя работа.
Глядя в вытаращенные светло-голубые глаза пана Рышанека, Шупатко снова почувствовал в себе что-то неизъяснимое, какую-то странную грусть, гложущую внутри, как слепой крот. Он заметил, что у Рышанека совсем детские губы. И сказал себе, что на этот раз поддастся настроению и сделает доброе дело. Тотчас же он стал придумывать такое доброе дело, которое было бы выгодным одновременно и для него, и для рейха.
Из лучей осеннего солнца, гриппозных бацилл и древнегерманской чувствительности у него логически возник высокохудожественный образ его собственного бюста. И ему захотелось петь. Но это желание он подавил.
— Что тебе нужно для этого, для твоего ремесла? — спросил Шупатко. — Нужна глина — посмотри, сколько здесь глины. Вода? Камень? Сколько душе угодно. Молотки у нас есть, долота тоже, так в чём дело? Хочешь поскульптурить?
— Никак нет, — воскликнул бдительный Рышанек. — Со своим прошлым я окончательно порвал. Хочу искупить свою вину физическим трудом.
— Взгляни на меня, — терпеливо продолжал Шупатко. — Рассмотри меня как следует. Что ты видишь во мне? Как бы ты изобразил меня? Как думаешь, можно было бы сделать такую статую, ну, скажем, как я стою? Просто, как я стою. Тебя зовут Рышанек? Да не трясись ты передо мной. Сколько тебе надо на это времени? Полгода? Год?
— Года, наверное, хватит, — сказал Рышанек без размышления. — Прошу прощения, но изобразить вас не так легко. В вас есть какая-то особенная, прямо непередаваемая задумчивость. Разрешите также доложить, для работы мне понадобится небольшая бригада, — носить воду и размешивать глину.
— Это мелочь, — возразил Шупатко. — Бригаду я тебе дам. Один будет носить воду, другой — глину, третий — размешивать, и ещё дам тебе кладовщика смотреть за инструментами. Вы получите новые ботинки; я распоряжусь, чтобы вам построили особый барак в сторонке, где бы ты мог спокойно творить. Я тоже всегда запирался, когда пел. Вот так… Конечно, вам придётся ещё сделать, скажем, скульптуру «Тысячелетие рейха», её можно слепить кое-как. Сделаешь двух орлов или какой-нибудь там венок, и это будет подарок рейху от заключенных, понимаешь? Приучись мыслить политически, это всегда пригодится. Итак, Рышанек, завтра ты явишься к Schreiber Сметачеку, подбери себе в бригаду кого хочешь. Только не дохляков, а то ничего не сделаете. И откуда ещё берутся в вас силы? Человеческое тело — чудо. Как по-твоему, Рышанек? Человеческое тело — чудо?
— Разрешите сказать, человеческое тело — чудо, — проговорил Рышанек, и в нём звенел колокольный звон, но отнюдь не погребальный. — Человеческое тело — великое чудо. Мы, скульпторы, хорошо знаем это.
— Ну, приходи, Рышанек, я буду тебе позировать, — сказал Шупатко.
И он возликовал в душе, потому что уже видел свой бюст на рояле, между двумя аспарагусами в его дортмундской квартире.
Он отошёл более чётким шагом, чем обычно, чтоб никто не заподозрил, что он сейчас омыл свою душу. Он даже не обратил внимания, как при втором шаге раздавил очки Рышанека. Они хрустнули у него под ногой, но звук не дошёл до его сознания, в этот момент витавшее где-то высоко над землей.
Пан Рышанек не видел, но услышал это. Он подумал, что стёкла в очках были толстые, девять диоптрий, их выточили в самой Иене у великого Цейсса.
Рышанек вдруг стал похожим на летучую мышь, с той разницей, что у летучих мышей в ушах есть радар, а у Рышанека его не было. Вокруг себя он видел только густую молочную мглу. Он сделал три шага направо, потом пять шагов налево, и ещё пятнадцать шагов и понял, что из этой мглы ему никогда не выбраться.
Вдруг он увидел перед собой уголок своей пражской мастерской, даже паутину разглядел, и ту странную статуэтку, которую он называл «Человек» и которую двадцать два года лепил из глины и каждое воскресенье переделывал снова и снова. У статуэтки до сих пор не было лица. И вот теперь он увидел его. Лицо имело благородные черты Конрада Шупатко, чуть приподнятые брови и слащаво улыбалось.
— Теперь я понял, — сказал он. — Не очки я потерял, я потерял глаза. Я слышал, как они треснули. Мамочка, что же я буду делать, если выживу?
Рышанеку удалось выжить. Всё сложилось для него не так уж плохо. Он стал действительным членом Союза работников изобразительных искусств, к нему обращались, когда надо было сделать бюсты выдающихся личностей. Он делал их из бронзы, а иногда высекал из гранита.
Он жил хорошо. Из года в год заказывал себе новые очки и покупал, одну за другой, новые вещи для своей квартиры и мастерской. Но один раз случилось, что, ударив молотом по долоту, он услышал треск, — такой треск он уже слышал однажды.
«Опять треснуло, как тогда, — подумал он. — Что бы это могло треснуть? Тогда это были глаза, значит, теперь это может быть только сердце».
Он сел возле незаконченной статуи, которую всё ещё называл «Человек», хотя не придавал этому слову уже того юношески большого значения, как раньше.
Там его и нашли; он лежал на спине. Доктора установили, как обычно, лишь часть того, что произошло. Они констатировали так называемый инфаркт миокарда, болезнь в то время очень модную как у художников, так и у выдающихся личностей.
Двадцатый век
Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер
Такого чемодана вы ещё не видывали: из свиной кожи, облепленный наклейками двадцати одного отеля, двух океанских пароходов и одного кафешантана. Это был жёлтый, поживший, беспутный жуир. Единственным его изъяном был отстреленный угол, через который виднелась полосатая пижама не то ещё что-то. А в общем чемодан имел весьма представительный вид, хотя и ехал в кузове старого разбитого грузовика. Он переносил это как аристократ.
Бог весть откуда взялся такой чемодан у человека при нём. Человек сидел рядом с ним, словно гранд, вытянув длинные тощие ноги. Шляпа у него была потрепанной и лицо тоже. Он был острижен ёжиком, — как видно, не по своей воле. Это придавало ему некоторую замкнутость.
Между тем человек он был, по-видимому, весёлый и даже сумасбродный. Он смотрел на мир с таким восхищением, что его не мешало бы призвать к порядку. Но грузовик ехал довольно быстро, и поэтому никто не мог, да и не хотел этого сделать.
— Я увижу Прагу, я увижу Прагу! — восклицал человек. — Я увижу Прагу. Неужели я увижу Прагу?
А потом он позволил себе уж совершенно ненужную выходку — крикнул пасущемуся стаду:
— Привет, девки! Коровы, я жив! Здорово, бык!
Коровы хранили достоинство. Только самый старый бык посмотрел вслед грузовику и глубоко задумался.
Человек приветствовал всех, особенно животных, — тощую протекторатскую кошку на шоссе, бродячую, перепуганную немецкую овчарку, которая всё ещё скалила зубы, — она-то не капитулировала ещё. Двум маленьким козлятам он помахал потрепанной шляпой. Красные наволочки развевались на верёвке рядом с бязевыми кальсонами, блестели ржавые лужи, отражая зеленоватое небо. Май был молод, Прага — прекрасна.
А полицейский в форме цвета хаки был похож на киноактера Гарольда Ллойда; с ним надо поговорить, раз уж он остановил наш грузовик.
— Что это у тебя за форма? — спросил тощий потрепанный оптимист.
— Чего сейчас болтать о форме, — сказал опереточный полицейский. — Таким, как ты, вообще не следовало бы любопытничать.
— А что, святой Вацлав ещё сидит на мысльбековском коне? — продолжал расспросы неисправимый оптимист. — И хвост у коня по-прежнему завязан узлом?
— Господи, он ещё шутит! — воскликнул полицейский. — Это на перекрёстке, да во время революции! Сейчас каждая минута дорога. Поезжайте, не задерживайте движение, видите — зелёный свет.
— Ай-ай-ай, зелёный свет! — вскричал тощий по своей дурной привычке. — Здорово, зелёный свет!
— Где тебя высадить? — окликнул его шофёр.
— Где хочешь, мне всё равно, — ответил пассажир. — Где тебе удобнее. Я счастлив, что жизнь меня радует. Мне и в голову не приходило, что жизнь ещё может меня радовать. Вот уж не думал! Не верил. Да и не стремился к этому. Вот потому она меня и радует. День добрый, бабуся, куда это вы тащите шубу, ведь май на дворе?
— Да вот хочу вернуть её одной еврейке, но хорошей, — ответила старушка, — мы её уже не ждали.
— Счастливого пути, бабушка! — Это он прокричал ей уже вдогонку. Потом продолжал: — Ну, хорошо, свобода, а дальше что? Нас накормят, а дальше что? Мы получим предписанное количество калорий. Ну, а дальше? Будем сыты. Нет, сразу мы не насытимся, нет, нет. Хорошо, насытимся, — а дальше что? Неужели после того, что было, начнём всё заново — как ни в чём не бывало? И будем носить галстуки? Послушай, будем мы носить галстуки или нет?
— Конечно, будем! — отозвался шофёр. — И бабочки будут носить, и лакировки. Лакировки всю войну носили, и бабочки тоже.
— А скажи, — спросил тощий, — в чём ты спал всю войну? В пижаме?
— А в чём же? — удивился шофёр. — Не в ночной же рубашке, — слава богу, у нас двадцатый век, дружище.
— Да, верно, — сказал человек в кузове, — ты прав. Ведь у нас уже двадцатый век.
Они проезжали под фонарём, на котором висел сгоревший немец.
— Посмотри на эту свинью, какая спесивая рожа, — заметил шофёр. — Так бы и остановился да плюнул ему в физиономию.
— Послушай, — гнул своё потрепанный пассажир, — а носки носили? Носки-то?
«Высадить бы его поскорей, — подумал шофёр, — видно, не в себе человек: то с коровами здоровался, теперь о носках спрашивает. Впрочем, кажется, тихий».
— Начальник, где прикажете вас высадить? — спросил шофёр деликатно.
— Где хочешь, — ответил пассажир. — Где угодно. Хотя бы здесь. Лишь бы там был двадцатый век.
Остановились за перекрёстком. Тощий слез, шофёр подал ему аристократический чемодан из свиной кожи. Из чемодана выкатилось несколько подгнивших картофелин.
Наш неисправимый оптимист махнул на них рукой и пошёл. Он вежливо здоровался со встречными, снимая шляпу. Его голубые глазки светились удовлетворением, а ноздри жадно втягивали пражский воздух.
Он шёл длинными шагами; шаги становились всё длиннее и длиннее. На чемодане было написано мелом: «Отель Маутхаузен». Потом он вместе с чемоданом пустился бежать, и бежал, пока хватило дыхания, а его хватило ненадолго… Поэтому он скоро остановился, а остановившись, сообразил, что ему, собственно, некуда деть этот чемодан. Некуда идти.
Тогда он оставил чемодан посреди улицы и с пустыми руками побежал навстречу второй половине двадцатого века.
Яичко
Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер
У нас бывает немало приятелей, с которыми мы встречались только мимоходом. Они случайно промелькнули в нашей жизни, сыграли свою небольшую роль и исчезли со сцены. Произнесли, к примеру: «Граф был ранен на дуэли» или «Алёнка посылает вам сердечный привет, а больше я ничего не могу сказать». При этом многозначительно улыбнулись, или украдкой вздохнули, или просто тактично удалились, прямые и корректные.
В жизни каждого есть герои и статисты. Нам не суждено знать их подлинную роль. Тот, кого мы считали героем, часто оказывается статистом; какая-нибудь мелочь иной раз оборачивается судьбой.
Жил человек по фамилии, скажем, Покштефл. Ходил до войны в гимназию, и даже в классическую, и посему полагал, что смыслом жизни является знаменитое изречение carpe diem. Других латинских изречений он не помнил, но зато урывал от жизни сколько мог. Он легко и бурно развлекался за чужой счет; больше всего ему нравилось звонить по телефону незнакомым людям и дурачить их. Например, выдавал себя за контролера телефонной сети и заставлял простодушных старушек, которые были дома одни, измерять сантиметром телефонный провод от стены до аппарата.
А если он был в плохом настроении, то звонил от похоронного бюро и сообщал о доставке резного гроба тому, кто поднимал телефонную трубку. Он говорил:
— Ну, гроб мы вам отправляем, натягивайте саван, ложитесь и ждите.
Или объявлял:
— Будьте любезны явиться завтра в семь часов утра на Стршелецкий остров вместе с вашим попугаем. Вам обоим в обязательном порядке будет сделана прививка. Благодарю вас.
Но одному владельцу телефонного аппарата он особенно докучал. Звали его Эдуард Петушок, и был он, как тогда говорили, частновладельцем. Каждую неделю по пятницам, в три часа дня, происходил телефонный разговор такого содержания:
— Здравствуйте!
— Здравствуйте.
— Скажите, пожалуйста, пан Курочка дома?
— О нет, — отвечал после небольшой паузы интеллигентный голос. — У телефона Эдуард Петушок.
— Так, значит, Курочки нет дома? — удивлялся каждый раз паренёк. — А она снесла вам вчера яичко?
— Нет, не снесла, — вежливо отвечал спокойный голос. — А вы, пан гимназист, любите яички?
— Терпеть не могу, — заявлял паренек. — Очевидно, я не туда попал.
Покштефл вешал трубку и потом целую неделю с радостью предвкушал, как он снова позвонит пану Петушку в следующую пятницу, в три часа дня, и попросит к телефону пана Курочку.
Пан Эдуард Петушок всегда был неизменно вежлив и спокоен. Он ни разу не назвал гимназиста бездельником, или озорником, или, что ещё хуже, молодым человеком. Телефонную трубку он всегда клал очень деликатно.
Наш паренек жил и, следовательно, взрослел. Он успешно преодолел переходный возраст, пору возмужания и, наконец, сдал экзамены на аттестат зрелости и поступил в университет. У него появился сочный, прямо-таки чарующий баритон. Каждое утро он брился.
А мир, имевший на него неведомые виды, продолжал независимо развиваться.
Вскоре посыпались первые бомбы. Это было в Польше.
Потом наступило 17 ноября 1939 года, и пан Петушок напрасно ждал телефонного звонка в пятницу в три часа. Короче говоря, из концлагеря не позвонишь. Так что наш молодой человек исправился хоть в этом смысле.
Всё, что с ним произошло, — тема для другого рассказа или романа. Отчасти ему повезло, отчасти он сумел приспособиться, такой уж он был пройдоха. Он выжил.
Вернулся он в Прагу 11 мая, в пятницу, без десяти минут три. И сказал себе:
— Вместо того, чтобы придумывать, как начинать жизнь заново… всё равно ничего не придумаю… вместо того, чтобы ломать себе голову над этим, начну-ка я с того, что позвоню пану Петушку. Это единственный номер, который я помню.
Он вошёл в будку автомата — ещё серого военного цвета. Рука у него дрожала, но тут уж ничего не поделаешь. На лице у него появилось прежнее выражение лукавого озорства и ехидного злорадства. Он набрал номер.
— Здравствуйте!
— Здравствуйте.
— Скажите, пожалуйста, пан Курочка дома? — произнёс он и чуть не заплакал.
На другом конце провода долго молчали, а потом воскликнули:
— Значит, ты жив, озорник? Это же замечательно!
— Жив, пан Петушок, — сказал бывший студент и тут только почувствовал, что к нему возвращается жизнь. Он понял это по учащённому пульсу и по душившей его радости. Он услышал, как поёт его тело,
— Должна же у вас быть где-то курочка, — сказал он. — Не снесла ли она вам вчера к завтраку яичко?
— Как же, снесла, снесла! — проговорил старый пан Петушок. — Вчера снесла, негодница. Чудесное белое яичко. Приходите, пан озорник, я сварю вам его всмятку!
Вот и всё, — а впрочем, кто знает?
Послесловие…
По-русски о Людвике Ашкенази (1921–1986) прочитать в общем-то негде. Есть советское издание 1967 года с предисловием Инны Абрамовны Бернштейн, представлявшим скорее книгу, чем её автора. Ещё — несколько случайных текстов в Интернете. Даже Википедия, где, казалось бы, есть статьи решительно обо всём, про автора «Собачьей жизни» сообщает огорчительно мало. Во всяком случае, русская, английская и даже чешская. В немецкой Wikipedia статья гораздо содержательнее (что неудивительно — после чехословацких событий 1968 года Ашкенази эмигрировал в Германию, много там писал, получил немецкую литературную премию). Автор этой статьи особо отметил отсутствие в творчестве Ашкенази чёткой границы между «взрослой» литературой и книгами для детей. И это её свойство определило наш издательский выбор. То есть, конечно, важнее всего то, что «Собачья жизнь» — прекрасная книга большого писателя, что её точность и художественную достоверность можно мерить самой строгой меркой, что рассказывает она о страшной войне, о любви, о человеческом достоинстве, вообще о человеке — о высотах, на которые ему дано взойти, и о низости, до которой он может опуститься. Но всё же важно и то, что эту книгу можно адресовать людям любой житейской и читательской искушённости (начиная примерно с отроческого возраста). И этот сопроводительный текст написан составителем серии «Книги для детей и взрослых» также в расчёте на всех — и читателей, считающих научный аппарат (постраничные сноски, комментарии, преди- и послесловие) обязательным атрибутом хорошей книги, и тех, кто все эти дополнительные тексты пролистывает не читая; на людей, ощущающих Вторую мировую войну как нечто непосредственно их касающееся, и тех, кто видит в ней лишь прошедшее историческое событие.
Ашкенази эта война не просто коснулась; она объяла его со всех сторон. Он был её солдатом (львовский студент-славист, интернированный в Казахстан после вхождения в Западную Украину советских войск, он в 1942 году вступил в Отдельный чехословацкий пехотный батальон и с боями дошёл до родины), причём — солдатом-победителем; но был и её жертвой — сама его фамилия предопределяет невозможность остаться в стороне от трагедии европейского еврейства. Рассказы «Собачьей жизни» — свидетельства не только таланта и мастерства рассказчика, но и глубины пережитой им душевной травмы. Как бы ни был успешен в послевоенной жизни столь травмированный человек (или даже не человек, а просто живое существо) — война никогда не снимет его с учёта («Псих»).
Победитель и жертва, точнее — жертва-победитель, — постоянный объект (и субъект) писательского исследования Ашкенази. Его герои побеждают не на поле брани и без оружия в руках; их победа — это сохранение человеческого в бесчеловечных обстоятельствах. Категорию же «человеческого» составляет, по Ашкенази, не только высшие проявления духа — любовь, сочувствие, благородство, — но и людские слабости: противостоять изуверству удаётся и чревоугоднику («Пропал кондитер»), и телефонному хулигану («Яичко»).
Автор (тогда ещё будущий) этих рассказов вполне соответствовал определению «успешный в послевоенной жизни человек». Он был лояльным журналистом (писал, не выходя за пределы «коммунистической идеологии и актуальных сталинистских штампов»), радиокомментатором, побывал в Германии, Италии, Индии, Японии, США. В 1955 году издана первая его книга, не проходившая по разряду публицистики: «Детские этюды» сразу сделали Ашкенази популярным писателем. Затем пришёл успех и к Ашкенази-кинодраматургу: так, в снятом по его сценарию в 1959 году советско-чехословацком фильме «Майские звёзды» звёздным было всё — и название, и режиссёр (Станислав Ростоцкий, автор «Доживём до понедельника» и «А зори здесь тихие»), и актёры (Вячеслав Тихонов, Леонид Быков, Николай Крючков). Другой фильм Ашкенази-сценариста — «Крик» — в 1964 году участвовал в конкурсной программе Каннского фестиваля.
Связь Ашкенази (после львовских штудий успевшего поработать учителем русской словесности в казахстанском посёлке Берчогур) с советской литературой несомненна. Особенно это относится к его драматургии (уже не кино-): так, пьеса «Императорский королевский государственный жених» написана по мотивам повести Юрия Тынянова «Поручик Киже», а «Распутин» — по А.Н. Толстому. Столь же очевидна связь его личной судьбы с советской внешней политикой. Дважды он видел советские танки, незваными гостями утюжащие мостовые его города. И каждый раз за этим следовала радикальная перемена места жительства, проще говоря — бегство. По иронии судьбы первый раз он бежал от немцев, а второй (в 1968-м) — к немцам: после краха «Пражской весны» Ашкенази с семьёй (женой Леонией — дочерью классика немецкой литературы Генриха Манна — и сыновьями Индржихом и Людвиком) поселяется в Мюнхене. Книги его изымаются из чешских библиотек, имя предаётся забвению… Всё по правилам социалистической культуртрегерской практики.
Писатель между тем спокойно живёт и работает в Германии; практически ежегодно выходят его новые книги (в основном — детские), продолжается карьера драматурга и сценариста. В 1976-м вновь меняется его адрес: Ашкенази переезжает в итальянский Больцано, где десять лет спустя завершает свой земной путь.
Крик [66]
Родился человек и
кричит!
Никто его не понимает,
но все улыбаются.
Это я! — орёт человечек.
Я пришёл жить. Вы мне рады?
Среди добрых людей
и в хорошее время ли я родился?
Цвет моей кожи, графа в анкете —
они мне в жизни не помешают?
Не грозит ли война? Рабство
уже уничтожено?
Можно дышать? Так — спасибо!
…и комментарии
Действие в рассказах Ашкенази происходит в реальных географических и исторических обстоятельствах: оккупированная немцами Чехия, нюрнбергские расовые законы, убийство Гейдриха… Дадим поэтому некоторые справки.
Юлиус, лежа на полу, расплакался: никаких партизан он в глаза не видел, всегда был лояльным, очень лояльным, даже более чем лояльным гражданином протектората «Böhmen und Mähren», а жена его — урожденная Шмидтбергер, и родом она из Судет.
Созданная в 1918 году на руинах Австро-Венгрии Чехословакия включала в себя четыре национальных анклава — немецкий, польский, венгерский, украинский (русинский) — и две сопредельные моноэтнические области — чешскую и словацкую. Так были заложены фундаменты будущих конфликтов, и первый (по времени) из них — судетский (Судеты — область компактного проживания немцев).
Этнолингвистическая карта Чехословакии 1930-х годов. Изображённый на карте Цешин (на границе Чехословакии и Польши) — это Чешский Тешин, где в 1921 году родился Ашкенази.
Ещё при разделе Австро-Венгрии северные и северо-западные районы будущей Чехословакии (где процент немецкого населения достигал 90) пытались добиться самостоятельности или присоединения к Германии. Тогда властям новорождённого государства удалось пресечь эти попытки, но после прихода Гитлера к власти политические лидеры судетских немцев вновь потребовали объединения с Третьим рейхом. Напряжение постепенно нарастало, и в сентябре 1938 года в Судетах начались крупные беспорядки. Прага ввела там военное положение, а Гитлер заявил, что не потерпит «преступлений» чехов. Франция и Великобритания, связанные с Чехословакией договорами о взаимопомощи, 30 сентября в Мюнхене подписали с Германией соглашение, узаконившее аннексию Судет. Гитлер, которому достались не только промышленно развитые и богатые полезными ископаемыми земли, но и самая передовая по тем временам система укреплений, на этом не остановился и в марте 1939-го оккупировал оставшееся беззащитным чешское государство (Словакия в результате этого получила независимость, а венгерский анклав Подкарпатская Русь отошёл Венгрии). Чехия была объявлена германским «протекторатом Богемия и Моравия» («Böhmen und Mähren»).
Согласно распоряжению Заместителя Имперского Протектора Чехии и Моравии всем лицам, которые до настоящего времени не смогли доказать своё арийское происхождение, запрещается держать домашних животных…
«Окончательное решение еврейского вопроса» было обставлено с немецким педантизмом и уважением к законам. Филолог, профессор Дрезденского университета Виктор Клемперер оставил детальное описание начала этого процесса (приводим с большими купюрами):
03.1934: запрет евреям защищать диссертации.
06.1934: запрет немцам покупать у евреев.
09.1935: «Нюрнбергские законы — во имя крови и чести». Арийцам запрещены браки с евреями и внебрачные сношения с ними. Евреям запрещено нанимать прислугу моложе 45 лет.
04.1936: запрет всем чиновникам иметь дело с евреями по какому бы то ни было поводу.
10.1936: запрет евреям пользоваться читальными залами публичных библиотек.
08.1938: закон об именах. Евреи-мужчины обязаны после своего имени добавлять ещё одно — Израиль. Еврейки добавляют имя Сарра,
10.1938: запрет евреям снимать номера в гостиницах.
11.1938: евреям запрещён доступ в театры, кино- и концертные залы, музеи, на выставки, открытые доклады и лекции, спортивные соревнования, катки, в бассейны — общественные и частные.
12.1938: евреям запрещено брать в библиотеке книги на дом и иметь водительские права (следовательно, водить машину).
09.1939: запрет выходить из дома после 8 часов вечера.
08.1940: запрет входить в городские парки и сады. Запрет пользоваться телефоном.
10.1940: конфискация у евреев швейных и пишущих машинок.
03.1941: запрет молочницам переступать порог домов, где живут евреи, и продавать им молоко.
08.1941: запрет евреям курить.
19 сентября 1941: евреи обязаны носить на лацкане пиджака или пальто жёлтую шестиконечную звезду. Тот, кто прикрывал звезду рукой, газетой, книгой и т. п., подлежал немедленному аресту.
11-12.1941: распоряжение о сдаче евреями биноклей и фотоаппаратов, запрет пользоваться телефонами-автоматами и ездить в автобусах (разрешено только в трамвае, на передней площадке прицепного вагона).
03-04.1942: запрет на пользование трамваем — «учитывая многократные нарушения евреями дисциплины в трамваях». Запрет покупать иллюстрированные журналы и еженедельники или подписываться на них. Запрет покупать цветы и иметь продуктовые запасы, появляться на вокзале, пользоваться услугами ремесленников-арийцев, стоять в очереди, ходить по улице вдоль городского парка.
05.1942: запрет держать домашних животных — собак, кошек, птиц.
Профессора немцы забрали после убийства Гейдриха, и он так больше и не вернулся.
Оккупировав Чехию, германские власти учредили должность рейхспротектора и назначили на неё Константина фон Нейрата, бывшего ранее министром иностранных дел Третьего рейха. Протекторат должен был стать немецкой «кузницей» и «оружейной мастерской» (Германия, опасаясь английских бомбардировок, стремилась отодвинуть стратегически важные промышленные объекты подальше от Атлантики). Чехам отводилась роль мобилизованной рабочей силы. Всякое невоенное производство сворачивалось, были введены продовольственные карточки.
Осенью 1939 года в стране начались волнения, студенческие демонстрации. Вскоре они были жестоко подавлены (см. примечание на с. 124), однако Гитлер всё равно был недоволен фон Нейратом и назначил ему в заместители начальника Главного управления имперской безопасности Рейнхарда Гейдриха, одного из ключевых функционеров своего режима. Тот был не только начальником (по сути — создателем) СД и гестапо; ему принадлежала решающая роль в разработке и реализации плана уничтожения евреев и цыган. Именно Гейдриху в масштабах рейха подчинялись т. н. айнзатцгруппы, совершавшие массовые казни «расово неполноценных» (а заодно — коммунистов и партизан); по его приказу создавались система еврейских гетто и строились концентрационные лагеря.
В Чехии Гейдрих в полной мере проявил свои незаурядные административные способности. Введя в стране военное положение и за несколько недель ликвидировав чешское сопротивление, он объявил об окончании политических репрессий и о введение мер, улучшающих жизнь «простых чехов»: повысил зарплату и продуктовую норму 2 миллионам рабочих, выделил 200 тысяч пар обуви для людей, занятых в военной промышленности, увеличил рацион сигарет, организовал в реквизированных гостиницах и пансионатах дома отдыха для трудящихся, ликвидировал чёрный рынок. В результате население практически примирилось с немецкой оккупацией.
Видя это, чешское правительство в изгнании (действовавшее в 1938–1945 годах в Лондоне) решает ликвидировать Гейдриха. Расчёт был также на то, что неминуемые после его убийства репрессии оттолкнут чехов от оккупационного режима. В Прагу были заброшены подготовленные англичанами агенты, и 27 мая 1942 года ехавший в открытом автомобиле и без сопровождения (таково было его обыкновение) Гейдрих был смертельно ранен.
«В это время гестапо искало человека, убившего Гейдриха и оставившего забрызганный грязью велосипед на широкой улице пражского района Либень» ( с. 101 ).
Объявление обещает 10 миллионов крон за сведения, которые позволят поймать преступника.
художник книги
Тимофей Яржомбек родился в Москве в 1986 году. С 2003 года его графические работы публикуются в журналах. Участник художественных выставок. «Собачья жизнь и другие рассказы» — дебют Тимофея в книжной иллюстрации.
переводчик сборника рассказов «Собачья жизнь»
Павел Сергеевич Гуров (1924–1986) окончил юридический факультет МГУ. Литературным переводом занялся в 1956 году. Переводил прозу, поэзию и научно-популярные книги с английского, немецкого, французского и чешского языков.
Среди переведённых им авторов — И.Х.Ф. Гёльдерлин, Шервуд Андерсон, Айзек Азимов, Джеймс Хэрриот, Борис Виан.
составитель и дизайнер серии
Илья Бернштейн родился в Москве в 1967 году. С начала 1990-х годов занимается литературным редактированием и оформлением печатной продукции.
Ссылки
[1] Троя — пригород Праги.
[2] Согласно распоряжению Заместителя Имперского Протектора Чехии и Моравии всем лицам, которые до настоящего времени не смогли доказать своё арийское происхождение, запрещается держать домашних животных…
[2] «Окончательное решение еврейского вопроса» было обставлено с немецким педантизмом и уважением к законам. Филолог, профессор Дрезденского университета Виктор Клемперер оставил детальное описание ( Victor Klemperer . Ich will Zeugnis ablegen bis zum Letzien. Tagebücher 1933–1945. 2 Bde. Aufbau-Verlag, Berlin. 1995. По-русски см. в книге E. Эткинд . Записки незаговорщика. Барселонская проза. СПб., Академический проект, 2001. С. 442–463.) начала этого процесса (приводим с большими купюрами):
[2] 03.1934: запрет евреям защищать диссертации.
[2] 06.1934: запрет немцам покупать у евреев.
[2] 09.1935: «Нюрнбергские законы — во имя крови и чести». Арийцам запрещены браки с евреями и внебрачные сношения с ними. Евреям запрещено нанимать прислугу моложе 45 лет.
[2] 04.1936: запрет всем чиновникам иметь дело с евреями по какому бы то ни было поводу.
[2] 10.1936: запрет евреям пользоваться читальными залами публичных библиотек.
[2] 08.1938: закон об именах. Евреи-мужчины обязаны после своего имени добавлять ещё одно — Израиль. Еврейки добавляют имя Сарра,
[2] 10.1938: запрет евреям снимать номера в гостиницах.
[2] 11.1938: евреям запрещён доступ в театры, кино- и концертные залы, музеи, на выставки, открытые доклады и лекции, спортивные соревнования, катки, в бассейны — общественные и частные.
[2] 12.1938: евреям запрещено брать в библиотеке книги на дом и иметь водительские права (следовательно, водить машину).
[2] 09.1939: запрет выходить из дома после 8 часов вечера.
[2] 08.1940: запрет входить в городские парки и сады. Запрет пользоваться телефоном.
[2] 10.1940: конфискация у евреев швейных и пишущих машинок.
[2] 03.1941: запрет молочницам переступать порог домов, где живут евреи, и продавать им молоко.
[2] 08.1941: запрет евреям курить.
[2] 19 сентября 1941: евреи обязаны носить на лацкане пиджака или пальто жёлтую шестиконечную звезду. Тот, кто прикрывал звезду рукой, газетой, книгой и т. п., подлежал немедленному аресту.
[2] 11-12.1941: распоряжение о сдаче евреями биноклей и фотоаппаратов, запрет пользоваться телефонами-автоматами и ездить в автобусах (разрешено только в трамвае, на передней площадке прицепного вагона).
[2] 03-04.1942: запрет на пользование трамваем — «учитывая многократные нарушения евреями дисциплины в трамваях». Запрет покупать иллюстрированные журналы и еженедельники или подписываться на них. Запрет покупать цветы и иметь продуктовые запасы, появляться на вокзале, пользоваться услугами ремесленников-арийцев, стоять в очереди, ходить по улице вдоль городского парка.
[2] 05.1942: запрет держать домашних животных — собак, кошек, птиц.
[2] Комментарий взят из главы « …и комментарии »
[3] Сумасшедшая еврейка, сумасшедшая! ( смеш. идиш и нем. )
[4] Ну, собачка, так как звали твоего еврея? Мунелес или Цицес? Или Задес? ( нем. )
[5] Я из него сделаю собаку, из этого немецкого умник ( нем. ).
[6] Санпропускник ( нем. ).
[7] Парфорс — «строгий» ошейник, сделан по принципу удавки. — Прим. ред.
[8] Ах ты бедная собачка ( нем. ).
[9] Комнатная собака ( нем. ).
[10] Пан Эмиль, пан Эмиль, где вы? ( польск. )
[11] Реб Ицхок, ваш хлеб у меня. Вы не боитесь? ( идиш )
[12] Доктор Гуггенгейм, подойдите, пожалуйста, к вашей дочери, у неё болит голова ( нем. ).
[13] Пошёл! ( нем. )
[14] Профессора немцы забрали после убийства Гейдриха, и он так больше и не вернулся.
[14] Оккупировав Чехию, германские власти учредили должность рейхспротектора и назначили на неё Константина фон Нейрата, бывшего ранее министром иностранных дел Третьего рейха. Протекторат должен был стать немецкой «кузницей» и «оружейной мастерской» (Германия, опасаясь английских бомбардировок, стремилась отодвинуть стратегически важные промышленные объекты подальше от Атлантики). Чехам отводилась роль мобилизованной рабочей силы. Всякое невоенное производство сворачивалось, были введены продовольственные карточки.
[14] Осенью 1939 года в стране начались волнения, студенческие демонстрации. Вскоре они были жестоко подавлены (см. примечание на с. 124), однако Гитлер всё равно был недоволен фон Нейратом и назначил ему в заместители начальника Главного управления имперской безопасности Рейнхарда Гейдриха, одного из ключевых функционеров своего режима. Тот был не только начальником (по сути — создателем) СД (Sicherheitsdienst Reichsführer (SD) — служба безопасности рейхсфюрера) и гестапо; ему принадлежала решающая роль в разработке и реализации плана уничтожения евреев и цыган. Именно Гейдриху в масштабах рейха подчинялись т. н. айнзатцгруппы, совершавшие массовые казни «расово неполноценных» (а заодно — коммунистов и партизан); по его приказу создавались система еврейских гетто и строились концентрационные лагеря.
[14] В Чехии Гейдрих в полной мере проявил свои незаурядные административные способности. Введя в стране военное положение и за несколько недель ликвидировав чешское сопротивление, он объявил об окончании политических репрессий и о введение мер, улучшающих жизнь «простых чехов»: повысил зарплату и продуктовую норму 2 миллионам рабочих, выделил 200 тысяч пар обуви для людей, занятых в военной промышленности, увеличил рацион сигарет, организовал в реквизированных гостиницах и пансионатах дома отдыха для трудящихся, ликвидировал чёрный рынок. В результате население практически примирилось с немецкой оккупацией.
[14] Видя это, чешское правительство в изгнании (действовавшее в 1938–1945 годах в Лондоне) решает ликвидировать Гейдриха. Расчёт был также на то, что неминуемые после его убийства репрессии оттолкнут чехов от оккупационного режима. В Прагу были заброшены подготовленные англичанами агенты, и 27 мая 1942 года ехавший в открытом автомобиле и без сопровождения (таково было его обыкновение) Гейдрих был смертельно ранен.
[14] Комментарий взят из главы « …и комментарии »
[15] Печкарня — дворец Печека, — здание, где размещалось пражское гестапо.
[16] Генрих, ты любишь меня? ( нем. )
[17] Да, дорогой отец! ( нем. )
[18] Есть ( нем. ).
[19] В книге — голопом ( прим. вычитывающего ).
[20] В книге — мелью ( прим. вычитывающего ).
[21] Подожди, я сейчас приду ( чешск. ).
[22] Сядь за парту и читай ( чешск. ).
[23] Имеешь? ( чешск. )
[24] Есть? ( чешск. )
[25] Не говори! ( чешск. )
[26] Я тебя насквозь вижу. До самого дна. А там у тебя — чёрное пятно! ( чешск. )
[27] Пошли! ( чешск. ).
[28] Тебе тут мало света ( чешск. ).
[29] Оставь его, не шути ( чешск. ).
[30] Так в книге ( прим. вычитывающего ).
[31] Гайдовец — член чешской фашистской партии.
[32] Чехия и Моравия ( нем. ).
[33] Марсельская уха ( франц. ).
[34] Марка чешского вина.
[35] Встать! ( нем. )
[36] Живей, раз-два! ( нем. )
[37] Есть кондитер! ( нем. )
[38] Государственное дело, строго секретное ( нем. ).
[39] Засахаренные каштаны ( франц. ).
[40] Уютом ( нем. ).
[41] Мама ( нем. ).
[42] Кондитер, пожалуйста… Главное командование ( нем. ).
[43] Гурман, особоуполномоченный ( нем. ).
[44] В книге: повалися ( прим. вычитывающего ).
FB2Library.Elements.ImageItem
[45] «В это время гестапо искало человека, убившего Гейдриха и оставившего забрызганный грязью велосипед на широкой улице пражского района Либень».
[45] Объявление обещает 10 миллионов крон за сведения, которые позволят поймать преступника.
[45] Комментарий взят из главы « …и комментарии »
[46] Юлиус, лежа на полу, расплакался: никаких партизан он в глаза не видел, всегда был лояльным, очень лояльным, даже более чем лояльным гражданином протектората «Böhmen und Mähren», а жена его — урожденная Шмидтбергер, и родом она из Судет.
[46] Созданная в 1918 году на руинах Австро-Венгрии Чехословакия включала в себя четыре национальных анклава — немецкий, польский, венгерский, украинский (русинский) — и две сопредельные моноэтнические области — чешскую и словацкую. Так были заложены фундаменты будущих конфликтов, и первый (по времени) из них — судетский (Судеты — область компактного проживания немцев).
FB2Library.Elements.ImageItem
Этнолингвистическая карта Чехословакии 1930-х годов. Изображённый на карте Цешин (на границе Чехословакии и Польши) — это Чешский Тешин, где в 1921 году родился Ашкенази.
[46] Ещё при разделе Австро-Венгрии северные и северо-западные районы будущей Чехословакии (где процент немецкого населения достигал 90, в целом немцы составляли 25 процентов населения Чехословакии) пытались добиться самостоятельности или присоединения к Германии. Тогда властям новорождённого государства удалось пресечь эти попытки, но после прихода Гитлера к власти политические лидеры судетских немцев вновь потребовали объединения с Третьим рейхом. Напряжение постепенно нарастало, и в сентябре 1938 года в Судетах начались крупные беспорядки. Прага ввела там военное положение, а Гитлер заявил, что не потерпит «преступлений» чехов. Франция и Великобритания, связанные с Чехословакией договорами о взаимопомощи, 30 сентября в Мюнхене подписали с Германией соглашение (в советской историографии называемое Мюнхенским сговором), узаконившее аннексию Судет. Гитлер, которому достались не только промышленно развитые и богатые полезными ископаемыми земли, но и самая передовая по тем временам система укреплений, на этом не остановился и в марте 1939-го оккупировал оставшееся беззащитным чешское государство (Словакия в результате этого получила независимость, а венгерский анклав Подкарпатская Русь отошёл Венгрии). Чехия была объявлена германским «протекторатом Богемия и Моравия» («Böhmen und Mähren»).
[46] Комментарий взят из главы « …и комментарии »
[47] «Песнь моя летит с мольбою в тишине ночной…» ( нем. )
[48] Что это происходит со мной? ( нем. )
[49] Нате вам ( нем. ).
[50] Скульптор ( нем. ).
[51] Ну, хорошо ( нем. ).
[52] Художник ( нем. ).
[53] Писарю ( нем. ).
[54] В книге: обртил ( прим. вычитывающего ).
[55] Лови момент ( лат. ).
[56] День, когда нацистские оккупанты распустили высшие учебные заведения в протекторате, арестовали и казнили многих студентов.
[57] http://de.wikipedia.org/wiki/Ludvik_Askenazy
[58] Deutschen Kinderbuchpreis 1977 — Государственная премия ФРГ 1977 года за лучшую детскую книгу («Где лисы играют на дудочке»).
[59] Воинская часть (вначале — батальон, затем — пехотная бригада и, наконец, армейский корпус), сформированная на территории СССР из граждан Чехословакии и воевавшая с начала 1943 года в составе разных фронтов Красной Армии. При этом подчинялась чехословацкому правительству в изгнании и воинскому уставу чехословацкой армии.
[60] Ашкенази — самоназвание евреев Европы (кроме выходцев из Испании, южных областей Франции и Италии). В средневековой еврейской литературе «ашкеназами» назывались евреи — жители Германии.
[61] http://cs.wikipedia.org/wiki/Ludvik_Askenazy
[62] Фильм состоит из четырёх киноновелл. Одна из них — экранизация вошедшего в наше издание рассказа «Голубая искра».
[63] Так выглядит иллюстрация в книге:
FB2Library.Elements.ImageItem
[64] Так указывает сайт www.slovnikceskeliteratury.cz. Видимо, имеется в виду пьеса А.Н. Толстого и П.Е. Щёголева «Заговор императрицы».
[65] Удивительно, но и рождение детей оказалось как-то связано с политикой СССР в Восточной Европе: Индржих родился в год коммунистического переворота в Чехословакии (1948-й), Людвик-младший — в год подавления антикоммунистического восстания в Венгрии (1956-й).
[66] Из книги стихов и фотографий Л. Ашкенази «Чёрная шкатулка» (1964), запланированное издание которой по-русски не состоялось по причине эмиграции автора. Перевод Александра Лейзеровича.
[67] В целом немцы составляли 25 процентов населения Чехословакии.
[68] В советской историографии называемое Мюнхенским сговором.
[69] Victor Klemperer . Ich will Zeugnis ablegen bis zum Letzien. Tagebücher 1933–1945. 2 Bde. Aufbau-Verlag, Berlin. 1995. По-русски см. в книге E. Эткинд . Записки незаговорщика. Барселонская проза. СПб., Академический проект, 2001. С. 442–463.
[70] Sicherheitsdienst Reichsführer (SD) — служба безопасности рейхсфюрера.
Содержание
-
Брут
-
Пер. П.Гуров
-
Псих
-
Пер. П.Гуров
-
Зизи,
-
или Собачья жизнь
-
Пер. П.Гуров
-
Рассказы
-
Дети
-
Пер. Г. Гуляницкая
-
Голубая искра
-
Пер. Г. Гуляницкая
-
Ромео
-
Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер
-
Лебл
-
Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер
-
Пропал кондитер
-
Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер
-
Про Это
-
Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер
-
Бюст
-
Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер
-
Двадцатый век
-
Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер
-
Яичко
-
Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер
-
Послесловие…
-
…и комментарии
Людвик Ашкенази
Собачья жизнь и другие рассказы
Брут
Пер. П.Гуров
«Как это прекрасно — служить человеку! — сказал себе Брут, немецкая овчарка. — Как это возвышенно — носить корзинку. Пойду-ка я помедленнее, чтобы растянуть удовольствие».
Брут неторопливо брёл по улице Гумбольдта на Виноградах. Он рассеянно смотрел прямо перед собой; в зубах у него покачивалась плетёная корзинка, с какой ходят за покупками. В ней лежали два плохо пропечённых рогалика, три сигареты, завёрнутые в «Дер Нейе Таг», и одна скверная, почерневшая гнилая свёкла.
Такая медлительность вовсе не была у него в натуре. Это была преднамеренная, гурманская медлительность. Таким способом Брут продлевал минуты радости. Немало уже написано о собачьей верности, но никто, кажется, ещё не сказал, что верность — это счастье. Кто служит тому, кого любит, тот уже получает свою награду.
В этот ранний час Брут не встречал на улице Гумбольдта ни собак, ни интересных людей; он увидел только клячу почтальона, которая вот уже восемнадцать лет каждое утро стояла у трактира. Кобыла была добродушна, но ещё не смирилась с тем, что постарела, и поэтому всем завидовала. Она завидовала Бруту за его лёгкий бег, за его лёгкую поклажу и вообще за всю его лёгкую жизнь. Она не могла себе представить, как это кто-нибудь от рождения до смерти ходит без почтовой тележки, да к тому же ещё видит обоими глазами сразу. Она смотрела на Брута только левым глазом, а правый устремляла на другой тротуар, завидуя другой собаке.
Около кобылы Брут совсем замедлил шаг; он вызывающе покачал корзинкой, которую держал в зубах, и ещё издали втянул ноздрями запах лошади, чтобы узнать, сколько ей осталось жить. Каждый день он ждал, что она вот-вот подохнет. И втайне надеялся, что это случится около трактира.
Когда-то давно-давно, до войны, когда кобыла была ещё в теле, Бруту приснился сон, что у собак случается очень редко; ему приснилось, будто он во главе своры серых овчарок гонится по снегу за почтовым возком. Они тогда загрызли кобылу почтальона. С тех пор Брут всегда чуял терпкий запах её крови. И стыдился этого, потому что был домашней собакой и жил в семье филолога-латиниста. Он даже знал одно латинское слово — «Брут».
«Когда я миную кобылу, запахнет гуляшом или перцем, — сказал себе Брут. Там можно на минутку остановиться; это единственное место на всей улице, где варят мясо уже к завтраку и при этом не закрывают окна».
Запах живущих там людей был очень хорошо знаком Бруту, и нельзя сказать, чтобы люди эти ему нравились. Он знал, что, когда они с Маленькой во время прогулки проходят мимо, занавеска на окне часто приподнимается; и то, что при этом говорят, похоже на плевок.
В оправдание чувств Брута можно сказать, что за окном, где варили мясо уже к завтраку, жил дворник, который был платным осведомителем гестапо. Брат у него был мясник, а дочку он выдал за богатого крестьянина, так что дом у него был полная чаша, ел он всегда досыта и время от времени на кого-нибудь доносил, лишь бы самому жить спокойно.
«Что бы я сделал, — подумал Брут, — если бы они как-нибудь налили мне тарелку подливки и выставили на тротуар?»
Из врождённой деликатности он не ответил себе на этот вопрос, а только облизнулся и тихонько, про себя, заскулил; он уже давно не наедался досыта, потому что хозяйка его была бедна и жили они голодно. Но он никогда не сердился на неё за это: как все собаки — хотя и не все люди, — он чувствовал, что хороший обед ещё не означает хорошей жизни.
Он стал думать о своей хозяйке и о том, как отдаст ей корзинку. Оставалось пройти ещё три дома и много ступенек. А потом скрипнет дверь, Маленькая кивнёт ему, и этот кивок скажет всё, что может получить собака за принесённую корзинку: что есть на свете война и голод, но есть ещё и любовь и верность.
У каждого этажа был свой запах. На первом жил стоматолог, которого к тому же звали Юлий Цезарь. Мимо этой двери Брут пробегал торопливо и с отвращением: он чувствовал, что там делают больно людям, а может быть, и того хуже — собакам. Через щели, через замочную скважину, через дверной глазок оттуда всё время струились облачка эфира и какой-то странный гнилостный запах. Лишь изредка Брут задерживался здесь — когда в дверь звонили дамы. Он чувствовал к ним симпатию и жалость, которые были отражением его великой любви к Маленькой. Он мысленно предостерегал их, а потом уже поднимался на второй этаж. Там пахло кипячёным молоком и пелёнками.
На третьем этаже царил запах тонкой пыли, какая собирается на книгах, а на четвёртом уже пахло Маленькой — сиреневым мылом, сладким потом и овечьей шерстью, из которой люди ткут материю. И запах этот был как запах шерсти Ливии, матери Брута, которая когда-то в молодости стерегла овец в Калабрии.
Люди мало знают о собачьем сердце; и они мало знают о той великой и благостной силе, которой обладают почесывающие и поглаживающие пальцы и ласковый взгляд. Лишь мгновение смотрел Брут в глаза человека и сейчас же отворачивался, чтобы не увидеть перемены, чтобы сохранить то, что ему дали, унести с собой то, что он получил. Никто лучше собак не знает, как переменчива людская привязанность.
«Сейчас я поскребусь в дверь, — сказал себе Брут. — Сначала только чуть-чуть поскребусь. Если она услышит — тем лучше. Это значит, что она прислушивается, что она ждёт меня. А если не услышит, поскребусь чуточку погромче. И только уж на самый худой конец тявкну. Жаль, что мы, собаки, не можем ни о чём говорить с людьми, а то мы научили бы их по запаху распознавать добро и зло».
Но дверь открыла не Маленькая. На площадку вышел низенький человечек, мятый и пыльный, от которого пахло волглой периной и суррогатным мармеладом; он споткнулся о Брута, которого сперва не заметил, испугался и побежал вниз по лестнице так быстро, что Бруту ужасно захотелось броситься за ним. Он презирал всех, кто его боялся, и узнавал их безошибочно. Но не трогал, потому что их было слишком много.
Он вошёл в дверь, которая так и осталась открытой, и услышал, что Маленькая плачет. Поэтому он понёс прямо к ней рогалики и сигареты — но главное, рогалики, так как предполагал, что чаще всего люди плачут от голода. Как обычно, он сел перед ней и стал смотреть на неё так называемым преданным собачьим взглядом, который на самом деле выражает много больше, чем простую преданность. В нём есть также готовность повиноваться и огромная благодарность за самый малый знак привязанности.
— Благодарю вас, господин пёс, — сказала Маленькая. Глаза у неё были красные.
Тогда он положил корзинку к её ногам и особым собачьим чутьём понял, что тому, жёлтому, от которого пахло волглой периной, не следовало приходить. Он не только боялся, сказал себе Брут, он отвратительно вонял.
Брут не знал, для чего существует бумага, и не умел читать. Он не понимал, что этот человечек был всего только мелким служащим, разносившим смертные приговоры. На пустом кухонном столе возле чашки с желудёвым кофе лежал лист бумаги, на котором было написано:
«Согласно распоряжению Заместителя Имперского Протектора Чехии и Моравии всем лицам, которые до настоящего времени не смогли доказать своё арийское происхождение, запрещается держать домашних животных, а именно: собак, как породистых, так и беспородных, кошек (и котов), а равным образом и обезьян, кроликов, морских свинок, белых мышей, хомяков и других млекопитающих; а также домашнюю птицу, как-то: кур, цесарок, голубей и иных птиц из семейства куриных, а кроме того, попугаев, канареек, колибри, трясогузок, щеглов и прочих птиц; далее — рыб, как аквариумных, так и прочих, а также, буде таковые окажутся в наличии, змей, ящериц, черепах и других пресмыкающихся.
Вышепоименованные животные должны быть сданы в течение 18,19, 20 и 22 чисел сего месяца в центральный приёмник в Трое[1] с получением соответствующей справки.
Настоящее распоряжение издано в удовлетворение настойчивых и многочисленных пожеланий различных обществ по охране животных, а также широких масс населения, уже давно и вполне справедливо требующих положить конец ритуальным убийствам бессловесных животных, а также садизму, содомизму и иным видам жестокого обращения с таковыми.
Подлинный подписал: группенфюрер К.-Г. Франк.
С подлинным верно: доктор юриспруденции Дионизиус Коза-Филипповский».[2]
Илья Бернштейн говорит, что ему нравится возвращать читателям любимые в детстве, но забытые книги. Поэтому он основал в издательстве «Теревинф» серию «Книги для детей и взрослых». На этой неделе вышла одна из них – сборник рассказов чешского писателя Людвика Ашкенази. Его герои – люди и животные, и непонятно, кто из них более человечен. Мы предлагаем вам прочитать три рассказа Ашкенази и послесловие, рассказывающее о судьбе писателя.
Про Это
Она не знала его имени, да тогда это и не имело значения. Она увидела его в лесу, он спал, озарённый мягким предвечерним светом.
Третье военное лето было на исходе.
Ей показалось, что на щеке у него блестит слеза, и это её растрогало. Она смотрела, как он спит, как на его лице густеют тени, а со щеки исчезает не то слеза, не то роса. Сначала она хотела положить ему ромашку на потрепанную шляпу и уйти. Но не ушла, её удержало какое-то терпкое, неведомое ранее томление. Она пригладила его волосы, и тогда этот большой некрасивый человек проснулся, взглянул на нее зелёным глазом и грустно спросил:
— Что ты здесь делаешь, малышка?
И тут она вдруг вспомнила, как вчера у тёмного забора целовались двое и как она им завидовала. И снова её охватило терпкое томление. Она села.
У этой истории начало далеко не так важно, как конец. Может, не следовало рвать ромашку, такую белую в траве,— пожалуй, от этого вся беда, а может, от чего другого. Может, этой Руженке Подольской вообще не следовало родиться. А может быть, и нужно всё это было для чего-то, но для чего?
— Ну, что с тобой, Белоснежка? — спросил незнакомец мягко.
А потом они любили друг друга, как заповедал господь, в этом прелестном уголке среди лопухов, в тёплой ночи. Руженка улыбалась в темноте совсем новой улыбкой, ямочка на щеке у неё углубилась, и каждая жилочка трепетала.
Так и повелось. Незнакомец приходил и уходил, в шляпе или без шляпы, мрачный или просто без улыбки, но Руженке как раз в нём и нравилась эта мрачность. Влюбилась она не задумываясь, по-женски, вся отдавшись любви, но не нашла названия для своей любви. Любовь она называла Это, а того, кто Это вызвал, — Он.
На свиданья она летела, как пчела-работница с ношею меда, и только одно её занимало: что он думал, сказав то-то, и что хотел сказать, посмотрев на неё так-то.
Пухленькой ручкой она гладила его по небритой щеке, по лбу и глазам, стараясь прочесть его мысли, но никогда это ей не удавалось. Порой она колотила маленьким кулачком по его обнажённой груди, словно стучалась в запертый дом,— напрасно. Он засыпал, положив голову ей на колени, а она смотрела на него немножко униженным взглядом и утешала себя:
«Ну зачем расспрашивать его, беднягу, раз он ничего не может сказать мне, неразумной, глупой девчонке? Наверное, он подпольщик, а они тайно поклялись молчать. А я, дура, всё мучаю и мучаю его: как тебя зовут, да кто ты такой? Любишь ли?»
И она успокаивающе и благодарно целовала его некрасивое ухо. А ночью ей снилось, что за домом на склоне у ручья она развешивает детские пелёнки.
Иногда, лежа в его объятиях, она спрашивала:
— Хорошо ли тебе со мной, Тоник? В самом деле хорошо?
Когда он уходил, она чувствовала себя страшно одинокой, ей казалось, будто в ней застряла заноза, но ни за что на свете она не вырвала бы её. Она так и не узнала о нём ничего. Только раз-другой он поминал какое-то имя, а однажды — адрес, но жадная женская память мгновенно запечатлела его. Всё вокруг дышало ароматом тимьяна и еловой смолы. Руженка шептала: «Теперь я знаю, что такое любовь, и никогда больше не нужно мне ни о чём спрашивать».
Потом этот человек стал приходить всё реже и реже. Сначала его не было неделю, потом он пропустил две недели и, наконец, целый месяц. Всякий раз, когда он снова появлялся, он твердил:
— Ни о чём не спрашивай, моя Белоснежка. Если увидишь на нашем камне лист лопуха, значит, я приду. А если его не будет, то жди, пока не увидишь. Ничего не выведывай, Руженка, когда-нибудь всё узнаешь. Всему свое время. И дуться незачем.
Он смотрел в глаза, полные укора, и эти глаза застилало слезами безрассудства и милосердия.
Случилось, что в один из июньских дней имперскому цензору, обер-лейтенанту юридической службы Валлманну, попало в руки письмо, с первого взгляда показавшееся ему подозрительным. В это время гестапо искало человека, убившего Гейдриха и оставившего забрызганный грязью велосипед на широкой улице пражского района Либень.
Обер-лейтенант юридической службы Валлманн подчеркнул толстым красным карандашом несколько фраз подозрительного письма и передал его в надлежащую инстанцию. Присяжный психографолог гестапо на основании почерка дал заключение: умеренно пастозный, в остальном нормально эротический склад характера.
Подчеркнуты были фразы:
«…Никогда я тебя не спрашивала, откуда ты. Разве я тебя спрашивала, Тоник? Милый, я знаю, это письмо большая глупость».
«Я хочу тебя видеть, Тоник, если тебя так зовут. Я до смерти соскучилась, боюсь за тебя…
…Не знаю, правильно ли я написала адрес, он случайно сохранился у меня в памяти. Я сама не знаю, что делаю. Знаю, что писать тебе нельзя, но иначе не могу. Молю бога, чтобы у меня нашлись силы разорвать это письмо. Но где взять эти силы, если я так давно тебя не видела?..»
После короткого, очень несложного расследования была сначала арестована Ружена Подольская, семнадцатилетняя дочь малоземельного крестьянина, по национальности чешка, вероисповедание римско-католическое, постоянное местожительство Лишице, район Кладно. Вслед за ней был арестован Юлиус Шмейкал, двадцати девяти лет, женатый, по национальности чех, вероисповедание римско-католическое, заведующий отделом закупки и продажи кожевенного завода «Утитц и Сыновья», Тройгендер, постоянное местожительство Крочетин, улица Адольфа Гитлера, 216.
Обоих доставили на очную ставку к комиссару доктору Эриху Юргенсу, который лично затребовал дело. Нюх старого криминалиста подсказывал ему, что это ниточка к делу исключительной государственной важности.
Так Руженка Подольская встретилась наконец со своим возлюбленным; только здесь не было ни лопухов, ни еловой смолы.
Она не могла коснуться его, но она его видела, этого ей было достаточно, чтобы быть счастливой. Доктор Эрих Юргенс посадил их друг против друга и в тихом раздумье наблюдал за ними. Его несколько озадачила радость, прячущаяся в ямочке на щеке у допрашиваемой; он встал, обошёл стол и обнаружил, что ямочка есть и на другой щеке. Потом он некоторое время любовался через окно уходящими ввысь сводами собора на противоположной стороне улицы; но в действительности он смотрел только на стекло, в котором отражались лица обоих врагов рейха.
«Девчонка недурна,— размышлял он,— ножки — как у серны; надо стрелять осторожно, эта дичь пуглива. И молоко на губах ещё не обсохло, mein Gott!
А Руженка смотрела на Юлиуса и печально говорила:
— Тоник…
Она радовалась, что они вместе умрут, раз жизнь не удалась, и думала о всякой всячине: о том, как смеются девушки у ручья, о птичьем гнезде в кустах и о том, как кудахчут куры и как подкладывают в плиту поленья. Она верила, что некоторые люди обязательно встретятся на небе. Она до боли стиснула руки и потупила глаза, сжавшись, как виноградная лоза под напором ветра.
«За всё я тебя вознагражу после смерти,— говорила она ему мысленно,— вот когда я буду только твоя, если ты не сердишься на меня за это письмо. А если и сердишься, я всё равно буду твоей».
— Итак,— сказал доктор Юргенс,— приступим к допросу. Я хочу услышать правду, и только правду. Вы писали это письмо, фрейлейн Подольская? Писали. Нет смысла отрицать, у нас есть заключение присяжного графолога. Этого господина вы, конечно, тоже знаете и не будете утверждать обратное, за вами долго следили соответствующие органы. Вам известна его противогосударственная партизанская деятельность? Вы о ней знали? Знали, нет смысла отрицать. Он ночевал иногда в месте вашего постоянного жительства? Ночевал, не будучи там зарегистрирован. Вы знаете, что он соучастник покушения на господина имперского протектора Рейнгардта Гейдриха? Знаете, он вам доверился, не так ли?
Доктор Юргенс произносил все эти слова спокойно и с видом знатока, как старый юбочник, разглядывая белые крепкие икры допрашиваемой Ружены Подольской.
«Буду молчать,— решила она,— буду молчать, как могила. Не скажу ни слова. Подожду, пока заговорит мой дорогой жених. Драгоценный мой».
И тут произошло нечто неожиданное. Этот скупщик кож, Юлиус Шмейкал, вдруг встал, не дожидаясь вопроса, и проворно бросился в ноги комиссару Юргенсу.
Комиссар брезгливо отодвинулся, однако оставил допрашиваемого в лежачем положении, которое не счёл невыгодным для ведения допроса.
Юлиус, лежа на полу, расплакался: никаких партизан он в глаза не видел, всегда был лояльным, очень лояльным, даже более чем лояльным гражданином протектората «Böhmen und Mähren», а жена его — урожденная Шмидтбергер, и родом она из Судет.
— Пан комиссар, — всхлипывал Юлиус, — произошло недоразумение, ужасное недоразумение. Пан комиссар, вы ведь психолог, это сразу видно. Взгляните на меня, пожалуйста. Разве я похож на подпольщика? Взгляните на меня, пан комиссар. Вы знаете, в чём можно притворяться, а в чём нет. Да, я этой барышне кое на что намекал, очень легкомысленно, но только для того, чтобы она меня не особенно расспрашивала. Пан комиссар, у меня ревнивая жена. Если и любовница начнёт ревновать, то что это будет за жизнь? Рейху нужна кожа, но вы, наверное, понятия не имеете, как трудно нынче доставать её…
— Значит, вы утверждаете, — произнёс комиссар, — что встречались с присутствующей здесь Руженой Подольской только с целью внебрачных половых сношений?
— Ах, господи! — воскликнул Шмейкал. — Пан комиссар, вы так прекрасно это выразили, одной фразой! Я не сумел бы так хорошо сказать. Прямо в точку попали, пан комиссар.
— Ты мне зубы не заговаривай, — сказал Юргенс. — Ну, так что же было дальше?
— Пан комиссар, мне нравилась фрейлейн Подольская. Я этого не отрицаю. Она действительно прекрасно сложена. Ради неё я ходил по девять километров туда и обратно. Разве я бы это делал, если бы она того не стоила! Но не мог же я ей рассказывать, что спешу домой к ужину, или что уезжаю закупать кожу, или что у маленького Фанды корь. Это уж не та музыка. Пан комиссар, вы ведь знаете женщин. Для них эта штука куда важнее, чем для нас, только говорить им об этом нельзя. Тогда для них это будет уже не то. Им без этого никакого удовольствия нет, да и самому-то никакой радости не будет, понимаете? Пан комиссар, вы же психолог, незачем вам это… объяснять. Им нужны слова, пан комиссар, слова, вот я и говорил слова. Если каждая перед этим спрашивает: «Любишь меня?» — что же ей ответить?
Заметив, что комиссар Юргенс слушает его с выражением молчаливого и неофициального одобрения, Шмейкал осмелел ещё больше и почти весело продолжал:
— А ещё, пан комиссар, девчонка таскала мне яйца и сало первый сорт. Бывало, я не мог удержаться, отрезывал себе ломтик, вот такой тонкий, да что я говорю, ещё тоньше; а вообще-то я всё относил детям.
— Брось ломать комедию! — заорал вдруг комиссар Юргенс.— Хватит. Где рация? С кем держал связь? Даю тебе пять минут на размышление, если хочешь уйти на своих ногах. Посмотри на меня хорошенько, я не только психолог. Я так тебе морду набью, что и твоя жена, урожденная Шмидтбергер из Судет, не узнает тебя. С кем ты был связан?
Тут взгляд его упал на Ружену Подольскую в платье голубым горошком. И он увидел её детские губы, а на них каплю крови. За спиной Руженки Подольской висела большая карта Европы, утыканная флажками где-то у Дона и Волги, а сверху, чуть вытаращив глаза, смотрел Адольф Гитлер, самый крупный скупщик кож в мире.
За окном горели витражи собора и вместе с пражским гестапо, Юлиусом Шмейкалом, лопухами, тимьяном, вместе с позором и ужасом и белыми икрами девушки вращались вокруг нашего милого солнца.
От Руженки Подольской веяло кладбищенской грустью, а кровь из прикушенной губы капнула на жёлтый казённый стол. Тогда комиссар Эрих Юргенс понял, что Юлиус Шмейкал не лжёт. И он сказал себе, что не пошлёт этого человека на казнь, потому что такой годится в сотрудники.
Несмотря на то что комиссар был действительно хорошим психологом и вдобавок математиком, он и не заметил, как во вселенной всё остановилось на тысячную долю секунды. Раздался плач под звёздами, и была новая безнадёжность во времени, но не вне его. Говорят, это случается на мгновение — даже во время войн, посреди смертей, когда маленькая женщина оплакивает Это: чей-то вечный Искус (впрочем, кто знает, вечен ли он), который начинается Искушением и кончается Испытанием.
Двадцатый век
Такого чемодана вы ещё не видывали: из свиной кожи, облепленный наклейками двадцати одного отеля, двух океанских пароходов и одного кафешантана. Это был жёлтый, поживший, беспутный жуир. Единственным его изъяном был отстреленный угол, через который виднелась полосатая пижама не то ещё что-то. А в общем чемодан имел весьма представительный вид, хотя и ехал в кузове старого разбитого грузовика. Он переносил это как аристократ.
Бог весть откуда взялся такой чемодан у человека при нём. Человек сидел рядом с ним, словно гранд, вытянув длинные тощие ноги. Шляпа у него была потрепанной и лицо тоже. Он был острижен ёжиком,— как видно, не по своей воле. Это придавало ему некоторую замкнутость.
Между тем человек он был, по-видимому, весёлый и даже сумасбродный. Он смотрел на мир с таким восхищением, что его не мешало бы призвать к порядку. Но грузовик ехал довольно быстро, и поэтому никто не мог, да и не хотел этого сделать.
— Я увижу Прагу, я увижу Прагу! — восклицал человек.— Я увижу Прагу. Неужели я увижу Прагу?
А потом он позволил себе уж совершенно ненужную выходку — крикнул пасущемуся стаду:
— Привет, девки! Коровы, я жив! Здорово, бык!
Коровы хранили достоинство. Только самый старый бык посмотрел вслед грузовику и глубоко задумался.
Человек приветствовал всех, особенно животных,— тощую протекторатскую кошку на шоссе, бродячую, перепуганную немецкую овчарку, которая всё ещё скалила зубы,— она-то не капитулировала ещё. Двум маленьким козлятам он помахал потрепанной шляпой. Красные наволочки развевались на верёвке рядом с бязевыми кальсонами, блестели ржавые лужи, отражая зеленоватое небо. Май был молод, Прага — прекрасна.
А полицейский в форме цвета хаки был похож на киноактера Гарольда Ллойда; с ним надо поговорить, раз уж он остановил наш грузовик.
— Что это у тебя за форма? — спросил тощий потрепанный оптимист.
— Чего сейчас болтать о форме, — сказал опереточный полицейский. — Таким, как ты, вообще не следовало бы любопытничать.
— А что, святой Вацлав ещё сидит на мысльбековском коне? — продолжал расспросы неисправимый оптимист. — И хвост у коня по-прежнему завязан узлом?
— Господи, он ещё шутит! — воскликнул полицейский.— Это на перекрёстке, да во время революции! Сейчас каждая минута дорога. Поезжайте, не задерживайте движение, видите — зелёный свет.
— Ай-ай-ай, зелёный свет! — вскричал тощий по своей дурной привычке.— Здорово, зелёный свет!
— Где тебя высадить? — окликнул его шофёр.
— Где хочешь, мне всё равно, — ответил пассажир. — Где тебе удобнее. Я счастлив, что жизнь меня радует. Мне и в голову не приходило, что жизнь ещё может меня радовать. Вот уж не думал! Не верил. Да и не стремился к этому. Вот потому она меня и радует. День добрый, бабуся, куда это вы тащите шубу, ведь май на дворе?
— Да вот хочу вернуть её одной еврейке, но хорошей, — ответила старушка, — мы её уже не ждали.
— Счастливого пути, бабушка! — Это он прокричал ей уже вдогонку. Потом продолжал: —Ну, хорошо, свобода, а дальше что? Нас накормят, а дальше что? Мы получим предписанное количество калорий. Ну, а дальше? Будем сыты. Нет, сразу мы не насытимся, нет, нет. Хорошо, насытимся, — а дальше что? Неужели после того, что было, начнём всё заново — как ни в чём не бывало? И будем носить галстуки? Послушай, будем мы носить галстуки или нет?
— Конечно, будем! — отозвался шофёр. — И бабочки будут носить, и лакировки. Лакировки всю войну носили, и бабочки тоже.
— А скажи, — спросил тощий, — в чём ты спал всю войну? В пижаме?
— А в чём же? — удивился шофёр. — Не в ночной же рубашке, — слава богу, у нас двадцатый век, дружище.
— Да, верно, — сказал человек в кузове, — ты прав. Ведь у нас уже двадцатый век.
Они проезжали под фонарём, на котором висел сгоревший немец.
— Посмотри на эту свинью, какая спесивая рожа, — заметил шофёр. — Так бы и остановился да плюнул ему в физиономию.
— Послушай, — гнул своё потрепанный пассажир, — а носки носили? Носки-то?
«Высадить бы его поскорей, — подумал шофёр, — видно, не в себе человек: то с коровами здоровался, теперь о носках спрашивает. Впрочем, кажется, тихий».
— Начальник, где прикажете вас высадить? — спросил шофёр деликатно.
— Где хочешь, — ответил пассажир. — Где угодно. Хотя бы здесь. Лишь бы там был двадцатый век.
Остановились за перекрёстком. Тощий слез, шофёр подал ему аристократический чемодан из свиной кожи. Из чемодана выкатилось несколько подгнивших картофелин.
Наш неисправимый оптимист махнул на них рукой и пошёл. Он вежливо здоровался со встречными, снимая шляпу. Его голубые глазки светились удовлетворением, а ноздри жадно втягивали пражский воздух.
Он шёл длинными шагами; шаги становились всё длиннее и длиннее. На чемодане было написано мелом: «Отель Маутхаузен». Потом он вместе с чемоданом пустился бежать, и бежал, пока хватило дыхания, а его хватило ненадолго… Поэтому он скоро остановился, а остановившись, сообразил, что ему, собственно, некуда деть этот чемодан. Некуда идти.
Тогда он оставил чемодан посреди улицы и с пустыми руками побежал навстречу второй половине двадцатого века.
Яичко
У нас бывает немало приятелей, с которыми мы встречались только мимоходом. Они случайно промелькнули в нашей жизни, сыграли свою небольшую роль и исчезли со сцены. Произнесли, к примеру: «Граф был ранен на дуэли» или «Алёнка посылает вам сердечный привет, а больше я ничего не могу сказать». При этом многозначительно улыбнулись, или украдкой вздохнули, или просто тактично удалились, прямые и корректные.
В жизни каждого есть герои и статисты. Нам не суждено знать их подлинную роль. Тот, кого мы считали героем, часто оказывается статистом; какая-нибудь мелочь иной раз оборачивается судьбой.
Жил человек по фамилии, скажем, Покштефл. Ходил до войны в гимназию, и даже в классическую, и посему полагал, что смыслом жизни является знаменитое изречение carpe diem. Других латинских изречений он не помнил, но зато урывал от жизни сколько мог. Он легко и бурно развлекался за чужой счет; больше всего ему нравилось звонить по телефону незнакомым людям и дурачить их. Например, выдавал себя за контролера телефонной сети и заставлял простодушных старушек, которые были дома одни, измерять сантиметром телефонный провод от стены до аппарата.
А если он был в плохом настроении, то звонил от похоронного бюро и сообщал о доставке резного гроба тому, кто поднимал телефонную трубку. Он говорил:
— Ну, гроб мы вам отправляем, натягивайте саван, ложитесь и ждите.
Или объявлял:
— Будьте любезны явиться завтра в семь часов утра на Стршелецкий остров вместе с вашим попугаем. Вам обоим в обязательном порядке будет сделана прививка. Благодарю вас.
Но одному владельцу телефонного аппарата он особенно докучал. Звали его Эдуард Петушок, и был он, как тогда говорили, частновладельцем. Каждую неделю по пятницам, в три часа дня, происходил телефонный разговор такого содержания:
— Здравствуйте!
— Здравствуйте.
— Скажите, пожалуйста, пан Курочка дома?
— О нет,— отвечал после небольшой паузы интеллигентный голос.— У телефона Эдуард Петушок.
— Так, значит, Курочки нет дома? — удивлялся каждый раз паренёк.— А она снесла вам вчера яичко?
— Нет, не снесла, — вежливо отвечал спокойный голос. — А вы, пан гимназист, любите яички?
— Терпеть не могу, — заявлял паренек. — Очевидно, я не туда попал.
Покштефл вешал трубку и потом целую неделю с радостью предвкушал, как он снова позвонит пану Петушку в следующую пятницу, в три часа дня, и попросит к телефону пана Курочку.
Пан Эдуард Петушок всегда был неизменно вежлив и спокоен. Он ни разу не назвал гимназиста бездельником, или озорником, или, что ещё хуже, молодым человеком. Телефонную трубку он всегда клал очень деликатно.
Наш паренек жил и, следовательно, взрослел. Он успешно преодолел переходный возраст, пору возмужания и, наконец, сдал экзамены на аттестат зрелости и поступил в университет. У него появился сочный, прямо-таки чарующий баритон. Каждое утро он брился.
А мир, имевший на него неведомые виды, продолжал независимо развиваться.
Вскоре посыпались первые бомбы. Это было в Польше.
Потом наступило 17 ноября 1939 года, и пан Петушок напрасно ждал телефонного звонка в пятницу в три часа. Короче говоря, из концлагеря не позвонишь. Так что наш молодой человек исправился хоть в этом смысле.
Всё, что с ним произошло,— тема для другого рассказа или романа. Отчасти ему повезло, отчасти он сумел приспособиться, такой уж он был пройдоха. Он выжил.
Вернулся он в Прагу 11 мая, в пятницу, без десяти минут три. И сказал себе:
— Вместо того, чтобы придумывать, как начинать жизнь заново… всё равно ничего не придумаю… вместо того, чтобы ломать себе голову над этим, начну-ка я с того, что позвоню пану Петушку. Это единственный номер, который я помню.
Он вошёл в будку автомата — ещё серого военного цвета. Рука у него дрожала, но тут уж ничего не поделаешь. На лице у него появилось прежнее выражение лукавого озорства и ехидного злорадства. Он набрал номер.
— Здравствуйте!
— Здравствуйте.
— Скажите, пожалуйста, пан Курочка дома? — произнёс он и чуть не заплакал.
На другом конце провода долго молчали, а потом воскликнули:
— Значит, ты жив, озорник? Это же замечательно!
— Жив, пан Петушок, — сказал бывший студент и тут только почувствовал, что к нему возвращается жизнь. Он понял это по учащённому пульсу и по душившей его радости. Он услышал, как поёт его тело,
— Должна же у вас быть где-то курочка, — сказал он. — Не снесла ли она вам вчера к завтраку яичко?
— Как же, снесла, снесла! — проговорил старый пан Петушок.— Вчера снесла, негодница. Чудесное белое яичко. Приходите, пан озорник, я сварю вам его всмятку!
Вот и всё, — а впрочем, кто знает?
Послесловие…

По-русски о Людвике Ашкенази (1921–1986) прочитать в общем-то негде. Есть советское издание 1967 года с предисловием Инны Абрамовны Бернштейн, представлявшим скорее книгу, чем её автора. Ещё – несколько случайных текстов в Интернете. Даже Википедия, где, казалось бы, есть статьи решительно обо всём, про автора «Собачьей жизни» сообщает огорчительно мало. Во всяком случае, русская, английская и даже чешская. В немецкой Wikipedia статья гораздо содержательнее (что неудивительно – после чехословацких событий 1968 года Ашкенази эмигрировал в Германию, много там писал, получил немецкую литературную премию). Автор этой статьи особо отметил отсутствие в творчестве Ашкенази чёткой границы между «взрослой» литературой и книгами для детей. И это её свойство определило наш издательский выбор. То есть, конечно, важнее всего то, что «Собачья жизнь» – прекрасная книга большого писателя, что её точность и художественную достоверность можно мерить самой строгой меркой, что рассказывает она о страшной войне, о любви, о человеческом достоинстве, вообще о человеке – о высотах, на которые ему дано взойти, и о низости, до которой он может опуститься. Но всё же важно и то, что эту книгу можно адресовать людям любой житейской и читательской искушённости (начиная примерно с отроческого возраста). И этот сопроводительный текст написан составителем серии «Книги для детей и взрослых» также в расчёте на всех – и читателей, считающих научный аппарат (постраничные сноски, комментарии, преди- и послесловие) обязательным атрибутом хорошей книги, и тех, кто все эти дополнительные тексты пролистывает не читая; на людей, ощущающих Вторую мировую войну как нечто непосредственно их касающееся, и тех, кто видит в ней лишь прошедшее историческое событие.
Ашкенази эта война не просто коснулась; она объяла его со всех сторон. Он был её солдатом (львовский студент-славист, интернированный в Казахстан после вхождения в Западную Украину советских войск, он в 1942 году вступил в Отдельный чехословацкий пехотный батальон и с боями дошёл до родины), причём солдатом-победителем; но был и её жертвой – сама его фамилия предопределяет невозможность остаться в стороне от трагедии европейского еврейства. Рассказы «Собачьей жизни» – свидетельства не только таланта и мастерства рассказчика, но и глубины пережитой им душевной травмы. Как бы ни был успешен в послевоенной жизни столь травмированный человек (или даже не человек, а просто живое существо) – война никогда не снимет его с учёта («Псих»).
Победитель и жертва, точнее – жертва-победитель, – постоянный объект (и субъект) писательского исследования Ашкенази. Его герои побеждают не на поле брани и без оружия в руках; их победа – это сохранение человеческого в бесчеловечных обстоятельствах. Категорию же «человеческого» составляет, по Ашкенази, не только высшие проявления духа – любовь, сочувствие, благородство, – но и людские слабости: противостоять изуверству удаётся и чревоугоднику («Пропал кондитер»), и телефонному хулигану («Яичко»).
Автор (тогда ещё будущий) этих рассказов вполне соответствовал определению «успешный в послевоенной жизни человек». Он был лояльным журналистом (писал, не выходя за пределы «коммунистической идеологии и актуальных сталинистских штампов»), радиокомментатором, побывал в Германии, Италии, Индии, Японии, США. В 1955 году издана первая его книга, не проходившая по разряду публицистики: «Детские этюды» сразу сделали Ашкенази популярным писателем. Затем пришёл успех и к Ашкенази-кинодраматургу: так, в снятом по его сценарию в 1959 году советско-чехословацком фильме «Майские звёзды» звёздным было всё – и название, и режиссёр (Станислав Ростоцкий, автор «Доживём до понедельника» и «А зори здесь тихие»), и актёры (Вячеслав Тихонов, Леонид Быков, Николай Крючков). Другой фильм Ашкенази-сценариста – «Крик» – в 1964 году участвовал в конкурсной программе Каннского фестиваля.
Связь Ашкенази (после львовских штудий успевшего поработать учителем русской словесности в казахстанском посёлке Берчогур) с советской литературой несомненна. Особенно это относится к его драматургии (уже не кино-): так, пьеса «Императорский королевский государственный жених» написана по мотивам повести Юрия Тынянова «Поручик Киже», а «Распутин» – по А.Н. Толстому. Столь же очевидна связь его личной судьбы с советской внешней политикой. Дважды он видел советские танки, незваными гостями утюжащие мостовые его города. И каждый раз за этим следовала радикальная перемена места жительства, проще говоря – бегство. По иронии судьбы первый раз он бежал от немцев, а второй (в 1968-м) – к немцам: после краха «Пражской весны» Ашкенази с семьёй (женой Леонией – дочерью классика немецкой литературы Генриха Манна – и сыновьями Индржихом и Людвиком) поселяется в Мюнхене. Книги его изымаются из чешских библиотек, имя предаётся забвению… Всё по правилам социалистической культуртрегерской практики.
Писатель между тем спокойно живёт и работает в Германии; практически ежегодно выходят его новые книги (в основном – детские), продолжается карьера драматурга и сценариста. В 1976-м вновь меняется его адрес: Ашкенази переезжает в итальянский Больцано, где десять лет спустя завершает свой земной путь.
Собачья жизнь и другие рассказы Людвика Ашкенази
перевели на русский язык Павел Гуров, Г. Гуляницкая, В.Н. и Н.А. Вагнер,
проиллюстрировал Тимофей Яржомбек,
оформил и прокомментировал Илья Бернштейн,
в 2009 году при участии Леонида Лернера
подготовило к печати издательство «Теревинф»,
напечатала тиражом 2000 экземпляров
типография «ИПК Ульяновский дом печати»
Людвик Ашкенази
Собачья жизнь и другие рассказы
Брут
Пер. П.Гуров
«Как это прекрасно — служить человеку! — сказал себе Брут, немецкая овчарка. — Как это возвышенно — носить корзинку. Пойду-ка я помедленнее, чтобы растянуть удовольствие».
Брут неторопливо брёл по улице Гумбольдта на Виноградах. Он рассеянно смотрел прямо перед собой; в зубах у него покачивалась плетёная корзинка, с какой ходят за покупками. В ней лежали два плохо пропечённых рогалика, три сигареты, завёрнутые в «Дер Нейе Таг», и одна скверная, почерневшая гнилая свёкла.
Такая медлительность вовсе не была у него в натуре. Это была преднамеренная, гурманская медлительность. Таким способом Брут продлевал минуты радости. Немало уже написано о собачьей верности, но никто, кажется, ещё не сказал, что верность — это счастье. Кто служит тому, кого любит, тот уже получает свою награду.
В этот ранний час Брут не встречал на улице Гумбольдта ни собак, ни интересных людей; он увидел только клячу почтальона, которая вот уже восемнадцать лет каждое утро стояла у трактира. Кобыла была добродушна, но ещё не смирилась с тем, что постарела, и поэтому всем завидовала. Она завидовала Бруту за его лёгкий бег, за его лёгкую поклажу и вообще за всю его лёгкую жизнь. Она не могла себе представить, как это кто-нибудь от рождения до смерти ходит без почтовой тележки, да к тому же ещё видит обоими глазами сразу. Она смотрела на Брута только левым глазом, а правый устремляла на другой тротуар, завидуя другой собаке.
Около кобылы Брут совсем замедлил шаг; он вызывающе покачал корзинкой, которую держал в зубах, и ещё издали втянул ноздрями запах лошади, чтобы узнать, сколько ей осталось жить. Каждый день он ждал, что она вот-вот подохнет. И втайне надеялся, что это случится около трактира.
Когда-то давно-давно, до войны, когда кобыла была ещё в теле, Бруту приснился сон, что у собак случается очень редко; ему приснилось, будто он во главе своры серых овчарок гонится по снегу за почтовым возком. Они тогда загрызли кобылу почтальона. С тех пор Брут всегда чуял терпкий запах её крови. И стыдился этого, потому что был домашней собакой и жил в семье филолога-латиниста. Он даже знал одно латинское слово — «Брут».
«Когда я миную кобылу, запахнет гуляшом или перцем, — сказал себе Брут. Там можно на минутку остановиться; это единственное место на всей улице, где варят мясо уже к завтраку и при этом не закрывают окна».
Запах живущих там людей был очень хорошо знаком Бруту, и нельзя сказать, чтобы люди эти ему нравились. Он знал, что, когда они с Маленькой во время прогулки проходят мимо, занавеска на окне часто приподнимается; и то, что при этом говорят, похоже на плевок.
В оправдание чувств Брута можно сказать, что за окном, где варили мясо уже к завтраку, жил дворник, который был платным осведомителем гестапо. Брат у него был мясник, а дочку он выдал за богатого крестьянина, так что дом у него был полная чаша, ел он всегда досыта и время от времени на кого-нибудь доносил, лишь бы самому жить спокойно.
«Что бы я сделал, — подумал Брут, — если бы они как-нибудь налили мне тарелку подливки и выставили на тротуар?»
Из врождённой деликатности он не ответил себе на этот вопрос, а только облизнулся и тихонько, про себя, заскулил; он уже давно не наедался досыта, потому что хозяйка его была бедна и жили они голодно. Но он никогда не сердился на неё за это: как все собаки — хотя и не все люди, — он чувствовал, что хороший обед ещё не означает хорошей жизни.
Он стал думать о своей хозяйке и о том, как отдаст ей корзинку. Оставалось пройти ещё три дома и много ступенек. А потом скрипнет дверь, Маленькая кивнёт ему, и этот кивок скажет всё, что может получить собака за принесённую корзинку: что есть на свете война и голод, но есть ещё и любовь и верность.
У каждого этажа был свой запах. На первом жил стоматолог, которого к тому же звали Юлий Цезарь. Мимо этой двери Брут пробегал торопливо и с отвращением: он чувствовал, что там делают больно людям, а может быть, и того хуже — собакам. Через щели, через замочную скважину, через дверной глазок оттуда всё время струились облачка эфира и какой-то странный гнилостный запах. Лишь изредка Брут задерживался здесь — когда в дверь звонили дамы. Он чувствовал к ним симпатию и жалость, которые были отражением его великой любви к Маленькой. Он мысленно предостерегал их, а потом уже поднимался на второй этаж. Там пахло кипячёным молоком и пелёнками.
На третьем этаже царил запах тонкой пыли, какая собирается на книгах, а на четвёртом уже пахло Маленькой — сиреневым мылом, сладким потом и овечьей шерстью, из которой люди ткут материю. И запах этот был как запах шерсти Ливии, матери Брута, которая когда-то в молодости стерегла овец в Калабрии.
Люди мало знают о собачьем сердце; и они мало знают о той великой и благостной силе, которой обладают почесывающие и поглаживающие пальцы и ласковый взгляд. Лишь мгновение смотрел Брут в глаза человека и сейчас же отворачивался, чтобы не увидеть перемены, чтобы сохранить то, что ему дали, унести с собой то, что он получил. Никто лучше собак не знает, как переменчива людская привязанность.
«Сейчас я поскребусь в дверь, — сказал себе Брут. — Сначала только чуть-чуть поскребусь. Если она услышит — тем лучше. Это значит, что она прислушивается, что она ждёт меня. А если не услышит, поскребусь чуточку погромче. И только уж на самый худой конец тявкну. Жаль, что мы, собаки, не можем ни о чём говорить с людьми, а то мы научили бы их по запаху распознавать добро и зло».
Но дверь открыла не Маленькая. На площадку вышел низенький человечек, мятый и пыльный, от которого пахло волглой периной и суррогатным мармеладом; он споткнулся о Брута, которого сперва не заметил, испугался и побежал вниз по лестнице так быстро, что Бруту ужасно захотелось броситься за ним. Он презирал всех, кто его боялся, и узнавал их безошибочно. Но не трогал, потому что их было слишком много.
Он вошёл в дверь, которая так и осталась открытой, и услышал, что Маленькая плачет. Поэтому он понёс прямо к ней рогалики и сигареты — но главное, рогалики, так как предполагал, что чаще всего люди плачут от голода. Как обычно, он сел перед ней и стал смотреть на неё так называемым преданным собачьим взглядом, который на самом деле выражает много больше, чем простую преданность. В нём есть также готовность повиноваться и огромная благодарность за самый малый знак привязанности.
— Благодарю вас, господин пёс, — сказала Маленькая. Глаза у неё были красные.
Тогда он положил корзинку к её ногам и особым собачьим чутьём понял, что тому, жёлтому, от которого пахло волглой периной, не следовало приходить. Он не только боялся, сказал себе Брут, он отвратительно вонял.
Брут не знал, для чего существует бумага, и не умел читать. Он не понимал, что этот человечек был всего только мелким служащим, разносившим смертные приговоры. На пустом кухонном столе возле чашки с желудёвым кофе лежал лист бумаги, на котором было написано:
«Согласно распоряжению Заместителя Имперского Протектора Чехии и Моравии всем лицам, которые до настоящего времени не смогли доказать своё арийское происхождение, запрещается держать домашних животных, а именно: собак, как породистых, так и беспородных, кошек (и котов), а равным образом и обезьян, кроликов, морских свинок, белых мышей, хомяков и других млекопитающих; а также домашнюю птицу, как-то: кур, цесарок, голубей и иных птиц из семейства куриных, а кроме того, попугаев, канареек, колибри, трясогузок, щеглов и прочих птиц; далее — рыб, как аквариумных, так и прочих, а также, буде таковые окажутся в наличии, змей, ящериц, черепах и других пресмыкающихся.
Вышепоименованные животные должны быть сданы в течение 18,19, 20 и 22 чисел сего месяца в центральный приёмник в Трое[1] с получением соответствующей справки.
Настоящее распоряжение издано в удовлетворение настойчивых и многочисленных пожеланий различных обществ по охране животных, а также широких масс населения, уже давно и вполне справедливо требующих положить конец ритуальным убийствам бессловесных животных, а также садизму, содомизму и иным видам жестокого обращения с таковыми.
Подлинный подписал: группенфюрер К.-Г. Франк.
С подлинным верно: доктор юриспруденции Дионизиус Коза-Филипповский».[2]
«Как хорошо я сделал, — сказал себе Брут, — что не потерял ни одного рогалика, и свеклу тоже. Как это возвышенно — носить корзинку для Маленькой и делать так, чтобы она переставала плакать».
— Тут пишут о тебе, — сказала Маленькая тихо и немножко хрипло. — Ты ведь знаменитая собака, о тебе будет теперь заботиться сам Протектор.
И по её голосу Брут понял, что на самом деле она вовсе и не переставала плакать, а там, внутри, плачет всё сильней и сильней.
На следующее утро Брут получил ливерную колбасу. Он знал о ней уже два дня и радовался, что в воскресенье устроится под столом и будет ждать, чтобы ему бросили шкурку. А теперь она лежала перед ним вся, пахнущая салом, солью и майораном, длинная, толстая, вызывающая и в то же время покорная. «Она так чудесна, — подумал Брут, — что сначала я потрогаю её носом. Потом надкушу двумя зубами, чуть-чуть прорву шкурку и оставлю. Подожду, пока не вывалится кусочек начинки, потом лизну его и опять подожду».
Он и выдерживал характер — пока не надкусил шкурку. Потом запил колбасу водой, лёг у печки и стал смотреть, как Маленькая одевается перед зеркалом. Он видел, что их две, но чувствовал, что запах есть только у одной. И знал, что та, другая, в зеркале, — не настоящая, но всё равно любил её, хотя и удивлялся, что она идёт влево, когда настоящая — вправо, и сердился на неё, когда она покидала настоящую.
«Я-то её никогда не покину, — говорил он себе, — и, пока она захочет, буду ей принадлежать. И даже если не захочет, всё равно буду ей принадлежать».
Он смотрел, как Маленькая завязывает платок, под которым исчезли светлые кудри и розовые уши с крохотными серёжками.
Потом колбаса одолела его, и он уснул, а когда проснулся, Маленькая сидела около него на полу, скрестив ноги, и говорила ему всякие слова, и была немножко новой, а немножко — совсем-совсем прежней, как в те дни, когда его принесли к ней ещё щенком.
Одно слово было — «дурашка». Другое — «мохнатенький». А третье — «волчик».
Он совсем ошалел от счастья и не пытался понимать её, а только слушал. Он знал, что у людей важны не столько слова, сколько тон, которым они произносятся, что люди умеют говорить длинные слова ничего не значащим голосом, а короткие, которые сами по себе ничего не значат, — голосом тяжёлым и страдальческим, а иногда лёгким, как пенье жаворонка.
«Чего ты хочешь, милая, маленькая? — спрашивал Брут влажными глазами, весь трепеща от радости. — Как чудесно, что ты сидишь рядом со мной, раскинув по полу пахнущую овцой юбку! Как великолепно всё, что надето на тебе, и как изящно! Как чиста твоя кожа и как белы твои зубы! Как вкусна была твоя колбаса — много лучше рогаликов, которые принёс тебе я!»
Потом он ощутил в шерсти за ушами кончики её пальцев, блаженно застонал и закрыл глаза, чувствуя, что ни одна собака в мире не может быть счастливее.
А потом они шли в приёмник: Маленькая в платке, а немецкая овчарка Брут в наморднике — его проволока холодила чувствительный собачий нос. Брут искоса посматривал на хозяйку и вертел хвостом, который специалисты называют флагом. И некоторое время они так и шли с поднятым флагом, словно это была не прогулка, а манифестация.
Ещё на их улице Маленькую остановил дворник, у которого уже к завтраку варили гуляш. И завёл с ней откровенный разговор о жизни. Это было его любимое занятие и любимый способ ловли жертв.
— Вы меня знаете, сударыня, — сказал он. — А я ещё помню вашу покойную матушку, как она ходила к вам по субботам. Когда ещё тут жил пан профессор. Эх, если бы тогда знать, до чего мы доживём в нашей родной Чехии, да я бы, сударыня, первым пустил себе пулю в лоб!
— Мне пора идти, пан Пакоста, — сказала Маленькая. И в самом деле двинулась было дальше.
— Я мог бы привести вашу собачку обратно, — торопливо зашептал Пакоста. — Но это обойдётся в две косых — и то только для вас, пани Вогрызкова, мы же соседи. Они-то, эти немцы, они ведь все… хапен зи гевезен. К ним только надо уметь подойти.
Но тут дворник поспешил распрощаться, потому что Брут даже в наморднике производил на него не очень приятное впечатление.
Чем дальше они шли, тем больше попадалось им собак; а город вонял юфтью и бензином.
В ворота центрального приёмника, словно в Ноев ковчег, вливался поток всяких животных. И как в Ноев ковчег, они шли парами, только вторым в каждой паре был грустный человек. Больше всего было собак: шпицы, дворняжки, пудели всяческих пород — карликовые, большие и шнуровые; гончие, сеттеры, фокстерьеры — длинношёрстые, короткошёрстые и жесткошёрстые, мальтийские и японские пинчеры, пекинские болонки и виноградские спаньели; были тут даже одна маленькая люцернская гончая, вестфальский волкодав, шотландская борзая и крапчатый далматский дог, пёстрый, как праздничный галстук.
Испуганно пищали в клетках канарейки, попугаи поглядывали вокруг хмурыми стариковскими глазами, золотые рыбки нервно метались в аквариумах от стенки к стенке. И над всем этим стоял неумолчный шум.
Раздавались лай и мяуканье, чириканье и писк — и старый чиновник, заведовавший регистрацией домашних животных, окидывал генеральским оком всю эту толпу евреев и их живность. И с горечью говорил себе: «Надо же — как не повезло! Ведь в апреле-то я был бы уже на пенсии».
Потом вспомнил военные учения в Младой Болеславе и решил внести в этот хаос хоть какое-то подобие военного порядка.
— Становитесь попарно! — закричал он громким фельдфебельским голосом. — Собаки к собакам налево, кошки к кошкам в противоположный угол, птицы впереди, рыбы сзади, остальная мелюзга — ждать на тротуаре. Имя и фамилию, пожалуйста! Адрес и вероисповедание не нужно, и без лишних разговоров. И приготовить родословные — только для собак.
И он сел за дощатый стол под открытым небом, которое выгнулось над ним, как выкрашенный синей краской свод огромной канцелярии.
Самыми недисциплинированными оказались собаки. Они не были знакомы и обязательно должны были обнюхать друг друга. Проделывали они это очень церемонно и с большим увлечением. Обнюхивались главным образом уши, пах и зад. Брут нашёл только одну суку, которую счёл достойной себя. И сразу же недвусмысленно дал ей это понять. Сукой этой оказалась упомянутая уже крапчатая далматинка, собака весьма утончённая, с изящными томными движениями.
— Что тут происходит? — спросил её Брут коротким тявканьем.
— Не обращай на всё это внимания, — ответила далматинка, — а поухаживай за мной. Ну поторопись, я жду!
А длинная очередь неполноценных владельцев домашних животных всё текла и текла мимо грубо сколоченного стола, за которым восседал чиновник пражской магистратуры. В этот момент перед ним стояла маленькая старушка с немного скованными движениями; она была в праздничном платье, в шляпе с кокетливой вуалеткой, а на её щеках пылал огонь искусственного румянца.
— Ему уже сто тридцать седьмой год, — говорила она чиновнику, — и он всегда ел точно в семь, в двенадцать и в шесть часов. Если бы вы были так любезны записать это для имперских властей, они могли бы оценить подобную аккуратность.
А её старый, зелёно-жёлтый и столь бесконечно опытный попугай глядел из клетки стеклянными глазами, такими пустыми, что, видимо, только он один и понимал весь ход истории; медленно подняв голову, он выкрикнул почти человеческим голосом:
— Мешигене юдине, verrückt![3]
И потом молча смотрел, как его позолоченную клетку поставили в ряд с шестнадцатью другими клетками.
Старушка засеменила от стола и, только очутившись на улице, заплакала, прижимая к лицу батистовый платок. И таинственными знаками стала издалека давать попугаю какие-то инструкции относительно его дальнейшей жизни. Ей не хотелось возвращаться к себе: видно, она давно уже не выходила из дому, и всё это было для неё значительным и волнующим событием. Она даже начала утешать других грустных женщин, особенно бездетных.
— Никто не принесёт вам столько радости, как домашнее животное, — говорила она им. — Ведь от человека никогда не знаешь, чего ждать.
После двух ехидных такс и одной надменной, капризной и злобной ангорской кошки подошла очередь немецкой овчарки Брута. Он обнюхал стол и установил, что кто-то долго хранил в нём печёночный паштет. Потом исследовал чиновника, но тот не произвёл на него особого впечатления. И наконец с удовольствием отбежал к ограде, где его уже ждала изысканная далматинка. С Маленькой он не попрощался — он знал, что такое прощанье, но сейчас не видел для него никаких оснований.
А Маленькая, которая пережила уже много прощаний и разлук, помогла одному старичку разнять двух попугайчиков, неожиданно сцепившихся не на жизнь, а на смерть, и подождала, не оглянется ли на неё Брут. Она даже позвала его, но он не услышал, потому что вокруг стоял громкий крик. Тогда она ушла — без того сосущего ощущения где-то под ложечкой, которым обычно сопровождается горькое расставание, ушла, постукивая высокими каблучками и немножко презирая себя за одну унизительную мысль: она подумала, как хорошо было бы поджарить к ужину колбасу, которую съел Брут.
На самом деле её вовсе не звали Маленькой. Её настоящее имя было Ружена Вогрызкова, и у неё была скобяная лавка на Либеньском острове. Потом она вышла замуж за профессора классической филологии, и не очень удачно. Он ценил в ней классический профиль, а она в нём — несколько педантичную любовь к Ружене Вогрызковой. А потом настал день, когда она ушла от него, — и это во время войны, когда совсем уж неразумно было уходить от мужей, хотя бы и совершенно никчёмных, но всё-таки с безупречным происхождением. И вместе с ней ушёл Брут, немецкая овчарка с великолепной родословной. Хотя вряд ли прилично это подчеркивать, но она уважала Брута гораздо больше, чем профессора классической филологии, — за его преданность, за крепкие мышцы и за скрытую хищность. Кроме того, она всегда немножко его побаивалась, но не показывала вида, и это ещё больше укрепляло их отношения.
Первую ночь без Маленькой Брут провёл спокойно. Правда, перед сном он проделал то, что делал только щенком и больше никогда; прежде чем лечь, он несколько раз покрутился на месте — по обычаю своих далёких предков, которые приминали таким способом высокую степную траву. Наверное, он поступил так потому, что ночь была лунная и он впервые после долгого времени ночевал под открытым небом и среди других собак.
Он лежал рядом с далматинкой и грел её, потому что шерсть у него была длиннее и гуще. Спал он из-за яркого лунного света вполглаза и всё время настороженно принюхивался, стараясь разобраться во всех долетающих до него запахах и найти среди них те, которые знал и любил. Но этих запахов не было и в помине.
Когда начало светать, некоторые собаки завыли — не от тоски и ещё не от голода, а просто от скуки; Брут не присоединился к их хору, но слушал его с удовольствием, чувствуя, что по его телу словно пробегает незнакомый, странный, дразнящий и возбуждающий ток.
В этом хоре был и призыв, и вызов, и побуждение.
Но Брут знал, что всё это — городские собаки, а один фокстерьер был даже с той улицы, по которой он каждый день ходил за рогаликами. Он знал, что этого фокстерьера вовсе не манят дали. А ему самому в эту ночь опять снилась кобыла почтальона, он глухо ворчал и взлаивал, и далматинка всем телом прижималась к его боку.
Остальные животные молчали, только одна надоедливая канарейка, чью клетку некому было прикрыть, пускала трели — больше по привычке, чем от радости.
Утром пришли первые получатели; прежние собственники поторопились подыскать их ещё ночью. Чиновник не устраивал им никаких затруднений; он проверял удостоверение личности и без долгих разговоров выдавал всякую мелюзгу, заставляя только расписываться в книге. Если кто-нибудь приходил во второй раз, он смотрел на это сквозь пальцы, лишь бы поскорей избавиться от всей этой живности.
Так по очереди исчезли все канарейки, рыбки, попугаи, кошки и пинчеры. Остались лишь большие собаки. Им была уготована иная карьера — они должны были пройти полицейскую выучку. Несмотря на их длительный контакт с неполноценной расой, Империя намеревалась вернуть им своё доверие.
На третий день Брут внезапно похолодел при мысли, что он никогда уже больше не увидит Маленькую. Но он отогнал эту мысль, как отгонял мух, одним движением хвоста. Всю вторую половину дня он лаял, отчаянно и яростно, так что сорвал голос и у него пересохло в горле. Он лаял долго и упорно, как никогда в жизни, и сам этому удивлялся. Но он знал, что собакам от тоски лучше лаять, чем скулить, потому что лай выходит наружу, а скулёж остаётся внутри.
Новый хозяин Брута пришёл одним из первых. Под мелким неприятным дождем, весь словно обвешанный клоками серой мглы, во двор вошёл низенький офицер с белым лицом альбиноса и выпуклыми глазами, которые всегда были устремлены в одну к ту же точку где-то на уровне колен, но тем не менее всё видели и всё замечали. В нём не было ничего особенно уродливого и ничего особенно красивого — один из тех, на кого не обратишь внимания ни в толпе, ни в пустом кафе. Бросались в глаза только губы — пухлые, немного похожие на девичьи и всегда сложенные в трубочку, словно он собирался свистнуть. Это, наверное, объяснялось тем, что он уже много лет занимался обучением собак.
Брут обнюхал его плащ — он был из кожи яловой коровы. Офицер принял это вполне доброжелательно, погладил его по спине, от ушей до хвоста, потом ласково, но профессионально пощупал мышцы на груди и плечах и сказал неожиданно тонким голосом:
— Tschüs, Hündchen, wie hieß denn dein Jude? Muneles oder Tzitzes? Oder Toches?[4]
Брут оскалил зубы, и немец засмеялся. Он подозвал чиновника и быстро выполнил все необходимые формальности.
Чиновник, сам бывший солдат, почувствовал в нём старую казарменную шкуру и сделал ему уступку, оформив дело через голову некоторых высших инстанций, ведавших, кроме всего прочего, и собачьими судьбами.
— Ich mache aus ihm einen Hundf, — сказал офицер, — aus diesem jüdischen Hochem[5].
И исчез с Брутом в тумане, словно сам был клоком тумана.
Собаки не знают, как называются города, в которых они живут. Но это был собачий город, и Брут дал ему название. Он называл его Конурград, а иногда — Костегорье или кратко — Псищи.
На самом деле это был питомник, где полицейских собак обучали для особых целей; он располагался в красивой лесистой местности неподалёку от небольшого концлагеря Т. В концлагере не было постоянных заключённых; он представлял собой лишь небольшое помещение перед печами, на котором красовалась надпись: «Reinigungsbäder»[6].
Из смеси множества запахов обонятельный анализатор Брута выделил несколько главных: запах горелого мяса, липкого мыла и удушливого дыма, который, впитав в себя лесные ароматы, уносил их к облакам вместе с сажей, бывшей недавно человеческой плотью.
Но всё это не беспокоило Брута, потому что кормили его регулярно и обильно. Работы же было очень мало, да и та больше походила на игру. Обучали его два раза в день, перед первой едой и перед последней. И требовалось от него только одно: чтобы он твёрдо-натвердо запомнил, кто его хозяин, а кто — враг хозяина. Трудно ему дались только первые дни. К нему приходил человек в полосатой куртке и надевал на него парфорс[7]. А потом привязывал его к столбу и начинал издеваться над ним, как только может человек издеваться над собакой: он пододвигал к нему миску с водой и забирал её раньше, чем Брут успевал попить; а потом выливал её на размокшую землю, которой вовсе не требовалось поливки, потому что местность тут была сырая и в старых земельных реестрах называлась просто болотом.
Кроме того, человек этот стегал его прутом, свежим и гибким, и покатывался со смеху, когда Брут плакал от унижения.
И Брут запомнил полосы на этой куртке, запомнил её запах и научился ненавидеть их до мозга своих собачьих костей. И узнал, что на помощь к нему всегда придёт только маленький офицерик в зеленоватом мундире — он строго кричал на его мучителя и тут же на месте наказывал его, а Брута отвязывал, снимал с него парфорс, гладил и давал ему кусок сахару. И по лицу офицера было видно, как он возмущён и недоволен тем, что с его собакой обходятся столь несправедливо. Последнее утешало Брута больше, чем сахар, и было намного слаще, потому что он не забыл, как его воспитывала Маленькая, и знал, что поглаживание дороже целой миски еды.
— О, du armes Hündchen[8], — говорил офицер. — Они тебя мучают, эти арестанты. Хватай их за горло, рви их, ты, дурачок!
И конечно, не говорил ему, что человек в арестантской куртке — это его помощник, которого он перед каждым уроком сам подробно инструктирует, как именно надо мучить Брута, согласно правилам обучения полицейских собак, составленным профессором физиологии и психологии собак, доктором медицины и ветеринарии Хильгертом Фреем из Гейдельбергского университета.
Помощника лейтенанта Хорста звали Кохом, и в прошлом он был живодёром в Кёнигсберге; он вылечился от туберкулеза собачьим салом и с тех пор по-своему полюбил собак. Они вместе сиживали в буфете, пили тминную и обсуждали характеры собак.
— Так вот, Кох, — говорил Хорст, — этот, как его, Брут, он — обыкновенная Schlosshund[9]. Он относится с доверием ко всем людям, Кох. И это идиотство надо выбить у него из башки. Ведь он же — немецкая овчарка, а глаза у него, как у влюблённой проститутки.
— Он слишком долго прожил у жидов, господин лейтенант, — отвечал Кох. — И всё время их лизал.
— Помните, Кох, — продолжал Хорст, — собака может любить только одного человека, но и его она тоже должна ненавидеть. Я заметил в нём эту мягкость в первый же день, и мне стало его жаль. Ведь он мог бы прожить всю жизнь, как пудель на диване, а то и того хуже!
— У него хорошие резцы, — заметил Кох. — Но у него ещё остался один молочный клык. Разрешите, я его вырву, господин лейтенант.
— Рви, Кох, — сказал Хорст. — Мы из этого пса сделаем человека.
После того как Брут трижды подряд бросился на человека в арестантской куртке, метясь на горло, тот уже больше никогда не появлялся. Маленький офицер, которого звали Хорстом, научил Брута ещё идти по следу и из множества встречающихся запахов выбирать самый важный — запах людей, которые боятся. В этом заключалась работа Брута, и за неё он получал мясо. Он стал уже хорошо обученным убийцей и знал, что смысл жизни заключается в ожидании приказа.
Днём у Брута было много свободного времени, и он, свернувшись, спал на солнышке около своей конуры. Большую часть дня он обычно проводил в приятном ничегонеделанье и лишь изредка, когда было не слишком жарко и не слишком холодно, бродил по узким проходам между маленькими домиками и поднимал заднюю ногу у бетонных столбов. На мелком сером песке он встречал следы своего хозяина, Хорста, но не шёл по ним — он знал, что Хорст приходит к нему, а не он к Хорсту.
Он стал упитанным, но без подушек излишнего жира, великолепно себя чувствовал, легко и быстро бегал и ещё лучше прыгал. Среди собак у него было несколько приятелей, но тесной дружбы он не заводил ни с кем. Его приятелями были длинный и тонкий колли с глазами разного цвета — один голубой, а другой зелёный; иссиня-чёрный доберман, которого люди звали Вольф, а собаки — Рубленый Хвост; и ещё финская ездовая лайка, которую привезли из финского похода, — у неё была короткая массивная морда и раскосые ледяные глаза, которые иногда загорались синим и белым пламенем, холодным, как северное сияние. Но днём им было почти не о чем говорить, и каждый занимался своим делом. Все они как-то странно стыдились друг друга, потому что были, в сущности, честными и добропорядочными псами и чувствовали, что их нынешнее ремесло — волчье, а не собачье. Только по ночам они держались вместе, единой сворой, и работали до изнеможения, пока не срывали голос.
Тонкий слой жирка под их кожей слагался и из яичного желтка, и из почек и печени, а кроме того, им давали в молоке кофеин, чтобы они были стремительнее.
Каждый вечер — чаще всего около полуночи — свора из двенадцати собак отправлялась на маленький железнодорожный вокзал в Т.
Вокзальчик этот построили ещё при императоре; он был много роскошнее, чем требовалось для такого маленького селения, но неподалеку находился охотничий замок, куда, случалось, приезжали и эрцгерцоги, а раз как-то приехал сам рейхсфельдмаршал с польским министром Беком. Вокзалу уже не раз приходилось слышать лай гончих, которых привозили псари в специально оборудованных товарных вагонах: на половине высоты этих вагонов были устроены нары — из хорошо пригнанных досок, чтобы моча с верхнего яруса не стекала на нижний. У собак Геринга были, кроме того, ещё и замшевые подушки с монограммой «Г. Г.». Хотя по железнодорожным правилам позволялось перевозить в таком вагоне двадцать восемь собак, этих всегда возили только по десять.
Свора первым долгом окружала зал ожидания, в котором никто никогда не ждал. Потом, насторожив уши, собаки прислушивались к чёрной дали, в которой таился высокий свист перегруженного паровоза, такой высокий, что человеческий слух его не улавливал. Поезд был ещё очень далеко, но собаки уже знали о его приближении. Морды их становились влажными, носы поднимались к тёмному горизонту, зубы сверкали в ночной мгле.
Поезд подходил к перрону медленно и совершенно идиллически. Паровоз был старенький, с каким-то древним цилиндром вместо трубы, окутанным тучей искр и белым паром; он освещал собак двумя немножко близорукими глазами — свет был голубой, его маскировали, чтобы не привлекать внимания русских самолетов. Но собаки смотрели в эти глаза, напряжённо подобравшись, так как хорошо знали, что будет потом. Весь отряд хорошо сработался, и в приказах не было нужды. Деревянные, обитые сталью двери вагонов откатывались легко, с глухим стуком, и в ноздри собак ударяла волна запахов: пахло карболкой, одеколоном, чёрствым хлебом, испражнениями, пудрой, йодом и гнилью. И все эти запахи заглушал раздражающий, ненавистный собакам запах людей, которые боятся, людей, которые не похожи на их хозяев.
И все собаки лаяли — бешено, грозно, вне себя от злобы. Они окружали людскую толпу, как отару овец, и хотя знали, что кусать пока нельзя, глаза их горели, как у волчьей стаи, которая бежит по снегу и ждёт, кто первым упадёт с саней.
А люди, которые всегда и везде стараются сохранить хоть какую-то видимость нормальной жизни, перекликались в темноте:
— Маржена, портфель у тебя?
Или:
— Panie Emilu, panie Emilu, gdzie pan jest?[10]
Или:
— Reb Jizchok, ich trug ir broit. Hobn sie nit moire?[11]
Или:
— Herr Doktor Huggenheim, bitte zu ihrer Tochter, sie hat Kopfschmerzen[12].
Тем временем старый паровоз набирал воду и отправлялся за новой партией. Он уже второй год ходил по этому маршруту каждый день, или, точнее говоря, каждую ночь.
Вот так и текла собачья жизнь Брута.
И чем больше наливались кровью его глаза, чем самоувереннее становился лай, чем больше нравился ему почечный и печеночный жир, тем чаще вспоминал он кобылу почтальона с их улицы, которой когда-то мечтал вцепиться в горло. Теперь она снилась ему почти каждую ночь, особенно после возвращения с работы. И каждый раз он настигал её, и каждый раз её кровь была горячей и вкусной.
И лишь где-то глубоко-глубоко, на самом дне его сердца, тихонько тлел огонёк его прежней любви к людям. Но любовь эта не была оплачена страданием и потому ещё ждала своего дня и своего часа. Ибо за любовь в этом мире надо платить, и это закон не только для людей.
Была пятница. Декабрь в этом году выдался холодней, чем обычно. Подмораживало, падал лёгкий снег, и одна снежинка была прелестнее другой. Эти снежные крупинки жили свою короткую жизнь, ложились на землю, блестели и таяли.
Собаки уже устали, потому что эшелон сегодня всё не шёл и не шёл: то ли его задержали русские самолеты, то ли какой-нибудь семафор. Линия была перегружена перебросками войск с западного фронта на восточный и эвакуацией раненых в тыл. Было много обмороженных.
Брут заигрывал с финской лайкой, которая относилась к нему с особой, хотя и неустойчивой привязанностью. Она изменяла ему где и с кем только могла, и синий огонь с отблеском ледяных торосов вспыхивал в её глазах часто и для кого угодно. Но Брут привлекал её особенно, потому что она угадывала в нём затаённую преданность другой самке, у которой не было ни запаха, ни шерсти. Та, другая, была даже вообще не плотью, а лишь сиянием звёзд и отблеском слабого света, дрожащего где-то в самой глубине зрачков Брута.
— Оставь меня в покое, — сказала она, когда Брут пощекотал её влажным носом под поднятым хвостом. — Оставь меня в покое и занимайся своим делом.
А её сильные ноги дрожали от странного предчувствия, какое бывает иногда у самок, и сердце сжималось от ревности.
Наконец подошёл поезд, и всё было как всегда. Только звали уже не Эмиля, а Метека, и голова болела у другой дочери другого доктора. Голубые глаза близорукого паровоза светили во мгле пригашенно и уютно. Плакали внезапно разбуженные дети, и кто-то снова и снова кричал:
— Дают там мыло или надо взять свое?
Потом все они, собаки и люди, шли во тьму под холодным звёздным небом, и вдоль лесной дороги тихо шумели ели. Лай долетал до окрестных деревень, будил там дворняжек и заставлял их дрожать от ужаса, потому что деревенские дворняжки понимают общий собачий язык, хотя сами и лают на особом диалекте.
— Los![13] Los! — И опять: — Los!
Брут и чёрный доберман занимались отставшими. Это было забавно, и они успевали наиграться досыта. Ещё ни разу не случалось, чтобы не встал тот, кого они подошли обнюхать, разве что он был уже мёртв. Если же он только притворялся мёртвым, достаточно было укусить его за ногу, чтобы ему сразу захотелось жить.
— Ты займись вон тем, под ёлкой, — сказал доберману Брут, который был старшим в наряде. — А я подожду, пока та тень не доберётся до лунной полосы на повороте дороги.
Доберман повиновался, и «вон тот под ёлкой» подскочил и побежал за остальными.
Тень продвигалась вперед медленно и неровно, то пропадая в канаве, то вытягиваясь далеко в сторону по откосу. Однако прошедший хорошую выучку убийца Брут знал, что исчезают только тени, но не люди. Эта медлительность, эта слабость, это зловоние понемногу пробуждали в нём бешеную ярость. Он тихонько заворчал и взрыл задними ногами обледеневший снег, чтобы удобнее было оттолкнуться. Потом с громовым лаем рванулся вперёд и, почувствовав ненавистный запах, свалил человека на землю. И секунду стоял над ним, жарко и бурно дыша, весь наполненный радостным ощущением своей силы. Потом укусил упавшего в бедро и почувствовал солёную человеческую кровь, вкус которой уже был ему знаком. И в отличие от своих хозяев он знал, что кровь заключённых из Салоник и из Парижа, из Жижкова и из Магдебурга на вкус одинакова.
Человек слился со своей тенью, и теперь это был один бесформенный клубок, чёрный и скорбный клубок страдания.
— «Обнюхаю его, — сказал себе Брут. — И буду долго обнюхивать. А потом порву ему куртку и дам ещё раз попробовать моих зубов. Лаять буду мало — и так во рту пересохло. А лужи уже замерзают».
И тут внезапно и быстро, словно горный ключ, вырвавшийся из скалы, его обдал другой, забытый запах лежащего перед ним тела. И поток этот унёс его, как полая вода, от которой никуда не убежать, и залил его всеми запахами не только той жизни, которой он жил теперь, но и всех минувших, реальных и приснившихся у огня. Ему почудилось, что он вот только-только сейчас подошёл к человеческому жилью, сложенному из закопчённых бревен, — а может быть, это была пещера, — и у того, кто звал его войти, был низкий гортанный голос, а пахло от него козлом и рыбой. Звавший коснулся Брута рукой, и Брут его не укусил.
Потом он почувствовал себя щенком, слепым и беззащитным, и ощутил во рту сосок. И тепло матери.
А потом он словно шёл по лестницам дома, в котором было много этажей, и на одном пахло кипячёным молоком, а на другом — тонкой пылью, какая собирается на книгах, а с третьего струился запах сиреневого мыла, сладкого пота и овечьей шерсти, из которой люди ткут материю. И запах этот был как запах шерсти Ливии, матери Брута, которая в молодости стерегла овец в Калабрии.
Так он понял, что случилось и кто теперь лежит перед ним.
«Это Маленькая, — подумал он, — но ведь это и полосатая куртка». Эти два запаха не подходили друг к другу.
И он стал ждать, чтобы раздался голос, который покажет, какой запах — настоящий. Но женщина в лунном пятне лежала неподвижно, лицо её было молочно-белым, веки опущены, как жалюзи, а волосы острижены так коротко, что не могли рассыпаться по снегу.
Она то ли спала, то ли потеряла сознание. Только маленькое облачко пара, пронизанное бледным лунным светом, вылетало из её губ, словно крошечный призрак, готовый вот-вот пуститься в путь.
«Посижу около неё, — сказал себе Брут, — и никуда от неё не двинусь. Изо рта у неё идёт пар, и он тёплый. Я вдохну его и ещё раз проверю».
Лай своры затихал вдалеке. На лесной тропинке трижды тявкнул доберман, сообщая о себе и ожидая распоряжений. Но Брут ему не ответил.
Люди уже дошли до полосатой сторожки, над которой вился флаг с красным крестом. Здесь остались старики и дети, которых было немного; их по очереди, одного за другим, деликатно приглашали в большую, ярко освещённую приемную, где уже ждали два старика, или двое детей, или старик и ребенок; они сидели на кушетках, обитых розовым плюшем, или в удобных глубоких креслах под картинами в золочёных рамах и под люстрой из чешского хрусталя, и смотрели на обитую белым дверь, которая вела дальше. За дверью была яма и человек с револьвером — он стрелял в затылок каждому, кого вызывали из приёмной в кабинет врача.
А в другой приёмной, которая немного смахивала на парикмахерскую, стригли под машинку тех, у кого ещё были волосы. Это было преддверие газовой камеры. Они входили в камеру с поднятыми руками — не в знак того, что сдаются, а чтобы больше поместилось. И умирали остриженные, но не вымытые.
И собаки лаяли им отходную.
Но Брута там не было. Он сидел около Маленькой и дрожал, серый, как волк, замёрзший, несмотря на свою длинную шерсть.
«Если бы у меня была корзинка, — подумал он, — я сходил бы за сигаретами и за рогаликами. И за красной свёклой. Но корзинки здесь нигде не видно, да и рогаликов тоже. И к тому же светит луна, а при луне за рогаликами не ходят».
И он глянул вверх, поднял свою длинную острую морду и вздохнул так, как только может вздохнуть собака, которая не знает, куда ей идти и за кем.
В это мгновение Маленькая открыла смертельно усталые глаза и увидела над собой голодного волка. Увидела страшную морду и горящие, алчные, зелёные, хищные глаза. И попросила своё сердце остановиться. И просьба её была исполнена.
Испокон века собаки воют на луну, и для этого им не нужно никаких особых причин. Финская лайка услышала протяжный вой; несколько секунд она прислушивалась, насторожив уши, а потом села своим крепким задом на обледенелый снег и тоже завыла.
Но собачий вой никогда не долетит до луны, потому что это другая планета, а голоса земли остаются на земле — и смех, и плач, и писк новорождённого, и хрип умирающего.
Псих
Пер. П.Гуров
Его называли Ярдой, и ещё — Ярдой Помешанным, а чаще всего — Психом. Но он был, скорее, флегматиком, ступал медленно и осторожно и глядел на свет со всей мудростью, какая только возможна в его шкуре. Все его любили, и никто не боялся — даже мухи, которых он отгонял беззлобно, терпеливо и чуть ли не ласково. Он был тощий, добродушный и немножко смешной; и если бы всё это не происходило в 1955 году, на нём мог бы ездить добрый идальго Алонсо Кихано из некоей деревни в Ламанче, известный также под именем Дон-Кихота.
Не будем скрывать, что Ярда был лошадью, старым гнедым мерином, и к тому же ветераном, которому не дали ни пенсии, ни медалей, ни даже табачной лавочки.
У Кралей в Серебряном Перевозе он появился сразу же после великой войны, десять лет назад; на нём приехал солдатик, такой же тощий и добродушный, как он сам, и к тому же заика. Он продал Ярду очень дёшево, за две курицы, десяток яиц и одну восковую позолоченную свечку. Свечка эта сохранилась в семье Кралей ещё с тех времён, когда служили мессу по дедушке Вацлаву, который пал в далёкой Герцеговине за государя императора (и его семью).
Коня звали Гвардеец, но никто из Кралей не мог правильно выговорить это имя, и поэтому, похлопав его по худому боку, они переиначили Гвардейца в Ярду, да так оно и осталось. Солдатик прощался с ним очень грустно: он долго стоял в грязи у забора и гладил мерина одним пальцем по гнедой шерсти за ушами и по большим жёлтым зубам.
— Ну, ннавоевался ты, уродина, — говорил он неожиданно сердитым голосом, — пппостреляли вокруг ттебя и из автоматов, и из миномётов, и из гггаубиц, и из пппротивотанковых ружей, ннамучились вы, лошадки! Прости ммменя, гголубчик, что мы тебя впутали в эту войну. Мммы ведь её тоже не хотели.
И мерин Ярда, в недавнем прошлом Гвардеец, серьёзно кивал головой, словно почтенный крестьянин; и только когда солдатик ушёл, выяснилось, что он кивает всё время, лишь изредка останавливаясь. Это был след войны — его контузило где-то на Лабе, когда уже казалось, что и для лошадей наступают лучшие дни. Ещё накануне он досыта наелся светлой зелёной травы, клевера и люцерны и, хотя был мерином, поиграл на одном немецком лужке с кобылой из саксонского поместья, которая забрела в казачий полк и, несмотря на свою аристократическую родословную, была не прочь поразвлечься с простыми колхозными работягами. А на следующий день разверзшееся небо изрыгнуло тысячи огненных языков, и земля кричала от боли, потому что ее жёг белый фосфор и раздирало пламя, много всадников погибло в тот день, и ещё больше лошадей, хотя война была современная и кавалерии в ней, собственно говоря, нечего было делать. С этого дня Ярда и кивал своей длинной лошадиной головой; у человека это назвали бы нервным шоком или тиком, но кому какое дело до лошадиных нервов?
Вот так и прощался солдатик, и, прощаясь, даже забыл восковую свечку, и она до сих пор ждёт своей мессы, если только её не сожгут как-нибудь в грозу, когда колинская электростанция выключит ток. Солдатик ещё что-то наказывал и всячески в чём-то убеждал Кралей, но никто его толком не понял, потому что говорил он по-русски, да еще с нижневолжским акцентом, и сверх того заикался. Он всё время повторял, что «не надо при лошади стрелять», потом облупил сваренное вкрутую яйцо, жадно съел его прямо без соли и побрёл по сазавской грязи, которая ничем не лучше нижневолжской, из Серебряного Перевоза куда-то на восток. Никто его больше никогда не видел и никто о нём не вспоминал — ведь сколько их тут прошло, худых и толстых, нижневолжских и донских, московских и зауральских!
А Ярда остался у Кралей, потому что он был нужен в хозяйстве. Деревенская жизнь пошла ему на пользу, и он привык к великой тишине, царившей в Серебряном Перевозе. Он возил сено, свёклу и картошку, пропахал тысячи борозд и терпеливо и бескорыстно катал двоих детей. Все уже привыкли к тому, что это хороший конь, немножко не такой, как низкорослые деревенские лошади, но ничем не хуже. Привыкли и к тому, что он всегда кивает головой, а дети хвастались соседям и учителю, что с Ярдой можно разговаривать не только в сочельник, когда все животные обретают дар речи, но и круглый год.
Однажды его хотел купить известный дрессировщик домашних животных Геверле. Он говорил, что научит коня читать и считать до тринадцати и будет показывать его на сазавской ярмарке, в Броде, и Колине, и в Лондоне. Но дети не захотели расставаться с Ярдой, и Краль его не продал.
Прибежав из школы и бросив портфели, они первым делом шли в конюшню посмотреть, не вернулся ли Ярда, и больше всего им нравилось, что он кивает головой.
— Ярда, — спрашивали дети, — ты лошадь?
И Ярда кивал, что да.
— Ярда, — продолжали дети, — пустит нас отец в субботу в кино?
И Ярда кивал, что отец пустит.
— Ярда, — расспрашивали они дальше, — будет завтра дождь?
Будет — кивал Ярда и не ошибался: если дождь не шёл завтра, то уж послезавтра обязательно.
А один раз они спросили:
— Ярда, будет война?
И Ярда кивнул, печально, но решительно. Однако он ничего не сказал о том, где она будет и когда.
Ярдой Помешанным его стали звать после того, как однажды в субботу в Серебряный Перевоз приехали охотники и устроили охоту на косуль. В воскресенье, едва только стало светать, в лесу позади двора Кралей началась стрельба. Бах, бах и опять — бах! Ярда стоял в хлеву возле Пеструхи, наслаждаясь воскресным отдыхом, и потихоньку жевал большими жёлтыми зубами овёс. Едва раздался первый выстрел, он запрядал ушами, весь вспотел и перестал есть. Когда же выстрелили во второй и в третий раз, он опустился на колени, тяжело и неповоротливо, потому что был уже немолод, и сунул длинную чувствительную морду под ясли. Хозяйка как раз пришла подоить Пеструху и всё это видела.
— Ярда, — сказала она, — помешанный ты, что ли? Чего ты боишься? Это же охотники стреляют косуль.
Но Ярда только заржал — тихо и так тоскливо, что вслед за ним завыл во дворе пес Борек и голуби перестали ворковать; только куры продолжали клевать и важно перекудахтываться между собой — как всегда, ни о чём.
Когда же грохнуло в лесу у самого дома, Ярда сорвался с привязи и сумасшедшим галопом умчался из Серебряного Перевоза куда-то на восток. Его не было всё воскресенье и всю ночь на понедельник, а в понедельник он притрусил домой уже к вечеру, похудевший и измученный, с мутными глазами и опущенной головой. Хозяин побил его кнутовищем — немного, больше для порядка; потом задал ему овса и, вернувшись в горницу, сказал жене:
— Этот мерин — совсем как человек.
— То-то ты его лупишь, — отозвалась жена.
— А человека надо лупить больше всего, — ответил Краль. — Да и лупят. Если лошадь — как человек, то ей же хуже.
Дети смотрели на Ярду с любопытством, но и некоторым недоверием. Как его били, они не видели, потому что пришли позже; они забежали к нему в стойло, дали понюхать сахар, но тут же отдернули. Ярда словно потерял в их глазах своё лошадиное лицо. Они заметили, что его большое веко время от времени закрывается само собой, и выглядело это очень жалко. Дети спросили его немного насмешливо:
— Ярда, ты помешанный?
И Ярда закивал головой, что да.
Это их очень развеселило.
Для верности они спросили ещё раз:
— Ярда, ты псих?
И Ярда опять кивнул. Это стало известно всему Серебряному Перевозу и его окрестностям, и все узнали, что конь у Кралей — помешанный, вообще-то хороший работяга, но если неподалёку стреляют, то он становится психом.
Никого это не беспокоило — в деревне все знают, что людей на свете сумасшедших много, так почему же не может свихнуться и лошадь?
Жил в Серебряном Перевозе один хулиган школьного возраста, Франта Росак. Вот он доставлял соседям много беспокойства, хотя они и знали, что хулиганство — это тоже вид помешательства, только помешательства буйного и чаще всего жестокого. Хулиган развлекается за чужой счет, потому что с самим собой ему скучно. Он выискивает слабых и обессилевших, добродушных и наивных и, издеваясь над ними, доказывает преимущества наглости.
Ему уже многое простили: и спалённый участок леса, и козу, повешенную просто так, для забавы, и бабушку Тумову, которую он ужасно перепугал ночью старым испытанным способом — с помощью метлы, простыни и свечки. Но одной его шутки ему долго не могли простить — шутки, которую он сыграл с помешанным Ярдой.
Однажды хулиган Франта Росак узнал, что старый кавалерийский конь Ярда боится взрывов.
В Сазане как раз была ярмарка, и на этой ярмарке в голову Франты пришла гениальная идея. Он купил полдюжины петард, которые взрываются, если на них наступить. Из Сазавы он вернулся с петардами в кармане и с подлым замыслом под рыжим ёжиком волос; разбросал все шесть петард на шоссе, как раз там, где от него отходит дорожка ко двору Кралей, потом спрятался за буком, а может, за берёзой, и стал ждать, что произойдёт.
Ярда Помешанный, в новой сбруе, вычищенный до блеска, спокойно и весело вёз по шоссе воз сена, кивая головой, словно старый крестьянин, — не хватало только трубки да кружки пенящегося пива. Он дошёл до своей тропки и хотел было повернуть ко двору, как вдруг с земли со страшным треском и грохотом подскочили огненные петарды, выбросили чёрный и красный дым, и запахло адской серой и фосфором. Франта корчился за буком в безмолвном восторге.
Хозяин натянул вожжи и подумал: «Ну, всё, я этого психа не удержу!»
Но помешанный Ярда ничего не сделал. Он не понёс. Секунду он стоял, трясясь всем своим костлявым телом, как осина, и капли пота, словно бриллианты, одна за другой выскакивали на его шерсти, гуще всего на тонкой шее и на гнедой спине. Внезапно ноги его подкосились, он упал на колени, как раненый человек, и начал жаловаться таким высоким ржанием, с которым не сравнился бы никакой женский плач; это был долгий пронзительный и душераздирающий вопль, и слышно его было по всей деревне. Три старых деда, служившие когда-то в драгунах, не выдержали и вышли из своих домов на разных концах деревни, и их старые солдатские сердца сжались. Старший сказал себе:
— Вот так ржали кони, когда их травили газом под Дос-Альтос.
Второй вспоминал:
— Точь-в-точь так умирал мой Рыжий, когда ему под Равой-Русской попала в живот разрывная пуля.
А третий, который был на год моложе первых двух, подумал:
«Пуля в голову, как тогда в Черногории! Больше ничем тебе не поможешь!»
А день стоял ясный, сирень ещё только-только начинала расцветать, и от неё лился слабый девственный запах. И небо было чистое, весеннее и весёлое, лишь на западе тянулся тоненький серебристый след самолёта.
Ярда уже не ржал. Он лежал на асфальте и всё слабее кивал своей длинной и чувствительной лошадиной мордой.
— Вставай, Ярда, — сказал хозяин. — Не бойся, лошадка!
Ярда в последний раз кивнул головой, словно показывая, что понял, но так и не встал. Это был обыкновенный нервный шок, который случается не только у лошадей, но и у людей, над головой которых много стреляли.
Не бросайте им под ноги петарды. Из-за этого их может настигнуть смерть, которая и так всегда держит всех на учете.
Зизи,
или Собачья жизнь
Пер. П.Гуров
Они у меня вот тут, под столом, если хотите взглянуть. В корзине, чтобы не задохнулись. Любовь к животным, пан директор, это у человека врождённое. Вот я, пан директор, иду их топить. А на душе кошки скребут; и я в последнюю минуту взял да и вытащил их из мешка и положил в корзинку, чтобы они не задохлись по дороге.
Ну кто разберётся, какой в этом смысл? Всё равно ведь сейчас брошу их в реку, а у самого только и заботы, чтобы им хорошо дышалось. Я вам, пан директор, не сумею этого объяснить, да и самому себе тоже. Может, всё дело в том, что человеку всегда хочется загладить свою вину, а если это можно сделать наперёд, оно ещё лучше.
Так вот и кончилось дело с этой Зизи, бедненькой бедняжкой. Не знаю, когда вы тут были в последний раз, но, наверное, очень давно, — пожалуй, ещё перед войной? А, во время мобилизации! Ну конечно, я теперь вспомнил, как вам не хотели заменить сапоги, которые жали. Господи боже ты мой, неужели уже больше двадцати лет? И вам тоже кажется, что время быстро летит? А у меня — будто один день прошёл, и даже только полдня: пообедал человек, вздремнул, закурил сигару, включил радио — и двадцати лет как не бывало.
Вы знали тогда Зизи, чёрную такую таксу? Ну, она ещё жила у лесничего Скршиванека, а потом ему пришлось её продать, потому что она от охоты шарахалась, как епископ от содовой.
Да не могли вы её не знать, раз вы здешний. Её все знали. И уж вы-то, пан директор, обязательно должны были её знать. Разве вы не ходили завтракать в «Золотой лев»? Только иногда? И ни разу не заметили там собаки? Ну конечно, у таких больших людей, как вы, другие заботы. Вам, пан директор, приходится думать и день и ночь, — что вам какая-то там сучка!
А я помню её ещё щенком. Я тогда был на государственной службе, и свободного времени у меня хватало. И меня, пан директор, очень занимала история этой собачонки. Обо мне в городе болтают, будто я ем собак, но бог свидетель, пан директор, я ел шницель из собачатины всего один раз в жизни, и то ещё на русском фронте. И скажу вам, собачье мясо — просто объеденье. Деликатес.
Но я не из тех, кто идёт против обычаев, хотя бы даже и в еде. Однако же, если, не дай бог, дело дойдёт до того, чтобы есть собак, я вас тогда приглашу, и вы сами увидите, что можно сделать из этого мяса. Вы ведь всегда знали толк в еде, пан директор, а ваш папаша даже шампиньоны для себя выращивал.
Да, так об этой собаке. Я за ней много лет наблюдал — интересная, скажу вам, псина. Лесничий Скршиванек продал ее пани Ледвиновой, и очень дёшево, но возьми она её хоть задаром, всё равно прибыли ей от этого было бы немного. Пани Ледвинова вышила ей подушку с вензелем, кормила паштетами с луком, а раз я сам видел, как она покупала ей кость от окорока. Я никому не завидую, а уж собакам тем более, но тут я себе сказал — хотел бы я быть пёсиком у этой старухи.
А Зизи?
Зизи сбежала от неё через неделю. Нет-нет, не подумайте, что с каким-нибудь там таксой или доберманом, куда там, этим она не занималась. Просто ей не нравилось ни гоняться за зайцами, ни храпеть на подушке с вензелем. У неё было своё представление о жизни, и очень твёрдое. Понимаете, пан директор, у этой сучки был такой характер, что многим людям стоило бы у неё поучиться.
Где она ночевала, никто не знал. Но по утрам она всегда приходила в «Золотой лев» позавтракать обрезками. Ее там называли «постоянным клиентом», и у неё было даже своё место — под угловым столиком, где обычно сиживал нотариус Здерадичек, тот, которого хватил удар в сочельник.
Обедала она в «Короне», а ужинала в «Вороном коне». Только по четвергам, когда в «Золотом льве» бывала горячая колбаса, она и ужинала тоже там. Ну и жизнь была у этой сучки! Все к ней подмазывались, каждый старался сунуть ей кусок. Да только она-то брала не у каждого. Она принюхивалась не к еде, а к человеку, и будь он хоть сам директор бойни, но если он ей не понравился, так она есть не будет. Тут уж как её ни называй — и Зизи, и Зизинька, и собачка, и пёсик, — куда там! Даже ухом не поведёт. Только посмотрит эдак ласково и участливо, — так и кажется, будто она твой самый лучший друг. То ли в насмешку, то ли ещё почему, кто её знает.
У меня она брала даже чёрствую корку, но на это были свои причины, я вам потом расскажу.
Очень меня удивляло, что ею не заинтересовался ни один директор цирка. Наверное, потому, что большие цирки к нам не ездят, а маленьким дай бог и своих-то зверей кое-как прокормить.
А уж каким комиком она была! Обхохочешься! Котелок бы ей да тросточку — ни дать ни взять Чарли Чаплин.
Многие хотели взять её к себе — все наши местные аристократы: из этого даже моду сделали, назло пани Ледвиновой. Договорились, что, если кто-нибудь заманит Зизи к себе, тому ставят три бутылки шампанского.
Но Зизи ходила своей дорожкой. Нрав у нее был совсем кошачий, только фальши в ней не было, ну, и изнеженности.
Сколько раз мы со старым Здерадичком о ней разговаривали!
Я ему говорю:
— Вот скажите мне, пан нотариус, почему эта собака не хочет, чтобы у неё был хозяин?
А он мне отвечает:
— А почему вы, Михейда, не хотите, чтобы у вас был хозяин?
А я ему:
— Простите, пан нотариус, но я-то ведь всё-таки не собака. У меня душа есть.
Но Здерадичек только качал головой, выпускал дым колечками и заказывал ещё рюмочку горькой. Заглянет под стол, тут ли собака, и бросит ей кусочек свинины попостнее. А после его хватил удар, в самый сочельник. Я его как живого вижу, нотариуса Здерадичка…
Году, наверное, в сороковом, — тут уже немцы были, — приехал в наш городок один профессор из Праги. Поселился-то он здесь, а преподавал в Кутной Горе — то ли в гимназии, то ли ещё где. Почему ему пришлось уехать из Праги, я не знаю, и почему он не мог жить в Кутной Горе, тоже не знаю. Правда, этот профессор, бывало, разговорится — не остановишь, но о себе он никогда не рассказывал.
Как сейчас помню, какой ужасный конфуз получился, когда наши аристократы устраивали в «Золотом льве» вечер в его честь. Были у нас аптекарь, асессор, два адъюнкта и старый Здерадичек, но вот профессора в нашем городишке ещё не случалось. А этот был к тому же дважды доктором, философии и ещё каких-то наук. И глаза у него были синие и красивые, и вообще, если хорошенько приглядеться, приятный был человек.
Решили, значит, устроить в его честь вечер, и готовились целый месяц. В маленьких городишках, пан директор, всегда так: все хотят, чтобы что-нибудь случилось, и в то же время все боятся, как бы чего не случилось.
Вот почему мы любим всякие там скрипичные концерты, обеды по случаю забитой свиньи — пока не объедимся, конечно, — маскарады в физкультурном зале нашего училища и вечера в чью-нибудь честь. Так вся наша жизнь и идёт: неделю разговариваем о том, что в субботу будет бал, а потом ещё неделю рассказываем друг другу, что произошло на этом балу. А дальше? Что потом будем делать? Ах да, господи, ведь на следующей неделе будет вечер в честь такого-то.
Я был на этом вечере. Не то чтобы из любопытства — мне это вовсе и не любопытно, — а чтобы отведать горячей колбасы, потому что дело было в четверг. И Зизи, дрянь мохнатая, конечно, тоже была. По четвергам мы с Зизи всегда там встречались. Календарь она знала назубок.
В «Золотом льве» все уже восседали за столом, дамы в лучших своих нарядах, мужчины в крахмальных воротничках. Столы составили буквой «П». Все, значит, сидели, разговаривали, смеялись и пили понемножку. У кого были карманные часы, тот вынимал их из кармана, а дамы, у которых были наручные, заводили их, чтобы они не останавливались. А этот самый учитель всё не шёл и не шёл.
Наконец он явился, но надо было вам его видеть: рубашка мятая, словно по ней дорожный каток ездил, а на воротничке хоть петрушку сажай. И конечно, не побрился, а щетина у него была сивая с рыжиной. Складки на брюках у него никогда не бывало, и обувь он не чистил, это было против его принципов.
И он даже не сказал: «Добрый вечер!», только посмотрел на всех от двери каким-то рассеянным и вроде бы смущённым взглядом. И чуть-чуть насмешливо. Я даже спросил себя: «Где это я видел такой взгляд?»
И тут меня осенило — Зизи!
Ну, точь-в-точь Зизи, когда к ней приставали: собачечка, на тебе, золотко, косточку, покушай мясца или там гуляшу. Вот так же смотрел и этот человек. Ласково и даже сочувственно, и в то же время будто посмеиваясь — над всеми сразу, а больше всего над самим собой.
Ну, тут все прямо остолбенели и ни гугу. Словно актер вышел на сцену и вдруг позабыл, что он должен говорить. И никто не знает, смеяться или жалеть его. Только одна пожилая девица хихикнула — та самая, на которой этого доктора будто бы хотели женить. Может, затем и вечер-то затеяли.
Потом этот доктор разговаривал с нотариусом Здерадичком о греческих софистах, а после он всё убеждал ту самую пожилую девицу, что лучший спорт для женщин — классическая борьба.
— Ну что вы, пан доктор! — твердила девица, совсем уж отчаявшись. — А сами вы изволите быть спортсменом?
— Только теоретически, — отвечал он. — Дело в том, что меня часто мучают газы.
Тут эта пожилая девица покраснела, и после этого он с ней говорил только о Млечном Пути и вообще о галактиках.
— Боже мой, — всё время повторяла девица, — неужели же это возможно? Неужели звезд действительно так много?
Но когда увидела, что это всё равно ни к чему не ведёт, то первой ушла с вечера и на другой день всем говорила, как, мол, странно, что у доктора с двумя дипломами такие низменные интересы и такие грязные воротнички.
В конце концов осталось нас в «Золотом льве» только трое — профессор, Зизи и я. Он попросил у трактирщика скрипку и сыграл нам какую-то грустную-грустную песенку, уже не знаю о чём, — то ли о листьях, то ли о могиле, то ли о кругах, которые расходятся по воде. Пива мы с ним выпили по десять кружек и кофе с ромом — по шесть чашек.
А Зизи лежала под столом и по-своему, по-собачьи радовалась.
— Чья это собака? — спросил профессор.
— Своя собственная, — ответил я ему. И всё рассказал — и о лесничем Скршиванеке, и о пани Ледвиновой, и о том, какой у этой собаки нрав.
Он слушал меня и только изредка улыбался, но всякий раз это было, словно зажигали люстру. В жизни я ни у кого не видел такой доброй улыбки — как будто для других он хотел всего самого лучшего, а для себя — ничего. Но люди видели в этой улыбке только ехидство, и все его немножко побаивались — ведь он, мол, столько знает, и неизвестно, что он о них думает.
Потом он заплатил за пиво и за кофе с ромом и пошёл к двери — совсем твёрдо и прямо.
А Зизи встала и пошла за ним.
Я её зову:
— Зизинька, не ходи, туман на дворе, подожди, куда ты?
Но она даже не оглянулась.
С тех пор у Зизи был хозяин.
Правда, слово «хозяин» к профессору очень не подходило; оно говорит о какой-то силе, а он весь был какой-то слабый и беспомощный.
Наверное, из-за этой своей слабости и беспомощности он всё старел и хирел: одним докторская степень прибавляет самоуверенности, а у других отнимает. Тот, кто очень гордится своими знаниями, тот ничего не знает, это уж будьте уверены. А кто действительно много знает, тот никогда не гордится, он только больше страдает.
Не могу вам сказать, что мучило этого дважды доктора; но ведь и то правда, жизнь никогда не была такой бессмысленной, пустой и мерзкой, как в те времена. Ну, ведь вы сами всё это испытали, пан директор.
Зизи-то, собственно, была большим щенком. И от этой своей любви она стала такой буйной и весёлой, что даже в те печальные дни можно было, глядя на неё, помереть со смеху. Может, она хотела его позабавить, а может, просто от счастья с ума сходила. Всякая любовь, пан директор, хотя бы вначале, выражается вот в таких штуках, — наверное, для смелости.
Ну и номера выделывала эта собака, пан директор, — умора! Прямо прирождённый комик! И походочка у неё была — чистый Чарли Чаплин, что спереди, что сзади. Плоскостопие у неё собачье было или ещё что — не знаю, но если впереди неё шёл кто-нибудь, особенно наш священник или зеленщица, она начинала вертеть задом точь-в-точь как они.
Очень она любила ездить на автомобиле и всегда садилась рядом с шофёром, — надеть бы ей, пан директор, шляпку с хризантемой, так никто бы даже и не догадался, что это не баронесса Флайшханцль, «Кожа, резиновые изделия, керамика».
А в остальном Зизи жила по-прежнему, ходила в «Золотой лев» и в «Корону», да ещё каждый день в четыре двенадцать — к автобусу из Кутной Горы, встречать своего профессора.
Где бы она ни была, но как только часы на церкви Святого Иакова пробьют четыре, она сейчас же встаёт и бежит на остановку, быстро и с такой радостью, что я порой ей даже завидовал.
Несколько раз я видел, как они встречались. Это всегда было одинаково. Глянут они друг на друга, вроде бы кивнут и потом идут вместе домой.
Про них ещё можно было бы много чего порассказать, пан директор, но я же понимаю, у таких больших людей, как вы, свои заботы; я только посмотрю, как там щенята в корзине. Но что меня в этой собачонке удивляет, так это — что она теперь взяла да и согрешила.
Профессора немцы забрали после убийства Гейдриха, и он так больше и не вернулся.[14] Через два дня его фамилию назвали по радио, и на этом красном плакате, списке расстрелянных, он так и значился как дважды доктор. Что он, собственно, сделал, этого никто долго не знал, и все только головами качали — вот, дескать, опять гестапо сцапало не того. Он ведь и мухи не обидел бы. А старый Здерадичек вспоминал, как принёс однажды доктору листовку, которую нашёл, когда ходил по грибы, и как доктор посоветовал сдать её в полицию, потому что немцы тоже хорошие грибники и могли эти листовки разбросать сами.
А после войны оказалось, что ему пришлось скрываться у нас потому, что он руководил в Праге большой боевой организацией и спас от Печкарни[15] и концлагерей больше тридцати людей. Хороший он был человек и интеллигентный, вот только об одежде не думал и денег не берёг.
Так вот, представьте себе, пан директор, что эта собака двенадцать лет каждый день, и зимой и летом, ходила к автобусу в четыре двенадцать. И каждый раз бежала во всю прыть, со всем собачьим усердием — только лапы мелькали.
И возвращалась по тем же улицам, повесив голову, горюя, что опять её профессор не приехал и надо ждать до завтра, когда пробьёт четыре часа.
Я часто за ней наблюдал. И автобус-то уже три раза сменился, у него теперь автоматические двери и отопление, кондуктор теперь женщина, и из тех, кто ездил в Кутную Гору перед войной, мало кто остался.
Посмотрели бы вы, пан директор, на глаза этой собаки, когда она глядит на дверь автобуса. Я видывал, как умирают собаки, и скажу вам, эта сучка умирала каждый день!
Я уж её и так и эдак уламывал, говорю: — Зизи, что же ты своих штук не выкидываешь, дурочка ты мохнатая? И на мотороллере не прокатишься. Ну что, скажи на милость, тебе в этом автобусе так нравится?
Эта собака мне доверяет и даже часто у меня ночует. Из моих рук она возьмёт и чёрствую корку. Но хозяином она меня все-таки не признаёт, и я на неё за это не сержусь. Я её понимаю.
Когда человек теряет возлюбленную, он часто привязывается к тем, кто знал их обоих. Такой человек говорит себе: «В тот день, когда на ней был красный свитер, мы встретили Гонзу». И бежит за Гонзой посмотреть, не пристала ли к его пиджаку красная ниточка. Ну, вы меня понимаете, пан директор, я ведь ещё хорошо помню, как вы расстались с Боженой — или это была Лидочка?..
Но разрешите, я вам расскажу конец истории. С этой собакой случилось то, что ей, наверное, было меньше всего нужно, ведь животные этого ценить не умеют: она прославилась. Сначала о ней написали в «Народном глашатае», у нас тут один актёр статейками подрабатывал. Вот посмотрите, пан директор, вы сами можете прочесть. Или лучше давайте я вам прочту, а то уж очень она истерлась. Слушайте.
«Верность за верность. От нашего корреспондента. Исключительный случай собачьей верности был отмечен в Верхних Коноедах…»
Ну, я вам всего читать не буду, но очень красиво написано, я бы в жизни так не сумел. А потом приехали из кинохроники и пять часов ждали около этой остановки с киноаппаратом и прожектором — народу там собралось видимо-невидимо. А когда пробило четыре и Зизи пришла, легла и стала ждать, так дети чуть животы не надорвали. Этот оператор снимал ее и так, и эдак, и на корточки садился, прицеливался справа и слева, спереди и сверху, а потом снял дверь автобуса, как она понемногу рывками открывается.
Но потом сказали, что материал никуда не годится, и пленку даже не проявляли. А мне в ту ночь приснилось, что я сижу в кино и смотрю на наш автобус и вдруг вижу, вылезает из него профессор, в той же самой грязной рубашке, в которой он был на вечере.
Я ему говорю:
— Вот хорошо, что вы приехали, пан профессор, а то собачка совсем извелась.
И тут вдруг в этом кино стало светло, и все, кто там был, бледные как мел, бросились из зала, — мол, пожар. И все кричат: «Боже мой, это не та программа, мы же пришли на комедию!»
Проснулся я весь в поту, зажёг свет, чтобы посмотреть на будильник, и вижу, что у постели лежит Зизи. Когда она пришла, я не знаю, она приходила и уходила, когда ей вздумается.
— Зизи, — говорю, — вот тебе кусок колбасы, ведь сегодня четверг, а ты не была в «Золотом льве».
Так ведь не взяла, сучка; и, наверное, в ту самую ночь после киносъёмки она и спуталась с каким-нибудь кобелём. Видно, пришел её час, впервые после стольких лет. Никто не хотел этому верить, но щенята-то — вот они.
Ну, я уж пойду, пан директор, я же вижу, что у вас глаза слипаются. У вас есть о чём подумать о своём, а я вам тут собачью жизнь рассказываю.
Темно уже. Пойду брошу их всех в речку, прямо с корзинкой, а в корзинку положу камень. Никому они не нужны, что же с ними, с беднягами, делать! Ну, пойдёмте, крошки вы, малышки мои, ползунки слепенькие, зизенята маленькие.
А может, возьмёте одного, пан директор, а?
Рассказы
Дети
Пер. Г. Гуляницкая
— Какие там дети! — сказал лейтенант Нестеренко. — Что вы, я ещё холостой. Нет у меня детей, и бог весть, будут ли. Не то чтоб я не хотел! Нет, просто как-то не складывается. Правда, я уже несколько лет переписываюсь с некоей Груней Руденко. Но она живёт под Воронежем, в колхозе имени Августа Бебеля, а я, как видите, сижу тут с вами на лавочке в парке прусского короля Фридриха в Потсдаме, хотя и сам тому не рад. А война уже третий год как кончилась.
Как-то починил я тут одному мальчонке велосипед. Наехал, бедняга, на фонарь и до того растерялся, что глядеть жалко. Привёл я ему велосипед в порядок и говорю: друг мой, надо овладевать техникой, в жизни нельзя полагаться на случайных прохожих…
Нет, детей бы я любил! И язык бы у меня с ними общий нашёлся. Только иногда думается — чувство у меня такое, что не суждено мне это. Есть у меня в Берлине как бы сын. Я его за родного считаю, хоть это чужой ребенок. И может, больше чем чужой. А всё-таки он — мой, хоть и зовут его Генрих. Вот если б привёл я его сюда, к этой скамейке, и спросил: «Heinrich, liebst du mich?»[16]— он бы ответил: «Jawohl, lieber Vater»[17]. Здесь, на немецкой земле, я уверился в одном: дети, дружище, — всё равно что воск. Что из них вылепишь, то и получится. Орел или пресмыкающееся. Только рука-то, которая лепит, должна быть нежной и твердой.
Иной раз слышишь дурацкие речи, вроде: «Глянь-ка, рыжий какой. Вот поди свинья». Что такому болвану ответишь? Только одно: «Труха у тебя в голове!»
Родился я недалеко от города Винницы на Украине — вам те места, часом, незнакомы? За домом был у нас яблоневый сад, теперь от него одни голые пни остались. В большие холода немцы любили топить печку дровами из яблонь. И вишней топили, и сливой… Очень это меня бесило, хотя, казалось бы, что тут такого: на войне как на войне.
Была у меня двоюродная сестрёнка Наденька. Я уж и лицо-то её позабыл, помню только что-то голубое и розовое, воздушное платьице, да ещё что любила она карамельки с медовой начинкой. Я брал её с собой на пруд купаться. Ручки у неё были тоненькие — дотронуться страшно.
Ну, а потом я нашёл в саду только её зелёную ленточку. Да голые обрубки, мертвые деревья…
Мы тогда уже двигались на Берлин.
Ох, долог был этот путь…
В Варшаве я видел сошедшего с ума еврейского ребенка. Какие-то поляки держали его в яме рядом с отхожим местом и хлеб ему туда носили. Так и спасли. Я до сих пор не знаю, мальчик это был или девочка. Не распознаешь. Ребенок прожил в яме полтора года. Говорить разучился. Ни слова не мог сказать.
Дал я ему медвежонка и говорю: «Теперь ты будешь с ним спать в белой постельке».
А ребенок смотрел на меня чёрными безумными глазами, будто я не даю, а беру…
Я вам это к тому рассказываю, чтоб вы поняли, — когда я вошёл в горящий Берлин, душа у меня была выжжена. И я уже думал, что никогда не найду покоя. Раньше-то я всё прощал, а теперь само прощение стало мне ненавистным: большая злость была во мне — от горя.
Меня никогда не тянуло побывать в Берлине. Вот в Париже — это да. А я ещё и на Кавказе-то не бывал, Средней Азии не видел, о Сибири только слышал. Так зачем мне Берлин?
Но не мы выдумали этот военный туризм. Они сами напросились.
Так или иначе, а я очутился в Берлине. И едва не задохся, — не от дыма, не от огня, а от страшной ярости; в ней, пожалуй, не было уже ничего человеческого.
И тут такой случай.
Брали мы одну берлинскую улицу, чуть ли не до штыков дело дошло — нам это уж было всё равно, что кусок хлеба отвалить. Опыт был, практика. Много огненных улиц осталось за нами — разве сочтёшь…
И тут кончилось, как всегда: окна пустые, слепые, только там и сям из них дым валит или огонь полыхнет, будто мертвец языком дразнится. И ничего уже не слыхать — только огонь шипит да орудия бахают, далеко где-то, в другом районе города.
Вот эти минуты, когда кончится бой, всегда самые трудные. Тогда, бывало, закурим мы и молчим — долго молчим.
Кашлянёшь, плюнешь — а дальше что? Сколько ещё улиц впереди? А небо над тобой зелёное, как молодой горошек. Тишина; курю я, а всё что-то будто беспокоит. Что за чёрт? Какой-то дробный, тоненький треск — и вспышки… Потом вижу — голубоватый дымок в одном из окон — будто карлики из пушки стреляют.
— Видишь, — говорю я соседу, — слышишь?
Я, говорит, слеп и глух, кончилась для меня война.
Взял я бинокль. Навёл на окно во втором этаже. Впрочем, и без бинокля всё видно: дымок и — словно спичкой чиркают.
Пошёл я туда; поднимаюсь по длинной деревянной лестнице, а руку на спуске держу. И что же я нашёл? Заставил бы я вас погадать, да куда — ни за что не угадаете! Иной раз ведь в жизни такое бывает, что только ахнешь.
Стоит у окна мальчишка, лет восьми, не больше. Бледный, в веснушках, волосы ёжиком, — посмотреть — и не знаешь, смеяться тебе или плакать. В руке у него игрушечный пистолет, на подоконнике коробочка с пистонами, ну и палит из окна — выстрел за выстрелом. Схватил я его за шиворот — перепугался он страшно, а всё-таки навёл на меня свой пистолетик. Глаза у него строптивые, злые, совсем не детские. Нет, то не ребёнок смотрел — зверёныш, хищный, глупый, такой, каким его воспитали.
— Ты что ж, — говорю, — в Красную Армию стреляешь?
А он молчит и смотрит злобно, как кот, — сейчас укусит!
«Что с тобой делать, змеёныш, думаю. Как быть? Ведь это — не ребёнок».
Видеть бы вам его глаза — во что детей превратили, сволочи!
Так и стоим мы друг против друга — смех и грех. Он дрожит весь, но стоит и целится. Я не стал отбирать у него игрушку — любопытно мне было, надолго ли хватит. А на меня секундами затмение, что ли, находит, и чудится вдруг, что он вытянулся, что это — взрослый немец.
В это время по мостовой загрохотала наша полевая кухня. Повар Трофим сидит, попыхивает из немецкой трубки, довольный, что борщ ему удался. Я эту профессию не очень-то высоко ставлю, но Трофим был специалист по части борща. Видно, вкладывал он в борщ частицу своей поварской души, когда не хватало свёклы. Специалист он был что надо, хотя характером подгулял. Но это не страшно.
Вижу, у мальчишки нос сморщился, а худенькая шейка так и задергалась — словно мехи гармошки. Вот теперь стало видно, до чего этот воронёнок маленький, до чего он несчастный и тощенький со своим игрушечным пистолетом… Не выдержал я, крикнул повару Трофиму:
— Пришли-ка мне сюда котелок борща. И кусок хлеба побольше!
«Устоит или нет?» — думаю.
Сначала у него дрогнул кадык, потом он часто-часто заморгал, заерзал, съёжил худые плечики — ну прямо нахохлившийся воробышек: выпал из гнезда и крылышки сломал…
— На, — говорю, — бери… Essen[18]…
Начал он есть, а рука у него так дрожит, что борща на пол больше попало, чем в рот. Взял я тогда ложку и, хоть не было у меня практики — я ведь говорил вам, что не женат, — стал его кормить. Сказать по правде, впервые в жизни пришлось мне тогда кормить ребенка. А пистолетик… Пистолетик лежал на окне. Потом будто порвалось что-то в душе у мальчика — как натянутая струна, — он громко заплакал, и долго так ревел, и хлюпал носом, и трясся… Прижал я его к себе — всю гимнастерку вымочил.
Вот пистолет я у него тогда отобрал — таков был приказ коменданта: сдать оружие в двадцать четыре часа…
Голубая искра
Пер. Г. Гуляницкая
Девушка была так прекрасна, что нельзя начинать рассказ ни с реки, ни с дороги. Было б побольше света — можно бы начать с него…
Но час был предрассветный, ночь уже ушла, а день не наступил. За ночью ещё тянулась её тень, покрывая маленькие тени людей и всё вокруг так, что даже те предметы, для которых уже начался день, всё ещё были частицей ночи. Свет, идущий на землю, был совсем юным.
Девушка стояла на берегу, босая, вся в белом.
Над ней порхал алый отблеск нового солнца, — само оно было ещё за рекой, а может, и за горами. Алый отблеск поиграл с чёрными волосами девушки — бабочкой опустился на них, затрепетал и вдруг сорвался, полетел вверх по откосу, к шоссе, к грохочущим машинам, к зелёным плащ-палаткам, к усталым солдатам, к вездесущей пыли военных дорог — она столько раз поднималась и снова садилась на землю, но была всегда.
Вскоре заалело всё небо — не так, как при пожаре, а будто озарённое очагом. Только теперь белая фигура девушки выплыла из тумана. Девушка вздохнула — такое чудесное утро. Она подумала, что так и должно быть всегда: на грани ночи и дня на берегу рек должны стоять девушки и держать в руках туфли; а потом они уходят в лес или в туман…
Но сама она не ушла; наоборот, спустилась поближе к воде, замочив босые ноги, и долго высматривала в редеющих утренних парах первую тень того утра: лодку посреди реки; отыскав эту тень, девушка крикнула:
— Пан директор, слышите?
— Ну, чего вам? — неприветливо отозвался рыболов.
— Пан директор, войнааа кончилааась…
— Что кончилооось?
— Войнааа…
— Чтооо? Не слышууу…
— Конец… Войне…
Человек в лодке только разочарованно махнул рукой: для него это была не новость.
— Почему вы не в школе? — спросил он строго, доставая коробочку с червями.
— Не могу, — крикнула девушка, — мне хочется плакать!..
— Вы сумасбродка, коллега Глобилова, и это единственное пятно на вашей, в общем приличной, репутации.
Теперь потоки молодого света щедро хлынули на нее, и она подставила им лицо, подобрала подол своего платья из дешёвенького белого ситца, на котором цвели васильки и маки. Ей было приятно, этой девушке в белом: лицо купается в лучах солнца и в слезах, ноги — в зелёной воде. При всём том она не могла не съехидничать — ехидство таилось где-то в самом уголке её души; и она крикнула чуть ли не с торжеством в голосе:
— Пан директор, как вы можете ловить сегодня рыбу?
Директор неторопливо подплыл к берегу и посидел ещё в лодке, очарованный лаской раннего солнышка. Потом он надел очки, придавшие ему ещё более внушительный вид, и сказал удивлённо:
— Ба-ба-ба, это что, слезы?
— Ну да, — с досадой ответила девушка. — Сами так и текут…
— Сумасбродка, — пробормотал директор, собирая рыболовную снасть.
А может, это было потому, что на новое солнце набежало тоже новое, первое в то утро, облако; девушка посмотрела на него хмуро, почти с ненавистью. Потом нагнулась к своим туфлям, стоявшим на камне, и изо всех сил швырнула одну из них вводу.
Деревянная подошва вынырнула на поверхность — туфля смело пустилась в плавание.
Девушка скрылась за поворотом тропинки. Через минуту она появилась на откосе над рекой, утренний ветер трепал на ней платье, голова казалась издали сверкающим пятнышком. Раскинув руки, девушка стояла, полная молодой истомы, — а над её головой грохотало шоссе, по которому шли десятки смертельно усталых людей.
На шоссе валялись сломанные ветки, покрытые почками, которые никогда не распустятся, поблёкшая зелень природы, взятая для маскировки, поблёкшая маскировка, не нужная никому. Потому что уже была подписана капитуляция и лишь запоздалые, шальные пули изредка посвистывали в воздухе.
Самоуверенность не всегда смешна. Иной раз бывает и наоборот.
Рыболов в зеленоватой, порядком поношенной куртке, который со спокойной уверенностью шагал по дороге среди несущихся грузовиков и бронетранспортеров, внушал уважение к себе. Вся его прямая фигура как бы говорила: я у себя дома, уважаемые.
И машины объезжали его, одна за другой. Ни один из водителей не улыбнулся, но ни один из них и не выругался. Как будто каждый день под ногами наступающей армии путались рыболовы с удочкой и коробкой для червей…
Только один человек обратил внимание на рыболова, но этот человек не был моторизован: он поспешал за грузовиками в коляске, запряжённой тремя белыми лошадьми. То была не русская тройка — всего лишь отслуживший своё барский экипаж с красной стёганой обивкой и потёртой маленькой короной на дверцах, на которых потрескался лак. Рыболов и возница отличались чем-то от всего, что их окружало, будто явились сюда из другого века, вероятно, поэтому они и вступили в беседу на повороте шоссе; возница, он же пассажир княжеского экипажа, закурил толстую самокрутку, с несколько критической усмешкой поджидая человека с удочкой.
— Добрый день, — поздоровался возница. Пыль, поднятая проходившей колонной, окутала его вместе с лошадьми; но вот он снова стал видимым — словно раздвинулся занавес. На одежде его было множество пуговиц, значков, ремней, орденов и медалей, но вряд ли он был тщеславен: ни одна пуговица не блестела. Всё на нём было пропылённое, серое, и сквозь эту серость пробивалась синева глаз. Необыкновенно синими были эти глаза, как-то по-особенному проницательные, даже вызывающие; немного насмешливые и в то же время жалостливые. И были они совсем деревенские — ничего в них не было от города!
А по званию он был сапёрный лейтенант.
— Ну как, клевала? — спросил лейтенант с высоты козел.
— Клевала, — ответил директор. — Вы — рыболов?
— Я рыболов, — сказал лейтенант в коляске. — Большой рыболов. Осетров ловлю. И форелей. Четыре кило. Озеро Рица, — знаешь, где оно?
— Знаю. Я преподаю географию.
— Географию? обрадовался сапёр. — А я носил глобус из кабинета.
— Хочешь рыбу?
Сапёр взял связку рыб, с видом знатока взвесил улов на руке и сказал пренебрежительно:
— Маленькие у вас рыбы. Маленькие реки, маленькие рыбы… Значит, преподаёшь… В школе?
— Я директор, — сухо сказал рыболов. — У вас тоже есть директор?
— У нас много директоров. Куда ни плюнь — директор, — ответил сапёр.
И оба так рассмеялись, что, казалось, скинули с плеч все семь лет войны. Смеялись они чуть-чуть над собой, отчасти — над рыбой, над маленькой короной на лакированной дверце и над коренником, который поднял хвост для не вполне приличного действия.
Потом синие глаза стали серьёзными; лейтенант вернул рыбу.
— В школе… мел есть?
— Есть, — ответил директор. — А что?
— Мне надо писать мелом, а мела нет. Мы убираем мины, а потом пишем на шоссе: «Мин нет»! Или пишем: «Я тут был, разминировано». И подпись… Хочешь мину?
— Нет, — подумав, ответил директор. Он вытащил блокнот, нашёл чистую страничку и написал, положив блокнот на коробку с червями:
«Коллега Глобилова, выдайте, пожалуйста, подателю сего мел из школьных запасов в требуемом количестве, но один пакет оставьте для надобностей школы. Зикан. 9 мая 1945 г.».
С ним поравнялось несколько танков. На четырёх, восторженно болтая ногами, сидели ученики пятого класса. Лишь один из них оказался достаточно воспитанным, чтоб вообще заметить директора и выразить это словами:
— Ребятааа, берегись! «Отец родины» нас приметил!
— Я тебе дам «отца родины», Кудрна! — перекричал директор грохот танков. — Вот не разрешу весеннюю прогулку! Никому! Записываю всех вас в блокнот! Я вам снижу отметку за поведение!
Танки проехали, а пан директор, улыбаясь, прошептал своим червякам:
— Счастливый ты, Кудрна! Тебе только десять лет.
И он поднял глаза на вершину холма к школе, перед которой лейтенант одним движением осадил скакавших галопом[19] лошадей.
Лестница в школе была деревянная и скрипела совсем таинственно. Последняя ступенька скрипнула дружески — она была ниже прочих и сильнее подгнила. За лестницей начинался коридор, тёмный, пахнувший плесенью, весной и свежевымытым полом.
Лейтенант по привычке шёл осторожно; через несколько шагов он даже зажёг длинный солдатский карманный фонарик: ему показалось, что в углу кто-то притаился.
А там в самом деле стояла фигура: железный заржавевший рыцарь в серебристом шлеме с перьями, объеденными молью[20]. Честь рыцаря явно страдала оттого, что на груди его висела белая табличка с надписью: «Доспехи XIII (XII) века, дар местной двухклассной школе от княгини Поликсены Турн-Таксис, урожденной де Даламбре». Над рыцарскими перьями висел портрет самой княгини, чрезвычайно тонкой в талии, но весьма пышной выше.
Сапер приподнял у рыцаря забрало: за ним зияла пустота. Рыцарь был без головы. Тогда пришелец по-приятельски щелкнул твёрдым ногтем по железному плечу. Он подумал, что это мог быть немецкий рыцарь-крестоносец — из Померании или из Мариенбурга… И рассердился на рыцаря за то, что тот сначала напугал его, а потом так разочаровал. Он произнёс какие-то неприличные слова, правда, по-русски, и пошёл дальше по коридору — к двери, под которой лежала полоска весёлого света.
Он тихонько отворил дверь и заглянул внутрь. Ещё открывая дверь, сапёр увидел последовательно три достопримечательности: пятно на стене — след от протекторатного герба, большую полотняную карту с наколотыми флажками — ничуть не меньшую, чем карта генерального штаба, — и, наконец, белый ситец с васильками и маками. Только после этого взгляд его нашёл четвёртую, самую примечательную достопримечательность: босоногую девушку, которая спала на кафедре, уронив на неё голову.
«Посвистеть? — спросил сам себя лейтенант. — Постучать? Кашлянуть? Или сесть за парту и обождать?»
Он выбрал последнее, сообразив, что при желании можно кашлять, стучать и свистеть сидя за партой, но что всё это не обязательно. Можно просто сидеть и смотреть, и не будет в этом никакого забвения долга: просто, исполняя служебную обязанность, ждёт человек выдачи мела.
Сидел он, сидел, осматривался. Побарабанил по парте — но тихонько, чтоб никого не разбудить. Потом в желобке парты нашёл маленький, совсем тоненький карандашик, неумело очинённый мальчишеским ножом. Из парты он вытянул довольно грязную тетрадь. На первой странице кто-то сообщал, что «Снег белый», что «У кобылы худые бока» и что «Тополь высокое дерево». Лейтенант согласился, хотя и не совсем понял. В конце одной из фраз не было точки. Лейтенант осторожно пририсовал её тоненьким карандашиком в надежде, что никто не заметит, что эта точка — русская.
Он ещё не поднял головы, как почувствовал, что его застали врасплох. И порадовался, что глаза, смотревшие на него, — такие молодые и затуманенные — может быть, со сна, а может быть — от природы. Глаза были удивленно круглые и чёрные — как будто все ученики посадили в них чернильные кляксы.
Девушка смотрела на его правую руку, большую и загорелую; рука лежала на коричневой крышке парты, словно была сделана из того же куска дерева. «Ногти бы подстриг, медведь», — подумала она строго.
А так как под этой мыслью скрывалась ещё одна, которую не пускали всплыть, — мысль об этой руке, о том, какова она, если прикоснуться к ней, — то девушка быстро проговорила первое, что ей пришло в голову:
— Кто вы? Что вам надо?
— Я сапёр, — ответил он смущённо и ещё раз мимолетно глянул туда, куда смотреть не следовало: по опыту военного человека он знал — то, что видишь сегодня, завтра, быть может, уже не будет. Он поднялся с парты тяжело, неохотно — давно ему так хорошо не сиделось; на весь класс скрипнули его потрескавшиеся, нечищеные старые сапоги; сапёр так старался не споткнуться, что споткнулся.
Когда солдат смущён, он начинает ругаться или как-либо иначе проявляет свою мужественность. Ругаться лейтенанту было нельзя, поэтому он начал искать что-то по карманам, а было их у него очень много. В конце концов он всё-таки выругался, но по-русски и вполне литературно, и тут нашёл записку директора, правый верхний угол её успел замаслиться, но прочитать её ещё было возможно.
— Читай, — сказал он, — директор тебе пишет.
И впервые он окинул синим взглядом васильки и маки на белом ситце, босую щиколотку и голые пальцы на ногах. Пальцы чуть-чуть поджались.
Девушка быстро прошла к доске. Там она чувствовала себя увереннее. Взяла мелок и спросила, широко раскрыв глаза:
— То?
— То, — кивнул он и обрадовался, что так скоро научился по-чешски.
— Почкей, — произнесла она строго. — Я гнед пршиду[21].
Но в дверях обернулась, чувствуя, что он стоит и смотрит на неё. И сказала высоким, неуверенным голосом:
— Седни си до лавице а чти си[22].
И он — поскольку так быстро научился по-чешски — послушно сел за первую парту и посмотрел на девушку с таким умным видом, что она не могла уйти и закрыть за собой дверь.
Но он больше ничего не говорил. Вытащил из парты букварь, весь в чернильных кляксах; каждая клякса была обведена красным карандашом. Лейтенант медленно переворачивал страницы: несколько картинок без надписей, потом — первое слово этой первой книги. И это слово было: «ма-ма».
Он прочитал его вслух; дверь скрипнула — и вдруг девушка почувствовала волнение, словно она-то и была матерью этого парня в замасленной гимнастерке.
— Маму машь?[23] — спросила она.
Глаза его закрылись, а губы ответили:
— Машь.
— Пише?
— Не пишет.
Теперь сконфузилась она — не за высказанный вопрос, а за тот, который уже вертелся на языке. Единственное, что она сумела, — выдержать холодный, безразличный тон. Ей это удалось, хоть никто её этому не обучал.
— Жена е?[24]
— Нет! — ответила парта.
— А девушка е?
— Нет! — повторила парта.
— Неповидей![25] — сказала учительница. — Ты лжёшь.
Но парта клялась так искренне, как это делают все школьные парты.
— Это я-то лгу? — говорила парта. — Я, который никогда не врал? Я, у которого нет никого? И я — лгу?
— Лжешь, — скрипела обрадованная дверь, — лжешь а лжёшь. Я ти видим до душе. На дно ти видим. А е там черны флек![26]
Тогда парта очень огорчилась, как умеют огорчаться школьные парты, — не вполне искренне.
А дверь радовалась, что у парты никого нет, и стыдилась своей радости. Она подумала:
«Что же мне делать? Уйти — ему будет грустно одному. А остаться — он не получит мела…» — И она сказала:
— Пойдь![27]
Она пошла по коридору впереди. Остановилась возле баночки из-под горчицы, в которой стояла бледная повилика. Наклонила слегка голову и сказала — может, цветку, а может, себе:
— Мало машь светла, мало[28].
Лейтенант, человек практический и хорошо узнавший ещё в бытность свою на родине, что такое свет, подошёл к окну и сорвал чёрную бумажную штору. Так что для этой школы война окончилась только сейчас.
Оба стояли у окна, омытые ярким майским солнцем, — и вдруг у девушки, уже в третий раз сегодня, на глазах выступили слезы — а ведь плакала она очень редко. Она порывисто вздохнула — опытному лейтенанту даже не надо было оборачиваться. Он тоже вздохнул — из дипломатической вежливости. Этот человек прошёл войну, и впервые до него дошло, что вот он её и пережил. Он засмеялся, тихонько, про себя, так что она ничего не заметила, и подумал по-русски:
«Ах ты, краса, красавица моя…»
И мы не знаем, имел ли он в виду свою жизнь или девушку, потому что в русском языке и «жизнь» — женского рода.
Это была очень странная комната, нечто среднее между учительской на двоих учителей, музеем природоведения и краеведческой коллекцией для всех поколений одной деревни.
Здесь царил зеленоватый полумрак от большого аквариума, в котором плавала одинокая рыбка. Она одна из всего аквариума пережила войну, — вероятно, потому, что была не такой золотой, как те, которые погибли.
Посередине стоял длинный стол, такой же, как во всех учительских в начальных и сельских школах; к столу придвинуты два стула — один во главе, для директора, второй — на другом конце, для младшей учительницы, Глобиловой.
В углу прижалась захватанная фисгармония, противоположную стену занимала большая застеклённая витрина с чучелами: два довольно облезлых скворца; орёл с распростертыми крыльями, очень мирного вида, видимо, твёрдо решивший никогда и никуда больше не лететь; полевая мышь, которая и после смерти сохранила недосягаемую красоту хвоста, а также бодрый и лукавый вид, присущий её племени; рыжая лиса, ящичек с бабочками и под большой паутиной — паук-крестовик и его супруга.
Сбоку от витрины стоял поникший скелет. Вид у него был скромный и довольно приветливый. Все наиболее важные кости были налицо, потому что этот экспонат внушал уважение и даже некоторую робость учащейся молодежи.
Этот бывший человек оказался первым предметом, на который упал взор несколько взволнованного лейтенанта. Он подошёл к скелету с легким колебанием, по-приятельски поднял его руку, хрустнувшую от неожиданности, и пробормотал что-то вроде: «Здорово, кума!»
Ведь в русском языке смерть — тоже женского рода.
— Здорово, Евгений, — тонким голосом ответил он вместо скелета, полагая, что днем скелеты не разговаривают.
— Ушёл я от тебя, кума, — сказал он потом своим обычным голосом.
— Ушёл, Геня, — согласилась смерть.
— Так как же, кума, — произнес голос сапера. — Дальше-то что?
— Ничего, сынок, я ещё приду, — отозвалась смерть.
Учительница Глобилова сидела на своём месте, на нижнем конце длинного стола; ей не смеялось.
— Нэх го, — сказала она. — Нэжертуй, Евгений…[29]
Выговорив это, она осеклась и покраснела — вся, до самых щиколоток.
А он даже не заметил, что она назвала его по имени; он осматривал этот маленький, странный музей: подошёл к одинокой, почти золотой рыбке, пожалел её, а лотом отвернулся — увидел в углу фисгармонию.
— Играешь? — спросил он.
— Мало, — ответила девушка и впервые по-настоящему об этом пожалела.
— Сыграй, — попросил он.
Она подошла, начала играть, и, к её удивлению, получалось неплохо. Знала она много песен, знала и Баха, и играла теперь песню о том, как «летел сокол, белая птица», и всё повторяла, повторяла мелодию в новых и новых вариациях, всё нежнее, взволнованнее.
Дождалась своего часа старая фисгармония — впервые с тех пор, как влюбилась в молодого гонведа госпожа Поликсена Турн-Таксис, урождённая де Даламбре, а гонвед потешился её любовью, да и уехал.
И кабинет природоведения дождался своего часа; сапер оценил все его прелести — облезлого скворца, рыжую лису, орла, который не хочет больше летать, и самое кумушку-смерть, стянутую медной проволокой, оставшейся от радиопроводки.
Он ходил от одного экспоната к другому, с удовольствием курил и слушал. А девушка играла и уговаривала себя, что вовсе не видит, как он курит, потому что курить в школе запрещено.
Он смотрел — почти что украдкой — на её спину, видел хрупкость девушки и белизну, видел чёрное гнездо её волос, и сладкое чувство закралось ему в сердце. Но он был старый сапёр, и он сказал себе:
«Ты на рыжую лису смотри, Евгений, на золотую рыбку взгляни, на коллекцию бабочек!»
Девушка резко оборвала песню посреди соколиного полёта, встала и подошла к маленькому шкафчику с большим висячим замком. Потом молча выложила шесть больших пачек мела и сказала, глядя на лейтенанта ещё влажными глазами:
— Вот — всё.
Он смял окурок и положил его на угол длинного стола, перед стулом директора.
— Спасибо, — сказал он. — А как тебя звать, учительница?
— Угадай!
— Ты Вера?
— Я не Вера.
— Ты Надя?
— Я не Надя.
— Ты Соня?
— Я не Соня, — сказала она ревниво. — Ты их всех знал?
— Я? — спросил он. — Я — нет!
— Чего ты смотришь?
— Я смотрю? Нет.
— Смотришь, — сказала она. — Евгений, бери пакет. И иди.
— Я?
— Да, ты, — сказала она печально.
— Дать расписку? — серьёзно спросил он.
— Не надо, — ответила она неожиданно слабеньким и таким девичьим голоском. И снова подошла к шкафу с большим висячим замком, за которым был скрыт ещё один экспонат, причём так хорошо, что совсем ускользнул от внимания сапёра. Это был аппарат для опытов по электричеству, большое колесо с рукояткой — одно из тех простых приспособлений для совершения чудес, которые вызывают пристальный интерес к физике даже у самых рассеянных и заядлых — у тех, кто читает книжки под партами, дуется в шарики да лазает по вишневым и грушевым деревьям.
Девушка поставила аппарат на шкафчик и раскрутила колесо.
На двух стержнях были насажены серые шарики. Казалось, каждый из них — сам по себе. Но вдруг между ними с легким треском проскочила искра.
— Молния, — сказала девушка. И вышла. «Эх, не умеешь ты с девушками обращаться, — строго сказал Евгений не то скелету, не то самому себе. — Тебе бы поговорить о Пушкине, об Онегине и Татьяне, о Джульетте, об этой… как её… о Маргарите. Не хватает тебе образования, не хватает терпения, и плохо ты изучил тактику боя малыми подразделениями. Не умеешь ты держать себя за границей, Евгений Иванович. Ты осёл».
Он покачал головой, покрутил колесо, чтобы полюбоваться детской молнией — маленькой голубой искрой. Потом забрал мел — все шесть пачек одной рукой — и заглянул в класс; там никого не было. Он вошёл, положил мел на первую парту, взял тот самый мелок, который держала она, и написал на доске большими буквами свой адрес:
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ БЫЧКОВ
БАКУ, УЛИЦА РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 193
Внизу он нарисовал несколько волнистых линий — и это было Чёрное море[30]. Затем нарисовал нефтяную вышку — а что означало это, знает один господь бог. Потом он тщательно завернул мелок в записку директора и спрятал в левый верхний карман гимнастерки.
Из первой пачки он вынул три больших мелка и положил их на то место, где взял кусочек. И, выйдя, стегнул кнутом по всем трём своим белым коням и покатил в пыли — то была уже не военная пыль, но всё та же пыль. Лейтенант ни разу не оглянулся, не посмотрел ни на одно окно, ни на одну дверь. И всё твердил себе, что в другой раз прежде всего спросит, как зовут: Марженка или Гелена, Квета или Лида, Анастазия или Тереза.
А на берегу реки черноволосая девушка в белом платье бросала в воду камешки, притворяясь, что ловит туфлю с деревянной подошвой, которая давным-давно плыла где-то по направлению к морю. Вблизи никого не было, одни только деревья, и девушка сбросила с себя васильки и маки и погрузилась в холодную воду. Над ней было небо с двумя чёрными тучами, которые едва-едва разминулись. Обе несли в себе положительные заряды — и так и унесли их вдаль.
Девушка видела их в глубине реки — тучи купались вместе с ней. Она дала им уплыть и, достав ногами песок, встала. Солнце было высоко над рекой, сосало воду каплю за каплей. Девушка посмотрела на тонкую фигурку в воде, неподвижную среди кустов, разбегающихся во все стороны. И в ней шевельнулась странная мысль: что у неё, собственно, два тела, но только одно принадлежит ей.
Директор, проходя по коридору, увидел приоткрытую дверь в кабинет. Он убрал на место аппарат для производства детских молний, накормил почти золотую рыбку и брезгливо вытер стол возле своего места, где ещё тлел толстый окурок. Затем он вошёл в класс, удивился при виде трёх больших мелков и, как человек экономный, спрятал два из них в ящик кафедры. Ещё больше он удивился, взглянув на исписанную доску. Взял тряпку, намочил её и стёр — сначала буквы, потом волны и, наконец, маленькую нефтяную вышку, бог знает что означавшую. Потом он пополоскал тряпку под краном, выжал её и повесил сушиться на гвоздик под сверкающей чёрной пустотой доски.
Ромео
Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер
Редкая эпоха благоприятствует влюблённым, собственно говоря, ни одна им не благоприятствует. Вечный Ромео и Вечная Юлия скитаются по свету; только балконы меняются да нянюшек становится меньше, а злобы людской — гораздо больше. За окном по тёмной улице блуждает ревущий раскалённый танк. Ищет свою колонну.
Это, конечно, не мешает влюблённым; их либо не разбудишь, либо не заставишь уснуть. Они жмутся друг к другу на тесном ложе; от этого, естественно, и стеснение у них в груди.
Одна чешская, не в меру синеглазая Юлинька из старого пражского рода оптовых торговцев копчёностями, некая Медвидкова, нашла себе в нескладные годы протектората смугловатого Ромео на чуть смешных журавлиных ногах, с наивной, хотя и еврейской головой. Выбрала его Юлинька добровольно и безоговорочно. Сказала себе — он будет мой, а уж чего Медвидковы захотят, того добьются. Юлинька полюбила Ромео за робость и за неё же горько упрекала его долгими взглядами, которые могли означать не только упрёк, но и многое другое. Им не было ещё восемнадцати, даже семнадцати лет. Кто-то зажёг их любовь, как свечу на заброшенном кладбище, и её ласковый огонёк теплился в дождливой ветреной темноте, освещая могилы мягким жёлтым светом. Это был единственный дозволенный свет в годы затемнения — и не столько дозволенный, сколько умалчиваемый. Некстати было поминать кладбище в распоряжениях властей.
Полгода Юлинька гуляла с Ромео, буквально гуляла. От долгих прогулок у Юлиньки уже болели ноги. А они у неё были прелестные, со светлым пушком и удивлёнными лодыжками.
Однажды наш долговязый Ромео получил повестку на отправку в концлагерь. Он показал её Юлиньке; они стояли у серой пражской стены, облепленной плакатами.
— Разорви, — сказала Юлинька, — и поцелуй меня. Но не так, как ты всегда меня целуешь. По-другому. Не закрытым — открытым ртом.
Так наступила их ночь. Они решили, что будут принадлежать друг другу. Юноша только подумал об этом, а Юлинька всё устроила. Позади одной из отцовских колбасных, в которой нечего было продавать, была каморка. Юлинька, как могла, убрала её, на стену повесила «Голубую Прагу» Шателика, самую голубую из всех, настольную лампу накрыла розовым в крапинку абажуром. Рядом с лампой посадила куклу — ужасно симпатичного бродягу, очевидно, забулдыгу и пьяницу, в общем, настоящего мужчину. Кровать в комнатке была, как полагается, узкая, но с чистым бельем, а на столе стоял будильник, чтобы оливковый Тонда не проспал отправки. Повестку аккуратно подклеили. Её подклеил папа Тонды — он работал в страхкассе.
— Тонда, ну скажи хоть слово! — попросила его наша Юлинька. — Или ничего не говори, ты прав. Давай есть сардины. Тонда, ты мне рад?
Юлинька была нарядной в своем чёрном бархатном платье и в мамином великолепном белье. Её маленькие груди излучали тепло, и это было очень кстати. В комнатке, правда, стояла железная печурка, но угля для неё не было. На ужин они ели сардины с лимоном и крутые яйца с солью, а потом, взявшись за руки, сидели на белой кровати, потому что стульев не было. Юлинька смотрела на длинные руки Ромео, и они дрожали. Ей очень нравилось, что они дрожат. Потом она просто легла на кровать, как-то очень честно и, может быть, — соблазнительно.
— Что у вас было на обед? — спросила она. — Тонда, как бы мне хотелось покупать с тобой мебель! Я бы выбирала, а ты — соглашался со мной.
Тонда задумчиво смотрел на мужественного бродягу, а Юлинька, рассердившись, спросила:
— Что тебе, собственно, нравится во мне? Ведь сама я себе страшно не нравлюсь.
Тонда всё ниже склонялся над Юлинькой, как рок, его тёмные глаза стали серьёзными и, не зная, что сказать, он потянул серебряную молнию на левом боку платья. Молния была красиво сделана, но — из материала военных лет, а Ромео был деликатным юношей. Однако он потянул ещё раз.
— Нет, нет, Тонда, прошу тебя, нет, — шептала Юлинька. — Пожалуйста, Тоник, будь умницей, не надо, ладно?
И вдруг одним рывком, в котором воплотилась вся извечная женственность, она приподнялась, подставляя молнию к его губам. Запрокинув светлую славянскую головку, со словами: «Нет, нет, прошу тебя, нет…» — Юлинька ожидала приближающуюся сладостную бурю. Ей хотелось, чтобы её перенесли через порог и бросили на ложе. Втайне она надеялась и на непрочность маминого шёлкового белья. У неё была чудесная мама.
— Юлинька, — сказал Ромео, который не ел как следует уже три дня, а может, и три года, — я так люблю тебя. Понимаешь? Ужасно. Просто ужасно.
Потом он сел. И сидя заснул.
Бледное осеннее утро застало их на белой кровати, чуточку, совсем чуточку измятой. Юлинька всё ещё была в своём праздничном платье из самого чёрного бархата, у Ромео был небрежно распущен галстук, а пиджак висел на вешалке. Они разговаривали о мебели, какая она была бы, если б была…
Всю войну сколько плакала Юлинька оттого, что Тонда её не хотел, и почему он её не хотел, и как это могло случиться, что он её тогда не хотел. Она смотрелась в зеркало и в конце концов всегда улыбалась — так она себе нравилась.
Она собиралась попробовать это с другим, проверить, есть ли в ней то, что привлекает мужчин, но не решилась и прождала Тонду целых семь лет. А потом, в двадцать пять лет, вышла замуж за фармацевта, который был также пловцом-спортсменом.
Лебл
Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер
В годы второй мировой войны некоторым крестьянам в Бржезинках жилось неплохо. Они осознали своё значение. А когда читали сообщения с фронта, всё им чудилось, как шуршит жёлтое зерно, лениво пересыпаясь в закромах.
Время от времени их дразнил запах окорока в кладовке, но крестьяне не трогали его. Плескалось винцо в оплетённых бутылях, но они его не пили. Они стали вроде лавочника на пороге лавки: ждали, потирая руки. Встречая кого-нибудь на дороге, не здоровались: «Благословен Иисус Христос!», а смотрели, вежливо ли поздоровается с ними прохожий, велик ли его чемодан и что он в нём несёт.
Большое чувство собственного достоинства появилось тогда у крестьянского сословия; и предки в могилах распрямили кости.
Поэтому все были поражены, когда Вацлав Лебл, тоже крестьянин, и довольно зажиточный, отколол такую штуку. Все мы любим почудить, говорили крестьяне, но ведь и чудить надо с умом. Чуди, да знай меру. И в политику не суйся, помни о своей скотине, которая два раза в день есть хочет.
Леблы жили в Бржезинках испокон веков, их поля тянулись от речки до леса, да ещё за рекой был сочный луг. Их уважали и почитали за бережливость и трудолюбие; жили они подолгу, а хоронили их пышно, иной раз с двумя оркестрами. Все Леблы брали себе жен из Бржезинок, и только двое привели невест из Коломази. Ну и поплатились за это.
Только Вацлав Лебл женился на сироте неизвестного происхождения из районного города; звали её Рези, и о ней шушукались, причём не очень тихо, что она еврейка.
Это была невзрачная, робкая женщина, похожая скорее на батрачку, чем на хозяйку, малость неряшливая, не умная и не глупая, в общем, ни то ни се. Почему женился на ней этот Лебл и за что он так по-городскому любил её, никто понять не мог — ни преподобный отец, ни староста.
Женщины, правда, догадывались, и каждая говорила про себя: «Вашек, Вашек, неужели ты думаешь, что я так не сумела бы?»
Рези родила Вацлаву близнецов, двух совершенно одинаковых четырехкилограммовых мальчишек, синеглазых и горластых. Это подняло её в общем мнении и принесло ей почет. Никто больше не сплетничал, что она доит коров в грязный подойник.
Во время войны Вацлав Лебл получил повестку от старосты. Пошёл он к нему и слышит такой вздор:
— Вацлав, правда, что твоя Рези еврейка? Прости, Вацлав, что я об этом спрашиваю, для меня еврей и цыган тоже люди, но вот предписание из гестапо… Что тебе объяснять, Веноуш? Лучше, если ты прямо скажешь. Ну, как же? Да или нет?
— Я не знаю, — ответил Вацлав Лебл, а сам покраснел как варёный рак. — Я её никогда об этом не спрашивал и спрашивать не буду.
Так ничего толком и не добились от него.
В конце концов староста, — тогда старостой был Иозеф Хумачек, — видя такое упорство, вышел из себя и говорит:
— Значит, еврейка она, Вацлав! И ещё скажи мне, как мужчина мужчине: вы сами-то, Леблы, не странный ли народ? Не обижайся, Вацлав, но где ты видел в Чехии мужика с фамилией Лебл?
— Я зовусь Лебл, — отвечает Лебл, — а кому это не нравится, пусть поцелует меня в задницу. Ах ты, паршивая рожа, голь перекатная, нахал, может, ещё о чём спросишь?
— Я тебя спрашиваю как официальное лицо, и нечего ругаться! — захрипел Иозеф Хумачек. — А не умеешь вести себя по-человечески, так бери этот конверт и отправляйся с богом. Здесь висит портрет главы государства, и говорить здесь о задницах не полагается.
Вышел Вацлав Лебл на солнышко, пахнуло на него свежим воздухом с навозной кучи старосты, и он подумал: «Хорошо ещё, что в деревне честное дерьмо…»
Потом Вацлав раскрыл письмо на имя пани Рези Лебловой от какой-то религиозной общины или чего-то в этом роде; в письме была жёлтая полотняная звезда — только одна, для пани Рези.
Вацлав Лебл всё-таки происходил из старого крестьянского рода, и потому он первым долгом завернул в трактир. Там он выпил — всему вёлся точный счет — одиннадцать рюмок водки, шесть кружек пива и ещё рюмку. Потом потребовал от трактирщика Шпидлы английскую булавку и при всём честном народе приколол себе большую жёлтую звезду; выпятив грудь, он закричал на весь трактир:
— А ну, ступайте-ка к этому косоглазому бесноватому болвану и скажите, мол, в верхнем трактире в Бржезинках сидит старый еврей Вацлав Лебл и ждёт, чтобы его забрали.
Под бесноватым болваном он подразумевал, конечно, самого главу Германской империи.
Это слышали двадцать два человека, в том числе один шпик, один доносчик и один гайдовец[31].
Весь трактир с изумлением оглянулся на Вацлава, который никогда до такого не допивался. Наоборот, в пьяном виде он обычно делался плаксивым, ласковым и сентиментальным.
Шпик, который во всём любил ясность, спросил его:
— Вацлав, ты это про кого?
— Боже мой, — говорит Вацлав Лебл, — я и не знал, как прекрасно быть евреем. Вот смотрю я на вас, католики несчастные, святоши глупые, и жалко мне вас! И коли хватит смелости принять от меня, — хозяин, угощаю всех!
Смелости хватило у всех, в том числе у трактирщика Шпидлы. А шпик выпил первым, чтобы успеть сбегать в жандармский участок. На прощанье они ещё обнялись с Вацлавом Леблом и похлопали друг друга по спине.
— Вацлав, — говорит этот тайный агент, некий Выкус, — у тебя спина как у быка, только ради бога не дерись, что бы ни было.
— Господи, ребята, до чего же мне вас жалко, что вы не евреи! — твердил Вацлав Лебл.
Он сел, и видно было, что ему в самом деле их жалко. Он пристально разглядывал всех по очереди.
Его арестовали ещё до ужина, но звезду он не позволил снять.
— Франтишек, — сказал он вахмистру, — оставь ты мне эту звезду, и я пойду по-хорошему.
Потом он попрощался с семьёй, но как — этого никто не знает. Вахмистр сохранил служебную тайну.
Все Бржезинки провожали Вацлава Лебла до распятия На козичке, женщины плакали, а мужчины качали головами, — мол, что за дурь нашла на этого Вацлава. Вспомнили, что двое из Леблов, Вавржинец и Ржегорж, были гуситами и сражались ещё под Хлумцем. В конце концов сошлись на том, что Вацлав свихнулся, и разошлись по домам кормить скотину.
В участке составили протокол. В нем было записано примерно следующее:
«Вацлав Лебл, родившийся в Бржезинках, район… и т. д. 24 февраля 1889 года, по национальности чех, вероисповедание римско-католическое, гражданин протектората „Böhmen und Mähren“[32], раса арийская, самовольно приколол себе в общественном месте (трактир) звезду Давида, эмблему международной еврейской плутократии (а также сионских мудрецов), оскорбил фюрера германской нации и т. д. и т. п.».
Случилось так, что в то время не было чрезвычайного положения, и Вацлав Лебл отделался отправкой в концлагерь. Разбирая развалины после воздушного налета, он познакомился там с Мошелесом, бывшим главным раввином Роттердама. Родом Мошелес был из чешского города Тршебич.
Когда Вацлав Лебл рассказал ему свою историю, Мошелес воспылал к нему искренней симпатией и подумал: «Как прозорлив бог толп! В то время, когда дети Израиля падают, будто колосья, скошенные огненной косой, он внушает этому твердолобому крестьянину мысль приколоть звезду Давида и воскликнуть: блажен сын избранного народа. Аминь!»
У Мошелеса зародилась тайная мысль, и он принялся наставлять Вацлава Лебла в иудаизме. Вацлав ничего не имел против, потому что пан Мошелес, хотя и учил его, но урока не спрашивал.
Настало время, когда высохший, как осенний лист, старый Мошелес, жизнь в котором поддерживал лишь некий таинственный небесный огонь, почувствовал, что огонь этот постепенно угасает. Тогда Мошелес пришёл к Леблу и сказал ему:
— Пан Лебл, раз уж вы надели на себя звезду почёта и позора, перейдите в нашу веру. Она ничем не хуже католической или протестантской, так как обе пошли от нашей веры и все они от бога. Когда я смотрю на ваше стройное загорелое тело, обнажённое на солнце, я думаю: быть может, Лебл будет единственным израильтянином, которому дано пережить это божье попущение, чтоб помолиться за умерших. За всех нас.
Он позволил Вацлаву Леблу обойтись без обрезания, — что Вацлав поставил условием, — принял его в иудейскую веру и научил молиться за умерших. Потом он увидел, что наступил его час, и умер; умер не от огня, не от газа и не от пули в затылок: он уснул на нарах, закрывшись одеялом.
Вскоре после этого кончилась война, и Вацлав Лебл вернулся в Бржезинки. Он возвращался по той же дороге, по которой уходил, — мимо распятия На козичке, мимо верхнего трактира, мимо заново побелённого дома старосты, у которого в амбаре стоял рояль. Лебл шёл прямо, в окна никому не заглядывал — взор его был устремлён вперед. Дома он никого не нашёл, ни Рези, ни близнецов. По привычке он исправил в хозяйстве то, что можно было исправить, подышал запахом доброго навоза, побраконьерствовал туманным утром, а потом продал своё хозяйство и ушёл.
Люди знали, что живёт он в доме для престарелых евреев в одном курортном городке. Но так как Лебл уже никого и ничем не мог удивить, то об этом говорили так, между прочим, без всякого волнения.
За год усы у Лебла приобрели цвет снятого молока и стали такими длинными, что он смахивал на драгунского вахмистра в отставке. Фигура у него была поистине мужицкая, глаза голубые, как незабудки, а нос, хоть и большой, но прямой, как линейка. Так что Лебл несколько выделялся в этом доме для престарелых.
Изредка он тайком заходил в трактир съесть жареной или вареной свинины с хреном, богослужения принципиально не посещал и только раз под Рождество пел коляды. Он весело говорил себе: «Ну я что, Иисус Христос тоже был евреем».
Он даже завёл роман с бывшей прима-балериной венской оперы, и все старушки завидовали, что у неё такой моложавый поклонник, который ещё умеет так взглянуть, что и у старой женщины дух захватит.
Однажды Лебла навестил сын старого Выкуса из Бржезинок. Он приехал на курорт по путевке как образцовый работник сельскохозяйственного кооператива. Молодой Выкус осмотрелся. Он уже успел привыкнуть к роскоши, — ведь его поместили в отеле «Виндзор», в спальне одного из адъютантов принца Уэльского, — но всё-таки нашёл, что Лебл прекрасно устроился на старости лет.
Поговорили о том, как надо сажать картофель, о кукурузе, о старом Выкусе, который только что купил для молодых телевизор с большим экраном и устроил в их доме уборную со спуском.
— Папа часто вас вспоминает, дядюшка, — рассказывал молодой Выкус, — а на днях говорит маме: до самой своей смерти буду жалеть, что тогда я тоже не угостил всех!..
— Что ж, передай ему привет, как будешь писать домой, — сказал Вацлав, — и напиши, что я живу хорошо и всё у меня есть. Но тебе одному я скажу, Войта, отцу об этом не пиши: был бы я здесь совершенно счастлив, да вот не люблю я евреев.
Пропал кондитер
Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер
На свете всегда больше голодных, чем сытых, и рассказы о голоде одно время были даже в моде. Установлено, что газетные сообщения о случаях голодной смерти вызывают выделение желудочного сока. И вот в этом плане я расскажу вам историю некоего Богумила Рошкота, бывшего книготорговца, дегустатора вин и большого гурмана.
Богумил Рошкот попал по недоразумению в один из живописно расположенных концлагерей, в стороне от городской суеты; он прожил там неполных шесть месяцев и за это сравнительно короткое время до того отощал, что даже ложка казалась ему тяжёлой. Остались от него только кожа да воспоминания — о разных ресторанах и барах, о сверкающих стойках, о строгой красоте барменш, заливных угрях, супе «буйябас»[33], пармезане и любимой «Бзенецкой липке»[34].
Итак, он жил воспоминаниями, однако и воспоминания требуют пищи. Под конец он мог уделять им лишь по нескольку минут, перед тем как заснуть на деревянных, умеренно заселённых клопами нарах. Тогда Богумил Рошкот обычно подзывал к себе своего приятеля Альберта Яна из Кромержижи, чтобы всласть потолковать с ним о еде, о том, что они съели бы и какие вообще существуют на свете вкусные вещи.
— Знаешь, Альберт, что бы я съел сегодня? — говорил Рошкот. — Сегодня у меня какие-то изощрённые желания. Ты не поверишь, но я заказал бы обыкновенный картофельный суп, он назывался у нас «баби». А потом попросил бы самую обыкновенную отбивную и салат из огурцов. Нечего удивленно смотреть на меня, сегодня я ничего больше не стану есть. Мне этого вполне хватит. Не желаю я каждый день ломать голову над меню, и не просите. У меня даже фантазия истощилась от недоедания.
— Ну что ж, бывает, — отвечал Альберт Ян, — просто ты вкус потерял, и всё. Это вполне естественно. Значит, тебе сегодня в глотку не лезет. Ты мне только одно скажи, Богоушек: помню, официант у Шроубека принёс мне к кофе два куска рулета, и я один оставил на тарелке или, кажется, только отщипнул маленький кусочек. Скажи, допустимо такое? А если допустимо, то каким образом? Не могу себе представить, Богоуш, чтоб я заказал, скажем… ну, например, сразу сто тридцать одно пирожное, пусть лёгкие, а съел бы только сто тридцать.
Так они сумерничали, а потом засыпали: кожа да кости, и скудные сны под утро.
На следующий день они говорили о гренках и о том, как делается натуральный ростбиф, и чуть навсегда не рассорились из-за галушек.
— Это ты мне объясняешь, что такое галушки? Альберту Яну будешь рассказывать о словацких галушках… Альберту Яну? Кого в наказание перевели в Требишов? Тебя или Альберта Яна?
Потом они помирились, заказали ещё по бефстроганову с хрупкой спаржей и смолянисто-чёрными маслинами и легли спать. И вот от этого восхитительного забытья, розоватого от крови бифштекса, их разбудили.
— Auf![35] И пошевеливайтесь, свиньи! Schnell, schnell, ruck, zuck![36] Ну, скоро вы?
В тот вечер блокляйтер примчался мокрый как мышь; ему понадобился… кондитер.
— Скоты, — сказал он, — встать каждому у своих нар, руки по швам, смирно. Кто из вас кондитер, доложи: «Zuckerbäcker hier!»[37] Нам немедленно нужен квалифицированный кондитер, это Staatssache — strenggeheim[38].
И тогда Богумил Рошкот решился. Такие переломные моменты бывают у всех нерешительных людей. Словно молния озарит всё происходящее — как ландшафт в ночи, — и они выходят из шеренги; но это — лишь насилие над самим собой и не даёт им никакого облегчения. Потому что нерешительный, решившись на что-либо, тотчас жалеет об этом. К счастью — поздно.
— Hier, — произнёс Богумил Рошкот и оцепенел. «Пойду, — сказал он себе мысленно, — каждый философ до некоторой степени и кондитер. Я всего лишь маленький человек — чех, я хочу увидеть сливки и хочу разбивать яйца. Прощай, Альберт Ян, я и за тебя наемся. Господи, что я делаю?..»
Тут к Рошкоту подошёл блокляйтер, рассматривая его уже как квалифицированного кондитера:
— Ну, скажи нам, где же была твоя вонючая кондитерская и какие там были трубочки с кремом? Ходить-то ещё можешь? Ну, отправляйся, да по дороге повтори все известные на свете рецепты — marrons glacees[39], липецкий торт, лапшу с малиновым соком. Сыпь! Ты, часом, не в сорочке родился?
Но Рошкот родился не в сорочке, и в этом, может, и было всё дело. Он ничего больше не сказал, только обменялся долгим взглядом с Альбертом Яном, который всё ещё стоял смирно, хотя давно скомандовали вольно. Махнув рукой всему бараку, Рошкот исчез.
Блокляйтер лично принёс ему белоснежный поварской колпак и фартук с оборкой ещё белее колпака и удовлетворённо осмотрел его со всех сторон, ибо и блокляйтерам присуща радость творчества.
Перед домиком коменданта они как следует обтерли ботинки, блокляйтер ловко взбил на Рошкоте белый колпак, разровнял оборки на фартуке и сильным тумаком настолько поднял настроение Рошкота, что тот стал выглядеть вполне жизнерадостно.
В домике пахло молотым кофе, корейкой и вообще Gemütlichkeit[40]. Дети орали: «Mutti»[41], часы пробили девять, а у плиты, приятно пышушей жаром, стояла комендантша, тоже в фартуке с оборкой; от нее пахло ванильным порошком и гордым сознанием материнства.
Она приняла рапорт, потом быстро защебетала — Zuckerbäcker, bitteschön… Hauptkommando[42] торжественно подвела онемевшего Рошкота к огромной корзине, из которой выпирали здоровенный кусок жёлтого масла, пятикилограммовая коробка сахара Модржанского рафинадного завода, чуть ли не мешок какао ван Гуттена с изображением розовощекой голландки, изюм, миндаль и искусственный мед. Там же лежало несколько десятков яиц.
В желудке Богумила Рошкота взыграл желудочный сок, подобно прибою, бьющему о скалы. Рошкот подумал об Альберте Яне и мысленно послал ему привет.
— Теперь я скажу вам, — обратилась хозяйка к Рошкоту, — как я себе это представляю. — Это будут скорее предложения, чем пожелания. Я хотела бы, чтобы это было нечто особенно изысканное и в то же время диетическое, в меру, конечно. Дело в том, что к нам приедет Feinschmecker, Sonderbeauftragter[43] Гиммлера, такой милый, редкостной души человек, бывший часовщик и золотых дел мастер.
Однако Рошкот умел делать только бисквит, да и в этом был не совсем твёрд.
— Я бы вам посоветовал бисквит, — сказал он. — Это диетическое блюдо, сударыня. И при этом есть в нем что-то благородное. Бисквит — изысканное блюдо, мадам. И если позволите сделать такое сравнение, это любимый десерт голландской кронпринцессы Юлианы, которая, пардон, столь плодовита. В этом, несомненно, отчасти заслуга и немецкого князя фон дер Липпе, за которым, как вы, наверное, знаете, она замужем.
— Шаумбург-Липпе старинный род, — сказала «мутти». — Мне очень приятно, что из числа заключенных выбрали такого культурного кондитера. Обычно мне присылают совершенных олухов. Не думаете ли вы, однако, что нашему гостю следовало бы предложить что-нибудь более солидное?
— Существует бисквит а-ля Оскар Уайльд, — сказал наш кондитер. — Против него уж никак нельзя возражать, даже со светской точки зрения.
— А знаете, я, в общем, не люблю светское общество, ни капельки! — сказала комендантша. — Меня вполне удовлетворяет общество моего дорогого супруга, к сожалению, я так редко его вижу. Так редко! Но при положении моего супруга это неизбежно. Бедный Эрих, такой милый нелюдим и молчальник. Но что поделаешь!
— Да, ничего не поделаешь, ровным счетом ничего, — согласился Рошкот. — Я искренне вам сочувствую, госпожа комендантша, если позволите.
— Жаль, что нам нельзя побеседовать о книгах и вообще. Понимаете, что я имею в виду, — сказала комендантша. — Вы, должно быть, начитанный человек. Но нам нельзя. Принимайтесь за бисквит.
И она ушла к своим детям, которые не переставая кричали «мутти!».
Богумил Рошкот остался один. Он вспомнил сказку о том, как кошка с собачкой делали торт. Сначала он улыбнулся, а потом заплакал, как маленький, но самолюбивый ребенок, которому стыдно реветь, и он только глотает слезы. Он был уже так слаб, что сам себя разжалобил. Рошкот нагнулся к корзине, и его высокий колпак упал на кучу яиц. Ему стало дурно от сахара и от меда, от какао ван Гуттена и от госпожи комендантши.
«Как странно, — подумал он. — Мне уже не хочется есть. Совсем. Совершенно нет аппетита. Интересно… почему?»
И он повалился[44] вслед за своим колпаком на кучу яиц и тихо умер в корзине, так и не отведав ни одной изюминки.
Про Это
Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер
Она не знала его имени, да тогда это и не имело значения. Она увидела его в лесу, он спал, озарённый мягким предвечерним светом.
Третье военное лето было на исходе.
Ей показалось, что на щеке у него блестит слеза, и это её растрогало. Она смотрела, как он спит, как на его лице густеют тени, а со щеки исчезает не то слеза, не то роса. Сначала она хотела положить ему ромашку на потрепанную шляпу и уйти. Но не ушла, её удержало какое-то терпкое, неведомое ранее томление. Она пригладила его волосы, и тогда этот большой некрасивый человек проснулся, взглянул на нее зелёным глазом и грустно спросил:
— Что ты здесь делаешь, малышка?
И тут она вдруг вспомнила, как вчера у тёмного забора целовались двое и как она им завидовала. И снова её охватило терпкое томление. Она села.
У этой истории начало далеко не так важно, как конец. Может, не следовало рвать ромашку, такую белую в траве, — пожалуй, от этого вся беда, а может, от чего другого. Может, этой Руженке Подольской вообще не следовало родиться. А может быть, и нужно всё это было для чего-то, но для чего?
— Ну, что с тобой, Белоснежка? — спросил незнакомец мягко.
А потом они любили друг друга, как заповедал господь, в этом прелестном уголке среди лопухов, в тёплой ночи. Руженка улыбалась в темноте совсем новой улыбкой, ямочка на щеке у неё углубилась, и каждая жилочка трепетала.
Так и повелось. Незнакомец приходил и уходил, в шляпе или без шляпы, мрачный или просто без улыбки, но Руженке как раз в нём и нравилась эта мрачность. Влюбилась она не задумываясь, по-женски, вся отдавшись любви, но не нашла названия для своей любви. Любовь она называла Это, а того, кто Это вызвал, — Он.
На свиданья она летела, как пчела-работница с ношею меда, и только одно её занимало: что он думал, сказав то-то, и что хотел сказать, посмотрев на неё так-то.
Пухленькой ручкой она гладила его по небритой щеке, по лбу и глазам, стараясь прочесть его мысли, но никогда это ей не удавалось. Порой она колотила маленьким кулачком по его обнажённой груди, словно стучалась в запертый дом, — напрасно. Он засыпал, положив голову ей на колени, а она смотрела на него немножко униженным взглядом и утешала себя:
«Ну зачем расспрашивать его, беднягу, раз он ничего не может сказать мне, неразумной, глупой девчонке? Наверное, он подпольщик, а они тайно поклялись молчать. А я, дура, всё мучаю и мучаю его: как тебя зовут, да кто ты такой? Любишь ли?»
И она успокаивающе и благодарно целовала его некрасивое ухо. А ночью ей снилось, что за домом на склоне у ручья она развешивает детские пелёнки.
Иногда, лежа в его объятиях, она спрашивала:
— Хорошо ли тебе со мной, Тоник? В самом деле хорошо?
Когда он уходил, она чувствовала себя страшно одинокой, ей казалось, будто в ней застряла заноза, но ни за что на свете она не вырвала бы её. Она так и не узнала о нём ничего. Только раз-другой он поминал какое-то имя, а однажды — адрес, но жадная женская память мгновенно запечатлела его. Всё вокруг дышало ароматом тимьяна и еловой смолы. Руженка шептала: «Теперь я знаю, что такое любовь, и никогда больше не нужно мне ни о чём спрашивать».
Потом этот человек стал приходить всё реже и реже. Сначала его не было неделю, потом он пропустил две недели и, наконец, целый месяц. Всякий раз, когда он снова появлялся, он твердил:
— Ни о чём не спрашивай, моя Белоснежка. Если увидишь на нашем камне лист лопуха, значит, я приду. А если его не будет, то жди, пока не увидишь. Ничего не выведывай, Руженка, когда-нибудь всё узнаешь. Всему свое время. И дуться незачем.
Он смотрел в глаза, полные укора, и эти глаза застилало слезами безрассудства и милосердия.
Случилось, что в один из июньских дней имперскому цензору, обер-лейтенанту юридической службы Валлманну, попало в руки письмо, с первого взгляда показавшееся ему подозрительным. В это время гестапо искало человека, убившего Гейдриха и оставившего забрызганный грязью велосипед на широкой улице пражского района Либень.[45]
Обер-лейтенант юридической службы Валлманн подчеркнул толстым красным карандашом несколько фраз подозрительного письма и передал его в надлежащую инстанцию. Присяжный психографолог гестапо на основании почерка дал заключение: умеренно пастозный, в остальном нормально эротический склад характера.
Подчеркнуты были фразы:
«…Никогда я тебя не спрашивала, откуда ты. Разве я тебя спрашивала, Тоник? Милый, я знаю, это письмо большая глупость».
«Я хочу тебя видеть, Тоник, если тебя так зовут. Я до смерти соскучилась, боюсь за тебя…
…Не знаю, правильно ли я написала адрес, он случайно сохранился у меня в памяти. Я сама не знаю, что делаю. Знаю, что писать тебе нельзя, но иначе не могу. Молю бога, чтобы у меня нашлись силы разорвать это письмо. Но где взять эти силы, если я так давно тебя не видела?..»
После короткого, очень несложного расследования была сначала арестована Ружена Подольская, семнадцатилетняя дочь малоземельного крестьянина, по национальности чешка, вероисповедание римско-католическое, постоянное местожительство Лишице, район Кладно. Вслед за ней был арестован Юлиус Шмейкал, двадцати девяти лет, женатый, по национальности чех, вероисповедание римско-католическое, заведующий отделом закупки и продажи кожевенного завода «Утитц и Сыновья», Тройгендер, постоянное местожительство Крочетин, улица Адольфа Гитлера, 216.
Обоих доставили на очную ставку к комиссару доктору Эриху Юргенсу, который лично затребовал дело. Нюх старого криминалиста подсказывал ему, что это ниточка к делу исключительной государственной важности.
Так Руженка Подольская встретилась наконец со своим возлюбленным; только здесь не было ни лопухов, ни еловой смолы.
Она не могла коснуться его, но она его видела, этого ей было достаточно, чтобы быть счастливой. Доктор Эрих Юргенс посадил их друг против друга и в тихом раздумье наблюдал за ними. Его несколько озадачила радость, прячущаяся в ямочке на щеке у допрашиваемой; он встал, обошёл стол и обнаружил, что ямочка есть и на другой щеке. Потом он некоторое время любовался через окно уходящими ввысь сводами собора на противоположной стороне улицы; но в действительности он смотрел только на стекло, в котором отражались лица обоих врагов рейха.
«Девчонка недурна, — размышлял он, — ножки — как у серны; надо стрелять осторожно, эта дичь пуглива. И молоко на губах ещё не обсохло, mein Gott!»
А Руженка смотрела на Юлиуса и печально говорила:
— Тоник…
Она радовалась, что они вместе умрут, раз жизнь не удалась, и думала о всякой всячине: о том, как смеются девушки у ручья, о птичьем гнезде в кустах и о том, как кудахчут куры и как подкладывают в плиту поленья. Она верила, что некоторые люди обязательно встретятся на небе. Она до боли стиснула руки и потупила глаза, сжавшись, как виноградная лоза под напором ветра.
«За всё я тебя вознагражу после смерти, — говорила она ему мысленно, — вот когда я буду только твоя, если ты не сердишься на меня за это письмо. А если и сердишься, я всё равно буду твоей».
— Итак, — сказал доктор Юргенс, — приступим к допросу. Я хочу услышать правду, и только правду. Вы писали это письмо, фрейлейн Подольская? Писали. Нет смысла отрицать, у нас есть заключение присяжного графолога. Этого господина вы, конечно, тоже знаете и не будете утверждать обратное, за вами долго следили соответствующие органы. Вам известна его противогосударственная партизанская деятельность? Вы о ней знали? Знали, нет смысла отрицать. Он ночевал иногда в месте вашего постоянного жительства? Ночевал, не будучи там зарегистрирован. Вы знаете, что он соучастник покушения на господина имперского протектора Рейнгардта Гейдриха? Знаете, он вам доверился, не так ли?
Доктор Юргенс произносил все эти слова спокойно и с видом знатока, как старый юбочник, разглядывая белые крепкие икры допрашиваемой Ружены Подольской.
«Буду молчать, — решила она, — буду молчать, как могила. Не скажу ни слова. Подожду, пока заговорит мой дорогой жених. Драгоценный мой».
И тут произошло нечто неожиданное. Этот скупщик кож, Юлиус Шмейкал, вдруг встал, не дожидаясь вопроса, и проворно бросился в ноги комиссару Юргенсу.
Комиссар брезгливо отодвинулся, однако оставил допрашиваемого в лежачем положении, которое не счёл невыгодным для ведения допроса.
Юлиус, лежа на полу, расплакался: никаких партизан он в глаза не видел, всегда был лояльным, очень лояльным, даже более чем лояльным гражданином протектората «Böhmen und Mähren», а жена его — урожденная Шмидтбергер, и родом она из Судет.[46]
— Пан комиссар, — всхлипывал Юлиус, — произошло недоразумение, ужасное недоразумение. Пан комиссар, вы ведь психолог, это сразу видно. Взгляните на меня, пожалуйста. Разве я похож на подпольщика? Взгляните на меня, пан комиссар. Вы знаете, в чём можно притворяться, а в чём нет. Да, я этой барышне кое на что намекал, очень легкомысленно, но только для того, чтобы она меня не особенно расспрашивала. Пан комиссар, у меня ревнивая жена. Если и любовница начнёт ревновать, то что это будет за жизнь? Рейху нужна кожа, но вы, наверное, понятия не имеете, как трудно нынче доставать её…
— Значит, вы утверждаете, — произнёс комиссар, — что встречались с присутствующей здесь Руженой Подольской только с целью внебрачных половых сношений?
— Ах, господи! — воскликнул Шмейкал. — Пан комиссар, вы так прекрасно это выразили, одной фразой! Я не сумел бы так хорошо сказать. Прямо в точку попали, пан комиссар.
— Ты мне зубы не заговаривай, — сказал Юргенс. — Ну, так что же было дальше?
— Пан комиссар, мне нравилась фрейлейн Подольская. Я этого не отрицаю. Она действительно прекрасно сложена. Ради неё я ходил по девять километров туда и обратно. Разве я бы это делал, если бы она того не стоила! Но не мог же я ей рассказывать, что спешу домой к ужину, или что уезжаю закупать кожу, или что у маленького Фанды корь. Это уж не та музыка. Пан комиссар, вы ведь знаете женщин. Для них эта штука куда важнее, чем для нас, только говорить им об этом нельзя. Тогда для них это будет уже не то. Им без этого никакого удовольствия нет, да и самому-то никакой радости не будет, понимаете? Пан комиссар, вы же психолог, незачем вам это… объяснять. Им нужны слова, пан комиссар, слова, вот я и говорил слова. Если каждая перед этим спрашивает: «Любишь меня?» — что же ей ответить?
Заметив, что комиссар Юргенс слушает его с выражением молчаливого и неофициального одобрения, Шмейкал осмелел ещё больше и почти весело продолжал:
— А ещё, пан комиссар, девчонка таскала мне яйца и сало первый сорт. Бывало, я не мог удержаться, отрезывал себе ломтик, вот такой тонкий, да что я говорю, ещё тоньше; а вообще-то я всё относил детям.
— Брось ломать комедию! — заорал вдруг комиссар Юргенс. — Хватит. Где рация? С кем держал связь? Даю тебе пять минут на размышление, если хочешь уйти на своих ногах. Посмотри на меня хорошенько, я не только психолог. Я так тебе морду набью, что и твоя жена, урожденная Шмидтбергер из Судет, не узнает тебя. С кем ты был связан?
Тут взгляд его упал на Ружену Подольскую в платье голубым горошком. И он увидел её детские губы, а на них каплю крови. За спиной Руженки Подольской висела большая карта Европы, утыканная флажками где-то у Дона и Волги, а сверху, чуть вытаращив глаза, смотрел Адольф Гитлер, самый крупный скупщик кож в мире.
За окном горели витражи собора и вместе с пражским гестапо, Юлиусом Шмейкалом, лопухами, тимьяном, вместе с позором и ужасом и белыми икрами девушки вращались вокруг нашего милого солнца.
От Руженки Подольской веяло кладбищенской грустью, а кровь из прикушенной губы капнула на жёлтый казённый стол. Тогда комиссар Эрих Юргенс понял, что Юлиус Шмейкал не лжёт. И он сказал себе, что не пошлёт этого человека на казнь, потому что такой годится в сотрудники.
Несмотря на то что комиссар был действительно хорошим психологом и вдобавок математиком, он и не заметил, как во вселенной всё остановилось на тысячную долю секунды. Раздался плач под звёздами, и была новая безнадёжность во времени, но не вне его. Говорят, это случается на мгновение — даже во время войн, посреди смертей, когда маленькая женщина оплакивает Это: чей-то вечный Искус (впрочем, кто знает, вечен ли он), который начинается Искушением и кончается Испытанием.
Бюст
Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер
Многие люди никогда не дождутся своего бюста, хотя, собственно, жили они только ради него. Некоторые из них, более скромные, лишь в минуту душевной слабости мечтают о памятнике; но в конце концов такой мечтатель говорит себе: «Меня вполне устроит и бюст». Потом он умирает в столовой, где на концертном рояле стоит его бюст из позолоченного гипса. Голова хищно смотрит в сторону спальни или кладовой.
Некто Шупатко, заместитель лагерфюрера и тенор-любитель, однажды осенью расхаживал по стройплощадке, где ничего не строилось. Там перетаскивали камни слева направо, а потом справа налево. Впрочем, некоторые интеллигенты из числа заключенных находили в этом занятии такой же смысл, как и в любой человеческой деятельности, и это служило им утешением. Бригада носильщиков камней состояла из врагов рейха, профессиональных преступников, двух гомосексуалистов, которые не были членами нацистской партии, шести евреев-марксистов и одного здоровенного пастыря, командовавшего всеми на берлинском диалекте.
В тот день Шупатко был в прекраснейшем настроении. Однако по долгу службы он никак не проявлял этого. Свои положительные флюиды он излучал как бы внутрь, согревая ими собственное нутро.
Мир хотел видеть Шупатко стальным. Не всегда легко угодить миру, однако это необходимо. Шупатко умел это делать, имея для этого все предпосылки. На лице шрам после дуэли, узкие губы, унаследованные от прадедушки, толкователя Библии, и каменный лоб титана; что бы с ним ни случилось, у него всегда был мужественный, даже свирепый вид.
Сегодня он чувствовал себя, если выразиться по-человечески, странно. Да, странно.
Уходила золотая осень, даже в камнях было что-то трогательное. Ласковое тепло таило в себе забвение солнечного жара, утерянную сладостность лета и запах далёких садов. Было что-то благотворное в сиянии дня, это чувствовали даже самые истощенные узники, которым, честно говоря, уже нечем было и чувствовать. Одному чудился всего лишь запах яблок, другому — разлитого вина.
Шупатко пел, — конечно, про себя; он пел «Серенаду» Шуберта «Leise fliehen meine Lieder durch die Nacht zu dir…»[47] — и от непонятной грусти слезы незримо наворачивались ему на глаза.
«Нет, — решил Шупатко, — сегодня не стану бить Тесарика, я не изобью этого типа, эту свинью поганую, а лишь малость постращаю. Если, конечно, его наглая рожа не выведет меня из терпенья. А девке из кухни позволю надеть платок, который она прячет, тот, голубой, — пусть накинет его и идёт к мужскому забору. Живи, шлюха».
Шупатко побледнел, так он испугался собственных мыслей.
— Это что же, тоска? — спросил он сам себя. — Was passiert denn mit mir?[48] Тоска, что ли? А может, я загниваю? Очевидно, загниваю. Но ощущение прекрасное! Теперь я понимаю, почему эти еврейские интеллигенты столько болтали о милосердии. Оказывается, оно действительно приятно, ишь хитрые свиньи, эти коммунисты и попы!
И всё время он не переставал петь. Все его чувства были невольно обращены к искусству. Шупатко-артист вылезал из мундира, привлечённый тлением осени. А может, это был просто инкубационный период гриппа, который Шупатко схватил в субботу. Пути искусства неисповедимы.
Переполненный возвышенными чувствами и бациллами, Шупатко шёл по лагерю. Но его мирское лицо оставалось высеченным из гранита.
Случилось так, что в это время некто Рышанек, рядовой заключённый, бывший скульптор, потерял очки и в отчаянии искал их в грязи.
Здесь уместно сказать, что очкарикам нелегко живётся на свете. Мир хочет видеть естественный блеск и неподдельное чувство. Очкарики всегда кажутся чуточку умнее или загадочнее нормальных людей. Поди знай, что думает человек за своими очками. В очках — он чем-то значительнее других, без очков — чем-то меньше; и то и другое непопулярно.
Впрочем, Рышанек не ломал себе головы над этим; он знал, что в лагере очкарику худо, но без очков он просто погиб. Поэтому скульптор склонил к грязи свой смелый нос, подставив теплу милосердного солнца свой потёртый зад. А когда поднял близорукие глаза, то скорее почувствовал, чем увидел, что над ним стоит сам Конрад Шупатко, заместитель лагерфюрера. Рышанек подумал, что оказаться в этот момент без очков — счастливая случайность, и искать их означало бы только дразнить судьбу, которая, как известно, весьма чувствительна к щекотке. Всё в скульпторе оцепенело; ему казалось, что он, как в сказке, превращается в камень. «Красивая смерть для скульптора, — подумал он, — в стиле: моя единственная стоящая статуя».
— Это кто же здесь ест глину? — любезно осведомился Шупатко. — Кто это питается здесь землей? Ты что, голоден? Или тебе не нравится наша кухня? Мы недостаточно стараемся? Ведь у нас повар из «Адлона», Берлин, Унтер ден Линден. Ну-ка, посмотри мне прямо в глаза и скажи честно, что ты ищешь?
— Разрешите доложить, — сказал Рышанек, вытянувшись в струнку, — я пробовал глину; по профессии я скульптор и иногда, невзирая на все усилия, не могу удержаться при виде хорошей глины, так и тянет потрогать — даже в рабочее время. Это моя слабость. Прошу прощения или наказания.
Говоря это, он незаметно нащупывал ногой потерянные очки. Он чувствовал себя заживо мертвым.
— О, так ты скульптор? — сказал Шупатко. — Вот видишь, скульптор, мы и послали тебя ворочать камни. Na bitte[49]. Ты, значит, художник. Ein Bildhauer[50]. Ты кто? Чех? Кого лепил? Бенеша? Или, как его… Гуса?
— Разрешите доложить, я художник, — проговорил Рышанек. — Однако я никогда не увлекался гнилым искусством. Я делал надгробные памятники, и то только для честных граждан, не занимавшихся политикой.
— Na gut[51],—сказал Шупатко. — Постарайся выжить, а после будешь у меня заниматься искусством. Постарайся выжить. А как всё кончится, вас, художников, отпустят первыми. Наш фюрер любит художников, он ведь сам ein Kunstler[52]. И вы не должны на него сердиться, что ему пришлось посадить кое-кого из вас, он-то хорошо знает вашу подноготную. И я тоже знаю. Как ты думаешь, кем я был в гражданке?
— Скульптором? — трепетно спросил Рышанек.
— Нет, тенором, — ответил Шупатко. — Певцом. Но, конечно, мне некогда было этим заниматься, я ушёл в политику, а это смерть для артиста. Ты с этим согласен, не правда ли? Как по-твоему — политика для артиста смерть? Не знаешь, что ответить? Не бойся, я не доносчик. Это просто моя работа.
Глядя в вытаращенные светло-голубые глаза пана Рышанека, Шупатко снова почувствовал в себе что-то неизъяснимое, какую-то странную грусть, гложущую внутри, как слепой крот. Он заметил, что у Рышанека совсем детские губы. И сказал себе, что на этот раз поддастся настроению и сделает доброе дело. Тотчас же он стал придумывать такое доброе дело, которое было бы выгодным одновременно и для него, и для рейха.
Из лучей осеннего солнца, гриппозных бацилл и древнегерманской чувствительности у него логически возник высокохудожественный образ его собственного бюста. И ему захотелось петь. Но это желание он подавил.
— Что тебе нужно для этого, для твоего ремесла? — спросил Шупатко. — Нужна глина — посмотри, сколько здесь глины. Вода? Камень? Сколько душе угодно. Молотки у нас есть, долота тоже, так в чём дело? Хочешь поскульптурить?
— Никак нет, — воскликнул бдительный Рышанек. — Со своим прошлым я окончательно порвал. Хочу искупить свою вину физическим трудом.
— Взгляни на меня, — терпеливо продолжал Шупатко. — Рассмотри меня как следует. Что ты видишь во мне? Как бы ты изобразил меня? Как думаешь, можно было бы сделать такую статую, ну, скажем, как я стою? Просто, как я стою. Тебя зовут Рышанек? Да не трясись ты передо мной. Сколько тебе надо на это времени? Полгода? Год?
— Года, наверное, хватит, — сказал Рышанек без размышления. — Прошу прощения, но изобразить вас не так легко. В вас есть какая-то особенная, прямо непередаваемая задумчивость. Разрешите также доложить, для работы мне понадобится небольшая бригада, — носить воду и размешивать глину.
— Это мелочь, — возразил Шупатко. — Бригаду я тебе дам. Один будет носить воду, другой — глину, третий — размешивать, и ещё дам тебе кладовщика смотреть за инструментами. Вы получите новые ботинки; я распоряжусь, чтобы вам построили особый барак в сторонке, где бы ты мог спокойно творить. Я тоже всегда запирался, когда пел. Вот так… Конечно, вам придётся ещё сделать, скажем, скульптуру «Тысячелетие рейха», её можно слепить кое-как. Сделаешь двух орлов или какой-нибудь там венок, и это будет подарок рейху от заключенных, понимаешь? Приучись мыслить политически, это всегда пригодится. Итак, Рышанек, завтра ты явишься к Schreiber[53] Сметачеку, подбери себе в бригаду кого хочешь. Только не дохляков, а то ничего не сделаете. И откуда ещё берутся в вас силы? Человеческое тело — чудо. Как по-твоему, Рышанек? Человеческое тело — чудо?
— Разрешите сказать, человеческое тело — чудо, — проговорил Рышанек, и в нём звенел колокольный звон, но отнюдь не погребальный. — Человеческое тело — великое чудо. Мы, скульпторы, хорошо знаем это.
— Ну, приходи, Рышанек, я буду тебе позировать, — сказал Шупатко.
И он возликовал в душе, потому что уже видел свой бюст на рояле, между двумя аспарагусами в его дортмундской квартире.
Он отошёл более чётким шагом, чем обычно, чтоб никто не заподозрил, что он сейчас омыл свою душу. Он даже не обратил[54] внимания, как при втором шаге раздавил очки Рышанека. Они хрустнули у него под ногой, но звук не дошёл до его сознания, в этот момент витавшее где-то высоко над землей.
Пан Рышанек не видел, но услышал это. Он подумал, что стёкла в очках были толстые, девять диоптрий, их выточили в самой Иене у великого Цейсса.
Рышанек вдруг стал похожим на летучую мышь, с той разницей, что у летучих мышей в ушах есть радар, а у Рышанека его не было. Вокруг себя он видел только густую молочную мглу. Он сделал три шага направо, потом пять шагов налево, и ещё пятнадцать шагов и понял, что из этой мглы ему никогда не выбраться.
Вдруг он увидел перед собой уголок своей пражской мастерской, даже паутину разглядел, и ту странную статуэтку, которую он называл «Человек» и которую двадцать два года лепил из глины и каждое воскресенье переделывал снова и снова. У статуэтки до сих пор не было лица. И вот теперь он увидел его. Лицо имело благородные черты Конрада Шупатко, чуть приподнятые брови и слащаво улыбалось.
— Теперь я понял, — сказал он. — Не очки я потерял, я потерял глаза. Я слышал, как они треснули. Мамочка, что же я буду делать, если выживу?
Рышанеку удалось выжить. Всё сложилось для него не так уж плохо. Он стал действительным членом Союза работников изобразительных искусств, к нему обращались, когда надо было сделать бюсты выдающихся личностей. Он делал их из бронзы, а иногда высекал из гранита.
Он жил хорошо. Из года в год заказывал себе новые очки и покупал, одну за другой, новые вещи для своей квартиры и мастерской. Но один раз случилось, что, ударив молотом по долоту, он услышал треск, — такой треск он уже слышал однажды.
«Опять треснуло, как тогда, — подумал он. — Что бы это могло треснуть? Тогда это были глаза, значит, теперь это может быть только сердце».
Он сел возле незаконченной статуи, которую всё ещё называл «Человек», хотя не придавал этому слову уже того юношески большого значения, как раньше.
Там его и нашли; он лежал на спине. Доктора установили, как обычно, лишь часть того, что произошло. Они констатировали так называемый инфаркт миокарда, болезнь в то время очень модную как у художников, так и у выдающихся личностей.
Двадцатый век
Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер
Такого чемодана вы ещё не видывали: из свиной кожи, облепленный наклейками двадцати одного отеля, двух океанских пароходов и одного кафешантана. Это был жёлтый, поживший, беспутный жуир. Единственным его изъяном был отстреленный угол, через который виднелась полосатая пижама не то ещё что-то. А в общем чемодан имел весьма представительный вид, хотя и ехал в кузове старого разбитого грузовика. Он переносил это как аристократ.
Бог весть откуда взялся такой чемодан у человека при нём. Человек сидел рядом с ним, словно гранд, вытянув длинные тощие ноги. Шляпа у него была потрепанной и лицо тоже. Он был острижен ёжиком, — как видно, не по своей воле. Это придавало ему некоторую замкнутость.
Между тем человек он был, по-видимому, весёлый и даже сумасбродный. Он смотрел на мир с таким восхищением, что его не мешало бы призвать к порядку. Но грузовик ехал довольно быстро, и поэтому никто не мог, да и не хотел этого сделать.
— Я увижу Прагу, я увижу Прагу! — восклицал человек. — Я увижу Прагу. Неужели я увижу Прагу?
А потом он позволил себе уж совершенно ненужную выходку — крикнул пасущемуся стаду:
— Привет, девки! Коровы, я жив! Здорово, бык!
Коровы хранили достоинство. Только самый старый бык посмотрел вслед грузовику и глубоко задумался.
Человек приветствовал всех, особенно животных, — тощую протекторатскую кошку на шоссе, бродячую, перепуганную немецкую овчарку, которая всё ещё скалила зубы, — она-то не капитулировала ещё. Двум маленьким козлятам он помахал потрепанной шляпой. Красные наволочки развевались на верёвке рядом с бязевыми кальсонами, блестели ржавые лужи, отражая зеленоватое небо. Май был молод, Прага — прекрасна.
А полицейский в форме цвета хаки был похож на киноактера Гарольда Ллойда; с ним надо поговорить, раз уж он остановил наш грузовик.
— Что это у тебя за форма? — спросил тощий потрепанный оптимист.
— Чего сейчас болтать о форме, — сказал опереточный полицейский. — Таким, как ты, вообще не следовало бы любопытничать.
— А что, святой Вацлав ещё сидит на мысльбековском коне? — продолжал расспросы неисправимый оптимист. — И хвост у коня по-прежнему завязан узлом?
— Господи, он ещё шутит! — воскликнул полицейский. — Это на перекрёстке, да во время революции! Сейчас каждая минута дорога. Поезжайте, не задерживайте движение, видите — зелёный свет.
— Ай-ай-ай, зелёный свет! — вскричал тощий по своей дурной привычке. — Здорово, зелёный свет!
— Где тебя высадить? — окликнул его шофёр.
— Где хочешь, мне всё равно, — ответил пассажир. — Где тебе удобнее. Я счастлив, что жизнь меня радует. Мне и в голову не приходило, что жизнь ещё может меня радовать. Вот уж не думал! Не верил. Да и не стремился к этому. Вот потому она меня и радует. День добрый, бабуся, куда это вы тащите шубу, ведь май на дворе?
— Да вот хочу вернуть её одной еврейке, но хорошей, — ответила старушка, — мы её уже не ждали.
— Счастливого пути, бабушка! — Это он прокричал ей уже вдогонку. Потом продолжал: — Ну, хорошо, свобода, а дальше что? Нас накормят, а дальше что? Мы получим предписанное количество калорий. Ну, а дальше? Будем сыты. Нет, сразу мы не насытимся, нет, нет. Хорошо, насытимся, — а дальше что? Неужели после того, что было, начнём всё заново — как ни в чём не бывало? И будем носить галстуки? Послушай, будем мы носить галстуки или нет?
— Конечно, будем! — отозвался шофёр. — И бабочки будут носить, и лакировки. Лакировки всю войну носили, и бабочки тоже.
— А скажи, — спросил тощий, — в чём ты спал всю войну? В пижаме?
— А в чём же? — удивился шофёр. — Не в ночной же рубашке, — слава богу, у нас двадцатый век, дружище.
— Да, верно, — сказал человек в кузове, — ты прав. Ведь у нас уже двадцатый век.
Они проезжали под фонарём, на котором висел сгоревший немец.
— Посмотри на эту свинью, какая спесивая рожа, — заметил шофёр. — Так бы и остановился да плюнул ему в физиономию.
— Послушай, — гнул своё потрепанный пассажир, — а носки носили? Носки-то?
«Высадить бы его поскорей, — подумал шофёр, — видно, не в себе человек: то с коровами здоровался, теперь о носках спрашивает. Впрочем, кажется, тихий».
— Начальник, где прикажете вас высадить? — спросил шофёр деликатно.
— Где хочешь, — ответил пассажир. — Где угодно. Хотя бы здесь. Лишь бы там был двадцатый век.
Остановились за перекрёстком. Тощий слез, шофёр подал ему аристократический чемодан из свиной кожи. Из чемодана выкатилось несколько подгнивших картофелин.
Наш неисправимый оптимист махнул на них рукой и пошёл. Он вежливо здоровался со встречными, снимая шляпу. Его голубые глазки светились удовлетворением, а ноздри жадно втягивали пражский воздух.
Он шёл длинными шагами; шаги становились всё длиннее и длиннее. На чемодане было написано мелом: «Отель Маутхаузен». Потом он вместе с чемоданом пустился бежать, и бежал, пока хватило дыхания, а его хватило ненадолго… Поэтому он скоро остановился, а остановившись, сообразил, что ему, собственно, некуда деть этот чемодан. Некуда идти.
Тогда он оставил чемодан посреди улицы и с пустыми руками побежал навстречу второй половине двадцатого века.
Яичко
Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер
У нас бывает немало приятелей, с которыми мы встречались только мимоходом. Они случайно промелькнули в нашей жизни, сыграли свою небольшую роль и исчезли со сцены. Произнесли, к примеру: «Граф был ранен на дуэли» или «Алёнка посылает вам сердечный привет, а больше я ничего не могу сказать». При этом многозначительно улыбнулись, или украдкой вздохнули, или просто тактично удалились, прямые и корректные.
В жизни каждого есть герои и статисты. Нам не суждено знать их подлинную роль. Тот, кого мы считали героем, часто оказывается статистом; какая-нибудь мелочь иной раз оборачивается судьбой.
Жил человек по фамилии, скажем, Покштефл. Ходил до войны в гимназию, и даже в классическую, и посему полагал, что смыслом жизни является знаменитое изречение carpe diem[55]. Других латинских изречений он не помнил, но зато урывал от жизни сколько мог. Он легко и бурно развлекался за чужой счет; больше всего ему нравилось звонить по телефону незнакомым людям и дурачить их. Например, выдавал себя за контролера телефонной сети и заставлял простодушных старушек, которые были дома одни, измерять сантиметром телефонный провод от стены до аппарата.
А если он был в плохом настроении, то звонил от похоронного бюро и сообщал о доставке резного гроба тому, кто поднимал телефонную трубку. Он говорил:
— Ну, гроб мы вам отправляем, натягивайте саван, ложитесь и ждите.
Или объявлял:
— Будьте любезны явиться завтра в семь часов утра на Стршелецкий остров вместе с вашим попугаем. Вам обоим в обязательном порядке будет сделана прививка. Благодарю вас.
Но одному владельцу телефонного аппарата он особенно докучал. Звали его Эдуард Петушок, и был он, как тогда говорили, частновладельцем. Каждую неделю по пятницам, в три часа дня, происходил телефонный разговор такого содержания:
— Здравствуйте!
— Здравствуйте.
— Скажите, пожалуйста, пан Курочка дома?
— О нет, — отвечал после небольшой паузы интеллигентный голос. — У телефона Эдуард Петушок.
— Так, значит, Курочки нет дома? — удивлялся каждый раз паренёк. — А она снесла вам вчера яичко?
— Нет, не снесла, — вежливо отвечал спокойный голос. — А вы, пан гимназист, любите яички?
— Терпеть не могу, — заявлял паренек. — Очевидно, я не туда попал.
Покштефл вешал трубку и потом целую неделю с радостью предвкушал, как он снова позвонит пану Петушку в следующую пятницу, в три часа дня, и попросит к телефону пана Курочку.
Пан Эдуард Петушок всегда был неизменно вежлив и спокоен. Он ни разу не назвал гимназиста бездельником, или озорником, или, что ещё хуже, молодым человеком. Телефонную трубку он всегда клал очень деликатно.
Наш паренек жил и, следовательно, взрослел. Он успешно преодолел переходный возраст, пору возмужания и, наконец, сдал экзамены на аттестат зрелости и поступил в университет. У него появился сочный, прямо-таки чарующий баритон. Каждое утро он брился.
А мир, имевший на него неведомые виды, продолжал независимо развиваться.
Вскоре посыпались первые бомбы. Это было в Польше.
Потом наступило 17 ноября 1939 года[56], и пан Петушок напрасно ждал телефонного звонка в пятницу в три часа. Короче говоря, из концлагеря не позвонишь. Так что наш молодой человек исправился хоть в этом смысле.
Всё, что с ним произошло, — тема для другого рассказа или романа. Отчасти ему повезло, отчасти он сумел приспособиться, такой уж он был пройдоха. Он выжил.
Вернулся он в Прагу 11 мая, в пятницу, без десяти минут три. И сказал себе:
— Вместо того, чтобы придумывать, как начинать жизнь заново… всё равно ничего не придумаю… вместо того, чтобы ломать себе голову над этим, начну-ка я с того, что позвоню пану Петушку. Это единственный номер, который я помню.
Он вошёл в будку автомата — ещё серого военного цвета. Рука у него дрожала, но тут уж ничего не поделаешь. На лице у него появилось прежнее выражение лукавого озорства и ехидного злорадства. Он набрал номер.
— Здравствуйте!
— Здравствуйте.
— Скажите, пожалуйста, пан Курочка дома? — произнёс он и чуть не заплакал.
На другом конце провода долго молчали, а потом воскликнули:
— Значит, ты жив, озорник? Это же замечательно!
— Жив, пан Петушок, — сказал бывший студент и тут только почувствовал, что к нему возвращается жизнь. Он понял это по учащённому пульсу и по душившей его радости. Он услышал, как поёт его тело,
— Должна же у вас быть где-то курочка, — сказал он. — Не снесла ли она вам вчера к завтраку яичко?
— Как же, снесла, снесла! — проговорил старый пан Петушок. — Вчера снесла, негодница. Чудесное белое яичко. Приходите, пан озорник, я сварю вам его всмятку!
Вот и всё, — а впрочем, кто знает?
Послесловие…
По-русски о Людвике Ашкенази (1921–1986) прочитать в общем-то негде. Есть советское издание 1967 года с предисловием Инны Абрамовны Бернштейн, представлявшим скорее книгу, чем её автора. Ещё — несколько случайных текстов в Интернете. Даже Википедия, где, казалось бы, есть статьи решительно обо всём, про автора «Собачьей жизни» сообщает огорчительно мало. Во всяком случае, русская, английская и даже чешская. В немецкой Wikipedia статья[57] гораздо содержательнее (что неудивительно — после чехословацких событий 1968 года Ашкенази эмигрировал в Германию, много там писал, получил немецкую литературную премию[58]). Автор этой статьи особо отметил отсутствие в творчестве Ашкенази чёткой границы между «взрослой» литературой и книгами для детей. И это её свойство определило наш издательский выбор. То есть, конечно, важнее всего то, что «Собачья жизнь» — прекрасная книга большого писателя, что её точность и художественную достоверность можно мерить самой строгой меркой, что рассказывает она о страшной войне, о любви, о человеческом достоинстве, вообще о человеке — о высотах, на которые ему дано взойти, и о низости, до которой он может опуститься. Но всё же важно и то, что эту книгу можно адресовать людям любой житейской и читательской искушённости (начиная примерно с отроческого возраста). И этот сопроводительный текст написан составителем серии «Книги для детей и взрослых» также в расчёте на всех — и читателей, считающих научный аппарат (постраничные сноски, комментарии, преди- и послесловие) обязательным атрибутом хорошей книги, и тех, кто все эти дополнительные тексты пролистывает не читая; на людей, ощущающих Вторую мировую войну как нечто непосредственно их касающееся, и тех, кто видит в ней лишь прошедшее историческое событие.
Ашкенази эта война не просто коснулась; она объяла его со всех сторон. Он был её солдатом (львовский студент-славист, интернированный в Казахстан после вхождения в Западную Украину советских войск, он в 1942 году вступил в Отдельный чехословацкий пехотный батальон[59] и с боями дошёл до родины), причём — солдатом-победителем; но был и её жертвой — сама его фамилия[60] предопределяет невозможность остаться в стороне от трагедии европейского еврейства. Рассказы «Собачьей жизни» — свидетельства не только таланта и мастерства рассказчика, но и глубины пережитой им душевной травмы. Как бы ни был успешен в послевоенной жизни столь травмированный человек (или даже не человек, а просто живое существо) — война никогда не снимет его с учёта («Псих»).
Победитель и жертва, точнее — жертва-победитель, — постоянный объект (и субъект) писательского исследования Ашкенази. Его герои побеждают не на поле брани и без оружия в руках; их победа — это сохранение человеческого в бесчеловечных обстоятельствах. Категорию же «человеческого» составляет, по Ашкенази, не только высшие проявления духа — любовь, сочувствие, благородство, — но и людские слабости: противостоять изуверству удаётся и чревоугоднику («Пропал кондитер»), и телефонному хулигану («Яичко»).
Автор (тогда ещё будущий) этих рассказов вполне соответствовал определению «успешный в послевоенной жизни человек». Он был лояльным журналистом (писал, не выходя за пределы «коммунистической идеологии и актуальных сталинистских штампов»[61]), радиокомментатором, побывал в Германии, Италии, Индии, Японии, США. В 1955 году издана первая его книга, не проходившая по разряду публицистики: «Детские этюды» сразу сделали Ашкенази популярным писателем. Затем пришёл успех и к Ашкенази-кинодраматургу: так, в снятом по его сценарию в 1959 году советско-чехословацком фильме «Майские звёзды»[62] звёздным было всё — и название, и режиссёр (Станислав Ростоцкий, автор «Доживём до понедельника» и «А зори здесь тихие»), и актёры (Вячеслав Тихонов, Леонид Быков, Николай Крючков). Другой фильм Ашкенази-сценариста — «Крик» — в 1964 году участвовал в конкурсной программе Каннского фестиваля.[63]
Связь Ашкенази (после львовских штудий успевшего поработать учителем русской словесности в казахстанском посёлке Берчогур) с советской литературой несомненна. Особенно это относится к его драматургии (уже не кино-): так, пьеса «Императорский королевский государственный жених» написана по мотивам повести Юрия Тынянова «Поручик Киже», а «Распутин» — по А.Н. Толстому[64]. Столь же очевидна связь его личной судьбы с советской внешней политикой. Дважды он видел советские танки, незваными гостями утюжащие мостовые его города. И каждый раз за этим следовала радикальная перемена места жительства, проще говоря — бегство. По иронии судьбы первый раз он бежал от немцев, а второй (в 1968-м) — к немцам: после краха «Пражской весны» Ашкенази с семьёй (женой Леонией — дочерью классика немецкой литературы Генриха Манна — и сыновьями[65] Индржихом и Людвиком) поселяется в Мюнхене. Книги его изымаются из чешских библиотек, имя предаётся забвению… Всё по правилам социалистической культуртрегерской практики.
Писатель между тем спокойно живёт и работает в Германии; практически ежегодно выходят его новые книги (в основном — детские), продолжается карьера драматурга и сценариста. В 1976-м вновь меняется его адрес: Ашкенази переезжает в итальянский Больцано, где десять лет спустя завершает свой земной путь.
Крик[66]
Родился человек и
кричит!
Никто его не понимает,
но все улыбаются.
Это я! — орёт человечек.
Я пришёл жить. Вы мне рады?
Среди добрых людей
и в хорошее время ли я родился?
Цвет моей кожи, графа в анкете —
они мне в жизни не помешают?
Не грозит ли война? Рабство
уже уничтожено?
Можно дышать? Так — спасибо!
…и комментарии
Действие в рассказах Ашкенази происходит в реальных географических и исторических обстоятельствах: оккупированная немцами Чехия, нюрнбергские расовые законы, убийство Гейдриха… Дадим поэтому некоторые справки.
С. 105. Юлиус, лежа на полу, расплакался: никаких партизан он в глаза не видел, всегда был лояльным, очень лояльным, даже более чем лояльным гражданином протектората «Böhmen und Mähren», а жена его — урожденная Шмидтбергер, и родом она из Судет.
Созданная в 1918 году на руинах Австро-Венгрии Чехословакия включала в себя четыре национальных анклава — немецкий, польский, венгерский, украинский (русинский) — и две сопредельные моноэтнические области — чешскую и словацкую. Так были заложены фундаменты будущих конфликтов, и первый (по времени) из них — судетский (Судеты — область компактного проживания немцев).
Этнолингвистическая карта Чехословакии 1930-х годов. Изображённый на карте Цешин (на границе Чехословакии и Польши) — это Чешский Тешин, где в 1921 году родился Ашкенази.
Ещё при разделе Австро-Венгрии северные и северо-западные районы будущей Чехословакии (где процент немецкого населения достигал 90[67]) пытались добиться самостоятельности или присоединения к Германии. Тогда властям новорождённого государства удалось пресечь эти попытки, но после прихода Гитлера к власти политические лидеры судетских немцев вновь потребовали объединения с Третьим рейхом. Напряжение постепенно нарастало, и в сентябре 1938 года в Судетах начались крупные беспорядки. Прага ввела там военное положение, а Гитлер заявил, что не потерпит «преступлений» чехов. Франция и Великобритания, связанные с Чехословакией договорами о взаимопомощи, 30 сентября в Мюнхене подписали с Германией соглашение[68], узаконившее аннексию Судет. Гитлер, которому достались не только промышленно развитые и богатые полезными ископаемыми земли, но и самая передовая по тем временам система укреплений, на этом не остановился и в марте 1939-го оккупировал оставшееся беззащитным чешское государство (Словакия в результате этого получила независимость, а венгерский анклав Подкарпатская Русь отошёл Венгрии). Чехия была объявлена германским «протекторатом Богемия и Моравия» («Böhmen und Mähren»).
С. 10. Согласно распоряжению Заместителя Имперского Протектора Чехии и Моравии всем лицам, которые до настоящего времени не смогли доказать своё арийское происхождение, запрещается держать домашних животных…
«Окончательное решение еврейского вопроса» было обставлено с немецким педантизмом и уважением к законам. Филолог, профессор Дрезденского университета Виктор Клемперер оставил детальное описание[69] начала этого процесса (приводим с большими купюрами):
03.1934: запрет евреям защищать диссертации.
06.1934: запрет немцам покупать у евреев.
09.1935: «Нюрнбергские законы — во имя крови и чести». Арийцам запрещены браки с евреями и внебрачные сношения с ними. Евреям запрещено нанимать прислугу моложе 45 лет.
04.1936: запрет всем чиновникам иметь дело с евреями по какому бы то ни было поводу.
10.1936: запрет евреям пользоваться читальными залами публичных библиотек.
08.1938: закон об именах. Евреи-мужчины обязаны после своего имени добавлять ещё одно — Израиль. Еврейки добавляют имя Сарра,
10.1938: запрет евреям снимать номера в гостиницах.
11.1938: евреям запрещён доступ в театры, кино- и концертные залы, музеи, на выставки, открытые доклады и лекции, спортивные соревнования, катки, в бассейны — общественные и частные.
12.1938: евреям запрещено брать в библиотеке книги на дом и иметь водительские права (следовательно, водить машину).
09.1939: запрет выходить из дома после 8 часов вечера.
08.1940: запрет входить в городские парки и сады. Запрет пользоваться телефоном.
10.1940: конфискация у евреев швейных и пишущих машинок.
03.1941: запрет молочницам переступать порог домов, где живут евреи, и продавать им молоко.
08.1941: запрет евреям курить.
19 сентября 1941: евреи обязаны носить на лацкане пиджака или пальто жёлтую шестиконечную звезду. Тот, кто прикрывал звезду рукой, газетой, книгой и т. п., подлежал немедленному аресту.
11-12.1941: распоряжение о сдаче евреями биноклей и фотоаппаратов, запрет пользоваться телефонами-автоматами и ездить в автобусах (разрешено только в трамвае, на передней площадке прицепного вагона).
03-04.1942: запрет на пользование трамваем — «учитывая многократные нарушения евреями дисциплины в трамваях». Запрет покупать иллюстрированные журналы и еженедельники или подписываться на них. Запрет покупать цветы и иметь продуктовые запасы, появляться на вокзале, пользоваться услугами ремесленников-арийцев, стоять в очереди, ходить по улице вдоль городского парка.
05.1942: запрет держать домашних животных — собак, кошек, птиц.
С. 54. Профессора немцы забрали после убийства Гейдриха, и он так больше и не вернулся.
Оккупировав Чехию, германские власти учредили должность рейхспротектора и назначили на неё Константина фон Нейрата, бывшего ранее министром иностранных дел Третьего рейха. Протекторат должен был стать немецкой «кузницей» и «оружейной мастерской» (Германия, опасаясь английских бомбардировок, стремилась отодвинуть стратегически важные промышленные объекты подальше от Атлантики). Чехам отводилась роль мобилизованной рабочей силы. Всякое невоенное производство сворачивалось, были введены продовольственные карточки.
Осенью 1939 года в стране начались волнения, студенческие демонстрации. Вскоре они были жестоко подавлены (см. примечание на с. 124), однако Гитлер всё равно был недоволен фон Нейратом и назначил ему в заместители начальника Главного управления имперской безопасности Рейнхарда Гейдриха, одного из ключевых функционеров своего режима. Тот был не только начальником (по сути — создателем) СД[70] и гестапо; ему принадлежала решающая роль в разработке и реализации плана уничтожения евреев и цыган. Именно Гейдриху в масштабах рейха подчинялись т. н. айнзатцгруппы, совершавшие массовые казни «расово неполноценных» (а заодно — коммунистов и партизан); по его приказу создавались система еврейских гетто и строились концентрационные лагеря.
В Чехии Гейдрих в полной мере проявил свои незаурядные административные способности. Введя в стране военное положение и за несколько недель ликвидировав чешское сопротивление, он объявил об окончании политических репрессий и о введение мер, улучшающих жизнь «простых чехов»: повысил зарплату и продуктовую норму 2 миллионам рабочих, выделил 200 тысяч пар обуви для людей, занятых в военной промышленности, увеличил рацион сигарет, организовал в реквизированных гостиницах и пансионатах дома отдыха для трудящихся, ликвидировал чёрный рынок. В результате население практически примирилось с немецкой оккупацией.
Видя это, чешское правительство в изгнании (действовавшее в 1938–1945 годах в Лондоне) решает ликвидировать Гейдриха. Расчёт был также на то, что неминуемые после его убийства репрессии оттолкнут чехов от оккупационного режима. В Прагу были заброшены подготовленные англичанами агенты, и 27 мая 1942 года ехавший в открытом автомобиле и без сопровождения (таково было его обыкновение) Гейдрих был смертельно ранен.
«В это время гестапо искало человека, убившего Гейдриха и оставившего забрызганный грязью велосипед на широкой улице пражского района Либень» (с. 101).
Объявление обещает 10 миллионов крон за сведения, которые позволят поймать преступника.
художник книги
Тимофей Яржомбек родился в Москве в 1986 году. С 2003 года его графические работы публикуются в журналах. Участник художественных выставок. «Собачья жизнь и другие рассказы» — дебют Тимофея в книжной иллюстрации.
переводчик сборника рассказов «Собачья жизнь»
Павел Сергеевич Гуров (1924–1986) окончил юридический факультет МГУ. Литературным переводом занялся в 1956 году. Переводил прозу, поэзию и научно-популярные книги с английского, немецкого, французского и чешского языков.
Среди переведённых им авторов — И.Х.Ф. Гёльдерлин, Шервуд Андерсон, Айзек Азимов, Джеймс Хэрриот, Борис Виан.
составитель и дизайнер серии
Илья Бернштейн родился в Москве в 1967 году. С начала 1990-х годов занимается литературным редактированием и оформлением печатной продукции.
Примечания
1
Троя — пригород Праги.
(обратно)
2
Согласно распоряжению Заместителя Имперского Протектора Чехии и Моравии всем лицам, которые до настоящего времени не смогли доказать своё арийское происхождение, запрещается держать домашних животных…
«Окончательное решение еврейского вопроса» было обставлено с немецким педантизмом и уважением к законам. Филолог, профессор Дрезденского университета Виктор Клемперер оставил детальное описание (Victor Klemperer. Ich will Zeugnis ablegen bis zum Letzien. Tagebücher 1933–1945. 2 Bde. Aufbau-Verlag, Berlin. 1995. По-русски см. в книге E. Эткинд. Записки незаговорщика. Барселонская проза. СПб., Академический проект, 2001. С. 442–463.) начала этого процесса (приводим с большими купюрами):
03.1934: запрет евреям защищать диссертации.
06.1934: запрет немцам покупать у евреев.
09.1935: «Нюрнбергские законы — во имя крови и чести». Арийцам запрещены браки с евреями и внебрачные сношения с ними. Евреям запрещено нанимать прислугу моложе 45 лет.
04.1936: запрет всем чиновникам иметь дело с евреями по какому бы то ни было поводу.
10.1936: запрет евреям пользоваться читальными залами публичных библиотек.
08.1938: закон об именах. Евреи-мужчины обязаны после своего имени добавлять ещё одно — Израиль. Еврейки добавляют имя Сарра,
10.1938: запрет евреям снимать номера в гостиницах.
11.1938: евреям запрещён доступ в театры, кино- и концертные залы, музеи, на выставки, открытые доклады и лекции, спортивные соревнования, катки, в бассейны — общественные и частные.
12.1938: евреям запрещено брать в библиотеке книги на дом и иметь водительские права (следовательно, водить машину).
09.1939: запрет выходить из дома после 8 часов вечера.
08.1940: запрет входить в городские парки и сады. Запрет пользоваться телефоном.
10.1940: конфискация у евреев швейных и пишущих машинок.
03.1941: запрет молочницам переступать порог домов, где живут евреи, и продавать им молоко.
08.1941: запрет евреям курить.
19 сентября 1941: евреи обязаны носить на лацкане пиджака или пальто жёлтую шестиконечную звезду. Тот, кто прикрывал звезду рукой, газетой, книгой и т. п., подлежал немедленному аресту.
11-12.1941: распоряжение о сдаче евреями биноклей и фотоаппаратов, запрет пользоваться телефонами-автоматами и ездить в автобусах (разрешено только в трамвае, на передней площадке прицепного вагона).
03-04.1942: запрет на пользование трамваем — «учитывая многократные нарушения евреями дисциплины в трамваях». Запрет покупать иллюстрированные журналы и еженедельники или подписываться на них. Запрет покупать цветы и иметь продуктовые запасы, появляться на вокзале, пользоваться услугами ремесленников-арийцев, стоять в очереди, ходить по улице вдоль городского парка.
05.1942: запрет держать домашних животных — собак, кошек, птиц.
Комментарий взят из главы «…и комментарии»
(обратно)
3
Сумасшедшая еврейка, сумасшедшая! (смеш. идиш и нем.)
(обратно)
4
Ну, собачка, так как звали твоего еврея? Мунелес или Цицес? Или Задес? (нем.)
(обратно)
5
Я из него сделаю собаку, из этого немецкого умник (нем.).
(обратно)
6
Санпропускник (нем.).
(обратно)
7
Парфорс — «строгий» ошейник, сделан по принципу удавки. — Прим. ред.
(обратно)
8
Ах ты бедная собачка (нем.).
(обратно)
9
Комнатная собака (нем.).
(обратно)
10
Пан Эмиль, пан Эмиль, где вы? (польск.)
(обратно)
11
Реб Ицхок, ваш хлеб у меня. Вы не боитесь? (идиш)
(обратно)
12
Доктор Гуггенгейм, подойдите, пожалуйста, к вашей дочери, у неё болит голова (нем.).
(обратно)
13
Пошёл! (нем.)
(обратно)
14
Профессора немцы забрали после убийства Гейдриха, и он так больше и не вернулся.
Оккупировав Чехию, германские власти учредили должность рейхспротектора и назначили на неё Константина фон Нейрата, бывшего ранее министром иностранных дел Третьего рейха. Протекторат должен был стать немецкой «кузницей» и «оружейной мастерской» (Германия, опасаясь английских бомбардировок, стремилась отодвинуть стратегически важные промышленные объекты подальше от Атлантики). Чехам отводилась роль мобилизованной рабочей силы. Всякое невоенное производство сворачивалось, были введены продовольственные карточки.
Осенью 1939 года в стране начались волнения, студенческие демонстрации. Вскоре они были жестоко подавлены (см. примечание на с. 124), однако Гитлер всё равно был недоволен фон Нейратом и назначил ему в заместители начальника Главного управления имперской безопасности Рейнхарда Гейдриха, одного из ключевых функционеров своего режима. Тот был не только начальником (по сути — создателем) СД (Sicherheitsdienst Reichsführer (SD) — служба безопасности рейхсфюрера) и гестапо; ему принадлежала решающая роль в разработке и реализации плана уничтожения евреев и цыган. Именно Гейдриху в масштабах рейха подчинялись т. н. айнзатцгруппы, совершавшие массовые казни «расово неполноценных» (а заодно — коммунистов и партизан); по его приказу создавались система еврейских гетто и строились концентрационные лагеря.
В Чехии Гейдрих в полной мере проявил свои незаурядные административные способности. Введя в стране военное положение и за несколько недель ликвидировав чешское сопротивление, он объявил об окончании политических репрессий и о введение мер, улучшающих жизнь «простых чехов»: повысил зарплату и продуктовую норму 2 миллионам рабочих, выделил 200 тысяч пар обуви для людей, занятых в военной промышленности, увеличил рацион сигарет, организовал в реквизированных гостиницах и пансионатах дома отдыха для трудящихся, ликвидировал чёрный рынок. В результате население практически примирилось с немецкой оккупацией.
Видя это, чешское правительство в изгнании (действовавшее в 1938–1945 годах в Лондоне) решает ликвидировать Гейдриха. Расчёт был также на то, что неминуемые после его убийства репрессии оттолкнут чехов от оккупационного режима. В Прагу были заброшены подготовленные англичанами агенты, и 27 мая 1942 года ехавший в открытом автомобиле и без сопровождения (таково было его обыкновение) Гейдрих был смертельно ранен.
Комментарий взят из главы «…и комментарии»
(обратно)
15
Печкарня — дворец Печека, — здание, где размещалось пражское гестапо.
(обратно)
16
Генрих, ты любишь меня? (нем.)
(обратно)
17
Да, дорогой отец! (нем.)
(обратно)
18
Есть (нем.).
(обратно)
19
В книге — голопом (прим. вычитывающего).
(обратно)
20
В книге — мелью (прим. вычитывающего).
(обратно)
21
Подожди, я сейчас приду (чешск.).
(обратно)
22
Сядь за парту и читай (чешск.).
(обратно)
23
Имеешь? (чешск.)
(обратно)
24
Есть? (чешск.)
(обратно)
25
Не говори! (чешск.)
(обратно)
26
Я тебя насквозь вижу. До самого дна. А там у тебя — чёрное пятно! (чешск.)
(обратно)
27
Пошли! (чешск.).
(обратно)
28
Тебе тут мало света (чешск.).
(обратно)
29
Оставь его, не шути (чешск.).
(обратно)
30
Так в книге (прим. вычитывающего).
(обратно)
31
Гайдовец — член чешской фашистской партии.
(обратно)
32
Чехия и Моравия (нем.).
(обратно)
33
Марсельская уха (франц.).
(обратно)
34
Марка чешского вина.
(обратно)
35
Встать! (нем.)
(обратно)
36
Живей, раз-два! (нем.)
(обратно)
37
Есть кондитер! (нем.)
(обратно)
38
Государственное дело, строго секретное (нем.).
(обратно)
39
Засахаренные каштаны (франц.).
(обратно)
40
Уютом (нем.).
(обратно)
41
Мама (нем.).
(обратно)
42
Кондитер, пожалуйста… Главное командование (нем.).
(обратно)
43
Гурман, особоуполномоченный (нем.).
(обратно)
44
В книге: повалися (прим. вычитывающего).
(обратно)
45
«В это время гестапо искало человека, убившего Гейдриха и оставившего забрызганный грязью велосипед на широкой улице пражского района Либень».
Объявление обещает 10 миллионов крон за сведения, которые позволят поймать преступника.
Комментарий взят из главы «…и комментарии»
(обратно)
46
Юлиус, лежа на полу, расплакался: никаких партизан он в глаза не видел, всегда был лояльным, очень лояльным, даже более чем лояльным гражданином протектората «Böhmen und Mähren», а жена его — урожденная Шмидтбергер, и родом она из Судет.
Созданная в 1918 году на руинах Австро-Венгрии Чехословакия включала в себя четыре национальных анклава — немецкий, польский, венгерский, украинский (русинский) — и две сопредельные моноэтнические области — чешскую и словацкую. Так были заложены фундаменты будущих конфликтов, и первый (по времени) из них — судетский (Судеты — область компактного проживания немцев).
Этнолингвистическая карта Чехословакии 1930-х годов. Изображённый на карте Цешин (на границе Чехословакии и Польши) — это Чешский Тешин, где в 1921 году родился Ашкенази.
Ещё при разделе Австро-Венгрии северные и северо-западные районы будущей Чехословакии (где процент немецкого населения достигал 90, в целом немцы составляли 25 процентов населения Чехословакии) пытались добиться самостоятельности или присоединения к Германии. Тогда властям новорождённого государства удалось пресечь эти попытки, но после прихода Гитлера к власти политические лидеры судетских немцев вновь потребовали объединения с Третьим рейхом. Напряжение постепенно нарастало, и в сентябре 1938 года в Судетах начались крупные беспорядки. Прага ввела там военное положение, а Гитлер заявил, что не потерпит «преступлений» чехов. Франция и Великобритания, связанные с Чехословакией договорами о взаимопомощи, 30 сентября в Мюнхене подписали с Германией соглашение (в советской историографии называемое Мюнхенским сговором), узаконившее аннексию Судет. Гитлер, которому достались не только промышленно развитые и богатые полезными ископаемыми земли, но и самая передовая по тем временам система укреплений, на этом не остановился и в марте 1939-го оккупировал оставшееся беззащитным чешское государство (Словакия в результате этого получила независимость, а венгерский анклав Подкарпатская Русь отошёл Венгрии). Чехия была объявлена германским «протекторатом Богемия и Моравия» («Böhmen und Mähren»).
Комментарий взят из главы «…и комментарии»
(обратно)
47
«Песнь моя летит с мольбою в тишине ночной…» (нем.)
(обратно)
48
Что это происходит со мной? (нем.)
(обратно)
49
Нате вам (нем.).
(обратно)
50
Скульптор (нем.).
(обратно)
51
Ну, хорошо (нем.).
(обратно)
52
Художник (нем.).
(обратно)
53
Писарю (нем.).
(обратно)
54
В книге: обртил (прим. вычитывающего).
(обратно)
55
Лови момент (лат.).
(обратно)
56
День, когда нацистские оккупанты распустили высшие учебные заведения в протекторате, арестовали и казнили многих студентов.
(обратно)
57
http://de.wikipedia.org/wiki/Ludvik_Askenazy
(обратно)
58
Deutschen Kinderbuchpreis 1977 — Государственная премия ФРГ 1977 года за лучшую детскую книгу («Где лисы играют на дудочке»).
(обратно)
59
Воинская часть (вначале — батальон, затем — пехотная бригада и, наконец, армейский корпус), сформированная на территории СССР из граждан Чехословакии и воевавшая с начала 1943 года в составе разных фронтов Красной Армии. При этом подчинялась чехословацкому правительству в изгнании и воинскому уставу чехословацкой армии.
(обратно)
60
Ашкенази — самоназвание евреев Европы (кроме выходцев из Испании, южных областей Франции и Италии). В средневековой еврейской литературе «ашкеназами» назывались евреи — жители Германии.
(обратно)
61
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ludvik_Askenazy
(обратно)
62
Фильм состоит из четырёх киноновелл. Одна из них — экранизация вошедшего в наше издание рассказа «Голубая искра».
(обратно)
63
Так выглядит иллюстрация в книге:
(обратно)
64
Так указывает сайт www.slovnikceskeliteratury.cz. Видимо, имеется в виду пьеса А.Н. Толстого и П.Е. Щёголева «Заговор императрицы».
(обратно)
65
Удивительно, но и рождение детей оказалось как-то связано с политикой СССР в Восточной Европе: Индржих родился в год коммунистического переворота в Чехословакии (1948-й), Людвик-младший — в год подавления антикоммунистического восстания в Венгрии (1956-й).
(обратно)
66
Из книги стихов и фотографий Л. Ашкенази «Чёрная шкатулка» (1964), запланированное издание которой по-русски не состоялось по причине эмиграции автора. Перевод Александра Лейзеровича.
(обратно)
67
В целом немцы составляли 25 процентов населения Чехословакии.
(обратно)
68
В советской историографии называемое Мюнхенским сговором.
(обратно)
69
Victor Klemperer. Ich will Zeugnis ablegen bis zum Letzien. Tagebücher 1933–1945. 2 Bde. Aufbau-Verlag, Berlin. 1995. По-русски см. в книге E. Эткинд. Записки незаговорщика. Барселонская проза. СПб., Академический проект, 2001. С. 442–463.
(обратно)
70
Sicherheitsdienst Reichsführer (SD) — служба безопасности рейхсфюрера.
(обратно)
Оглавление
Пер. П.Гуров
Пер. П.Гуров
или Собачья жизнь
Пер. П.Гуров
Дети
Пер. Г. Гуляницкая
Голубая искра
Пер. Г. Гуляницкая
Ромео
Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер
Лебл
Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер
Пропал кондитер
Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер
Про Это
Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер
Бюст
Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер
Двадцатый век
Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер
Яичко
Пер. В.Н. Вагнер, Н.А. Вагнер