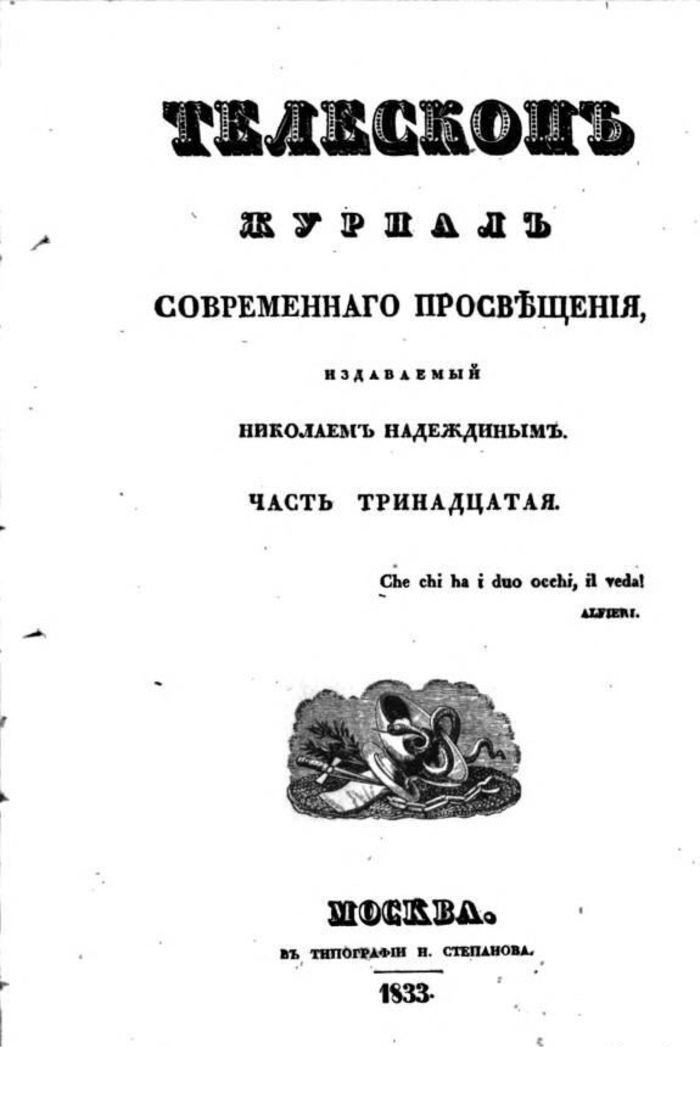-
Западники и славянофилы. «Философическое письмо» п. Чаадаева
Пётр Я́ковлевич
Чаада́ев, устар. Чадаев,
Чедаев (7 июня 1794, Москва — 14
(26) апреля 1856, Москва) — русский философ (по
собственной оценке — «христианский
философ») ипублицист,
объявленный правительством сумасшедшим
за свои сочинения, в которых резко
критиковал действительность русской
жизни. Его труды были запрещены к
публикации в императорской России.
В 1829—1831 создает
своё главное произведение —
«Философические
письма». Публикация первого
из них в журнале «Телескоп»
в 1836
году вызвала резкое
недовольство властей из-за выраженного
в нём горького негодования по поводу
отлучённости России от
«всемирного воспитания человеческого
рода», духовного застоя, препятствующего
исполнению предначертанной свыше
исторической миссии[1].
Журнал был закрыт, издатель Надеждин
сослан, а Чаадаев — объявлен
сумасшедшим.
Философические
письма
В 1829—1831 создает
своё главное произведение — «Письма
о философии истории» (на французском
языке; было переведено Кетчером),
за которыми закрепляется название
«Философических писем».
В конце сентября
1836 года в России вышла 15-я книга
«Телескопа»,
где в отделе «Науки
и искусства» была
опубликована статья под оригинальным
названием: «Философические
письма к г-же ***. Письмо 1-ое». Статья
была не подписана. Вместо подписи
значилось: «Некрополис.
1829 г., декабря 17».
Публикация сопровождалась редакционным
примечанием: «Письма эти писаны одним
из наших соотечественников. Ряд их
составляет целое, проникнутое одним
духом, развивающее одну главную мысль.
Возвышенность предмета, глубина и
обширность взглядов, строгая
последовательность выводов и энергическая
искренность выражения дают им особенное
право на внимание мыслящих читателей.
В подлиннике они писаны на французском
языке. Предлагаемый перевод не имеет
всех достоинств оригинала относительно
наружной отделки[10].
Мы с удовольствием извещаем читателей,
что имеем дозволение украсить наш журнал
и другими из этого ряда писем».
Публикация первого
письма вызвала резкое недовольство
властей из-за выраженного в нём горького
негодования по поводу отлучённости России от
«всемирного воспитания человеческого
рода», духовного застоя, препятствующего
исполнению предначертанной свыше
исторической миссии. Журнал был закрыт,
а Чаадаев — объявлен сумасшедшим.
«Философическое
письмо» Чаадаева (1836),
опубликованное в журнале «Телескоп»
(в переводе Ал.
С. Норова), дало мощный толчок развитию
русской философии. Его сторонники
оформились в западников, а его критики —
в славянофилов. Чаадаев закладывает
две основные идеи русской философии:
стремление реализовать утопию и поиск
национальной идентичности. Он обозначает
себя как религиозного мыслителя,
признавая существование Высшего Разума,
который проявляет себя в истории через
Провидение. Чаадаев не отрицает
христианство, но считает, что его основная
идея заключается в «водворении царства
божьего на Земле», причём Царство Божье —
это метафора справедливого общества,
которое уже осуществляется на Западе
(на этом позже делали основной упор
западники). Что касается национальной
идентичности, то Чаадаев лишь обозначает
идею самобытности России. «Мы не
принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, —
пишет он, — мы — народ исключительный».
Смысл России — быть уроком всему
человечеству. Однако Чаадаев был далёк
от шовинизма и веры в исключительность
России. Для него цивилизация едина, а
все дальнейшие попытки поиска
самобытности — суть «национальные
предрассудки».
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
Цель настоящей статьи показать, что воззрения А.С. Пушкина и концепция знаменитого первого философического письма П.Я. Чаадаева — “Две вещи несовместные”. “Теперь начнем”.
Первое философическое письмо Чаадаева (1794 — 1856) было опубликовано в сентябре — начале октября 1836 г. в журнале “Телескоп” (№ 15) под заглавием “Философические письма к гж ???. Письмо первое”. С.Н. Карамзина — дочь известного русского историка Н.М. Карамзина (от первого брака) в частном письме от 3(15) ноября 1836 года дала другое (более конкретное) заглавие данному произведению Чаадаева — “Преимущества католицизма перед греческим исповеданием”[1].
Почти через сорок лет (точнее в 1875 г.) П.А. Вяземский, вспоминая содержание первого философического письма Чаадаева, писал: “Любезнейший аббатик, как прозвал его (Чаадаева. — Г.С.) Денис Давыдов, довольствовался чтением письма в среде Московских прихожанок своих, которых был он настоятелем и правителем по делам совести (directeur de conscience). Безтактность журналистики нашей с одной стороны, с другой обольщение авторскаго самолюбия, придали несчастную гласность этой конфиденциальной и келейной ультрамонтанской энциклике, пущенной из Басманскаго Ватикана”. Обратим внимание, что П.А. Вяземский называет произведение Чаадаева ультрамонтанской энцикликой, “пущенной из Басманскаго Ватикана”[2]. (Имеется в виду место проживания Чаадаева на Новой Басманной улице в Москве.)
Философические письма, отобранные у Чаадаева официальными (правительственными) инстанциями, были подвергнуты закрытой, внутренней рецензии. Рецензент – князь Э.П. Мещерский, в частности, писал: “Если попытаться определить дух этого сочинения путем обозрения обнаруживающихся в нем различных направлений, то придешь к следующим заключениям. Общее и господствующее направление — римско-католическое; цель, по-видимому, более религиозная, нежели политическая, и скорее умозрительная, нежели догматическая. Революционные принципы нигде не получают открытого выражения. <…> В конце концов, следов политического учения сенсимонистов в письмах этих не обнаруживается”[3]. Даже располагая только заключительной частью рецензии, можно сказать, что она написана квалифицированно, ибо в итоге определены общее и господствующее направление (“римско-католическое”) и цель (“более религиозная, нежели политическая”) рецензируемого произведения.
21 октября 1836 г. вскоре (по существу, сразу) после публикации в “Телескопе” первого философического письма П. Я. Чаадаева Ф.Ф. Вигель (1786—1856) написал письмо митрополиту новгородскому и санкт-петербургскому Серафиму: “Высокопреосвященнейший владыко, милостивейший архипастырь! Прожив более полувека, я никогда ни чьим не был обвинителем. Но вчера чтение одного московскаго журнала возбудило во мне негодование, которое, постепенно умножаясь, довело меня до отчаяния. В сем положении не нахожу другого средства к успокоению своему, как прибегнуть к вашему высокопреосвященству с просьбою, обратить пастырское внимание ваше на то, что меня так сильно встревожило. Иные скажут, может быть, что я не в праве сего делать, но как верный сын отечества и православной церкви, я считаю сие обязанностию.
Самая первая статья представляемаго у сего журнала, под названием “Телескоп”, содержит в себе такия изречения, которыя одно только безумство себе позволить может. Читая оныя, я с начала не доверял своим глазам. Многочисленнейший народ в мире, в течении веков существовавший, препрославленный, к коему, по уверению автора статьи, он сам принадлежит, поруган им, унижен до невероятности. Если вашему высокопреосвященству угодно будет прочитать хотя половину сей богомерзкой статьи, то усмотреть изволите, что нет строки, которая бы не была ужаснейшею клеветою на Россию, нет слова, кое бы не было жесточайшим оскорблением нашей народной чести.
Меня утешала еще мысль, что сие, так-называемое философическое письмо, писанное по-французски, вероятно составлено каким-нибудь иноверцем, иностранцем, который назвался русским,
чтобы удобнее нас поносить. Увы! к глубочайшему прискорбию узнал я, что сей изверг, неистощимый хулитель наш, родился в России от православных родителей, и что имя его (впрочем мало доселе известное) есть Чаадаев. Среди ужасов французской революции, когда попираемо было величие Бога и царей, подобнаго не было видано. Никогда, нигде, ни в какой стране, никто толикой дерзости себе не позволил.
Но безумной злобе сего несчастнаго против России есть тайная причина, коей впрочем он скрывать не старается: отступничество от веры отцев своих и переход в латинское исповедание. Вот новое доказательство того, что неоднократно позволял я себе говорить и писать: безопасность, целость, благосостояние и величие России неразрывно связаны с Восточною верою, более осьми веков ею исповедуемою. Сею верою просветилась она во дни своего младенчества, ею была защищена и утешаема во дни уничижения и страданий, ею спасена от татарскаго варварства и с нею вместе возстала во дни торжества над безчисленными врагами, ее окружавшими. Стоит только принять ее, чтобы соделаться совершенно русским, стоит только покинуть ее, чтобы почувствовать не только охлаждение, омерзение к России, но даже остервенение против нея, подобно сему злощастному, слепотствующему, неистовому ея гонителю. Разъединению с западной церковью приписывает он совершенный недостаток наш в умственных способностях, в понятиях о чести, о добродетели; отказывает нам во всем, ставит нас ниже дикарей Америки, говорит, что мы никогда не были христианами и, в изступлении своем, наконец нападает даже на самую нашу наружность, в коей видит безцветность и немоту.
И все сии хулы на отечество и веру изрыгаются явно, и где же? в Москве, в первопрестольном граде нашем, в древней столице православных государей совершается сие преступление! И есть издатель, который не довольствуется поместить статью сию в журнале, но превозносит ее похвалами, как глубокомысленнейшее произведение высокаго ума, и он грозит еще другими подобными письмами! и есть ценсура, которая все это пропускает! Кто знает, будут и люди, которые с участием и одобрением будут читать оное. О Боже! до чего мы дожили!
Сама святая и соборная апостольская церковь вопиет к вам о защите: при ея священном гласе моления мои ничто. Вам, вам предстоит обязанность объяснить правительству пагубныя последствия, которыя проистекут от дальнейшей снисходительности и указать на средства к обузданию толиких дерзостей. Может быть кто-нибудь и предупредит меня: дай Всевышний, чтобы прежде моего тысячи голосов воззвали к вашему высокопреосвященству о скорой помощи.
С глубочайшим благоговением честь имею быть, милостивейший архипастырь, вашего высокопреосвященства, всепокорнейший слуга Филипп Вигель, Действительный статский советник, управляющий департаментом духовных дел иностранных исповеданий”[4]. В одной из записных книжек уже цитированного нами П.А. Вяземского отмечается, что Чаадаев “некогда был по высочайшему повелению произведен в сумасшедшие как отчаянный оксиденталист и папист”.[5]
“Славянофильский фаворитный поэт” Н.М. Языков (1803 — 1846) упрекал Чаадаева (в 1844 г.): “Ты лобызаешь туфлю пап”.
Протоиерей Г. Флоровский в “Путях русского богословия” утверждает: “Чаадаева принято называть первым западником, и с него именно начинать историю западничества. Первым назвать его можно только в не-прямом смысле, — в его поколении все были западниками, часто просто западными людьми. И западником он был своеобразным. Это было религиозное западничество. Магистраль же русского западничества уходит уже и в те годы в атеизм, в “реализм” и позитивизм…”[6].
“Чаадаева принято называть первым западником”, во-первых, принято не единогласно, во-вторых, даже если бы было принято всеми, т.е. общепринято, это нисколько не свидетельствовало (не доказывало) бы истинность положения.
Если первым западником Чаадаева “назвать… можно только в не-прямом смысле”, то стоит ли называть его таковым? Если первым западником Чаадаева “назвать… можно только в не-прямом смысле”, то логично ли “с него именно начинать историю западничества”?
Если “магистраль… русскаго западничества уходит уже и в те годы в атеизм, в “реализм” и позитивизм…”, то логично ли называть первым западником глубоко религиозного мыслителя?
Или надо говорить о двух видах русского классического западничества XIX в.? У цитируемого нами автора так и получается. Речь идет о магистральном (назовем его так, исходя из контекста) западничестве (“магистраль же русского западничества уходит уже и в те годы в атеизм, в “реализм” и позитивизм…”) и религиозном западничестве, которое как диаметрально противоположное по содержанию и значимости первому, логично назвать (также исходя из контекста, подчеркнем) периферийным западничеством.
Итак, магистральное и периферийное (которое находится где-то на обочине), другими словами, столбовое и проселочное — два вида русского западничества фактически присутствуют в исследуемом нами тексте “Путей русского богословия”. При этом в рассуждениях прот. Г. Флоровского не содержится никакого указания, даже намека на то (признак, черта, основание), что объединяет, по его мнению, два диаметрально противоположных по содержанию вида русского западничества в общее (родовое) понятие “русское западничество”.
В итоге, приходим к вопросу: не являются ли положения автора “Путей русского богословия” внутренне алогичными, внутренне противоречивыми? Более корректен прот. Г. Флоровский, когда называет Чаадаева апологетом римской теократии.
А как же все-таки соотносятся воззрения Чаадаева и русских классических западников XIX в. (В.Г. Белинский, А.И. Герцен и др.)? При решении данной проблемы может быть перспективной и плодотворной интересная мысль А.А. Григорьева (1822—1864): “Основа Чаадаева был католицизм, основою западничества стала философия”[7]. А.И. Герцен, который полагал (по мнению многих, ошибочно), что Чаадаев является мыслителем освободительного движения, писал: “В своем “Письме” он (Чаадаев — Г.С.) половину бедствий России относит на счет греческой церкви, на счет ее отторжения от всеобъемлющего западного единства. Как ни странно для нас такое мнение, но не надобно забывать, что католицизм имеет в себе большую тягучесть”[8]. “Как ни странно для нас такое мнение”, т.е. очень странно “для нас”, для классического западника А.И. Герцена “такое мнение” Чаадаева. И еще. “Чаадаев думал найти обещанный всем страждущим и обремененным покой в католической церкви”.
Логично ли в таком случае считать Чаадаева мыслителем освободительного движения в России?
Вот как выглядит панорама духовной жизни России 30-х гг. XIX в. под пером известного историка русской литературы А.И. Пыпина: “Чтобы представить себе «цикл идей и чувств», владевших молодым поколением тридцатых годов, довольно вспомнить разнообразие литературных и общественных течений, действовавших в данную минуту, и разнообразие новых приходивших влияний. Оставались таившиеся воспоминания от либерального движения двадцатых годов; Пушкин впервые открывал безграничные горизонты искусства, и поэтический идеализм поддерживала еще сильная романтика и новая идеалистическая философия; мечты общественно-политические, после влияний двадцатых годов, принимали новое направление под внушениями развивавшегося тогда “социализма”; философско-исторические теории вели в одном кругу к консервативному символу Уварова, в другом — к католической теории Чаадаева, в третьем — к утверждениям разумной действительности (как у Белинского), или к начаткам славянофильства (как у Хомякова), или к народничеству (у Петра Киреевского) и т.д.; в романтике бывал даже уродливый титанизм (как у Марлинского), прибавлялась, наконец, мнимо народная теория обскурантизма (в “Маяке”, частию даже в “Москвитянине”)”[9].
Для нас здесь важно, что философско-историческая теория Чаадаева характеризуется как католическая теория Чаадаева.
Сам себя Чаадаев определял как христианского философа: «…я… просто христианский философ»— писал он в письме С.С. Мещерской 27 мая 1839 г. Сразу же вспоминается письмо Н.Н. Страхова В.В. Розанову от 17 июля 1891 г., в котором он упрекает последнего: “Но Ваша страсть к отвлеченности, по моему, много портит. Я думаю, Вы никогда не скажете Русский Вестник, а всегда: один из журналов, не скажете в июньской книжке, а непременно: недавно. Конечно, оно красивее, напр. так: одно из наших повременных изданий, или так: мы недавно читали… А между тем, я готов разсердиться”. “Страсть к отвлеченности” присуща и Чаадаеву. Он никогда не скажет о себе “я католический философ”, а говорит “я… христианский философ”. “Конечно, оно красивее” (говоря словами Н.Н. Страхова), но уж очень абстрактно, отвлеченно и неконкретно.
Конечно, воззрения Чаадаева — “смелая теория”[10], следовательно, Чаадаев был “смелым теоретиком”. “Он был вдобавок еще теоретик католицизма, стало быть, самый безжалостный, самый последовательный из всех возможных теоретиков”. По мнению А.А. Григорьева, Чаадаев увлекся католицизмом “тем сильнее, что, человек с жаждою веры, он воспитанием своим был совершенно разобщен с бытом своего народа, так сказать, прельщен католицизмом и его идеалами”[11].
Полагая, что первое философическое письмо “есть в своем роде высокохудожественное произведение”[12], Г.В. Плеханов назвал Чаадаева “лирическим поэтом русского западничества”[13]. По нашему мнению, Чаадаев был не “лирическим поэтом русского западничества”, а лирическим поэтом католицизма.
А теперь пора перейти к А.С. Пушкину. Каково было отношение А.С. Пушкина к первому философическому письму Чаадаева? Получив от автора (через И.С. Гагарина) отдельный оттиск напечатанного в “Телескопе” первого философического письма, А.С. Пушкин выразил крайне резкое неприятие его содержания и выводов концепции Чаадаева.
Как же выглядит Россия в чаадаевском произведении, если А.С. Пушкин заявляет: “Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться”. Вдумаемся в слова и мысли Пушкина. Сразу становится ясно и то, как выглядит Россия в чаадаевском произведении, и то, как резко Пушкин выражает свое неприятие чаадаевской концепции.
Как же выглядит Россия, ее история, ее роль и место во всемирной истории в чаадаевском изображении, если Пушкин в частном письме своему другу клянется, что ни за что на свете не хотел бы переменить отечество, или дословно: “Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал».
Вышецитированные положения являются квинтэссенцией (неотправленного) письма Пушкина Чаадаеву от 19 октября 1836 г. По нашему мнению, они могли бы послужить эпиграфом к данному письму. Поскольку полемика А.С. Пушкина с Чаадаевым имеет многогранный и всесторонний характер, приведем указанное письмо целиком и полностью. Итак, Пушкин пишет Чаадаеву: “Благодарю за брошюру, которую вы мне прислали. Я с удовольствием перечел ее, хотя очень удивился, что она переведена и напечатана. Я доволен переводом: в нем сохранена энергия и непринужденность подлинника. Что касается мыслей, то вы знаете, что я далеко не во всем согласен с вами. Нет сомнения, что Схизма <разделение церквей> отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые ее потрясали, но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех. Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, что Византия была достойна презрения и презираема и т.п. Ах, мой друг, разве сам Иисус Христос не родился евреем и разве Иерусалим не был притчею во языцех? Евангелие от этого разве менее изумительно? У греков мы взяли евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева. Наше духовенство, до Феофана, было достойно уважения, оно никогда не пятнало себя низостями папизма и, конечно, никогда не вызвало бы реформации в тот момент, когда человечество больше всего нуждалось в единстве. Согласен, что нынешнее наше духовенство отстало. Хотите знать причину? Оно носит бороду, вот и все. Оно не принадлежит к хорошему обществу. Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы — разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие — печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, — как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел вас в Париж? и (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы? Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблен, — [я] но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал.
Вышло предлинное письмо. Поспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко. Но боюсь, как бы ваши [религиозные] исторические воззрения вам не повредили… Наконец, мне досадно, что я не был подле вас, когда вы передали вашу рукопись журналистам. Я нигде не бываю и не могу вам сказать, производит ли статья впечатление. Надеюсь, что ее не будут раздувать. Читали ли вы 3-й № Современника? Статья “Вольтер” и Джон Теннер — мои, Козловский стал бы моим провидением, если бы захотел раз навсегда сделаться литератором. Прощайте, мой друг. Если увидите Орлова <?> и Раевского <?>, передайте им поклон. Что говорят они о вашем письме, они, столь посредственные христиане?”.
Внимательный анализ содержания пушкинского документа приводит к выводу, что его автор, опираясь на конкретные исторические факты, доказывает ошибочность и несостоятельность всех принципиальных положений первого философического письма Чаадаева.
А как быть с высказываниями А.С. Пушкина: “Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблен”; “Поспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь… Вы хорошо сделали, что сказали это громко”? Нельзя ли их истолковать в духе (хотя бы) частичной солидарности А.С. Пушкина с воззрениями Чаадаева?
Полемика Пушкина с Чаадаевым идет по проблемам исторической судьбы России и ее места во всемирной истории, а не по вопросам: “есть ли недостатки в России?” (не А.С. Пушкину их отрицать), “идеальна ли ситуация в России того времени?” (не А.С. Пушкину ее идеализировать), да и кто ее (ситуацию в России того времени) идеализировал?
Может быть, только М.А. Бакунин (1814—1876), будущий теоретик и практик анархизма, когда в предисловии к собственному переводу Гимназических речей Гегеля писал (в 1838 г.) о прекрасной русской действительности[14], и В.Г. Белинский (1811—1848), будущий автор знаменитого письма Н.В. Гоголю, когда (в 1839 г.) писал: “Отношение же высших сословий к низшим прежде состояло в патриархальной власти первых и патриархальной подчиненности вторых, а теперь в спокойном пребывании каждого в своих законных пределах и еще в том, что высшие сословия мирно передают образованность низшим, а низшие мирно ее принимают”[15].
Еще раз подчеркнем (ибо это очень важно), что объект полемики А.С. Пушкина с Чаадаевым — не наличие (или отсутствие) недостатков, проблем в России, а историческая судьба России и ее место во всемирной истории человечества. И воззрения Пушкина и Чаадаева не просто различны, а диаметрально противоположны.
В декабре 1833 — марте 1834 г. А.С. Пушкин писал, но не завершил (и не подготовил к печати) статью “О ничтожестве литературы русской”. Этот пушкинский документ имеет важное значение для рассматриваемой нами проблемы. В современной исследовательской литературе он интерпретируется по-разному. Согласно одной версии, в этой статье А.С. Пушкин высказывает взгляды, совпадающие со взглядами Чаадаева и, следовательно, диаметрально противоположные собственным, содержащимся в только что рассмотренном нами письме Чаадаеву от 19 октября 1836 г.
Или, другими словами, взгляды А.С. Пушкина 1834 г. и взгляды А.С. Пушкина 1836 г. противоположны. Скажем сразу, что для подобных утверждений нет ни малейших оснований, свидетельством, доказательством является сам текст статьи “О ничтожестве литературы русской”, где, в частности, говорится: “Долго Россия оставалась чуждою Европе. Приняв свет христианства от Византии, она не участвовала ни в политических переворотах, ни в умственной деятельности римско-кафолического мира. Великая эпоха возрождения не имела на нее никакого влияния; рыцарство не одушевило предков наших чистыми восторгами, и благодетельное потрясение, произведенное крестовыми походами, не отозвалось в краях оцепеневшего севера… России определено было высокое предназначение… Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились на степи своего востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией… (А не Польшею, как еще недавно утверждали европ. <ейские> журналы; но Европа в отношении к России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна. — В сноске А.С. Пушкина — Г.С).
Духовенство, пощаженное удивительной сметливостью татар, одно — в течение двух мрачных столетий — питало бледные искры византийской образованности. В безмолвии монастырей иноки вели свою беспрерывную летопись. Архиереи в посланиях своих беседовали с князьями и боярами, утешая сердца в тяжкие времена искушений и безнадежности”. Воззрения А.С. Пушкина, содержащиеся в цитированной нами работе, как мы убеждаемся, находятся в полной гармонии со взглядами, содержащимися в его письме Чаадаеву от 19 октября 1836 г.
Но вытекает ли отсюда вывод, что А.С. Пушкин полемизирует с Чаадаевым в статье “О ничтожестве литературы русской”?[16] И теперь мы переходим к анализу второй версии указанного пушкинского документа.
Согласно этой второй версии, в указанной работе А.С. Пушкин целенаправленно (прямо и непосредственно) полемизирует с Чаадаевым: “Здесь Пушкин применил свой обычный полемический прием. В мнимопозитивном тоне воспроизведя опровергаемый оригинал, он находит в нем наиболее слабые аргументы и развивает их затем в направлении, противоположном его идейному противнику” Чаадаеву.
Каждое слово данного утверждения вызывает недоумение. “Здесь Пушкин применил свой обычный (?) полемический прием. В мнимопозитивном (?) тоне воспроизведя (?!) опровергаемый оригинал (?!), он находит в нем наиболее слабые (?) аргументы и развивает (?) их затем в направлении, противоположном его идейному противнику”.
Какие чаадаевские “Преимущества католицизма перед греческим исповеданием” в “мнимопозитивном тоне” воспроизвел (изложил) в своей статье А.С.Пушкин?
В результате анализа статьи А.С. Пушкина “О ничтожестве литературы русской” (1834 г.), а также исследований, посвященных истории ее написания[17], приходим к выводу, что нет никаких свидетельств полемики А.С. Пушкина с Чаадаевым в этом произведении, что по своим целям, задачам и содержанию оно вообще не имеет никакого отношения к Чаадаеву. И в то же время, как уже было показано нами, положения указанного пушкинского документа, не имеющего никакого отношения к Чаадаеву, подчеркнем еще раз, гармонируют с положениями письма А.С. Пушкина Чаадаеву от 19 октября 1836 г. Следовательно, воззрения А.С. Пушкина, содержащиеся (изложенные) в вышеуказанном его письме Чаадаеву, принципиально присущи автору, имманентны ему, а не вызваны конкретным фактом публикации первого философического письма Чаадаева в журнале “Телескоп”.
Развивая эту мысль и отмечая цельность мировоззрения А.С. Пушкина (по вопросам, рассматриваемым в нашей статье), подчеркнем, что взгляды А.С. Пушкина, изложенные в письме Чаадаеву от 19 октября 1836 г., имманентны ему не только в 1836 г., не только в 1834 г. (“О ничтожестве литературы русской”), но, по существу, на протяжении всей его сознательной творческой жизни (и что особенно важно) вне зависимости от его (А.С. Пушкина) соприкосновения с философскими взглядами (философическими письмами) Чаадаева и не являются лишь его реакцией (отрицательной реакцией) на содержание воззрений Чаадаева.
Свидетельством служит, в частности, произведение А.С. Пушкина “Заметки по русской истории XVIII века”, написанное в южной ссылке в Кишиневе в августе 1822 г. (т.е. задолго до написания Чаадаевым философических писем). Процитируем это произведение: “Екатерина явно гнала духовенство, жертвуя тем своему неограниченному властолюбию и угождая духу времени. Но лишив его независимого состояния и ограничив монастырские доходы, она нанесла сильный удар просвещению народному. Семинарии пришли в совершенный упадок. Многие деревни нуждаются в священниках. Бедность и невежество этих людей, необходимых в государстве, их унижает, и отнимает у них самую возможность заниматься важною своею должностию. От сего происходит в нашем народе презрение к попам и равнодушие к отечественной религии; ибо напрасно почитают русских суеверными: может быть нигде более, как между нашим простым народом, не слышно насмешек на счет всего церковного. Жаль! ибо греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер.
В России влияние духовенства столь же было благотворно, сколько пагубно в землях римско-католических. Там оно, признавая главою своею папу, составляло особое общество, независимое от гражданских законов, и вечно полагало суеверные преграды просвещению. У нас, напротив того, завися, как и все прочие состояния, от единой власти, но огражденное святыней религии, оно всегда было посредником между народом и государем как между человеком и божеством. Мы обязаны монахам нашей Историею, следственно и просвещением”.
Пушкин с горечью констатирует, что “Екатерина явно гнала духовенство”. Православие (для А.С. Пушкина) — отечественная религия. Православие — особенность и специфика, атрибут Руси, России — эта мысль содержится в словах А.С. Пушкина: “Греческое вероисповедание, отдельное от всех проччих, дает нам особенный национальный характер”. А Чаадаев утверждал, что в России все беды от православия. Как совместить взгляды А.С. Пушкина (в данной конкретной ситуации А.С. Пушкина 1822 г.) и взгляды Чаадаева? Как совместить положение Пушкина “В России влияние духовенства столь же было благотворно, сколько пагубно в землях римско-католических” с заявлениями Чаадаева? Во втором философическом письме Чаадаев, рассматривая вопрос об отношении православия и католицизма к крепостному праву и решая его (вопрос), разумеется, в пользу католицизма (иначе он не был бы самим собой), в частности, писал: “…римские первосвященники первые способствовали уничтожению рабства (крепостного права. — Г.С.) в области, подчиненной их духовному управлению”. Не рассматривая вопрос об отношении католицизма к крепостному праву, считаем необходимым по ходу наших рассуждений в связи с работой А.С. Пушкина “Заметки по русской истории XVIII века” обратить внимание на очень важный документ. Мы имеем в виду письмо — ответ Александра II (1859 г.) папе римскому Пию IX. Отклоняя упреки в излишней доверчивости к Наполеону III, Александр II писал: “Что же касается до зловредных реформ, которые, как В. Св-во говорите, он мне внушил, на это я могу сказать только одно: что совершеннолетию моему исполнилось уже много лет, и хотя я не имею претензии на гениальность, но чувствую в себе довольно здравого смысла, чтобы не следовать чьим бы то внушениям, без собственного убеждения в пользе совета! Какие же зловредные реформы я допускаю в своем государстве? Если В. С-во намекаете на мою решимость уничтожить крепостное право, то неужели верховный христианский пастырь может назвать это зловредным?… Если же по заключении мира император Наполеон убеждал меня приступить к этому делу, может быть несколькими месяцами ранее, нежели я думал, то мое государственное здание нисколько не потерпело”[18].
Задумаемся, в частности, над словами Александра II, адресованными папе римскому Пию IX: “Какие же зловредные реформы я допускаю в своем государстве? Если В. С-во намекаете на мою решимость уничтожить крепостное право, то неужели верховный христианский пастырь может назвать это зловредным?”.
А теперь вернемся к работе А.С. Пушкина 1822 г. “Заметки по русской истории XVIII века” и скажем, что указанная работа (1822 г.!), также как исследованная нами ранее статья 1834 г. “О ничтожестве литературы русской”, находится в полной гармонии с содержанием письма А.С. Пушкина Чаадаеву от 19 октября 1836 г. Другими словами, три названные нами документа А.С. Пушкина (1822, 1834, 1836 гг.) являются выражением целостности мировоззрения А.С. Пушкина, диаметрально противоположного воззрениям Чаадаева, по рассматриваемым нами проблемам.
А теперь поставим вопрос: в каких произведениях, работах (кроме письма Чаадаеву от 19 октября 1836 г.) А.С. Пушкин полемизирует с Чаадаевым, с концепцией его первого философического письма?
В литературе встречается точка зрения, согласно которой А.С. Пушкин полемизирует с Чаадаевым в известном послании к Чаадаеву (1818 г.) (некоторые авторы считают, что оно написано в 1820 г.). “Когда в послании к Чаадаеву, написанном еще до ссылки, Пушкин сказал: «Россия вспрянет ото сна», он уже спорил со своим другом, уже отвечал на его пессимистические настроения”[19], — полагает В.В. Кунин.
“Впервые полемические интонации Пушкина, — считает В.В. Пугачев, — слышатся в 1820 г. (цитируемый нами автор датирует указанное произведение А.С. Пушкина 1820 г. — Г.С.), в его знаменитом послании. Уже тогда Пушкин доказывал, что “Россия вспрянет ото сна”. Это было продолжение устных споров об истории, грядущих судьбах и о нынешнем состоянии России. Тезис о “сне” России был в то время распространен. Такого мнения придерживался и Денис Давыдов. В его письме к П.Д.Киселеву говорилось: “Расслабившись ночною грезою, она мне не внемлет”. Чаадаев меньше других верил в пробуждение России. По-видимому, остов будущих положений “Философических писем” складывался у него уже тогда[20].
Что можно сказать по поводу утверждений, цитируемых нами авторов?
Если “тезис о «сне» России был в то время распространен” и если Пушкин спорит с ним, то не логичнее ли сказать, что Пушкин спорит с распространенным “в то время” тезисом, а не с мнением Чаадаева? (А может быть, Пушкин в послании к Чаадаеву спорит с Денисом Давыдовым?).
Как соотносятся распространенный “в то время” (по мнению В.В.Пугачева) “тезис о “сне” России” и “остов будущих положений “Философических писем” ” Чаадаева?
И еще. “По-видимому, остов будущих положений “Философических писем” складывался у него (Чаадаева. — Г.С.) уже тогда”. Это положение никак не аргументируется и в то же время противоречит фактам. “Остов будущих положений “Философических писем”” начал складываться у Чаадаева гораздо позже (мы это покажем), и, следовательно, в послании к Чаадаеву Пушкин не мог полемизировать со своим другом по проблемам, составляющим “остов будущих положений “Философических писем”” Чаадаева.
Но допустим (именно допустим!!!), что у Чаадаева в это время (в 1818 г. или в 1820 г.) уже сложились (целиком и полностью) воззрения, которые содержатся в его философических письмах, и эти воззрения в это же время были известны Пушкину. Допустим. А теперь процитируем полностью послание А.С. Пушкина к Чаадаеву:
Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
Произведение А.С. Пушкина многогранно, можно дать различную интерпретацию его фрагментам, но никакой полемики с Чаадаевым в нем не содержится.
Исследуя вопросы полемики А.С. Пушкина с Чаадаевым, нельзя обойти вниманием суждение уже цитированного нами В.В.Кунина: “Свиделись они в Москве 10 сентября 1826 г. на квартире у С.А. Соболевского, где Пушкин, только что вернувшийся из ссылки, впервые читал друзьям “Бориса Годунова”. Само присутствие Чаадаева в тот вечер у Соболевского удивительно. Он приехал в Москву почти одновременно с Пушкиным и вел затворнический образ жизни. В сущности, “Борис Годунов”, в котором в полной мере отразилось отношение Пушкина к отечественной истории, был возражением поэта на еще не написанное “Философическое письмо”. Так что еще не совсем доказано, кто кому возражал: Пушкин ли Чаадаеву в 1831 и 1836 гг., или Чаадаев автору “Бориса Годунова” своими “Философическими письмами”1829—1831 гг.”[21]
Можно ли возражать на то, что еще не написано, что еще не существует? Несомненно, что в 1831 г. (письмо Чаадаеву от 6 июля, которое еще будет нами проанализировано) и в 1836 г. (письмо Чаадаеву от 19 октября, которое уже было исследовано и к которому мы еще не раз вернемся) Пушкин полемизирует с философическими письмами П.Я Чаадаева.
Подчеркнем, что вывод Кунина: “Так что еще не совсем доказано, кто кому возражал: Пушкин ли Чаадаеву в 1831 и 1836 гг., или Чаадаев автору “Бориса Годунова” своими “Философическими письмами” 1829—1831 гг.” — сделан не в результате анализа соответствующих текстов А.С.Пушкина (1831, 1836 гг.) и Чаадаева (“Философические письма”), а основывается на факте присутствия Чаадаева на чтениях “Бориса Годунова” или, лучше сказать, на факте ознакомления Чаадаева с содержанием “Бориса Годунова”. Не содержится ли в цитированном положении В.В. Кунина (“Свиделись они…”) мысль: возможно (может быть, нельзя исключить), что “Борис Годунов” послужил причиной написания Чаадаевым “Философических писем” (Чаадаев, прослушав “Бориса Годунова”, решил возразить А.С. Пушкину и с этой целью написал свои “Философические письма”)?
Или несколько точнее. Не содержится ли в цитированном положении В.В. Кунина мысль: возможно (может быть, нельзя исключить), что “Борис Годунов” в качестве объекта отрицания послужил причиной (вызвал, “спровоцировал”) возникновения и становления взглядов Чаадаева, которые затем нашли свое воплощение в его “Философических письмах”?
Вот как выглядит история зарождения, становления и формирования воззрений Чаадаева, которые в 1829—1830 гг. нашли свое отражение и воплощение в его “Философических письмах”, под пером В.В. Стасова: “До середины 20-х годов XIX столетия, хотя и прожив несколько времени в разных совершенно различных странах Европы, Чаадаев не давал еще предпочтение одной которой-либо исключительной форме христианской религии перед другими существующими на свете религиями. Проведя многие месяцы в католической Франции и в католической Италии, он все-таки не ценил “католичество” выше “протестантства”. Это доказывается тем, что в 1824 году во Флоренции он собирался ехать в Лондон, чтобы самому лично изследовать, каким именно образом христианская вера англиканскаго исповедания “создала благоденствие Англии”.
В 1824—25 годах Чаадаев стал уже совершенно другим человеком. В Париже он попал в среду новаго французскаго большого света, состоявшаго из бывших эмигрантов, ревностных роялистов, клерикалов и ультрамонтанов. Это было совершенно другое общество в сравнении с тем, какое он знал в Париже во время перваго своего пребывания там в 1813 и 1814 годах. Тогда в Париже существовали только остатки солдатскаго империалистскаго режима Наполеона I и обломки дореволюционнаго французскаго общества. Теперь же Чаадаев нашел в Париже новый мир, в короткое время быстро выросший и гордившийся своею ролью — ролью возстановителя старых гнилых порядков. Это новое общество, принявшее название Реставрации, состояло в значительнейшей доле из поседелых эмигрантов, воротившихся из своего бегства в Европу, из разслабленных жуиров, отупелых ханжей, герцогов, виконтов и графов, направляемых и настраиваемых иезуитами и аббатами. Чаадаев и сам был аристократ по рождению и привычкам, нечто в роде роялиста, мирящагося со всеми установившимися и принятыми порядками своего времени, и сам был поклонник привитой с детства слепо неразсуждающей набожности, хотя и без аббатов и иезуитов. Поэтому, ему легко и совершенно по душе было сойтись с французскими пиэтистами и ультрамонтанами, и с восхищением знакомиться с их книгами и сочинениями, — тем более, что католичество и фанатический пиэтизм были в тот момент в совершенной моде по всей Европе, вследствие ревностной проповеди всяческаго средневековья в жизни, науке и искусстве новооткрытым романтизмом. Чаадаева нисколько не удивляли и не отталкивали от себя ни ограниченность, ни бедность мысли ни раболепство ультрамонтанства. Он совершенно спокойно сошелся с парижскими модными клерикалами: Бональдом (виконтом), Шатобрианом (виконтом), Балланшем, Ламменэ, всей многочисленной его школой, с последователями де-Местра (графа), с энтузиазмом уверовал в его книгу о папе, гремевшую тогда средь католическаго мира; наконец, познакомился с русской перебежчицей Свечиной, еще с 1816 года переселившейся во Францию и основавшей в Париже русско-католическое “подворье”.
После того Чаадаев познакомился в Берлине со знаменитым философом Шеллингом — мистиком, романтиком и проповедником философской системы “Откровения”. После всех разнообразных восприятий своих за границей и прямо вследствие их Чаадаев воротился в Россию, в 1826 году, совершенно иным человеком, чем каким туда поехал за 5 лет раньше. По уму, по способностям и по привычке и стремлению к серьезному, глубокому мышлению, по знаниям это был прежний Чаадаев и даже значительно развившийся Чаадаев, но Чаадаев с умом затемненным словно какой-то постороннею, напрасно навязанною извне занавеской. Он воротился, правда, вовсе еще не католиком, как многие потом думали, но все-таки человеком, зараженным всеми тогдашними религиозными и философически-историческими модными понятиями.
И вот такою “проповедью” занялся он не только среди приятелей, но и приятельниц”.
Несмотря на ряд шероховатостей (Чаадаев познакомился с Шеллингом в Карлсбаде, а не в Берлине, В.В. Стасов настаивает на том, что Чаадаев уехал за границу после выхода в отставку в 1821, а не в 1823 г.), следует сказать, что в общем и целом В.В. Стасовым объективно излагаются история и причины зарождения и становления мировоззрения Чаадаева.
Многие авторы считают, что Чаадаев является прообразом Евгения Онегина — героя романа в стихах А.С. Пушкина “Евгений Онегин”. Было высказано также суждение, что в данном произведении А.С. Пушкин полемизирует с Чаадаевым. Как отнестись к данным мнениям? В первой главе “Евгения Онегина” читаем:
Второй Чадаев, мой
Евгений, Боясь ревнивых
осуждений, В своей
одежде был педант И то,
что мы назвали франт.
Он три часа по крайней мере
Пред зеркалами проводил .
Из данного контекста следует, что “вторым Чадаевым” Евгений Онегин является “В своей одежде” франта, “вторым Чадаевым” Евгений Онегин является в том смысле и потому, что “Он три часа по крайней мере Пред зеркалами проводил”.
Как хорошо известно, “искусство одеваться Чаадаев возвел почти на степень исторического значения”22. “Чаадаев, тщательно одетый”, вспоминает А.И. Герцен в “Былом и думах”. И еще. “Он (Чаадаев. — Г.С.) одевался очень тщательно”.
“Вторым Чадаевым” Евгений Онегин был именно в искусстве тщательно одеваться (“Как dandy лондонской одет”). А как быть с мнением о полемике Пушкина с Чаадаевым в “Евгении Онегине”? Для решения этой проблемы необходимо ответить на вопрос: тождественно ли мировоззрение Евгения Онегина воззрениям Чаадаева, или, другими словами, является ли Евгений Онегин апологетом католицизма? Нет. Следовательно, утверждать, что в романе “Евгений Онегин” А.С. Пушкин полемизирует с Чаадаевым нет никаких оснований.
А теперь перейдем к рассмотрению последнего вопроса нашей работы. Когда А.С. Пушкин впервые прочитал первое философическое письмо Чаадаева? Начнем с того, что в 1831 г. (см., в частности, переписку А.С. Пушкина и Чаадаева этого года) А.С. Пушкин должен был опубликовать часть философических писем Чаадаева. Из каких философических писем состояла эта рукопись, переданная П.Я Чаадаевым в Москве А.С Пушкину для публикации ее в Петербурге?
Согласно П.И. Бартеневу[23], П.Я Чаадаев (1850-е гг.) говорил ему, что вышеуказанная рукопись включала в себя и первое философическое письмо. Осмелимся поставить под сомнение это утверждение Чаадаева.
Обратимся к письму А.С. Пушкина Чаадаеву от 6 июля 1831 г., в котором анализируется содержание чаадаевской рукописи: “Друг мой, я буду говорить с вами на языке Европы, он мне привычнее нашего, и мы продолжим беседы, начатые в свое время в Царском Селе и так часто с тех пор прерывавшиеся.
Вам известно, что у нас происходит: в Петербурге народ вообразил, что его отравляют. Газеты изощряются в увещаниях и торжественных заверениях, но, к сожалению, народ неграмотен, и кровавые сцены готовы возобновиться. Мы оцеплены в Царском Селе и в Павловске и не имеем никакого сообщения с Петербургом. Вот почему я не видел ни Блудова, ни Беллизара. Ваша рукопись все еще у меня; вы хотите, чтобы я вам ее вернул? Но что будете вы с ней делать в Некрополе? Оставьте ее мне еще на некоторое время. Я только что перечел ее. Мне кажется, что начало слишком связано с предшествовавшими беседами, с мыслями, ранее развитыми, очень ясными и несомненными для вас, но о которых читатель не осведомлен. Вследствие этого мало понятны первые страницы, и я думаю, что вы бы хорошо сделали, заменив их простым вступлением или же сделав из них извлечение. Я хотел было также обратить ваше внимание на отсутствие плана и системы во всем сочинении, однако рассудил, что это — письмо и что форма эта дает право на такую небрежность и непринужденность. Все, что вы говорите о Моисее, Риме, Аристотеле, об идее истинного бога, о древнем искусстве, о протестантизме — изумительно по силе, истинности или красноречию. Все, что является портретом или картиной, сделано широко, блестяще, величественно. Ваше понимание истории для меня совершенно ново и я не всегда могу согласиться с вами: например, для меня непостижимы ваша неприязнь к Марку Аврелию и пристрастие к Давиду (псалмами которого, если только они действительно принадлежат ему, я восхищаюсь). Не понимаю, почему яркое и наивное изображение политеизма возмущает вас в Гомере. Помимо его поэтических достоинств, это, по вашему собственному признанию, великий исторический памятник. Разве то, что есть кровавого в Илиаде, не встречается также и в Библии? Вы видите единство христианства в католицизме, то-есть в папе. Не заключается ли оно в идее Христа, которую мы находим также и в протестантизме? Первоначально эта идея была монархической, потом она стала республиканской. Я плохо излагаю свои мысли, но вы поймете меня. Пишите мне, друг мой, даже если бы вам пришлось бранить меня. Лучше, говорит Экклезиаст, внимать наставлениям мудрого, чем песням безумца».
Из цитированного документа следует, что, анализируя чаадаевскую рукопись, Пушкин, несомненно, анализирует содержание шестого и седьмого философических писем. Почему Пушкин совершенно не касается содержания первого философического письма, которое, по утверждению Чаадаева, входило в состав этой рукописи? Почему Пушкина в исследуемом нами его письме-рецензии Чаадаеву от 6 июля 1831 г. так волнует отношение Чаадаева к Марку Аврелию, Давиду, Гомеру и совершенно не интересует чаадаевская трактовка исторической судьбы России, ее места во всемирно-историческом процессе (что является содержанием первого философического письма)?
Вспомним уже исследованное нами письмо Пушкина Чаадаеву от 19 октября 1836 г., представляющее собой рецензию первого философического письма, вспомним резко отрицательное отношение А.С. Пушкина к концепции первого философического письма, выразившееся, в частности, в словах Пушкина: “Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. <…> Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал”.
А теперь вернемся к письму А.С. Пушкина Чаадаеву от 6 июля 1831 г. Если в состав рецензируемой в данном письме чаадаевской рукописи входило (как говорил Чаадаев П.И. Бартеневу) первое философическое письмо, то почему Пушкин критикует отношение Чаадаева к Марку Аврелию, Давиду, Гомеру и в то же время “скрывает” (“утаивает”) от него свое неприятие чаадаевской концепции исторической судьбы России, содержащейся в первом философическом письме? При этом подчеркнем, что взгляды Пушкина 1831 и 1836 гг. по рассматриваемой проблеме идентичны, об этом свидетельствует литературное и эпистолярное творчество поэта.
Так почему Пушкин…? Потому что первое философическое письмо, по нашему мнению, не входило в состав рукописи Чаадаева, которую Пушкин рецензирует в письме Чаадаеву от 6 июля 1831 г.
Если бы первое философическое письмо являлось составной частью рецензируемой Пушкиным чаадаевской рукописи, то логично предположить, что после слов Пушкина, адресованных Чаадаеву: “Ваше понимание истории для меня совершенно ново и я не всегда могу согласиться с вами:”, должен был бы последовать критический анализ содержания первого философического письма, но Пушкин, объясняя (и раскрывая) свое несогласие с чаадаевским пониманием истории, пишет подробно об отношении Чаадаева к Марку Аврелию, Давиду, Гомеру и т.д. и ни слова не говорит об отношении Чаадаева к исторической судьбе России, подчеркнем еще раз.
И снова вернемся (и далеко не в последний раз) к тексту письма Пушкина Чаадаеву от 19 октября 1836г. Напомним, что это письмо написано автором после получения и прочтения оттиска первого философического письма, опубликованного в журнале “Телескоп” в 1836 г. Детально проанализировав содержание первого философического письма, Пушкин в завершающей части своего письма Чаадаеву пишет: “Наконец, мне досадно, что я не был подле вас, когда вы передали вашу рукопись журналистам”. Пушкин огорчен, переживает, сожалеет (“мне досадно”), что не имел возможность высказать Чаадаеву свое мнение о содержании первого философического письма до его публикации. Не противоречит ли выше цитированное положение Пушкина утверждению Чаадаева о том, что первое философическое письмо являлось составной частью чаадаевской рукописи, которую Пушкин намеревался опубликовать (то есть “был” много более, чем рядом, много более, чем “подле” Чаадаева…, собирался опубликовать) в 1831 г. и которую (рукопись) Пушкин рецензирует в своем письме Чаадаеву от 6 июля 1831 г.?
Или, другими словами, “досада” Пушкина (“Наконец, мне досадно, что я не был подле вас, когда вы передали вашу рукопись журналистам”) была бы не логична с его стороны, если бы первое философическое письмо входило в состав рукописи, которую Пушкин взял у Чаадаева в Москве и увез в Петербург с намерением опубликовать и которую (рукопись) Пушкин подробно анализирует в своем письме Чаадаеву от 6 июля 1831 г. В результате вышеизложенного приходим к заключению, что вопреки утверждению Чаадаева (в передаче П.И. Бартенева) первое философическое письмо не входило в состав рукописи, которую Пушкин намеревался опубликовать в 1831 г. в Петербурге и которую (рукопись) Пушкин подробно проанализировал в своем письме Чаадаеву от 6 июля 1831 г.
Наш вывод представляет собой часть ответа на тот вопрос, который был сформулирован нами ранее и рассмотрением которого завершается наше исследование: когда Пушкин впервые прочитал первое философическое письмо Чаадаева?
По нашему мнению, в литературе наблюдается тенденция “торопить” Пушкина прочитать первое философическое письмо Чаадаева. Широко распространено суждение о том, что как только Чаадаев написал свое первое философическое письмо, то, конечно, сразу же дал прочитать его своему другу Пушкину. Авторы в данном случае исходят из своеобразного “силлогизма”. Пушкин — друг Чаадаева, Чаадаев написал первое философическое письмо, вывод: конечно, Чаадаев сразу же дал прочитать свое первое философическое письмо своему другу Пушкину. И никаких фактов, подтверждающих этот вывод.
В письме Пушкина М.П. Погодину, написанном во второй половине июня 1830 г., читаем: “Как Вам кажется Письмо Чадаева?”[24]. Следовательно, полагают авторы, Пушкин уже прочитал первое философическое письмо Чаадаева. Вывод заманчив, но не более того. Налицо “презумпция” чтения Пушкиным первого философического письма Чаадаева. Авторы в данной ситуации даже не видят (не сознают) необходимость хоть как-то, каким-нибудь образом обосновать свою уверенность, что в письме Пушкина М.П. Погодину речь идет о первом философическом письме Чаадаева. Между тем ни в переписке Пушкина с М.П. Погодиным, ни в других (“смежных” с данной проблемой) документах не содержится никаких сведений, опираясь на которые можно было бы убедительно (доказательно) ответить на вопрос: какое “Письмо Чадаева” имел в виду Пушкин в вышецитированном письме М.П. Погодину?
Но самое главное состоит даже не в том, какое “Письмо Чаадаева” имел в виду Пушкин (допустим, что первое философическое письмо, допустим!!!), а в том, что из вопроса, адресованного М.П. Погодину: “Как Вам кажется Письмо Чадаева?”, не следует (нельзя сделать вывод), что Пушкин читал это “Письмо Чадаева”.
А теперь снова вернемся к письму Пушкина Чаадаеву от 19 октября 1836 г. Напомним, что оно было написано после получения Пушкиным от Чаадаева (через И.С. Гагарина) оттиска первого философического письма, опубликованного в журнале “Телескоп”. Напомним, что указанный документ Пушкина представляет собой рецензию содержания первого философического письма Чаадаева.
Рискнем высказать предположение, что первое философическое письмо Чаадаева Пушкин впервые прочитал только тогда, когда (октябрь 1836 г.) получил (не ранее) оттиск первого философического письма, опубликованного в “Телескопе”.
Но обоснование нашей гипотезы (как это ни покажется парадоксальным) начнем со слов Пушкина, с которыми наше предположение не согласуется. Мы имеем в виду начало письма Пушкина Чаадаеву от 19 октября 1836 г.: “Благодарю за брошюру, которую вы мне прислали. Я с удовольствием перечел ее, хотя очень удивился, что она переведена и напечатана. Я доволен переводом: в нем сохранена энергия и непринужденность подлинника”.
И все-таки мы настаиваем на нашей гипотезе.
До 19 октября 1836 г. в творческом наследии Пушкина нет никаких следов знакомства Пушкина с содержанием первого философического письма Чаадаева. Если внимательно прочитать письмо Пушкина Чаадаеву от 19 октября 1836 г. под углом зрения рассматриваемой проблемы (когда Пушкин впервые прочитал первое философическое письмо Чаадаева?), то невольно складывается впечатление, более того, убеждение, что Пушкин никогда ранее не обсуждал (ни устно, ни письменно) с Чаадаевым содержание первого философического письма Чаадаева (хотя споров и несогласий было достаточно).
Почему?
В своем письме Чаадаеву от 19 октября 1836 г., отвергая концепцию первого философического письма Чаадаева, Пушкин приводит целую систему аргументов. Из контекста Пушкина складывается убеждение, что никогда ранее Пушкин не доводил их (аргументы) до сведения Чаадаева. Почему?
Наконец, вспомним два фрагмента письма Пушкина Чаадаеву от 19 октября 1836 г., которые, как мы уже отмечали, являются квинтэссенцией его (А.С. Пушкина) неприятия концепции первого философического письма Чаадаева: “Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. <…> Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал”.
Из контекста следует, что данные принципиальные положения Пушкин впервые высказывает Чаадаеву. Почему? Вероятно, потому, что содержание первого философического письма Чаадаева, которое вызвало такую резко отрицательную (и бурную) реакцию Пушкина, ранее не было известно Пушкину. Если Пушкин когда-либо ранее (до октября 1836 г.) читал первое философическое письмо Чаадаева, то как объяснить то “упорство” и ту “тщательность”, с которыми Пушкин “скрывает” от Чаадаева (да и от других) свое неприятие концепции первого философического письма Чаадаева? Если Пушкин когда-либо ранее читал первое философическое письмо Чаадаева, то почему письмо Чаадаеву от 19 октября 1836 г. он не написал ранее (по прочтении первого философического письма Чаадаева)? Или, другими словами, если Пушкин когда-либо ранее читал первое философическое письмо Чаадаева, то почему он прорецензировал его (письмо) только 19 октября 1836 г.? (Напомним и подчеркнем, что письмо Пушкина Чаадаеву от 19 октября 1836 г. представляет собой детальную и резко отрицательную рецензию первого философического письма Чаадаева).
По нашему мнению, если бы Пушкин когда-либо ранее (до октября 1836 г.) читал первое философическое письмо Чаадаева, то он не смог бы скрыть свое неприятие его концепции, и письмо Чаадаеву от 19 октября 1836 г. было бы написано Пушкиным ранее.
При этом подчеркнем, точнее сказать, напомним (эта проблема уже исследована в нашей статье), что (как свидетельствуют документы) воззрения Пушкина по рассматриваемым вопросам идентичны на протяжении всей его сознательной творческой жизни, включая, разумеется, и период после 1829 г., который мы специально выделяем, поскольку речь идет об отношении Пушкина к концепции первого философического письма Чаадаева, датированного 1 декабря 1829 г.
Нашей гипотезе не противоречит тот факт, что первое философическое письмо Чаадаева до публикации в журнале “Телескоп” имело хождение в рукописных списках. Значительный интерес представляет реакция П.В. Киреевского на первое философическое письмо Чаадаева задолго до его публикации в “Телескопе”. Свое отношение к содержанию первого философического письма П.В. Киреевский выразил в своем письме Н.М. Языкову от 17 июля 1833 г.: “Эта проклятая Чаадаевщина, которая в своем бессмысленном самопоклонении ругается над могилами отцов и силится истребить все великое откровение воспоминаний, чтобы поставить на их месте свою одноминутную премудрость, которая только что доведена ad absurdum в сумасшедшей голове Ч. (Чаадаева. — Г.С.), но отзывается по несчастью во многих, не чувствующих всей унизительности этой мысли, — так меня бесит, что мне часто кажется, как будто вся великая жизнь Петра родила больше злых нежели добрых плодов. Впрочем я и сам чувствую, что болезненная желчь негодования мутит во мне здоровый и спокойный взгляд безпристрастия, который только один может быть ясен”[25]. Обратим внимание, что содержание первого философического письма Чаадаева вызвало появление у П.В.Киреевского термина “проклятая Чаадаевщина”. (Мысленно сравним вышецитированное письмо П.В. Киреевского Н.М. Языкову с письмом Пушкина Чаадаеву от 19 октября 1836 г.)
Для полноты картины приведем еще одно письмо П.В. Киреевского Н.М. Языкову, написанное за полгода до выше цитированного, 10 января 1833 г.: “Недели две тому назад я наконец в первый раз слышал (у Сверб[еевых ]) тот хор цыган в котором примадонствует Татьяна Дмитриевна, и признаюсь, что мало слыхал подобного! Едва ли, кроме Мельгунова (и Чад[аева]), которого, я не считаю русским) есть русский, который бы мог равнодушно их слышать. Есть что то такое в их пении, что иностранцу должно быть непонятно и потому не понравится; но может быть тем оно лучше”[26].
Но, разумеется, нельзя и преувеличивать известность первого философического письма Чаадаева до его публикации в журнале “Телескоп”.
Против подобного преувеличения невольно “свидетельствует” А.И. Герцен в своих мемуарах “Былое и думы”. В июле 1834 г. в доме близкого друга Чаадаева М.Ф. Орлова (1788—1842) произошла первая встреча А.И. Герцена с Чаадаевым. “ Я видел Чаадаева, — вспоминает А.И. Герцен, — прежде моей ссылки один раз. Это было в самый день взятия Огарева. Я упомянул, что в тот день у М.Ф. Орлова был обед. Все гости были в сборе, когда взошел, холодно кланяясь, человек, которого оригинальная наружность, красивая и самобытно резкая, должна была каждого остановить на себе. Орлов взял меня за руку и представил; это был Чаадаев. Я мало помню об этой первой встрече, мне было не до него; он был, как всегда, холоден, серьезен, умен и зол. После обеда Раевская, мать Орловой, сказала мне: — Что вы так печальны? Ах, молодые люди, молодые люди, какие вы нынче стали! — А вы думаете, — сказал Чаадаев, — что нынче еще есть молодые люди? Вот все, что осталось у меня в памяти”.
А вот как описывает А.И. Герцен свою “встречу” с первым философическим письмом Чаадаева: “Летом 1836 года я спокойно сидел за своим письменным столом в Вятке, когда почтальон принес мне последнюю книжку “Телескопа”. Надобно жить в ссылке и глуши, чтоб оценить, что значит новая книга. Я, разумеется, бросил все и принялся разрезывать “Телескоп” — “Философические письма”, писанные к даме, без подписи. В подстрочном замечании было сказано, что письма эти писаны русским по-французски, т.е. что это перевод. Все это скорее предупредило меня против статьи, чем в ее пользу, и я принялся читать “критику” и “смесь”. Наконец дошел черед и до “Письма”. <…> Я раза два останавливался, чтоб отдохнуть и дать улечься мыслям и чувствам, и потом снова читал и читал. И это напечатано по-русски, неизвестным автором… Я боялся, не сошел ли я с ума. <…> Имя автора я узнал через несколько месяцев”[27].
Такая реакция на содержание первого философического письма Чаадаева (опубликованного в “Телескопе” без подписи) и никакой (никакой!!!) ассоциации с Чаадаевым. Другими словами, Герцен (будучи вхож в круги, близкие Чаадаеву) не имел никакого (никакого!!!) представления о содержании первого философического письма Чаадаева.
Итак, Пушкин (согласно нашей гипотезе) и Герцен (бесспорно) впервые прочитали первое философическое письмо Чаадаева после его публикации в журнале “Телескоп”.
Напомним фрагмент завершающей части письма Пушкина Чаадаеву от 19 октября 1836 г.: “Наконец, мне досадно, что я не был подле вас, когда вы передали вашу рукопись журналистам”. Какова бы была позиция Пушкина, если бы он оказался рядом с Чаадаевым (“подле” Чаадаева), когда тот передавал рукопись первого философического письма “журналистам” для публикации в журнале “Телескоп”?
По нашему мнению, Пушкин был бы категорически против публикации первого философического письма Чаадаева и сделал бы все возможное в его силах, чтобы ее (публикацию) предотвратить.
Вспомним содержание документов Пушкина, проанализированных в нашей статье (в контексте всего творческого и эпистолярного наследия русского гения); вспомним заглавие, которое дала первому философическому письму Чаадаева С.Н.Карамзина — “Преимущества католицизма перед греческим исповеданием”, вспомним, что П.А. Вяземский назвал первое философическое письмо Чаадаева ультрамонтанской энцикликой, “пущенной из Басманскаго Ватикана”; вспомним, что А.А. Григорьев назвал Чаадаева теоретиком католицизма (“Основа Чаадаева был католицизм”); вспомним, что А.Н. Пыпин назвал философию истории Чаадаева католической теорией Чаадаева; вспомним письма П.В. Киреевского Н.М. Языкову; вспомним упрек, который Н.М. Языков адресует Чаадаеву: “Ты лобызаешь туфлю пап”; а теперь поставим вопрос: какой гражданский и нравственный образ Пушкина или (что тождественно) в чьих глазах гражданский и нравственный образ Пушкина снижает предположение, что Пушкин был бы против публикации первого философического письма Чаадаева? В глазах папы римского?
Воззрения Пушкина и концепция знаменитого первого философического письма Чаадаева — “Две вещи несовместные. Неправда ль?”[28]
_______________________
[1] Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов. М.; Л., 1960. С. 128.
[2] Вяземский П. А. Полн. собр. соч.: В 12 т. Т. 2. М., 1879. С. 214. В “Современной песне” Д. В. Давыдов писал о П. Я. Чаадаеве: “Старых барынь духовник, /Маленький аббатик, / Что в гостиных бить привык/ В маленький набатик” (Давыдов Д. В. Соч. М., 1985. С. 274).
[3] Цит. по: Чаадаев П.Я. Полн. собр. и избр. письма: В 2 т. Т. 1. М., 1991. С. 535.
[4] Русская старина. 1870. Т.1. (январь — июнь). С.162—164. В письме А.И. Тургеневу (октябрь — ноябрь 1835 г.) П.Я. Чаадаев писал: “Вы, между прочим, были неправы, когда определили меня как истинного католика. Я, конечно, не стану отрекаться от своих верований; да, впрочем, мне было бы и не к лицу теперь, когда моя голова начинает покрываться сединой, извращать смысл целой жизни и всех убеждений моих; тем не менее, признаюсь, я не хотел бы, чтобы двери убежища захлопнулись передо мной, когда я постучусь в них в одно прекрасное утро” (Чаадаев П.Я. Полн. собр. соч. и избр. письма: В 2 т. Т.2. М., 1991. С. 100). “Чаадаев никогда не переходил в католичество, — и это была, разумеется, вопиющая непоследовательность” (Гершензон М. П. Чаадаев. Жизнь и мышление. СПб., 1908. С.104).
[5] Вяземский П. А. Записные книжки (1813—1848). М. 1963. С. 306.
[6] Прот. Флоровский Г. Пути русского богословия. Киев, 1991. С.247.
[7] Григорьев А.А. Эстетика и критика. М., 1980. С.217.
[8] Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. IX. 1956. С. 144.
[9] Пыпин А.Н. История русской литературы. Т. IV. СПб., 1907. С. 557.
[10] Григорьев А.А. С. 233.
[11] Там же. С. 209.
[12] Плеханов Г.В. Избр. филос. произв.: В 5 т. Т. 4. М., 1958. С.750. См. также С.752.
[13] Там же. С.753.
[14] См.: Бакунин М.А. Избр. филос. соч. и письма. М., 1987. С.126.
[15] Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В 13т. Т. 3. М., 1953. С.247.
[16] Макаровская Г.В. “Философические письма” Чаадаева в оценке Пушкина // Освободительное движение в России. Межвузовский научный сборник. Выпуск 11. Саратов, 1986. С. 23.
[17] Литературное наследство. Т. 16—18. М., 1934. С. 421—442.
[18 Цит. по: Великие реформы в России 1856-1874 /Под ред. Л.Г. Захаровой, Б. Экфлора, Дж. Бунелла. М., 1992. С. 26.
[19] Друзья Пушкина. Переписка. Воспоминания .Дневники: В 2т. Т. 1/ Сост. В.В. Кунин . М., 1986. С. 482.
[20] Пугачев В.В. Пушкин и Чаадаев// Искусство слова. М., 1973. С. 102.
[21] Друзья Пушкина. Переписка. Воспоминания. Дневники: Т. 1. С. 491.
[22] Жихарев М. Петр Яковлевич Чаадаев // «Вестник Европы», 1871. Кн. 7. С. 183.
[23] Летописи государственного литературного музея. Книга первая. Пушкин. М., 1936. С. 502.
[24] Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 17т. Т. 14. С. 100.
[25] Письма П.В. Киреевского к Н.М. Языкову. М.; Л. 1935. С. 43.
[26] Там же. С. 33.
[27] Герцен А.И. Собр. соч.: В 30т. Т. IX. С. 141.
[28] Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 17т. Т. 7. С. 132.
______
Проект Русская Idea осуществляется на общественных началах и нуждается в финансовой поддержке своих читателей. Вы можете помочь проекту следующим образом:
Номер банковской карты – 4817760155791159 (Сбербанк)
Реквизиты банковской карты:
— счет 40817810540012455516
— БИК 044525225
Счет для перевода по системе Paypal — russkayaidea@gmail.com
Яндекс-кошелек — 410015350990956
«Философические письма» — один из первых русских самобытных философско-исторических трактатов. Произведение стало поистине новаторским. В «письмах» анализируются философские и исторические проблемы, проблемы развития русского общества. Выявляется целый ряд исторических закономерностей, которые сопоставляются с русской действительностью, и подвергаются острой критике.
Во время своего путешествия по Европе Чаадаев познакомился с немецкой классической философией, в лице Шеллинга, которая оказала на него сильнейшее влияние. Свои мысли Пётр Яковлевич оформляет в виде писем знакомым, и в случайных записках. А в период 1828-1831 гг. он создает свое важнейшее произведение – «Философические письма» на французском языке. «Раньше предполагали, что письма были написаны некоей г-же Пановой, теперь доказано, что она вовсе не была адресатом. Чаадаев просто избрал эпистолярную форму для изложения своих взглядов, — что было тогда довольно обычно»[1]. Благодаря выбору эпистолярного жанра, теория Чаадаева приобретает вид пламенного обращения к собеседнику, его письма непосредственны и эмоциональны.
В первом письме Чаадаев рассматривает место России по отношению к всеобщему историческому процессу. По его мысли, каждый народ имеет собственную миссию, и призван воплощать в жизнь божественный замысел. Но в России, по мнению Чаадаева, не было периода великих свершений. Вся история России это беспрерывный застой. «Говоря о России, постоянно воображают, будто говорят о таком государстве, как и другие; на самом деле это совсем не так. Россия — целый особый мир, покорный воле, произволению, фантазии одного человека. Именуется ли он Петром или Иваном, не в том дело: во всех случаях одинаково это — олицетворение произвола»[2]. Также Чаадаев полагает, что Россия ошиблась, выбрав Православие. Гораздо предпочтительней, в его глазах, выглядит католицизм.
Это письмо было опубликовано в 1836 году в журнале «Телескоп». Как указывает Чернышевский, в печать письмо попало практически случайно. Станкевич прочел «Письма», и сумел заинтересовать ими Белинского – тогда главного редактора «Телескопа». Общество письмо потрясло. «На первый план выдвигают его оценку России в ее прошлом. Это, конечно, самое известное и, может быть, наиболее яркое и острое из всего, что писал Чаадаев, но его взгляд на Россию совсем не стоит в центре его учения, а, наоборот, является логическим выводом из общих его идей в философии христианства»[3]. У власти письмо вызвало резкое недовольство, из-за выраженного в нем негодования по поводу духовного застоя, препятствующего исполнению предначертанной свыше исторической миссии. Журнал «Телескоп», за эту публикацию, был закрыт, цензор уволен, а Чаадаев, по приказу царя, объявлен сумасшедшим.
Последующие письма были посвящены общим философским проблемам. Второе – необходимости устроить быт в соответствии с душевными устремлениями. Третье – утверждает мысль, что полное лишение свободы есть высшая ступень человеческого совершенства. Четвертое – доказывает, что числа и меры конечны, поэтому Создателя невозможно понять человеческим разумом. Шестое, седьмое и восьмое опять возвращаются к вопросам истории. Но в печать эти письма не вышли.
Чаадаев называл себя религиозным философом. Он признавал наличие Высшего Разума, что дает о себе знать через «провидение». Он был уверен, что основная цель христианства – создать справедливое общество (которое уже создается на Западе). Он писал, что россияне не относятся ни к Востоку, ни к Западу. Россияне – особенный народ. В письме к А.И.Тургеневу Чаадаев писал: «Россия призвана к необъятному умственному делу: ее задача дать в свое время разрешение всем вопросам, возбуждающим споры в Европе».
Вокруг единственного опубликованного, первого, письма возникли разногласия. Немыслимый ажиотаж, громкие дискуссии вели все мыслящие круги общества. «Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, — все равно, надобно было проснуться»[4]. Общество разделилось на два лагеря: поддерживающие его идеи Западники и оппонирующие Славянофилы.
В ответ на обвинение в недостатке патриотизма Чаадаев написал, можно сказать, оправдание: «Апология сумасшедшего». Здесь Чаадаев пояснял особенности своего патриотизма. Он был уверен, что Россия должна быть «совестным судом» человеческого духа и общества. Но статья осталась неопубликованной при жизни мыслителя.
Первое «Философическое письмо» так и осталось единственным опубликованным при жизни произведением Чаадаева. Остальные работы философа стали доступными широкому кругу читателей лишь спустя много лет после смерти автора.
[1] Зеньковский В.В. «История русской философии»
[2] П.Я.Чаадаев. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 569.
[3] Зеньковский В.В. «История русской философии»
[4] А.И.Герцен «Былое и думы»
Пётр Яковлевич Чаадаев — русский философ, публицист, одна из самых противоречивых и загадочных фигур общественно-политического движения в императорской России. Представитель древнего дворянского рода, друг декабристов, член тайных обществ и масонских лож, тот самый «товарищ» Александра Сергеевича Пушкина, чьё имя по образному выражению поэта должно было быть написано «на обломках самовластия». Он всегда шёл своим путём, выбивался из общей колеи, даря праздной публике повод для сплетен и домыслов, и, тем не менее, сильно влиял на умы этой самой публики. Отказываясь идти в ногу с массами, сливаться с толпой, Пётр Яковлевич, кажется, сделал своим кредо знаменитое изречение из Книги Экклезиаста:
«Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, всё — суета и томление духа!».
VATNIKSTAN рассказывает о жизни русского философа, который был объявлен сумасшедшим, но чей единственный опубликованный при жизни труд послужил катализатором идейного раскола западников и славянофилов, и заложил основы философии в нашей стране.
Детские и юношеские годы
Родословная Петра Яковлевича сулила ему блестящую карьеру и беззаботное будущее, Чаадаевы — древний дворянский род. Его отец, Яков Петрович Чаадаев был русским офицером, мать, Наталья Михайловна, дочка князя Михаила Михайловича Щербатова, автора семитомного издания «Истории Российской от древнейших времён». Пётр Яковлевич был вторым ребёнком в семье, его старший брат Михаил родился в 1792 году, оба брата по семейной традиции с детских лет числились в лейб-гвардии Семёновский полк. Отношения братьев долгие годы оставались дружескими и тёплыми, но со временем стали холодеть. Причиной этому являлись расстроенные денежные дела Петра Яковлевича, решение которых он постоянно возлагал на Михаила.
К сожалению, семейному счастью не суждено было случиться. Отец Петра Яковлевича умер на следующий год после его рождения, а мать — в 1797 году. Чаадаеву исполнилось всего три года. Братьев из Нижегородской губернии в Москву забрала тётка — княжна Анна Михайловна Щербатова, которая воспитывала мальчиков с материнской любовью и лаской, окружив их, как полагается, огромным количеством нянек и гувернёров. Фактическим опекуном братьев стал Дмитрий Михайлович Щербатов. Его сын, Иван Щербатов, в будущем станет членом Союза благоденствия, а после восстания Семёновского полка в 1820 году будет арестован по подозрению в организации бунта, разжалован в солдаты и отправлен на Кавказ, где в 1829 году погибнет.
В доме Щербатовых Чаадаев получил блестящее светское образование. Среди его учителей были декан философского факультета Московского университета профессор Пётр Иванович Страхов, гуманитарий и библиограф профессор Иоган Буле, профессор политических наук Христиан Августович Шлёцер, профессор натуральной истории Григорий Иванович Фишер[simple_tooltip content=‘Тарасов Б. Н. Молодой Чаадаев: книги и учителя // Альманах библиофила. М.: Книга, 1985. – 256 с.’]*[/simple_tooltip]. Пётр Яковлевич владел европейскими языками и мог читать в оригинале произведения древних авторов на греческом и латыни.
Уже в юные годы Чаадаев отличался от сверстников большей серьёзностью и самостоятельностью. Михаил Иванович Жихарёв, дальний родственник и биограф Петра Яковлевича, так опишет его в юные годы:
«…молодой Чаадаев, по своему рождению и состоянию имевший право занять место и стать твёрдою ногою как равный между равными, силою особенностей своей изобильно и разнообразно одарённой прихотливой натуры немедленно поместился как между равными первый»[simple_tooltip content=‘Жихарёв М. И. Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве // Русское общество 30‑х годов XIX в. Мемуары современников. М.: Изд-во МГУ, 1989. – 446 с.’]*[/simple_tooltip]
Несмотря на всю светскость и пышность образа жизни в юности, Пётр Яковлевич был не по годам умён. Уже в подростковом возрасте он увлёкся собиранием библиотеки, что позволило быстро обрести популярность среди московских букинистов и обзавестись связями с зарубежными книготорговцами[simple_tooltip content=‘Лебедев А. А. Чаадаев. М.: Мол. гвардия, 1965. – 270 с.’]*[/simple_tooltip]. У этого юноши имелись редчайшие экземпляры и, вероятно, книги, запрещённые царской цензурой.
В 1808 году Пётр, Михаил и их двоюродный брат Иван были приняты в Московский университет. Чаадаеву на момент поступления исполнилось 14 лет. В университетские годы Пётр Яковлевич заводит дружбу с Александром Грибоедовым, Иваном Снегирёвым, Николаем Тургеневым, Михаилом Муравьёвым, Иваном Якушкиным и многими другими знаменитыми деятелями XIX века. Достойный преподавательский состав, атмосфера товарищества и либеральные начинания Александра I стимулировали молодых людей к занятиям науками, вселяли надежду на прекрасное будущее. Это было время, когда студенческие кружки не были тайными. Многие из университетского окружения Чаадаева останутся ему друзьями на всю жизнь.
Карьерные взлёты и падения
После университета Чаадаева ждала военная служба. Он вместе с братом в 1811 году вступил лейб-прапорщиком в Семёновский полк, в котором также служили их некоторые университетские товарищи. В Семёновском полку Пётр Яковлевич провёл всю Отечественную войну 1812 года, участвовал в ключевых сражениях, дошёл до Парижа, был награждён.
Военная карьера Чаадаева шла стремительно вверх, его блестящая репутация в обществе этому располагала. В 1817 году он был назначен адъютантом командира гвардейского корпуса генерал-адъютанта Иллариона Васильевича Васильчикова. Начали ходить слухи, что сам император Александр I хочет произвести молодого офицера в свои адъютанты. Всё тот же Михаил Жихарёв писал:
«Храбрый обстрелянный офицер, испытанный в трёх исполинских походах, безукоризненно благородный, честный и любезный в частных отношениях, он не имел причины не пользоваться глубокими, безусловными уважением и привязанностью товарищей и начальства»[simple_tooltip content=‘Жихарёв М. И. Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве // Русское общество 30‑х годов XIX в. Мемуары современников. М.: Изд-во МГУ, 1989. – 446 с.’]*[/simple_tooltip].
Однако судьба сложилась иначе. В октябре 1820 года взбунтовался 1‑й батальон лейб-гвардии Семёновского полка. Васильчиков отправляет Чаадаева для подробного доклада к императору в Троппау, где тот находился на конгрессе. Через полтора месяца после этой поездки Пётр Яковлевич подал в отставку и приказом от 21 февраля 1821 года был уволен от службы без обычного в таких случаях производства в следующий чин. Эта история, как и многие повороты биографии Чаадаева, быстро обросла сплетнями и легендами. Небылицы, будто бы Пётр Яковлевич опоздал на приём из-за долгих приготовлений или что он хотел очернить товарищей из полка, в котором ранее служил, переходили из уст в уста. Потребовалось немало времени, чтобы исследователи и биографы эти небылицы опровергли. Однако и окончательно раскрыть тайну до сих пор никому не удалось.
В этой истории примечательны два письма. Первое Пётр Яковлевич написал брату Михаилу 25 марта 1820 года. Приведём начало письма:
«Спешу сообщить вам, что вы уволены в отставку… Итак, вы свободны, весьма завидую вашей судьбе и воистину желаю только одного: возможно поскорее оказаться в том же положении. Если бы я подал прошение об увольнении в настоящую минуту, то это значило бы просить о милости; быть может, мне и оказали бы её, но как решиться на просьбу, когда не имеешь на это право?»[simple_tooltip content=‘Чаадаев П. Я. Избранные сочинения и письма / Сост., вступ. ст. и примеч. В. Ю. Проскуриной. М.: Правда, 1991. – 560 с. ’]*[/simple_tooltip].
Второе письмо Чаадаев отправил своей тётке Анне Михайловне Щербатовой 2 января 1821 года. В нём он описывает сложившуюся ситуацию, упоминает о ложных слухах, говорит о презрении к Васильчикову. Приведём небольшой, но примечательный отрывок:
«…Я нашёл более забавным презреть эту милость, чем получить её. Меня забавляло выказывать моё презрение людям, которые всех презирают…»[simple_tooltip content=‘Чаадаев П. Я. Избранные сочинения и письма / Сост., вступ. ст. и примеч. В. Ю. Проскуриной. М.: Правда, 1991. – 560 с. ’]*[/simple_tooltip].
Известно, что письмо Щербатовой было перехвачено властями. Либеральным утопиям пришёл конец, в Европе под покровительством Священного союза процветала реакция. На этом военная и государственная карьера перспективного молодого человека обрывается, начинается новая страница в жизни Чаадаева, уже с другими взлётами и падениями.
От дендизма к декабризму
Все современники Чаадаева, вспоминая о нём, сходятся в одном — Пётр Яковлевич был необычайной внешности и умел утончённо одеваться. Он был настоящим денди в эпоху, когда за костюмом и манерами скрывался недоступный для глаз смысл, а дендизм имел окраску романтического бунтарства. Своим костюмом Чаадаев высказывал протест светскому обществу, презрение его правилам поведения, свою отстранённость и индивидуальность[simple_tooltip content=‘Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. ]*[/simple_tooltip]. Экстравагантность его поведения заключалась в том, что он одевался и вёл себя никак все. Вместо пышных дорогих нарядов — простой, но утончённый костюм. Вместо праздного времяпрепровождения в обществе — отстранённое наблюдение. Современник философа говорил о нём:
«…от остальных людей отличался необыкновенной нравственно-духовной возбудительностью… Его разговор и даже одно его присутствие, действовали на других, как действует шпора на благородную лошадь. При нём как-то нельзя, неловко было отдаваться ежедневной пошлости. При его появлении всякий как-то невольно нравственно и умственно осматривался, прибирался и охорашивался»[simple_tooltip content=‘Лебедев А. А. Чаадаев. М.: Мол. гвардия, 1965. – 270 с.’]*[/simple_tooltip].
Чаадаев познакомился с Пушкиным в доме у Карамзина в 1816 году. Философ производил на юного поэта сильное впечатление, между ними завязалась дружба. Чтобы передать пристрастия Евгения Онегина к моде, Александр Сергеевич напишет:
«Второй Чадаев, мой Евгений…».
А образ самого Петра Яковлевича поэт точно выразил в стихотворении «к портрету Чаадаева»: «Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес…»[simple_tooltip content=‘Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре.’]*[/simple_tooltip]
Свой образ Пётр Яковлевич подтверждал действиями. В начале XIX века в России были популярны масонские ложи, которые совмещали в себе черты аристократического клуба и тайного общества, а также декларировали идеи всемирного духовного братства и нравственного самосовершенствования личности[simple_tooltip content=‘Лебедев А. А. Чаадаев. М.: Мол. гвардия, 1965. – 270 с.’]*[/simple_tooltip]. Чаадаев серьёзно увлёкся масонством. В 1814 году в Кракове он был принят в масонскую ложу «Соединённых друзей», был членом ложи «Друзей Севера» (блюститель и делегат в «Астрее»), а в 1826 году носил знак 8‑й степени «Тайных белых братьев ложи Иоанна»[simple_tooltip content=‘Чаадаев П. Я. Избранные сочинения и письма / Сост., вступ. ст. и примеч. В. Ю. Проскуриной. М.: Правда, 1991. – 560 с. ’]*[/simple_tooltip].
Не мог Чаадаев пройти и мимо формировавшихся тогда политических тайных обществ, организаторами и активными участниками которых были его друзья ещё с университетских лет. В 1819 году он вступит в «Союз благоденствия», а после его роспуска по рекомендации Ивана Якушкина станет членом Северного тайного общества. Однако активного участия в деятельности декабристов Чаадаев не принял. Возможно, его отталкивали методы более радикальной части общества, а возможно, он уже понимал безысходность их положения и невозможность воплощения ими прогрессивных идей. Так или иначе, в 1823 году Пётр Яковлевич уезжает за границу, убеждая всех своих родственников и друзей, что не вернётся в Россию. Тогда он ещё не подозревал, что через два года произойдёт трагедия, его друзья решатся на восстание, а он войдёт в историю как один из «декабристов без декабря».
«Этот был там, он видел — и вернулся»
С 1823 по 1826 годы Пётр Яковлевич Чаадаев путешествует по Европе. Он мотивирует отъезд состоянием здоровья и потребностью в лечении. Конечной остановкой выбирает Швейцарию. Однако с самого начала отъезда его планы постоянно меняются, быстро начинает ощущаться нехватка денег, и тянет домой. За годы пребывания на Западе Чаадаев побывает в Англии, Франции, Швейцарии, Италии и Германии.
В 1826 году он возвращается. В Брест-Литовске его арестовывают по приказу Константина Павловича, который сразу доложил об этом Николаю I. Чаадаева подозревали в причастности к декабристам, изъяли бумаги и книги. 26 августа с Петра Яковлевича по повелению Николая I был снят подробный допрос, взята подписка о неучастии в любых тайных обществах. Через 40 дней его отпустили.
Уже во время путешествия в письмах к брату прослеживается особое внимание к религиозным вопросам Чаадаева. В дневнике Анастасии Якушкиной за октябрь 1827 года есть запись о философе той поры:
«…он чрезвычайно экзальтирован и весь пропитан духом святости… Ежеминутно он закрывает себе лицо, выпрямляется, не слышит того, что ему говорят, а потом, как бы по вдохновению начинает говорить»[simple_tooltip content=‘4. Чаадаев П. Я. Избранные сочинения и письма / Сост., вступ. ст. и примеч. В. Ю. Проскуриной. М.: Правда, 1991. – 560 с. ’]*[/simple_tooltip].
Пётр Чаадаев поселяется в подмосковной деревне своей тётки в Дмитровском уезде. Живёт уединённо, необщительно, много читает, обдумывает результаты путешествия, постепенно знакомится со сложившейся ситуацией в России. За ним установили постоянный тайный полицейский надзор.
В 34 года, в 1828 году Пётр Яковлевич начинает писать первое «Философическое письмо» — а уже в 1831 году заканчивает труд всей своей жизни. Рукописи «Философических писем» начинают ходить по рукам в русском образованном обществе в России и за рубежом. В это же время он возвращается в Москву и поселяется в доме Левашёвых на Новой Басманной, где останется до конца жизни.
«Под колоколами старого Кремля, в самом сердце русского отечества, в „вечном городе“ России, в великой исторической, живописной, столько ему знакомой, столько им изученной, столько ему дорогой и столько им любимой Москве было ему суждено вписать своё имя в страницы истории, вкусить от сладости знаменитости и от горечи гонения…»[simple_tooltip content=‘2. Жихарёв М. И. Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве // Русское общество 30‑х годов XIX в. Мемуары современников. М.: Изд-во МГУ, 1989. – 446 с.’]*[/simple_tooltip].
С момента поселения Петра Яковлевича на Новой Басманной прекращается затворническая жизнь, он начинает выходить в свет и замечает, что интерес к его персоне не пропал. Раз в неделю, по так называемым «понедельникам», он собирает у себя в обветшалом флигеле представителей мыслящей России, ведёт беседы о религии, философии и истории. Со временем к Петру Яковлевичу приживается прозвище «басманный философ».
«Кто бы ни проезжал через город из людей замечательных, давний знакомец посещал его, незнакомый спешил с ним познакомиться. Кюстин, Могень, Мармье, Сиркур, Мериме, Лист, Берлиоз, Гакстгаузен — все у него перебывали»[simple_tooltip content=‘4. Чаадаев П. Я. Избранные сочинения и письма / Сост., вступ. ст. и примеч. В. Ю. Проскуриной. М.: Правда, 1991. – 560 с. ’]*[/simple_tooltip].
Русский поэт и эссеист Осип Мандельштам точно подметил причину популярности фигуры Чаадаева:
«Чаадаев был первым русским, в самом деле идейно побывавшим на Западе и нашедшим дорогу обратно. Современники это инстинктивно чувствовали и страшно ценили присутствие среди них Чаадаева. На него могли показывать с суеверным уважением, как некогда на Данта: „Этот был там, он видел — и вернулся“»[simple_tooltip content=‘Мандельштам О. Э. Пётр Чаадаев.’]*[/simple_tooltip].
Денежное положение Петра Яковлевича ухудшается, он пытается вернуться на государственную службу, пишет письма Васильчикову, Бенкендорфу и даже Николаю I, предлагает свою кандидатуру на пост министра просвещения, но отказывается от должности в министерстве финансов.
Заслужив известность непечатающегося, но очень талантливого и умного писателя, Пётр Яковлевич стремится обнародовать свои «Письма», что оказывается нелегко, в стране цензура. В 1835 году он пишет Петру Вяземскому:
«Я достаточно легко опубликовал бы это сочинение за границей, но думаю, что для достижения необходимого результата определённые идеи должны исходить из нашей страны…»[simple_tooltip content=‘4. Чаадаев П. Я. Избранные сочинения и письма / Сост., вступ. ст. и примеч. В. Ю. Проскуриной. М.: Правда, 1991. – 560 с. ’]*[/simple_tooltip]
В стремлении опубликоваться Чаадаеву помогают многие его друзья. В том числе и Александр Сергеевич Пушкин.
Наконец, в 1836 году в журнале «Телескоп», в 15‑м номере выходит статья под названием: «Философические письма к г‑же ***. Письмо 1‑ое». Статья была не подписана. Вместо подписи значилось: «Некрополис. 1829 г., декабря 17». В редакционном примечании говорилось, что письма переведены с французского языка, что написаны они нашим соотечественником, и что «ряд их составляет целое, проникнутое одним духом, развивающее одну главную мысль». Предполагалось опубликовать и другие «Письма».
Реакция не заставила себя долго ждать. Публикация статьи вызвала небывалый скандал. «Некрополис», то есть мёртвый город, с которым Чаадаев сравнил Москву, как-то резко оживился, воскрес или «вспрял ото сна». По этому поводу австрийский посол граф Фикельмон в своём донесении канцлеру Миттерниху сообщал:
«Оно (письмо) упало, как бомба, посреди русского тщеславия и тех начал религиозного и политического первенства, к которым весьма склонны в столице»[simple_tooltip content=‘4. Чаадаев П. Я. Избранные сочинения и письма / Сост., вступ. ст. и примеч. В. Ю. Проскуриной. М.: Правда, 1991. – 560 с. ’]*[/simple_tooltip].
Статья дошла и до Николая I, который, ознакомившись с ней, заключил:
«Прочитав статью, нахожу, что содержание оной — смесь дерзкой бессмыслицы, достойной умалишённого: это мы узнаём непременно, но не извинительны ни редактор, ни цензор»[simple_tooltip content=‘Лебедев А. А. Чаадаев. М.: Мол. гвардия, 1965. – 270 с.’]*[/simple_tooltip].
Это был первый дерзкий поступок после восстания декабристов, исходящий от дворянской среды, император почувствовал угрозу правлению. Журнал был запрещён, его издателя, Николая Надеждина сослали в Усть-Сысольск, затем в Вологду, цензора, пропустившего статью, Алексея Васильевича Болдырева отстранили от должности. Петра Яковлевича Чаадаева объявили сумасшедшим, за ним был установлен домашний медицинский надзор, продолжавшийся год. Как-либо обсуждать, и даже критиковать статью официально, было запрещено[simple_tooltip content=‘В. Логинов. История закрытия журнала Н. М. Надеждина «Телескоп».’]*[/simple_tooltip].
Основные идеи статьи шли вразрез с государственной идеологией «Православие, самодержавие, народность». Пётр Яковлевич высказал мысль о том, что весь путь истории России не укладывается в философские модели — одни факты противоречат другим. Пройдя свой путь, Россия ещё находится в состоянии зарождения цивилизации:
«Наблюдая нас, можно сказать, что здесь сведён на нет всеобщий закон человечества»[simple_tooltip content=‘Чаадаев П. Я. Избранные сочинения и письма / Сост., вступ. ст. и примеч. В. Ю. Проскуриной. М.: Правда, 1991. – 560 с. ’]*[/simple_tooltip].
Таким образом, Пётр Яковлевич показывает, что России отделена от «всемирного воспитания человеческого рода» и пребывает в состоянии духовного застоя, постоянно мечась между Западом и Востоком. В другом месте философ пишет:
«Первые наши годы, протёкшие в неподвижной дикости, не оставили никакого следа в нашем сознании, и нет в нас ничего лично нам присущего, на что могла бы опереться наша мысль; выделенные по странной воле судьбы из всеобщего движения человечества, не восприняли мы и традиционных идей человеческого рода»[simple_tooltip content=‘Чаадаев П. Я. Избранные сочинения и письма / Сост., вступ. ст. и примеч. В. Ю. Проскуриной. М.: Правда, 1991. – 560 с. ’]*[/simple_tooltip]
По мнению Чаадаева, выход из этого вечного пребывания в темноте заключается в религиозном слиянии с Западом, то есть установлении духовного единения, Царства Божьего на земле.
Государственные верхи естественно усмотрели в идеях Чаадаева «антипатриотизм», «преклонение перед Западом». Однако Пётр Яковлевич предложил обществу самокритику, «патриотизм с открытыми глазами», то, что позже Михаил Юрьевич Лермонтов выразит в стихах:
Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит её рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни тёмной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья…
Публикация «Письма» оживила общественно-политические движения, стала отправной точкой раскола интеллигенции на западников и славянофилов. Чаадаев стал главным оппозиционером. Как заметил Александр Иванович Герцен:
«Насколько власть „безумного“… Чаадаева была признана, настолько „безумная власть“ Николая Павловича была уменьшена»[simple_tooltip content=‘Лебедев А. А. Чаадаев. М.: Мол. гвардия, 1965. – 270 с.’]*[/simple_tooltip]
В 1837 году Пётр Яковлевич напишет «Апологию сумасшедшего», работа не будет напечатана при жизни автора. Только в 1860 году Михаил Жихарёв передаст рукопись «Апологии» Николаю Чернышевскому, который опубликует статью в журнале «Современник». В этом труде философ довёл до конца основные идеи «Писем», попытался сгладить острые углы возникшей полемики и объяснить свою «странную» любовь к Родине.
Пётр Яковлевич Чаадаев уйдёт из жизни в 1856 году. До конца дней к нему будут ходить на Басманную, его духовное и идейное влияние признают такие общественно-политические деятели 1860–1870‑х годов как Герцен, Белинский и Чернышевский. О нём всегда с уважением будет говорить идейный противник, основоположник славянофильства Алексей Хомяков. Однако его «Философические письма» ещё долгое время будут запрещены к публикации в России. Ситуация переменится только с началом XX века
За несколько лет до смерти Чаадаев написал, что библиотека — «лучшая часть» его наследства, не подозревая, что его идеи и мысли будут доступны потомкам и внесут огромный вклад в формирование русской философии и развитие общественно-политической мысли во второй половине XIX века. В 1915 году Осип Мандельштам о значении фигуры Петра Яковлевича напишет:
«След, оставленный Чаадаевым в сознании русского общества, — такой глубокий и неизгладимый, что невольно возникает вопрос: уж не алмазом ли проведён он по стеклу?»[simple_tooltip content=‘6. Мандельштам О. Э. Пётр Чаадаев.’]*[/simple_tooltip]
Читайте также наш материал «„Былое и думы“ Герцена. Романтический герой под присмотром III отделения».