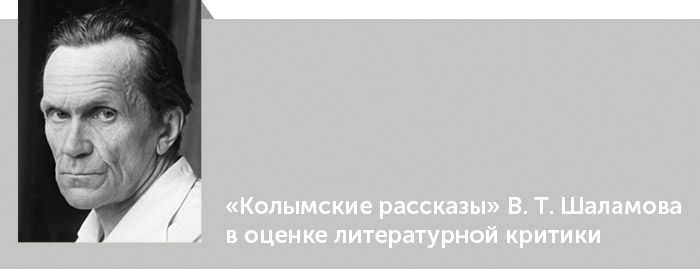Статья опубликована в сборнике «Проблемы славянской культуры и цивилизации : материалы Х Международной научно-методической конференции», – Уссурийск : УГПИ, 2008. Электронная версия — на сайте Могилевского университета, Беларусь.
__________
Особенности поэтики «Колымских рассказов» В. Шаламова
«Колымские рассказы» (1954 — 1982) В. Шаламова — огромное и ещё до конца не осознанное явление в истории русской литературы. В них с эпической суровостью и жестокой правдой представлена панорама жизни, через которую прошли наша страна и наш народ в 20-м веке.
В.Т. Шаламов — один из немногих художников, кто опирался на личное знание жизни, и это знание он воплотил в своей прозе. В. Шаламов — реалист, а погружающая его действительность сюрреалистична.
Документальность, сопряжённая с психологизмом, — одна из примечательных характеристик шаламовских рассказов, которые он называл «новой» прозой. Проза Шаламова личностна, а потому в значительной мере субъективна, где в качестве основного субъекта речи используется герой-повествователь. Шаламов применяет в «Колымских рассказах» приём контраста как один из способов приближения к истине.
Мир Колымы построен на контрасте. Например: «Мало есть зрелищ, столь же выразительных, как поставленные рядом краснорожие от спирта, раскормленные, грузные, отяжелевшие от жира фигуры лагерного начальства в блестящих, как солнце, новеньких вонючих овчинных полушубках… Фёдоров прошёлся по забою, что-то спросил, и наш бригадир, почтительно изогнувшись, доложил что-то. Федоров зевнул, и его золотые, хорошо почищенные зубы отразили солнечные лучи. Солнце уже высоко…», — читаем в рассказе «Мой процесс» [1,192].
Антагонистичность лагерного мира побудила писателя к использованию контраста на уровне системы образов. Ярким тому примером может служить всегда мертвое солнце Шаламова в рассказе «Первый чекист», оно присутствует здесь не как естественный источник света и тепла для всех, а как некий второстепенный инвентарь, к жизни не имеющий никакого отношения: «Пучок красных солнечных лучей делится переплётом тюремной решётки на несколько меньших пучков; где-то посреди камеры пучки света вновь сливались в сплошной золотой поток, красно-золотой… Звякнул замок, дверь открылась, и поток лучей вырвался из камеры. В открытую дверь стало видно, как лучи пересекли коридор, кинулись в окно коридора, перелетели тюремный двор и разбились на оконных стёклах другого тюремного корпуса. Всё это успели разглядеть все шестьдесят жителей камеры в короткое время, пока дверь была открыта. Дверь захлопнулась с мелодичным звоном, похожим на звон старинных сундуков, когда захлопывают крышку. И сразу все арестанты, жадно следившие за броском светового потока, за движеньем луча, как будто это было живое существо, их брат и товарищ, поняли, что солнце снова заперто вместе с ними» [1,163].
Шаламов сравнивает вещи несоотносимые. В рассказе «Перчатка» читаем: «Документы нашего прошлого уничтожены, караульные вышки спилены, бараки сровнены с землёй, ржавая колючая проволока смотана и увезена куда-то в другое место. На развалинах Серпантинки процвел Иван-чай — цветок пожара, забвения, враг архивов и человеческой памяти. Были ли мы?» [1, 253].
В рассказах проводится параллель между миром людей и миром природы, животных, причём, сравнение это у Шаламова — всегда не в пользу человека: «Котёнок вылез из-под топчана и едва успел прыгнуть обратно — геолог Филатов швырнул в него сапогом»: «Житья котёнку у нас не было. Пятеро мужчин вымещали на нём скуку безделья…»; «Медведица помчалась вверх по склону горы — за перевал. Старый медведь не побежал. Повернув морду в сторону опасности и оскалив клыки, он медленно пошёл по горе — к заросли стланиковых кустов. Он явно принимал опасность на себя, он, самец, жертвовал жизнью, чтоб спасти свою подругу, он отвлекал от неё смерть, он прикрывал её бегство» [1, 90-91].
«Тамара зарычала, и Назаров вернулся, снял с плеча автомат и выпустил в собаку патронную очередь в упор. Тамара дёрнулась и замолчала… Назаров скрылся в лесу… Шкуру с собаки содрали, растянули гвоздями на стене конюшни…» [1,43].
Противоречия часто проявляются и внутри одного образа. В системе нравственных отсчётов «Колымских рассказов» нет ничего ниже, чем опуститься до положения чесальщика пяток, как это произошло в рассказе «Тифозный карантин». Когда Андреев увидел, что Шнейдер, бывший капитан дальнего плавания, немецкий коммунист, прекрасно владевший русским языком, «знаток 0те, образованный теоретик-марксист», весельчак от природы, поддерживавший боевой дух камеры в Бутырках, теперь, на Колыме, суетливо и услужливо чешет пятки какому-то Сенечке-блатарю, то ему, Андрееву, «жить не захотелось». Но как ни отвратительна фигура чесальщика пяток, автор-рассказчик не клеймит его презрением, ибо хорошо знает, что голодному человеку можно простить очень многое [1, 79].
Отрицавший необходимость описаний в литературе, В. Шаламов, тем не менее, довольно часто прибегал к ним в своих рассказах. Его описания подчёркнуто будничны и подробны, почти каждая деталь в тексте — знак ирреальности происходящего. Повествование в «Колымских рассказах» кажется замедленным, заторможенным, у Шаламова — это своеобразный приём, позволяющий пристально рассмотреть мир загнанного, обречённого человека. Детализированные описания по большей части являются развёрнутыми противопоставлениями.
В рассказах В. Шаламова сравниваются понятия, которые не могут стоять рядом в обычном мире. Правда у Шаламова ирреальна. Из рассказа «Перчатка» читатель узнает, что «у пойманных беглецов на Колыме отрубали ладони, чтобы не возиться с телом, с трупом. Отрубленные руки можно было унести в портфеле, … ибо паспорт человека на Колыме — узор его пальцев» [1, 254].
Шаламов не даёт прямых оценок поведению своих героев, авторское отношение мы угадываем по некоторым деталям. Шаламов придавал чрезвычайное значение первой и последней фразам. Автор в самом начале рассказа ставит читателя на край бездонных глубин потустороннего мира и из этих глубин являются к нам персонажи, а финал гармонизирует весь рассказ, лишь последние страхи придают смысл всему повествованию: «В ранней молодости каждому подлецу я говорил в лицо, что он подлец. В зрелые годы я видел то же самое. Ничто не изменилось после моих проклятий. Изменился только сам я» [1, 250].
Патетически-возвышенно говорится об обыденных событиях и фактах, например, о приёме пищи в рассказе «Ночью»: «Ужин кончился. Глебов неторопливо вылизал миску, тщательно сгрёб со стола хлебные крошки в левую ладонь и, поднеся её ко рту, бережно слизал крошки с ладони. Не глотая, он ощущал, как слюна во рту густо и жадно обволакивает крошечный комочек хлеба. Глебов не мог бы сказать, было ли это вкусно. Вкус — это что- то другое, слишком бедное по сравнению с этим страстным, самозабвенным ощущением, которое давала пища. Глебов не торопился глотать: хлеб сам таял во рту, и таял быстро». [1, 20].
Используется Шаламовым и такой приём, как будничный, даже сниженный тон повествования о фактах и явлениях исключительных, трагических по своим последствиям. Например, мотив смерти как лагерной повседневности: «Марина умерла. После того как тебя расстреляли, она бросилась под поезд… Голову ровно чисто отрезало» [1, 35]; «Мы, все четверо, были отлично подготовлены для путешествия в будущее — хоть в небесное, хоть в земное» [1, 31].
В рассказах В. Шаламова повествуется о самоубийствах, членовредительстве: «Иван Иванович повесился ночью в десяти шагах от избы, в развилке дерева, без всякой верёвки… В лагере обыденность смертей, притуплённость чувств снимает интерес к мёртвому телу. Но Савельича смерть толкнула на какие-то решения. Он положил левую руку на бревно, растопырил пальцы и взмахнул топором. Четыре пальца отлетели в опилки, алая кровь била из пальцев. Савельича увели в амбулаторию для перевязки, а потом в следственный отдел — для начала дела о членовредительстве» [1, 36].
И. Сиротинская считает, что «эффект воздействия его (В. Шаламова) прозы — в контрасте сурового спокойствия рассказчика… и взрывного, сжигающего содержания» [2, 451].
Контраст в шаламовских рассказах претворён и на уровне слова. Писателем сталкиваются слова, антонимичные в лексическом плане. Художник показывает страшные реакции своих героев, парадоксально расходящиеся со здравым смыслом. В «Тифозном карантине» герой «с радостью вспоминает беседы «высокого давления» долгими тюремными ночами» [1, 84-85].
Абсурдность происходящего преодолевается иронией и парадоксом. Чтобы задержаться в больнице и не быть «выпущенным» в забой, больные растравляли себе раны: «Два месяца Коля боролся с заживлением раны, но молодые годы взяли своё» [1, 144].
Человек у Шаламова принадлежит одной только смерти. Возраст теряет всякое значение, и автор порой признаётся, что сам не знает, сколько лет персонажу. Всякая временная перспектива, утрачивается, и это постоянно повторяющийся мотив рассказов В. Шаламова. Главное — как будет жить человек сегодня, а что будет завтра — уже неважно. У героев Шаламова отсутствует связь с эпохой. В рассказе «Июнь» авторский персонаж Андреев слушает сообщение о нападении Германии на Советский Союз с полным равнодушием — «так, как известие о войне в Парагвае или Боливии». Опыт, приобретенный в царстве мертвых, учит, что «Бог умер» и «разумного основания у жизни нет». В отличие от А. Солженицына, который в сталинских застенках пришел к религии, Шаламов был убежденным атеистом. В своих рассказах Шаламов в противоположность Солженицыну почти не касается конкретных социально-исторических, политических причин террора, для него колымский беспредел стал прежде всего чудовищным разливом зла, глубоко укорененного в самой природе человека. Шаламов не делит своих героев на жертв и палачей; палачи у него всегда либо вчерашние, либо завтрашние жертвы, а злоба выступает как «самое долговечное человеческое чувство» («Сухим пайком»), это последнее, что остается перед смертью. Многие персонажи Шаламова, подобно герою «Поезда», живут «только равнодушной злобой».
Художественное время у Шаламова растянуто и абсурдно (например, в рассказах «Шерри-бренди», «Васьков»), но писатель использует в рассказах конкретные даты, и их функции неоднозначны: во-первых, даты выступают в своей собственной роли, конкретизируя время события. Здесь писатель верен своей теории «новой прозы», по которой можно создать художественное произведение не отличимое от документа. Во-вторых, прямая или косвенная конкретизация времени — это и прием, когда та или иная дата становится знаком особого мироощущения и оценки окружающего. «Художественное время здесь (в «Колымских рассказах») — время небытия, и эта особенность едва ли не главная в писательской манере Шаламова» [3,15].
Художественное пространство в разных сборниках рассказов В. Шаламова имеет общие черты: во-первых, это пространство довольно определенное, реальное, часто — конкретное: Бутырская тюрьма, прииск «Партизан», Аркагалинский лагерь, во-вторых, оно непременно обособленное, замкнутое, подчас — дважды. Могильная замкнутость пространства — постоянный и настойчивый мотив творчества писателя.
Замкнутое, обособленное пространство непреодолимо не только для заключенного, но и для любого, ступившего на землю Колымы. Вся страна ассоциируется у писателя с огромным лагерем, где все живущие в нём уже обречены. Перемещаясь в пространстве, заключенный фактически не меняет своего положения в лагерной системе координат. Упоминаемые рассказчиком географические объекты — реки, сопки, прииски — существуют в «Колымских рассказах» как бы отдельно. Пространство «Колымских рассказов» представляет собой объединение изолированных геометрических точек. При этом расстояние между точками измеряется в часах дороги и зависит от рельефа, погоды, а главное — степени истощенности путника.
Отсечение всего лишнего, предельный лаконизм и простота — то, что определяет в целом стилистические особенности прозы В. Шаламова. Несмотря на это, им используется яркая, броская, «подсаженная» (выражение самого В. Шаламова) деталь. Деталь в рассказах писателя — это определенный «подтекст», служащий его воле.
В. Шаламов часто применяет деталь как знак, символ полной степени истощения физического и морального, точно зафиксированные подробности наполняются особым символическим смыслом (вешки как бытовая подробность и как граница жизни и смерти; слово «сентенция», вспомнившееся рассказчику и означающее его возвращение в мир и т.п.).
Детально В. Шаламов изображает смерть в рассказе «Надгробное слово»: «Однажды бригадир его ударил, ударил просто кулаком, для порядка, так сказать, но Дерфель упал и не поднялся. Он умер одним из первых, из самых счастливых» [1, 136].
Символика В. Шаламова с трудом поддаётся толкованию посредством точных понятий, ибо её смысловое наполнение многозначно. Среди образов-символов в рассказах В. Шаламова есть такие, которые являются традиционными для классической русской литературы. Например, тропа как знак художественного пути, вода — дар жизни, река — течение человеческой жизни. Писатель создаёт и специфичные «лагерные» символы, которыми становятся, например, стланик как символ реальной надежды и человеческих иллюзий и лиственница как символ памяти, смерти и возрождения, тления и стойкости. Определяя семантико-эмоциональное значение этих символов, В. Шаламов решает одну из главных задач своего творчества — используя художественный образ, вернуть, восстановить некогда пережитое чувство.
Каждая деталь строится на гиперболе, гротеске, ошеломляющем сравнении: «Крики конвоиров подбодряли нас, как плети» [1, 56]; «Тела людей на нарах казались наростами, горбами дерева, выгнувшейся доской» [1, 79]; «Мы шли по тракторным следам, как по следам какого-то доисторического животного» [1, 30].
Ещё более выразительны детали психологические. Нередко это детали пейзажа, оттеняющие духовную атмосферу Колымы: «По краю белого небосвода много дней ходят низкие, синеватые, будто в кровоподтёках, тучи» [1, 15]. Причём В. Шаламов не избегает традиционных романтических ассоциаций: «Чем глубже становилась ночь, тем ярче горели костры, горели пламенем надежды, надежды на отдых и еду» [1, 21]. Порой писатель берёт старинный, ещё преданием освящённый высокий образ-символ, заземляет его в физиологически грубом «колымском контексте», и там этот образ приобретает какую-то особую щемящую окраску: «Каждый из нас привык дышать кислым запахом поношенного платья, пота — ещё хорошо, что слёзы не имеют запаха» [1, 30].
Традиционные литературные образы-символы, которые вводит В. Шаламов в свои рассказы (слеза, солнечный луч, свеча, крест и им подобные), пронизывают картину мира-лагеря беспредельным трагизмом.
Но ещё сильнее в «Колымских рассказах» эстетическое потрясение, вызываемое подробностями и мелочами повседневного лагерного существования. Особенно жутки описания молебственного, экстатического поглощения пищи: «Он не ест селёдку. Он её лижет, лижет и хвостик мало-помалу исчезает из пальцев» [1, 17]; «Я брал котелок, ел и вылизывал дно до блеска по приисковой привычке» [1, 74]; «Он просыпался только тогда, когда давали пищу, и после, аккуратно и бережно вылизав свои руки, снова спал…» [1, 80].
Смысл применения синекдохи, инверсии в построении фраз в рассказах — показать обезличенность, «потусторонность» людей в лагере, размытость не только их прошлого, о котором нет смысла помнить, но и настоящего и будущего. «Я кое-кого знал из этих полутрупов — по тюрьме, по транзиткам. Я двигался ежедневно вместе с комками рваных бушлатов, матерчатых ушанок, надеваемых от бани до бани; бурок, стеганных из рваных брюк, обгорелых на кострах…» [1, 227]. Показывается одинаковость и обезличенность людей в лагере. У них нет прошлого, настоящего, будущего.
Синекдоха подчас уравнивает живую и неживую природу, в таких случаях писатель использует прием овеществления. Например, «сорокоградусными морозами встречал гостей Магадан»; «Колыма обрушила на фронтового хирурга слишком большой груз» [1, 89].
Если люди часто воспринимаются как вещи, то деревья, бульдозер, река, камень и прочее — одушевляются. Таким образом, и приём олицетворения нашел применение в прозе В. Шаламова. Например, в рассказе «По лендлизу»: «Бульдозер кашлял на морозе, сердился. Вот он запыхтел, заворчал и смело двинулся вперёд», «теперь на помощь нам пришёл отвальный нож заморского бульдозера», «камень хранит и открывает тайны», «Камень, Север сопротивлялись всеми силами этой работе человека, не пуская мертвецов в свои недра», «трава ещё более забывчива, чем человек… трава забудет» [1, 127]. В рассказе «Воскрешение лиственницы» одушевляется ветка лиственницы: «лиственница жила ближе к Чёрной речке…», «ветка собирает все силы — физические и духовные…», «лиственница осмеливалась дышать, говорить и жить» [1, 251].
К особенностям стиля Варлама Шаламова, безусловно, относится широкое использование им синонимии. Например, в рассказе «Выходной день» в одном предложении часто употребляются синонимы: «настойчиво и упорно цепляться за жизнь; все забыто, выброшено, изгнано из памяти; повторяю, вспоминаю воскресную службу» [1, 58]; «Те бригады — и блатари тоже — уже приучились, привыкли рассчитывать на эти остатки» [1, 229]. Шаламов в своих рассказах использует тавтологизацию: «Это был маленький, чистенький, черненький, чисто вымытый человечек с не отмороженным еще лицом» [1, 229].
Странности шаламовского стиля не то чтобы бросаются в глаза, а как бы проступают по мере чтения, у читателя «Колымских рассказов» может создаться впечатление, что автор не вполне владеет русским языком: «Крист не ходил в лагерь при круглосуточной его работе» [1, 101]; «Но без конвоя их не выпускали никого «за проволоку» [1, 113]; «… И уж во всяком случае, не отказывались от стопки спирту, хотя бы ее подносил провокатор» [1, 42].
На уровне лексики авторский текст — это речь образованного человека. Сбой происходит на грамматическом уровне. Описывая в рассказе «Сентенция» постепенно оживающего «доходягу», Шаламов отождествляет восстановление личности с возвращением слов, вне лагерной лексики. А в самом тексте рассказа можно насчитать несколько десятков грамматически и стилистически неправильных предложений: «Моё — были ягоды, корни, травы, пайка» [1, 131]; Лагерь изменил способ мышления автора и героев «Колымских рассказов», отчасти выведя их за пределы грамматики.
Шаламов ведет повествование в сухой, эпической, максимально объективированной манере. Эта интонация не меняется, что бы он ни описывал. Шаламов не дает никаких оценок поведению своих героев, и авторское отношение можно угадать только по едва уловимым приметам, а чаще и вовсе нельзя угадать. Создается впечатление, что порой шаламовское бесстрастие перетекает в иронию. В рассказе «Сгущенное молоко» герой, сделав вид, что поверил провокатору Шестакову, организующему побег по указке начальства, выманивает у него две банки сгущенки, а потом отказывается бежать. Побег проваливается, его участники гибнут, а Шестаков: «С тех пор со мной не здоровался, и зря: две банки сгущенного молока не такое уж большое дело, в конце концов» [1.749].
И в то же время у Шаламова присутствуют налетающие друг на друга глаголы, цепочки параллельных определений, повторы, высокий темп повествования, четкий ритмический рисунок, ударная метафора в конце абзаца — Шаламов не скуп на слова и щедр порой чрезмерно: «Шеллачная пластинка кружилась и шипела, кружился и сам пень, заведенный на все свои триста кругов, как тугая пружина, закрученная на целых триста лет» [1, 133].
В. Шаламов, провозглашая принципы «новой прозы», декларировал отказ от многих достижений русской классической литературы — от описаний и пейзажных отступлений, от показа «характеров в развитии» и т.д. Но композиции своих произведений он уделял серьезное внимание.
В композиции книг В. Шаламов нередко использует контраст, чередование рассказов: напряженные по своему содержанию и психологическому воздействию на читателя произведения соседствуют с более спокойными и центральными («Инжектор», «Апостол Павел» — «Ягоды», «Сука Тамара»; «Татарский мулла и чистый воздух» — «Первая смерть»; «По снегу» — «На представку).
Придавая большое значение первым и последним фразам своих рассказов, писатель столь же продуманно относился к началу и финалу каждого сборника. Функции первого и последнего рассказов в разных книгах неодинаковы. Но во всех чувствуется внутренняя связь (по сходству или по контрасту) этих рассказов между собой, что позволяет говорить о кольцевой композиции сборников, и особенно книг «Артист лопаты» и «Воскрешение лиственницы».
В. Шаламов использовал следующие композиционные приёмы: композиционные перестановки, когда кульминация и развязка опережает завязку («Прокуратор Иудеи», «Калигула»); несовпадение фабулы и сюжета («Ожерелье княгини Гагариной», «Иван Федорович», «Академик»); круговая или кумулятивная композиция («Погоня за паровозным дымом», «Утка»); развернутая экспозиция, которая оказывается гораздо шире основного события рассказа («По лендлизу», «Путешествие на Олу», «Иван Богданов» и др.). Такая экспозиция используется для создания атмосферы, в которой будет происходить действие рассказа («Май»), для подробного знакомства с главным героем («Эхо в горах»).
Называя повторы одним из свойств композиции прозы В. Шаламова, можно выделить повторы событийные, ситуативные, фабульные (особенно в рассказах сборников «Левый берег», «Воскрешение лиственницы», в «Вишере»); повторяющиеся из рассказа в рассказ имена и сквозные герои; кочующие по разным сборникам заповеди, принципы, выводы. Варлам Шаламов не боялся повторов, использовал их сознательно, так как хотел получить только «живую жизнь».
Таким образом, использование — контраста практически на всех уровнях художественной системы (контраст внутри образа, на уровне героя и др.) является выражением шаламовской убеждённости в том, что нормальный человек не в состоянии противостоять аду ГУЛАГа, что лагерь способен лишь растоптать и уничтожить человеческую личность.
Определяя и варьируя возможности хронотопа, писатель обогащает создаваемый им художественный мир, проясняет свою позицию, подчеркивает свою оценку.
Стилистические особенности прозы В. Шаламова необходимы для выражения особого содержания. Они помогают художнику раскрыть перед читателем незаживающую рану своей души.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Шаламов В. Несколько моих жизней: Проза. Поэзия. Эссе. — М.: Республика, 1996.
2. Сиротинская И. Воспоминания о Варламе Шаламове // Шаламов В. Несколько моих жизней: Проза. Поэзия. Эссе. — М.: Республика, 1996.
3. Тимофеев Л. Поэтика лагерной прозы: Первое чтение «Колымских рассказов» В. Шаламова // Октябрь. — 1991. — №3.
Таркан Наталья Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент, Могилевский государственный университет, Беларусь
УДК 821.161.1-32
Н.И. Погорелова
Статья посвящена истории изучения «Колымских рассказов» В. Шаламова. С момента выхода в свет «Колымских рассказов», как на его родине, так и за рубежом, опубликовано большое количество работ, в которых исследуется биография писателя (И.П. Сиротинская, В.В. Есипов, Ю. Шрейдер, Ф. Апанович и др.), проводится сопоставительный анализ «лагерной» прозы Шаламова и Солженицына (В .В. Есипов, И.П. Сиротинская, Е.С. Полищук, И.В. Некрасова, Д.В. Лекух, И.Н. Сухих, В. Френкель и др.), анализируется художественное своеобразие «Колымских рассказов» (Е.А. Шкловский, Л. Тимофеев, Е.В. Волкова, И. Сухих, В.В. Есипов, И.В. Некрасова, М. Берютти, Е. Михайлик, Ф. Апанович, А. Галл и др.).
Критика отмечает, что в истории изучения «Колымских рассказов» можно условно выделить два этапа. Первый этап (конец 80-х-начало 90-х годов прошлого века) относится к первоначальному осмыслению шаламовских рассказов как документального свидетельства о сталинских лагерях и образует первичный этап осмысления «лагерной прозы» писателя. В откликах критической мысли этого периода на первый план выходит исторический контекст «лагерного» материала, в котором «Колымские рассказы» воспринимаются, в первую очередь, как документальное свидетельство о сталинской эпохе. Вместе с тем следует отметить, что в исследованиях данного периода закладываются основы анализа поэтики «Колымских рассказов».
Второй этап (1991-по наше время) связан с выявлением художественных особенностей стиля писателя, осмыслением идейно-эстетических принципов «новой прозы», анализом композиционной циклизации «Колымских рассказов», выделением ключевых мотивов, выявлением интертекстуальных связей и основных мифопоэтических хронотопов. Этот период характеризуется также пристальным вниманием к изучению биографических сведений о Шаламове, разработкой и публикацией архивных материалов, сопоставлением «лагерной прозы» Шаламова и Солженицына в художественно-литературном и документальном аспектах.
Ключевые слова: «лагерная проза», литературная критика, «новая проза», рассказ, поэтика.
Н.І. Погорєлова. «Колимські оповідання» В.Т. Шалимова в оцінці літературної критики
Стаття присвячена історії вивчення «Колимських оповідань» В. Шала- мова. З моменту публікації «Колимських оповідань», як на його батьківщині, так і за кордоном, опубліковано велику кількість робіт, у яких досліджується біографія письменника (І.П. Сиротинська, В.В. Єсипов, Ю. Шрейдер, Ф. Апанович та ін.), здійснюється порівняльний аналіз «табірної» прози Шаламова та Солженицина (В.В. Єсипов, І.П. Сиротинська, Є.С. Поліщук,
І.В. Некрасова, Д.В. Лєкух, І.Н. Сухих, В. Френкель та ін.), аналізується художня своєрідність «Колимських оповідань» (Є. А. Шкловський, Л. Тим- офєєв, Є.В. Волкова, І. Сухих, В.В. Єсипов, І.В. Некрасова, М. Берютті, Є. Михайлик, Ф. Апанович, А. Галл та ін.).
Критика відзначає, що в історії вивчення «Колимських оповідань» можна умовно виділити два етапи. Перший етап (кінець 80-х-початок 90-х минулого століття) стосується початкового осмислення шаламівських оповідань як документального свідоцтва про сталінські табори та формує первинний етап осмислення «табірної прози» письменника. У відгуках критичної думки цього періоду на перший план виходить історичний контекст «табірного» матеріалу, у якому «Колимські оповідання» сприймаються, у першу чергу, як документальне свідоцтво про сталінську епоху. Разом з тим варто відзначити, що в дослідженнях зазначеного періоду закладаються основи аналізу поетики «Колимських оповідань».
Другий етап (1991 — наш час) пов’язаний з виявленням художніх особливостей стилю письменника, осмислення ідейно-естетичних принципів «нової прози», аналізом композиційної циклізації «Колимських оповідань», осмисленням ключових мотивів, виявом інтертекстуальних зв’язків та основних міфопоетичних хронотопів. Цей період характеризується також пильною увагою до вивчення біографічних відомостей про Шаламова, розробкою та публікацією архівних матеріалів, зіставленням «табірної прози» Шаламова та Солженіцина у художньо-літературному, документальному та історичному аспектах.
Ключові слова: літературна критика, «нова проза», оповідання, поетика, «табірна проза».
N.I. Pogorelova. “Kolym stories” by V.T. Shalamov in the Estimation of Literary Criticism The article is sanctified to history of study of the “Kolym stories” by V. Shalamov. From the moment of publication the “Kolym stories”, both on his motherland and abroad, has been published plenty of works with researches of writer’s biography (I.P. Sirotinskaya, V.V. Esipov, Y. Shreider, F. Apanovich and others), the comparable analysis of “camp” prose of Shalamov and Solzhenizin is conducted (VV Esipov, I.P. Sirotinskaya, E.S. Polishuk, I.V Nekrasova, D.V. Le- kuh, I.N. Suhih, V. Frenkel and others), artistic originality of the “Kolym stories” is analysed (E.A. Shklovskiy, L. Timofeev, E.V. Volkova, I.N. Suhih, V.V. Esipov, I.V. Nekrasova, M. Beryutti, E. Mihaylik, F. Apanovich, A. Gall and others).
Criticism marks that in history of study of the “Kolym stories” it is possible conditionally to distinguish two stages. The first stage (early 80s-the late 90s the last century) related to the primary comprehension of Shalamov stories as a documentary testifying to the Stalin camps and forms of the primary stage of comprehension of “camp prose” of writer. In the responses of critical idea of this period the historical context «of camp» material in that the “Kolym stories” are perceived goes out on the first plan, first of all, as a documentary testifying to the Stalin epoch. At the same time it should be noted that bases of analysis of poetics of the “Kolym stories” are mortgaged in researches of this period.
The second stage (1991-modern age) is related to the exposure of artistic features of writer’s style, comprehension of new technique of letter (“new prose”) and its correlation with the writer’s stories, by the analysis of composition cyclization of the “Kolym stories”, comprehension of key reasons, exposure of intertexture connections and basic myths-poetics chronotopes. This period is characterized also by intent attention to the study of biographic information about Shalamov, by development and publication of the archived materials, by comparison of “camp prose” of Shalamov and Solzhenizin in artistically-literary, documentary and historical aspects.
Key words: “camp prose”, literary criticism, “new prose”, poetics, stories.
«Новая проза» Варлама Шаламова, как определял ее сам писатель, стала не только отражением той распадающейся реальности, но и осмыслением нового состояния человека, выражением нового опыта, которого не знал Х1Х век. Отсидев семнадцать лет на «дне небытия» — в сталинских лагерях Северного Урала (Вишерском лагере) и на Колыме, Варлам Шаламов смог не только выжить в нечеловеческих условиях, но и вынести суровый приговор сталинскому режиму, описав в «Колымских рассказах» экзистенцию человеческого бытия.
Советский читатель смог познакомиться с прозой Шаламова в конце восьмидесятых годов прошлого столетья, когда его отдельные рассказы начали появляться в толстых журналах. В 1992 году издательство «Советская Россия» выпустило книгу «Колымских рассказов» отдельной книгой. До этого времени критики, в роли которых, как правило, выступали члены редакционных коллегий толстых журналов, заключали творчество писателя в жесткие рамки «лагерной литературы», обращая повышенное внимание только на политико-идеологическую сторону рассказов Шаламова. Лагерная тема считалась давно исчерпанной повестью А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». И хотя на Западе сложился устойчивый круг почитателей писателя — Ф. Апанович (Польша), Е. Михайлик (Австралия), М. Никольсон (Великобритания), Л. Токер (Израиль), Л. Юргенсон (Франция) — в России только в преддверии третьего тысячелетия неординарность творческой личности Шаламова стала предметом подлинно научного осмысления.
Начиная с середины 1990-х годов выходит ряд литературнокритических работ, посвященных исследованию «Колымских рассказов» Варлама Шаламова. Работы Е. Волковой, М. Геллера, Н. Лейдермана, Ю. Лексина, О. Михайлова, Г. Померанца, Е. Сидорова, А. Синявского, Л. Тимофеева, Г. Трифонова, Е. Шкловского, В. Френкеля, Ю. Шрейдера и других ученых катализировали дальнейшие исследования особенностей художественного пространства прозы Шаламова. Позднейшие исследования В. Есипова, И. А. Большова, М. Золотоносова, Е. Громова, Л. Жаравиной, Вяч. Вс. Иванова, А. Карпова, В. Компанейца, А. Латыниной, Э. Мекша, И. Некрасовой, И. Сухих, В. Туниманова, С. Фомичева, а также ряда других исследователей основываются на многих посылках, выдвинутых в первых работах о Шаламове. В этих исследованиях невозможно переоценить роль и значение И.П. Сиротинской — собирателя и хранителя архива писателя, комментатора его произведений, талантливого мемуариста и исследователя его творчества.
Существенный вклад в исследование творчества автора «Колымских рассказов» вносят Международные Шаламовские чтения, проводимые с 1990-го года в Вологде и Москве. В сети Интернет создан сайт, посвященный Варламу Шаламову, на котором представлены сочинения писателя, мемуарно-биографические материалы, исследования, документы, архивные фотографии, фильмы, аудиозаписи, а также систематизирован ряд других информационно-справочных материалов о жизни и творчестве писателя. В 2007 году по мотивам «Колымских рассказов» Шаламова режиссером Николаем Досталем создан художественный фильм «Завещание Ленина», получивший неоднозначную оценку у исследователей творчества Шаламова. Количество документальных фильмов, рассказывающих о писателе, давно уже перевалило за второй десяток. Все вышеперечисленные факты свидетельствуют о всевозрастающем интересе к творчеству Шаламова, изучение своеобразия художественной прозы которого, на наш взгляд, еще только начинается.
Целью статьи является анализ исследований «Колымских рассказов» Варлама Шаламова в контексте реализации феномена «новой прозы» писателя.
В истории изучения «Колымских рассказов» можно условно выделить два этапа. Первый этап относится к первоначальному осмыслению шаламовских рассказов как документального свидетельства о сталинских лагерях и образует первичный этап осмысления «лагерной прозы» писателя. В откликах критической мысли этого периода (конец 80-х — начало 90-х годов прошлого века) на первый план выходит исторический контекст «лагерного» материала, в котором «Колымские рассказы» воспринимаются, в первую очередь, как документальное свидетельство о сталинской эпохе. Критики этого периода (О. Волков, А. Дремов, Э. Мороз, М. Геллер, Е. Сидоров, Е. Шкловский и др.) оценивают документально-исторический пласт рассказов, где позиция автора воспринимается непосредственно, как живое свидетельство человека, прошедшего все ужасы Колымского ада. Вместе с тем следует отметить, что в исследованиях данного периода закладываются основы анализа поэтики «Колымских рассказов».
Второй этап в изучении «Колымских рассказов» (1991 — по наше время) связан с выявлением художественных особенностей стиля писателя, осмыслением новой техники письма («новой прозы») и ее соотнесением с рассказами писателя, анализом композиционной циклизации «Колымских рассказов», осмыслением ключевых мотивов, выявлением интертекстуальных связей и основных мифопоэтических хронотопов. Этот период изучения творчества писателя характеризуется также пристальным вниманием к изучению биографических сведений о Шаламове, разработкой и публикацией архивных материалов, сопоставлением «лагерной прозы» Шаламова и Солженицына в художественно-литературном и документальном аспектах.
Первым рецензентом «Колымских рассказов» был Олег Волков, писатель и публицист, проведший в тюрьмах, лагерях и ссылках более 25 лет. В рецензии Волкова, по сути, первой критической статье о лагерных рассказах Шаламова в советском литературоведении, была дана высокая оценка «Колымским рассказам». Волков не только положительно оценил, но и указал на отличительную особенность прозы Шаламова от «лагерной прозы» Солженицына.
У Шаламова лагеря представали «отрицательной школой», растлевающей силой. У Солженицына, напротив, герой может сохранить себя в лагере, честно трудиться и даже духовно окрепнуть в противоборстве с системой. Волков первый уловил и обозначил один из сложных вопросов различия солженицынского и шаламов- ского понимания лагеря, которому впоследствии будет посвящено немало исследований.
Во второй рецензии на «Колымские рассказы» Шаламова Эльвины Мороз особо выделяется документальная составляющая произведений, которая, по мнению автора, и составляет основное достоинство книги и усиливает общее впечатление при прочтении: «Рукопись «Колымских рассказов» В. Шаламова производит сильное впечатление, более того — ужасающее впечатление, главным образом, своим материалом» [16]. В то же время критик указывает на слабую индивидуализацию героев и такую особенность авторской позиции в повествовании — некую отстраненность автора от своих героев и отсутствие сочувствия к ним. Эльвина Мороз рекомендует книгу к печати именно из-за ее документальности.
Третья рецензия Анатолия Дремова — литературоведа и критика журнала «Октябрь», официального рецензента «Колымских рассказов», которому редакция «Советского писателя» передала на рецензию рассказы Шаламова, написана строго в партийно-идеологическом стиле в соответствии с последними указаниями Первого секретаря ЦК КПСС. Критик также проводит литературную параллель между Шаламовым и Солженицыным. По мысли рецензента, главный герой Солженицына — Иван Денисович — все-таки в какой- то степени соответствует морально-нравственным идеалам советского человека. Шаламов, напротив, показывает всю неизбежность моральной деградации человека, попавшего в сталинские лагеря.
Одной из первых попыток серьезного осмысления прозы Варлама Шаламова является статья Льва Тимофеева «Поэтика лагерной прозы. Первое чтение «Колымских рассказов» В. Шаламова», опубликованная на страницах третьего номера журнала «Октябрь» за 1991 год [11]. В основе композиции «Колымских рассказов», по мнению критика, лежит особый художественный приём — «смерть как композиционная основа произведения» [11, с. 182]. Небытие в рассказах Шаламова выступает как особый художественный мир, в котором привычно разворачивается сюжет.
Ученый не ограничивается рассказами, которые были опубликованы в периодической печати, а рассматривает их в композиционном единстве, ссылаясь на книгу «Колымских рассказов», изданных в Париже в 1985 году с предисловием М. Геллера. [12]. По его мнению, художественному пространству рассказов Шаламова присуща некая доминанта, вокруг которой группируются все основные образы и мотивы в его произведениях. В качестве такой доминанты Тимофеев называет «могильную замкнутость пространства» [11, с. 182] — неизменный мотив творчества писателя, который проходит сквозь все полотно его повествования.
В оценке «зазеркального» мира, показанного Шаламовым, автор статьи близок к Михаилу Геллеру, который в своем предисловии к «Колымским рассказам» [3] сравнивает мир сталинских лагерей с гитлеровским Освенцимом и Треблинкой. Единственная разница между ними заключается лишь в том, что «в гитлеровских лагерях смерти жертвы знали, почему их убивают. Конечно, человеку все равно не хочется умирать. Но убиваемый гитлеровцами знал, что он умирает потому, что был противником нацистского режима, или евреем, или русским военнопленным. Тот, кто умирал в колымских — и во всех других советских — лагерях, умирал недоумевая» [3, с. 8]. В конце статьи Тимофеев приходит к выводу, что солнце «Колымских рассказов» — это всегда «солнце мертвых», поскольку в этом мире нет движения от тьмы к свету, нет света истины, нет справедливости.
Идейно перекликаются со статьей Тимофеева и заметки литературоведа из Ниццы Мирей Берютти «Крест его судьбы». Исследовательница считает, что подход к судьбе и к основам творчества Варлама Шаламова выстраивается в следующей цепочке понятий: «смерть» — «воскресение» — «бессмертие» — «жизнь». Берютти отмечает: «В Колымских рассказах» не раз описываются противоположные друг другу процессы: процесс умирания, когда лагерник впадает в состояние «доходяги», где тело почти ничего не весит, где мысль и чувство теряются, а речь чуть ли не исчезает, и процесс воскресения, когда благодаря передышке на лесной «командировке» или в больнице восстанавливаются телесные и умственные силы, и из глубины существа поэта вновь всплывает поэтический дар. Если охватить взглядом страшное пребывание на Колыме, откуда немногие вернулись, получается ошеломляющее впечатление, что Ша- ламов поистине воскрес из мертвых, познав ад » [1, с. 231]. Таким образом, косвенно Мирей Берютти приходит к сходному со Л. Тимофеевым выводу о мире небытия как художественном мире рассказов В. Шаламова.
Интересна и глубока по внутреннему содержанию одна из первых заметок о прозе В. Шаламова — статья Е. Сидорова «О Варламе Шаламове и его прозе» [8], которая предшествует публикации его рассказов «Выходной день» и «Васька Денисов, похититель свиней». Лейтмотивом статьи стал ответ на вопрос: почему «колымская» проза Шаламова потрясает читателя. Автор статьи считает, что дело отнюдь не в материале, а в той «свободе авторского взгляда, стиля, которая сродни эпическому постижению жизни» [8, с. 57].
Книга Евгения Шкловского «Варлам Шаламов» (1991) [14] стала одной из первых основательных работ о прозаическом творчестве Шаламова. В своем исследовании Шкловский соединяет анализ художественной прозы Шаламова с биографическими сведениями о писателе. На страницах книги Шкловский размышляет об идейнообразном своеобразии рассказов Шаламова и их поэтике, о духовнопсихологических и эстетических истоках творчества писателя.
Особое внимание автор исследования уделяет проблеме так называемой «новой прозы» (термин В. Шаламова), которая, по Шала- мову, является одним из главенствующих принципов его писательского кредо. Идейно-эстетическая сущность «новой прозы» состоит в том, что она «может быть создана только людьми, знающими свой материал в совершенстве, — для которых овладение материалом, его художественное преображение не является чисто литературной задачей, — а долгом, нравственным императивом» [14, с. 64].
Обильно цитируя Шаламова, Шкловский формулирует основной постулат «новой прозы», который заключается в том, что писатель должен находиться в гуще описанных событий, пропуская все драматические события через себя. «Новая проза», по мысли Шаламо- ва, должна быть непосредственно и нераздельно связана с судьбой писателя, ведь ему, в отличие от других, даровано слово, дано высказываться. «Он — голос многих. Живых и мертвых» [14, с. 64]. Другой важнейший принцип «новой прозы», который выдвигает Шаламов и на который указывает Шкловский, состоит в принципе документальности, делающим эту прозу «преображенным документом».
В статье другого известного литературоведа — Н.Л. Лейдермана, вышедшей на страницах журнала «Урал» почти одновременно с книгой Шкловского в 1992 году [6], «Колымские рассказы», напротив, рассматриваются, прежде всего, с художественной точки зрения. Автор статьи понимает документальность «новой прозы» Шаламова скорее не в прямом, а философско-экзистенциальном смысле.
Касаясь жанровой специфики «Колымских рассказов», Н. Лей- дерман видит в них и остросюжетную романтическую новеллу, и физиологический очерк, и стихотворения в прозе, и психологический этюд, и сценки разных риторических жанров (сентенций, «опытов») и т.д. Исследователь выделяет такие элементы, организующие структуру текста в новеллах Шаламова, как художественные детали и символы. По наблюдению Лейдермана, каждая деталь «строится на гиперболе, гротеске, ошеломляющем сравнении, где сталкиваются низменное и высокое, натуралистически грубое и духовное. Порой писатель берёт старинный, преданием освящённый образ-символ и заземляет его в физиологически грубом «колымском контексте».
Часто в рассказах Шаламова встречается и противоположный прием: случайная деталь тюремной жизни переводится писателем по ассоциации в разряд высоких духовных символов. И эта символика, которую находит автор в повседневных реалиях лагерной жизни, перерастает в одну из микротем цикла.
Для прозы Шаламова, по мысли Лейдермана, характерно также использование таких традиционных образов-символов: слеза, солнечный луч, свеча, крест. Соединение этих символов с абсурдным, фантасмагорическим миром Колымы рождает особый художественный смысл — «подлинный театр абсурда», который по своей художественной силе превосходит натурализм, так как в нем «действует тот принцип сочленения жизненно достоверного и алогичного, кошмарного, который вообще-то характерен для «театра абсурда» [6].
Именно подобная «логика сцепления образов», считает ученый, и позволяет говорить об исконной художественной логике шала- мовских рассказов. В отличие от некоторых других исследователей Шаламова (В. Шкловского, Л. Тимофеева), выдвигающих на первый план документальность «Колымских рассказов», Лейдерман видит в них художественные традиции, уходящие корнями в эпоху Просвещения и древнерусскую проповедническую культуру.
Статья Игоря Сухих «Жить после Колымы» [10], опубликованная десятилетием спустя, в начале двухтысячных, продолжает тему соотнесения документальности и художественности в прозе Шаламо- ва. Автор сравнивает эстетический манифест Шаламова «О прозе» (1965), в котором высказаны теоретические взгляды Шаламова на «новую прозу», с непосредственным его художественным воплощением в «Колымских рассказах». Описывая подробно структуру «новой прозы», Сухих выделяет основные ее контрапункты в художественном произведении. «Герои: люди без биографии, без прошлого и без будущего. Действие: сюжетная законченность. Повествователь: переход от первого лица к третьему, переходящий герой. Стиль: короткая, как пощечина, фраза; чистота тона, отсечение всей шелухи полутонов (как у Гогена); ритм, единый музыкальный строй; точная, верная, новая подробность, в то же время переводящая рассказ в иной план, дающая «подтекст», превращающаяся в деталь-знак, деталь-символ; особое внимание к началу и концовке, пока в мозгу не найдены, не сформулированы эти две фразы — первая и последняя — рассказа нет» [10, с. 199].
Между тем, как часто бывает и у всякого большого художника, его теоретические взгляды вступают в противоречие с его эстетической практикой. Автор статьи на конкретных примерах находит отступления Шаламова от своей «теоретической модели». Так, отрицая метод Льва Толстого, в черновиках которого представлено несколько вариантов цвета глаз Катюши Масловой, Шаламов пишет: «Разве для любого героя «Колымских рассказов» — если они там есть — существует цвет глаз? На Колыме не было людей, у которых был бы цвет глаз, и это не аберрация моей памяти, а существо жизни тогдашней» [10, с. 200]. В то же время в ряде его «Колымских рассказов» мы встречаем: «…черноволосый малый, с таким страдальческим выражением черных, глубоко запавших глаз…» («На представку»). «Темно-зеленым, изумрудным огнем ее глаза вспыхивали как-то невпопад, не к месту» («Необращенный») и т.д.
Встречаются в рассказах Шаламова художественные реминисценции и литературные аллюзии. Так, первая фраза рассказа «На представку» — «Играли в карты у коногона Наумова» — очевидная реминисценция из Пушкина (ср. с «Пиковой дамой»: «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова»). Благодаря этому художественному приему, считает автор статьи, документальный материал превращается в образный «узел», в уникальное событие. Социологические характеристики переформатируются в «психологические штрихи поведения персонажей» [10, с. 201].
Основываясь на выводах Игоря Сухих, Елена Михайлик продолжает тему художественных аллюзий Шаламова в статье «Интертекстуальные возможности рассказа «На представку» [15], где подробно рассматривает не только пушкинскую, но и другие классические аллюзии этого рассказа (романы Виктора Гюго, гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки», поэзия Есенина).
Работы другого известного исследователя творчества Варлама Шаламова — Елены Волковой посвящены осмыслению эстетикофилософской и этико-психологической целостности прозы Шала- мова. В статьях «Парадоксы катарсиса Варлама Шаламова» (1996), «Варлам Шаламов: Поединок слова с абсурдом» (1997) «Цельность и вариативность книг-циклов» (1997), «Абрис творчества Варлама Шаламова как эстетического феномена» (2005), в отдельном исследовании «Трагический парадокс Варлама Шаламова» (1998) исследовательница подробно останавливается на особенностях эстетико-философского единства прозаических текстов Варлама Шаламова. Волкова характеризует особенность повествования в «Колымских рассказах» (роль речевых повторов, принципы ритмического повествования), останавливается на позиции рассказчика, художественной детали и многомерности символики в новеллах Шаламова.
Характеризуя композицию «Колымских рассказов», исследовательница отмечает свойственную всем шести циклам композиционную целостность и выстроенность. Одной из главных особенностей большинства её исследований является стремление найти единый смысловой узел, который бы связал эстетику «Колымских рассказов» с диалектичностью их содержания. Этот узел должен стать единым кодом понимания «лагерной прозы» Шаламова.
В монографическом исследовании И.В. Некрасовой «Судьба и творчество Варлама Шаламова» (2003) [7] большое внимание уделено рассмотрению этической и эстетической концепций художника, а также различным аспектам поэтики его прозы. В монографии приводятся неизвестные широкому читателю архивные материалы, рассматриваются особенности «новой прозы» Шаламова в контексте его творчества.
В литературной критике большое внимание занимает вопрос сопоставления художественного опыта двух авторов — Шаламова и Солженицына. В ряде работ, посвященных сопоставлению творчества Солженицына и Шаламова, Солженицына относят к «реальноисторическому направлению» лагерной прозы, то есть к тем писателям, которые стремятся с наибольшей полнотой показать «всю правду» лагерей и тюрем» [7, с. 16]. «Колымские рассказы» Шаламова многие из критиков относят к «экзистенциальному направлению» лагерной прозы, то есть к тому направлению, которое стремится исследовать и осмыслить бытие человека в предельной ситуации. Ша- ламов положил начало второму направлению, поскольку осмысливает опыт Колымы не в традиционных категориях добра и зла, а совсем в иных, запредельных категориях. Данный, сопоставительный, аспект осмысления творческого наследия двух выдающихся писате- лей-современников, заслуживает отдельного рассмотрения.
Помимо литературоведческих работ о Шаламове, которые были проанализированы нами выше, в начале двухтысячных годов появляется ряд биографических и мемуарных книг о писателе. Среди обширной мемуарной литературы нельзя не упомянуть книгу близкого друга помощника Варлама Шаламова — И.П. Сиротинской «Мой друг Варлам Шаламов» (2006) [9]. На страницах своей книги она не только обстоятельно вспоминает встречи с Варламом Шаламовым, приводит личную переписку с писателем, но и касается вопросов, связанных непосредственно с его творчеством, оценкой произведений писателя современной критикой. Исследовательница указывает на парадоксальный успех книг Шаламова за рубежом: «Как ни странно, на Западе он находит больше понимания и признания» [9, с. 167].
В последней главе своей книги, которая носит название «Нет мемуаров, есть мемуаристы», И. Сиротинская делает обзор воспоминаний, появившихся в последние годы о Варламе Шаламове. Автор подробно анализирует заметки людей, которые знали Шаламова, и дает оценку степени достоверности их воспоминаний, вносит ценные уточнения и замечания. Среди имен, которые упоминаются в этой главе — Александр Солженицын, Борис Лесняк, Федор Сучков, Ирина Емельянова, Олег Волков, Сергей Григорянц и другие.
Перу ведущего исследователя биографии и творчества В. Шала- мова — В.В. Есипова принадлежит монография «Варлам Шаламов и его современники» (Вологда, 2008) [4], биографическая книга «Шаламов» в серии «ЖЗЛ» [5] комментарии к составленному им изданию «Колымских рассказов» В. Шаламова [13], а также множество других исследований о творчестве и биографии писателя.
В первой биографической книге о писателе — «Шаламов» (2012) [5] Валерий Есипов повествует о жизненном и творческом пути В. Шаламова в историческом контексте, поскольку, по мнению автора, трагизм жизненной и литературной судьбы выдающегося русского писателя Варлама Шаламова может быть осознан по-настоящему лишь в контексте времени.
Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что «Колымские рассказы» Варлама Шаламова являются предметом пристального рассмотрения отечественных литературоведов. Исследование идейно-художественного своеобразия «новой прозы» Шаламова формируется в различных направлениях: изучение поэтики, исследования в контексте «лагерной прозы», анализ пространственно-временной организации рассказов, выявление особенностей авторской позиции, исследование интертекстуальных связей, жанрового своеобразия, изучение прозы Шаламова с позиции выявления циклических структур.
Литература
1. Берютти М. Крест его судьбы. Шаламовский сборник. Вып. 1. Вологда, 1994. С. 230-235.
2. Волкова Е.В. Трагический парадокс Варлама Шаламова. Москва: Ре-спублика, 1998. 76 с.
3. Геллер М. Последняя надежда. Шаламов В. Колымские рассказы. Париж: УМКА-пресс, 1985
4. Есипов В. Варлам Шаламов и его современники. Вологда, 2008.
5. Есипов В.В. Шаламов. Москва: Молодая гвардия, 2012. 346с.
6. Лейдерман Н. Интернет-источник С. 171-182.
7. Некрасова И.В. Судьба и творчество Варлама Шаламова. Самара: Изд- во СГПУ 2003. 204 с.
8. Сидоров Е. О Варламе Шаламове и его прозе. Огонек.1989. №22.
9. Сиротинская И.П. Мой друг Варлам Шаламов. 2006. 167с.
10. Сухих И. Жить после Колымы. Знамя. 2001. № 6. С. 198-207.
11. Тимофеев Л. Поэтика лагерной прозы./Октябрь, 1991. С.182-195.
12. Шаламов В. Колымские рассказы. Париж: УМКА-пресс, 1985.
13. Шаламов В. Колымские рассказы. Избранные произведения. СПб.: Вита Нова, 2013
14. Шкловский Е.А. Варлам Шаламов. Москва: Знание, 1991. 64 с.
15. Mikhailik E.Potentialities of Intertextuality in the Short Story On Tick Varlam Shalamov: Problems of Cultural Context. In Essays in Poetics, 25. 2000. p. 169-186.
Інформація про автора
Погорєлова Наталія Іванівна — аспірант кафедри світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; вул. Валентинівська, 2, м. Харків, Україна, 61168.
«Поэтика небытия» В. Шаламова: своеобразие хронотопа «Колымских рассказов»
Своеобразие трагедийной проблематики «Колымских рассказов» определяет особенности их поэтики. По мысли В. Шаламова, «новая проза» должна стать отражением и осмыслением нового состояния человека. И как указывает И. Сиротинская, писатель «нашел адекватную жизненному материалу художественную форму»[1]. Поэтому «распадающейся реальности» (В. Шкловский) Колымы соответствуют деформированные пространство и время.
Особенности хронотопа «Колымских рассказов» определены, в частности, в работах В. Френкеля, Л. Тимофеева, Н. Лейдермана, Е. Волковой. В. Френкель считает, что в шаламовской прозе времени нет, оно остановилось[2]. Ту же черту отмечает и Е. Волкова, характеризуя время колымской реальности как «сомкнувшееся до мига»[3]. Л. Тимофеев обозначает художественное время «Колымских рассказов» как «время небытия»[4]. Соответствующие характеристики получает и пространство: «барачно-конвойное, пещерное, провалившееся в вечную мерзлоту», по определению Е. Волковой, «могильно-замкнутое», по словам Л. Тимофеева. Н. Лейдерман назвал мир Колымы «подлинным “театром абсурда”, в котором правит административное безумие»[5].
Смыслообразующая роль пространственно-временных понятий обозначена уже в названии книги – «Колымские рассказы». Писатель дает установку на то, что объектом изображения и осмысления является определенная пространственная реальность, особый мир с характерными для него условиями и законами жизни. Кроме того, пространственная закрепленность действия ориентирует на известную каждому эпоху в истории страны. Актуализация пространственно-временных понятий происходит и в посвящении И. Сиротинской, открывающем один из циклов «Колымских рассказов»: «Ире – мое бесконечное воспоминание, заторможенное в книжке “Левый берег”»[6]. Это посвящение в образной лаконичной форме отражает авторскую установку на определенное восприятие художественной реальности «Колымских рассказов». На наш взгляд, таким образом Шаламов раскрывает значение лагерного опыта: для человека, пережившего ужас Колымы, движение времени осуществляется не в будущее, а в прошлое – именно оно приобретает характер «бесконечного», и бывший лагерник исключается из потока жизни, поскольку единственной реальностью остается прошлое. Определение «заторможенное» актуализирует подлинность жизненного материала шаламовских произведений. Об этом же говорит писатель в эссе «Новая проза», характеризуя свое творчество как «документ, эмоционально окрашенный, в котором течет живая кровь времени»[7].
В художественном мире В. Шаламова происходит разрушение привычной системы пространственно-временных координат: прошлого и будущего для лагерника не существует, а жизнь осуществляется в соответствии с абсурдными законами колымской реальности, когда традиционные количественные измерения оказываются недействительными: часы могут длиться бесконечно, а человеческая жизнь сжимается до минут. Одной из важнейших характеристик «колымского» времени становится то, что его эквивалентом является человеческая жизнь. Не случайно конкретно-исторические характеристики эпохи даются писателем прежде всего в плане экзистенциальном: так, например, в рассказе «Зеленый прокурор» В. Шаламов определяет вторую половину тридцатых годов как «время, когда границы терпения русского человека … испытывались, раздвигались до бесконечности…» (I, с. 529). Пространственные отношения также приобретают экзистенциальное содержание, поскольку единицей измерения служит человек: «Рыбаков лежал между кочками неожиданно маленький. Небо, горы, река были огромны, и бог весть, сколько людей можно уложить в этих горах на тропках между кочками» («Ягоды». I, с. 50).
По мысли В. Шаламова, лагерник – это человек, «проживший тысячу жизней» («Необращенный». I, с. 224), поскольку ему неоднократно приходилось умирать и воскресать, и границы между жизнью и смертью оказываются стертыми. Парадоксальным образом смерть становится для него формой жизни, способом существования: «…смерть, такая близкая совсем недавно, стала понемногy отодвигаться. Не жизнью была смерть, а полусознанием, существованием, которому нет формул, и которое не может называться жизнью» («Сентенция». I, с. 343). В «пограничной ситуации» количественные характеристики времени оказываются относительными: «Месяц, год, десять лет, двадцать лет – все это почти одинаковые по колымским примерам, по северной морали» («Рябоконь». II, с. 141); «В лагере этой лестницы – пять, десять, пятнадцать – нет» («Как это началось». I, с. 370), – неоднократно подчеркивает В. Шаламов. Лагерный срок писатель измеряет «тысячелетиями» («Как это началось». I, с. 368), определяя тем самым масштабы трагедии и выстраивая историю колымского мира.
Иное значение приобретает и время природное, границы которого смещаются, нарушая привычные представления о смене времени суток и времен года: колымское «короткое лето – в холодном, безжизненном воздухе – сухая жара и стынущий холод ночью» («Воскрешение лиственницы». II, с. 260), а «в сорокаградусную дневную жару под ногами арестантов – ледяная вода» («Тачка». II, с. 321). Характеризуя пространство Колымы, Шаламов неоднократно подчеркивал, что «место для лагерей было выбрано гениально». («Зеленый прокурор». I, с. 514). Смещение границ времен года и суток создает представление о законах жизни Колымы, суть которых – в уничтожении человека, и потому нарушение временных границ показано писателем как разрушение жизни. Все сферы лагерного мира, как подчеркивает писатель, объединяет идея смерти. Даже говоря о природе Колымы и олицетворяя ее, Шаламов представляет ее как врага человека: «… все: скалы, повороты ручья, лиственницы, тополя – было угловатым и недружелюбным» («Сентенция». I, с. 344); «И горы, и реки, и болота зимой казались каким-то одним существом, зловещим и недружелюбным» («Татарский мулла и чистый воздух». I, с. 80).
Реальность времени в художественном мире «Колымских рассказов» подменяется субъективным ощущением безвременья:
«Я заметил тогда удивительную вещь – тяжело и мучительно трудно в такой многочасовой работе только первые шесть-семь часов. После этого теряешь представление о времени, подсознательно следя только за тем, чтобы не замерзнуть: топчешься, машешь лопатой, не думая вовсе ни о чем, ни на что не надеясь» («Первая смерть». I, с. 84); «Труден, мучительно труден и тяжел десятый, одиннадцатый час такой «добавочной» работы, а после перестаешь замечать время – и Великое безразличие овладевает тобой – часы идут как минуты, еще скорее минут» («Как это началось». I, с. 367).
Жизнь лагерника осуществляется по законам цикличности, но не естественно-природной, предполагающей смену дня и ночи, времен года, а цикличности, в основе которой – смена удач и неудач, подчиненная случайности:
«Мне оставалось только ждать, пока маленькая неудача сменится маленькой удачей, пока большая неудача исчерпает себя. Ближайшей был конец рабочего дня, три глотка горячего супа – если даже суп будет холодный, его можно подогреть на железной печке, а котелок – трехлитровая консервная банка у меня есть» («Дождь». I, с. 24).
Идея цикличности, повторяемости отражается и на уровне композиции ряда рассказов В. Шаламова. В рассказе «Надгробное слово», например, повествуется о судьбах разных людей, объединенных одним – «все умерли»; в рассказе «Эсперанто» – о тяготах жизни, которыми были отмечены разные годы колымской жизни, и, возвращаясь к современности, повествователь повторяет: «Это было два года назад. И вот – снова» (I, с. 299). Идея повторяемости обнаруживает себя и на сюжетном уровне, поскольку каждый рассказ содержит описание некой «пороговой», «пограничной» ситуации.
Представление о замкнутости лагерного времени дает соотнесение его со временем историческим. В рассказе «Июнь» показано, что начало войны на жизни лагеря отражается только на уровне бытовых отношений: уменьшается с килограмма до пятисот граммов пайка, заключенные снимают колючую проволоку с барака, где жили «враги народа», не состоялась баня для рабочих; этапы войны в рассказе «Май» оказываются отмечены изменением качества хлеба, а о конце войны каторжане узнают лишь неделю спустя, но для героя рассказа эта информация оказывается незначительной: не выдержав жизненных тягот, Андреев поджигает свои ноги.
Замкнутость лагерного времени подчеркивается писателем через указание на одномерность времени героя, для которого не существует представления об духовном измерении жизни. Культурные ценности утратили свое значение («Цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями» («Красный крест». I, с. 385)), а вечный вопрос о смысле жизни становится разрешимым: «Слушайте, – кричал он, – слушайте! Я долго думал! И понял, что смысла жизни нет… Нет…» («Дождь». I, с. 25). Открывшееся лагернику иное измерение жизни пугает его больше, чем нечеловеческие условия существования, а приобщение к нему на языковом уровне показано как безумие:
«Язык мой, приисковый грубый язык, был беден, как бедны были чувства, еще живущие около костей. …я был испуган, ошеломлен, когда в моем мозгу, вот тут – я это ясно помню – под правой теменной костью – родилось слово, вовсе не пригодное для тайги, слово, которого я и сам не понял, не только мои товарищи. Я прокричал это слово, встав на нары, обращаясь к небу, к бесконечности: – Сентенция! Сентенция!» («Сентенция». I, с. 346).
Не случайно шаламовские герои ощущают отчуждение от собственной жизни, от самих себя. Так, герой рассказа «Академик», журналист Голубев, считает себя другим человеком, утверждая, что прежний Голубев умер в тридцать восьмом:
«Я встретил в тайге весну и лето тридцать девятого года и все еще не мог понять, кто я такой, не мог понять, что жизнь моя – продолжается. Как будто умер в золотых забоях “Партизана” в тридцать восьмом году. Прежде всего, надо было узнать, был ли этот тридцать восьмой год? Или этот год бред, все равно чей – мой, твой, истории» («Трансгуляция IIIикласса». II, с. 311).
Соотнесение хронотопов истории и индивидуально-личностного раскрывает представления писателя о характере бытийных отношений, когда человеческую судьбу и историю объединяет отсутствие смысла. Смещение масштабов личного и исторического также имеет концептуально важное значение, поскольку отражает изменение иерархии: по отношению к истории и к человеку «бред» занимает доминирующее положение, следовательно, является безусловной характеристикой бытия.
Одной из важнейших характеристик хронотопа «Колымских рассказов» является его организация по принципу сопоставления «снаружи/внутри». Писатель подчеркивает, что под воздействием абсурда внешних условий, «фантастической реальности», трагически деформируется внутренний мир человека – изменяется система ценностей, представления о нравственности, ограничиваются душевные и интеллектуальные возможности. Единственной реальностью, единственным «пространством жизни» для лагерника становится тело. Парадоксальным образом именно сфера телесного у шаламовского героя оказывается незамкнутой, именно в ней возможен выход за пределы ограниченного существования – процесс еды показан писателем как одухотворяющий, а инстинкт жизни, составляя экзистенциальную подоснову жизни человека, обнаруживает его родство с природным миром: «Человек живет не потому, что во что-то верит, на что-то надеется, инстинкт жизни хранит его, как хранит любое животное, любое дерево, камень, собаку» («Сентенция». I, с. 159). Шаламовым трагически осмысляется низведение человека до уровня физиологического, животного существования, но в то же время это позволяет определить некие бытийные константы. Поэтому индивидуальный жизненный опыт в «Колымских рассказах» приобретает бытийное измерение.
Абсурдные трансформации происходят и в отношении художественного пространства: принцип его организации отражает идею тотальной ограниченности лагеря. При этом замкнутое тюремное пространство оказывается более свободным и в духовном, и в физическом смысле в соотнесении с лагерным и даже с жизнью на воле. Замкнутость лагерного пространства подчеркивается при описании различных по масштабу сфер действительности. Колыма – это «огромная каменная тюрьма величиной в одну восьмую часть Советского Союза» («Зеленый прокурор». I, с. 325). Замкнутым, ограниченным является и природное пространство, лишенное животворящей силы солнца: мир Колымы по гружен в белую мглу, «которой было закрыто небо и наполнена наша ночь…» («Погоня за паровозным дымом». I, с. 573). Лагерь включает разные по масштабу реальности, подчиненные тем же законам организации. Пространство, занимаемое человеком, – «тюремная камера, арестантский вагон, барачная теснота…» («Тайга золотая». I, с. 96). Образ «тесноты», имеющий разные масштабные характеристики, является константным при описании колымской реальности, а художественное пространство организуется по принципу включения одной сферы в другую. Так, в рассказе «У стремени» писатель обнажает иллюзорность «свободы» лагеря по сравнению с тюрьмой: кажущееся свободным пространство на самом деле является «зоной охраны» и находится
«в кольцевой опояске караульных вышек, расположенных в тайге. <…> А за кольцом вышек другое кольцо таежных секретов патрулей, оперативников. Да еще летучие контрольные патрули проверяют друг друга» (I, с.219).
Это мир, в котором действует иная система координат, иные пространственные отношения, пространственно-временные связи: «Пространство и время на Крайнем Севере – величины схожие. Часто пространство меряют временем…», – пишет В. Шаламов («Женщина блатного мира». II, с. 38). Взаимозаменяемость времени и пространства отражает бытийные трансформации: время застывает, заменяясь длительностью, определяемой пространственно, а детали пространства, приобретают временное значение:
«Мир бараков был сдавлен тесным горным ущельем. Ограничен небом и камнем. Прошлое здесь являлось из-за стены, двери, окна; внутри никто ничего не вспоминал. Внутри был мир настоящего, мир будничных мелочей, который даже суетным, нельзя было назвать, ибо этот мир зависел от чьей-то чужой, не нашей воли» («Храбрые глаза». II, с. 124).
Абсурдные трансформации, как показывает писатель, характерны и для жизненного пространства страны в целом, поскольку мир «зоны», являясь отражением законов, по которым существует государство, разрастается до размеров страны. По мысли В. Шаламова, не только лагерь подобен воле, но и воля подобна лагерю, и отличие состоит лишь в кажущейся свободе, поскольку тоталитарный режим подлинной свободы не предполагает. Один из героев обнаруживает сходство этих миров на уровне архитектуры:
« …я подумал, что знаю только кусочек этого мира, отгороженный проволочной зоной с караульными вышками, напоминающими шатровые строения градостроительства Москвы. Высотные здания Москвы – это караульные вышки, охраняющие московских арестантов, – вот как выглядят эти здания. И у кого был приоритет – у Кремлевских ли башен-караулок или у лагерных вышек, послуживших образцом для московской архитектуры. Вышка лагерной зоны – вот была главная идея времени, блестяще выраженная архитектурной символикой» («По лендлизу». I, с. 341).
Поскольку архитектура является отражением порядка жизни, то и выражает его содержание. «Мироподобие» лагеря, с одной стороны, раздвигает границы лагерного пространства до размеров государства, а с другой – ограничивает, сужает пространство реальное, превращая страну в «зону», огороженную «колючей проволокой» страха и тоталитарных запретов.
Если время героя в «Колымских рассказах» является замкнутым, лишенным перспективы, когда динамика ощущается лишь как движение к небытию, то время автора представляет собой нравственно-оценочную перспективу, позволяющую с позиций лагерного опыта пересмотреть значение вневременных ценностей. Авторскую позицию определяет стремление осмыслить трагический жизненный опыт через призму вечных ценностей и пересмотреть важнейшие бытийные законы, опровергнув, например, дарвинское представление об эволюции. По убеждению Шаламова, не разум, не особенности физического строения организма, не духовность поставили человека на высшую ступень эволюционной лестницы:
«…человек стал человеком не потому, что он божье создание, и не потому, что у него удивительный большой палец на каждой руке. А потому, что он был физически крепче, выносливее всех животных, а позднее потому, что заставил свое духовное начало успешно служить началу физическому» («Дождь». I, с. 24).
Шаламовым переосмыслено и представление о труде как двигателе эволюции. Каторжный труд не только не способствует развитию человека, но и заставляет эволюционный процесс двигаться в обратном направлении:
«За полтора года работы на прииске обе кисти рук согнулись по толщине черенка лопаты или кайла и закостенели, как казалось Андрееву, навсегда. <…> Кисть руки, живая, была похожа на протез-крючок. Она выполняла только движения протеза. Кроме этого, ею можно было креститься, если бы Андреев молился богу. Но ничего, кроме злобы, не было в его душе» («Тифозный карантин». I, c. 160).
Анализируя «пограничное» существование лагерника, В. Шаламов осмысляет бытийные проблемы. Вопрос о смысле жизни решается им однозначно: «Разумного основания у жизни нет – вот что доказывает наше время» («Дождь». I, с. 27). Если шаламовскому герою лагерь кажется кошмарным сном, чем-то ирреальным («Все было, как бы чужое, слишком страшное, чтобы быть реальностью» («Как это началось». I, с. 369)), то с позиции автора, с точки зрения, предусматривающей философски-обобщающую оценочность, лагерная жизнь воспринимается как абсолютно реальная, поскольку именно она дает истинное знание бытийных законов. Поэтому о жизни поэта в рассказе «Шерри-бренди» Шаламов пишет: «Вся его прошлая жизнь была литературой, сказкой, сном, и только настоящий день был подлинной жизнью» (I, с. 57). Не случайно именно лиственницу, дерево, являющееся символом лагерной жизни и способное воскресать, считает писатель библейским деревом познания:
«Лиственница жива, лиственница бессмертна, это чудо воскрешения не может не быть <…> Лиственница – дерево очень серьезное. Это дерево познания добра и зла – не яблоня, не березка! – дерево, стоящее в райском саду до изгнания Адамы и Евы из рая» («Воскрешение лиственницы». II, с. 258–259).
Установка на достоверность, на подлинное знание писателем того жизненного материала – еще один важный вывод, сделанный писателем на основе осмысления своего лагерного опыта. Произведения литературы прошлого (в частности, Достоевского) переоцениваются с точки зрения подлинного знания жизни: «Писатель пишет на языке тех, от имени которых он говорит. И не больше. Если же писатель знает материал слишком хорошо, те, для которых он пишет, не поймут писателя. Писатель изменил, перешел на сторону своего материала.
«Не надо знать материал слишком. Таковы все писатели прошлого и настоящего, но проза будущего требует другого. Заговорят не писатели, а люди профессии, обладающие писательским даром. И они расскажут только о том, что знают, видели. Достоверность – вот сила литературы будущего» («Галстук». I, с. 90).
Таким образом, характеризуя время автора в «Колымских рассказах», следует отметить, что, в отличие от ограниченного моментом настоящего времени героя, оно имеет открытый характер. Несмотря на то, что автор часто находится в одной пространственно-временной и этической плоскости с героем, он осуществляет проекции в прошлое и будущее. Однако ценностным центром для автора «Колымских рассказов» является лагерный опыт, и временная перспектива служит для переоценки, перепроверки устоявшихся истин прошлого и определения значимости полученного знания о жизни для будущего. Характер временной перспективы у Шаламова изменяется: ценности культуры и науки уже не являются абсолютом, в сопоставлении с которым определяется значимость настоящего. Напротив, лагерный опыт становится способом проверки истин, казавшихся незыблемыми.
Таким образом, организация хронотопа в «Колымских рассказах» получает ценностное измерение, а пространственно-временные обозначения, осмысленные в соотношении с человеческим существованием, приобретают экзистенциальную значимость, становясь «деталями-знаками», «деталями-символами», которые, по мысли В. Шаламова, являются характерными чертами «новой прозы». Реалистический и символический планы совмещаются, поскольку конкретные пространственно-временные характеристики получают в «Колымских рассказах» философски-символическое значение.
Варлам Шаламов в контексте мировой литературы и советской истории. Сборник трудов международной научной конференции. Сост. и ред. С.М.Соловьев. М.: Литера, 2013. С. 278-284.
Все права на распространение и использование произведений Варлама
Шаламова принадлежат А.Л.Ригосику, права на все остальные материалы
сайта принадлежат авторам текстов и редакции сайта shalamov.ru. Использование
материалов возможно только при согласовании с редакцией ed@shalamov.ru.
Сайт создан в 2008-2009 гг. на средства гранта РГНФ № 08-03-12112в.
Елена Фролова. Поэтика «Колымских рассказов»
Статья размещена на малоизвестном интернет-ресурсе в расширении pdf, дублирую здесь.
Лагерь как Дьявол, лагерь как Абсолютное Мировое Зло.
_________
Поэтика «Колымских рассказов» В. Шаламова (в рамках подготовки к ЕГЭ по литературе 2022)
Написав шесть художественно-прозаических циклов «Колымских рассказов» (1954–1974), Шаламов пришёл к парадоксальному выводу: «Неописанная, невыполненная часть моей работы огромна… да и самые лучшие Колымские рассказы – всё это лишь поверхность, именно потому, что доступно описано» (6:58). Мнимая простота и доступность – это ошибочное представление о философской прозе автора. Варлам Шаламов – это не только писатель, засвидетельствовавший о преступлении против личности, но это и талантливый писатель с особым стилем, с «уникальной ритмикой прозы, с новаторской новеллистичностью, со всепроникающей парадоксальностью, с амбивалентной символикой и блестящим владением словом в его смысловом, звуковом облике и даже в начертательной конфигурации» (1:3).
В этом отношении показательна простота и ясность слова В. Т. Шаламова, его стиля и воссоздаваемого им страшного мира Колымы, мира, по мнению М. Золотоносова, «представленного как таковым, без художественной линзы» (3:183) Н. К. Гей замечает, что художественное произведение «не сводимо к логически законченным интерпретациям» (1:97)
Исследуя виды словесных образов в «Колымских рассказах» В. Шаламова такие, как: ЛЕКСИЧЕСКИЙ (слово-образ), ПРЕДМЕТНЫЙ (деталь), ХАРАКТЕР (образ-персонаж) представим ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК «ОБРАЗ МИРА», ибо образы каждого последующего уровня возникают на основе образов предшествующих уровней. Сам В. Т. Шаламов писал так: «Проза будущего кажется мне прозой простой, где нет никакой витиеватости, с точным языком, где лишь время от времени возникает новое, – впервые увиденное, – деталь или подробность, описанная ярко. Этим деталям читатель должен удивиться и поверить всему рассказу» (5:66). Выразительность и точность бытового рельефа в рассказах писателя снискали ему славу документалиста Колымы. В тексте очень много таких деталей, на пример, рассказ «Плотники», в котором говорится о суровой реальности лагерного быта, когда заключённых заставляли работать даже в самые суровые морозы. «Выходить на работу приходилось в любые градусы. К тому же старожилы почти точно определяли мороз без градусника: если стоит морозный туман, значит, на улице сорок градусов ниже нуля; если воздух при дыхании выходит с шумом, но дышать ещё не трудно – значит, сорок пять градусов; если дыхание шумно и заметна одышка – пятьдесят градусов. Свыше пятидесяти пяти градусов – плевок замерзает на лету. Плевки замерзали на лету уже две недели» (5:23). Так одна художественная деталь «плевок замерзает на лету» говорит о многом: о нечеловеческих условиях существования, о беспросветности и отчаянии человека, оказавшегося в чрезвычайно жестоком мире колымских лагерей. Или другой рассказ, «Шерри-бренди», в котором автор, как кажется, бесстрастно описывает медленное умирание поэта от голода: «Жизнь входила в него и выходила, и он умирал… К вечеру он умер.» (5:75) Только в самом конце произведения появляется одна красноречивая деталь, когда изобретательные соседи списывают его на два дня позднее, чтобы получать на него хлеб, как на живого «…мертвец поднимал руку, как кукла-марионетка» (5:76) Эта деталь ещё с большей силой подчёркивает абсурдность существования человека в условиях лагеря. Е. Шкловский писал, что в «Вишере» деталь имела отчасти «вспоминательный» характер, а в «Колымских рассказах» она становится «глыбой» (7:64) Кажется, что абсурд и парадоксальность происходящего возрастают от страницы к странице. В рассказе «В бане» автор с горькой иронией замечает: «Мечта о том, чтобы вымыться в бане, — неосуществимая мечта» (5:80) и при этом использует детали, которые убедительно об этом говорят, ибо после помывки все «скользкие, грязные, вонючие» (5:85).
В. Т. Шаламов отрицал подробную описательность и традиционное создание характеров. Вместо этого – точно отобранные детали, которые создают многомерную психологическую атмосферу, окутывающую весь рассказ. Или одна-две детали, данные крупным планом. Или же растворённые в тексте, поданные без назойливой фиксации детали-символы. Так запоминается красный свитер Гаркунова, на котором не видна кровь убитого («На представку»); синее облачко над белым блестящим снегом, которое висит после того, как человек, протаптывающий дорогу, ушёл дальше («По снегу»); белая наволочка на перьевой подушке, которую мнёт руками врач, что доставляет «физическое наслаждение» рассказчику, не имевшему ни белья, ни такой подушки, ни наволочки («Домино»); концовка рассказа «Одиночный замер», когда Дугаев понял, что его расстреляют, и «пожалел, что напрасно проработал, напрасно промучился этот последний сегодняшний день». У Варлама Шаламова почти каждая деталь строится либо на гиперболе, либо на сравнении, либо на гротеске: «Крики конвоиров подбодряли нас, как плети» («Как это началось»); «Неотапливаемые сырые бараки, где во всех щелях изнутри намерзал толстый лёд, будто какая-то огромная стеариновая свеча оплыла в углу барака» («Татарский мулла и свежий воздух»); «Тела людей на нарах казались наростами, горбами дерева, выгнувшейся доской» («Тифозный карантин»); «Мы шли по тракторным следам, как по следам какого-то доисторического животного» («Сухим пайком»).
Мир ГУЛАГа антагоничен, истина диалектична, в этом контексте применение писателем приёма контраста, оппозиционности становится одним из ведущих приёмов. Это способ приближения к непростой истине. Использование контраста в деталях производит неизгладимое впечатление и усиливает эффект абсурдности происходящего. Так в рассказе «Домино» лейтенант танковых войск Свечников ест мясо трупов людей из морга, но при этом он «нежный розовощёкий юноша» (5:101), лагерный коногон Глебов в другом рассказе забыл имя своей жены, а «в прежней вольной жизни был профессором философии» (6:110), коммунисту – голландцу Фрицу Давиду в рассказе «Марсель Пруст» из дома высылают «бархатные брюки и шёлковый шарф» (5:121), а он умирает от голода в этой одежде.
Контраст в деталях становится выражением шаламовской убеждённости, что нормальный человек не в состоянии противостоять аду ГУЛАГа.
Таким образом, художественная деталь в «Колымских рассказах», отличаясь своей описательной яркостью, часто парадоксальностью, вызывает эстетическое потрясение, взрыв и ещё раз свидетельствует о том, что «жизни нет и не может быть в условиях лагеря».
О наличии в творчестве Шаламова элементов медиевального сознания писала израильская исследовательница Леона Токер. Рассмотрим, как на страницах «Колымских рассказов» появляется Дьявол. Вот отрывок из описания блатного карточного поединка в рассказе «На представку»: «Новенькая колода карт лежала на подушке, и один из играющих похлопывал по ней грязной рукой с тонкими белыми нерабочими пальцами. Ноготь мизинца был сверхъестественной длины… Холёный жёлтый ноготь поблёскивал как драгоценный камень». (5:129) У этой физиологической странности есть и бытовое внутрилагерное объяснение – чуть ниже рассказчик добавляет, что такие ногти предписывались тогдашней уголовной модой. Можно было бы счесть эту семантическую связь случайной, но отполированный до блеска коготь уголовника не исчезает со страниц рассказа.
Далее, по мере развития действия, этот образ ещё насыщается элементами фантастики: «Ноготь Севочки вычерчивал в воздухе замысловатые узоры. Карты то исчезали в его ладони, то появлялись снова…» (5:145). Не забудем также о неизбежных ассоциациях, связанных с темой карточной игры. Партия в карты с чёртом в качестве партнёра – «бродячий» сюжет, характерный для европейского фольклора и часто встречающийся в литературе. В средние века считалось, что и сами карты – изобретение Дьявола. В предкульминационный момент рассказа «На представку» противник когтистого Севочки ставит на кон и проигрывает «…какой-то украинский рушник с петухами, какой-то портсигар с вытисненным портретом Гоголя» (5:147). Эта прямая апелляция к украинскому периоду творчества Гоголя соединяет «На представку» с пропитанными самой невероятной чертовщиной «Вечерами на хуторе близ Диканьки». Так в одном из рассказов этого сборника «Пропавшая грамота» казак вынужден играть в карты на свою душу с ведьмами и чертями. Таким образом, ссылки на фольклорный источник и литературные произведения вводят картёжника в инфернальный ассоциативный ряд. В упомянутом выше рассказе дьявольщина словно возникает из лагерного быта и представляется читателю естественным свойством местной вселенной. Дьявол «Колымских рассказов является бесспорным элементом мироздания, настолько не выделенным из окружающей среды, что его деятельное присутствие обнаруживается лишь на изломах, на стыках метафор.
«Золотой забой из здоровых людей делал инвалидов в три недели: голод, отсутствие сна, многочасовая тяжёлая работа, побои. В бригаду включались новые люди, а молох жевал» (5:23).
Обратим внимание, что слово «молох» употребляется рассказчиком не как имя собственное, а как имя нарицательное, интонационно оно никак не выделено из текста, как будто это не метафора, а название какого-нибудь реально существующего лагерного механизма или учреждения. Вспомним произведение «Молох» А. И. Куприна, где кровожадное существо пишется с заглавной буквы и используется как имя собственное. Лагерный мир отождествляется не только с владениями Дьявола, но и с самим Дьяволом.
Следует отметить ещё одну важную особенность: лагерь «Колымских рассказов» является адом, небытием, безраздельным царством дьявола как бы сам по себе – его инфернальные свойства не находятся в прямой зависимости от идеологии его создателей или предшествовавшей волны социальных потрясений. Шаламов не описывает генезис лагерной системы. Лагерь возникает одномоментно, вдруг, из ничего и даже физической памятью, даже болью в костях уже невозможно определить, «…в какой из зимних дней изменился ветер и всё стало слишком страшным…» (5:149). Лагерь «Колымских рассказов» един, целен, вечен, самодостаточен, неуничтожим – ибо однажды приплыв к этим доселе неизвестным берегам, нанеся их очертания на карту, мы уже не в состоянии стереть их ни из памяти, ни с поверхности планеты – и совмещает в себе традиционные функции ада и дьявола: пассивного и активного злого начала.
Дьявол возник в средневековом менталитете как персонификация сил зла. Вводя в «Колымские рассказы» образ дьявола, Шаламов использовал эту средневековую метафору по своему прямому назначению. Он не просто объявлял лагерь злом, но утверждал факт существования зла, зла, автономного, присущего человеческой природе. Чёрно-белое апокалиптическое средневековое мышление оперировало категориями, при помощи которых автор «Колымских рассказов» мог осознать и описать «доселе не виданный в веках и тысячелетиях грандиозный разлив зла» (4:182). Сам Варлам Тихонович Шаламов в одном из программных стихотворений отождествляет себя с протопопом Аввакумом, образ которого давно стал в русской культуре одновременно и символом средневековья, архаики, и символом непреклонного противостояния злу.
Таким образом, лагерь в представлении Варлама Шаламова является не злом и даже не однозначным беспримесным злом, но воплощением Абсолютного Мирового Зла, той степенью зла, для воспроизведения которой потребовалось вызвать на страницы «Колымских рассказов» образ средневекового дьявола, ибо её невозможно было описать в других категориях.
Творческая манера писателя предполагает процесс самопроизвольной кристаллизации метафор. Автор не оглушает читателя заявлением, что действие происходит в аду, но ненавязчиво, деталь за деталью, выстраивает ассоциативный ряд, где появление тени Данте выглядит естественным, даже само собой разумеющимся. Подобное кумулятивное смыслообразование является одной из опорных характеристик художественной манеры Шаламова. Рассказчик точно описывает детали лагерного быта, у каждого слова есть жёсткое, закреплённое, словно вмурованное в лагерный контекст значение. Последовательное перечисление документальных подробностей составляет связный сюжет. Однако, текст очень быстро вступает в стадию перенасыщения, когда казалось бы несвязанные и вполне самостоятельные детали начинают уже словно сами по себе образовывать сложные, неожиданные соединения, в свою очередь формирующие мощный ассоциативный поток, параллельный буквальному значению текста. В этом потоке всё: предметы, события, связи между ними – изменяется в самый момент возникновения на страницах рассказа, превращаясь в нечто иное, многозначное, нередко чуждое естественному человеческому опыту. Возникает «эффект Большого Взрыва» (7:64), когда непрерывно формируется подтекст, ассоциации, когда кристаллизуются новые смыслы, где образование галактик представляется непроизвольным, а семантический континуум ограничен лишь объёмом ассоциаций, возможных для читателя-интерпретатора. Сам В. Шаламов ставил перед собой очень трудные задачи: вернуть пережитое чувство, но одновременно – не быть во власти материала и диктуемых им оценок, слышать «тысячу правд» (4:182) при верховенстве одной правды таланта.
Использованная литература
Волкова, Е.: Варлам Шаламов: поединок слова с абсурдом. In: Вопросы литературы 1997, № 2, с. 3.
Гей, Н.: Соотношение факта и идеи как проблема стиля. In: Теория литературных стилей. М., 1978. С. 97.
Золотоносов, М.: Последствия Шаламова. In: Шаламовский сборник 1994, № 1, с. 183.
Тимофеев, Л.: Поэтика лагерной прозы. In: Октябрь 1991, № 3, с. 182.
Шаламов, В.: Избранное. «Азбука-классика», Спб. 2002. С. 23, 75, 80, 85, 101, 110, 121, 129, 145, 150.
Шаламов, В.: О моей прозе. In: Новый мир 1989, № 12, с. 58, 66.
Шкловский, Е.: Варлам Шаламов. М., 1991. С. 64.
Елена Фролова, Россия, Пермь
_________
В числе литературных величин, открытых эпохой гласности, имя Варлама Шаламова, на мой взгляд, — одно из самых трагических имен в отечественной литературе. Этот писатель оставил потомкам поразительное по глубине художественности наследие — «Колымские рассказы», произведение о жизни и человеческих судьбах в сталинском ГУЛАГе. Хотя слово «жизнь» неуместно, когда речь идет о картинах существования человека, изображенных Шаламовым.
Часто говорят о том, что «Колымские рассказы» — попытка писателя поставить и решить самые важные нравственные вопросы времени: вопрос о правомерности борьбы человека с государственной машиной, возможности активно влиять на свою судьбу, о путях сохранения человеческого достоинства в нечеловеческих условиях. Мне же представляется иначе задача писателя, изображающего ад на земле под названием «ГУЛАГ».
Думаю, произведение Шаламова — пощечина обществу, допустившему подобное. «Колымские рассказы» — плевок в лицо сталинскому режиму и всему, что олицетворяет эту кровавую эпоху. О каких путях сохранения человеческого достоинства, о которых якобы говорит Шаламов в «Колымских рассказах», можно говорить на данном материале, если сам писатель спокойно констатирует тот факт, что все человеческие понятия — любовь, уважение, сострадание, взаимовыручка — казались узникам «комическими понятиями». Он не ищет путей сохранения этого самого достоинства, заключенные просто не помышляли об этом, не задавались такими вопросами. Остается поражаться тому, насколько нечеловеческие были условия, в которых оказались сотни тысяч невинных людей, если каждая минута «той» жизни была наполнена мыслями о еде, одежде, которую можно добыть, сняв ее с недавно умершего.
Думаю, вопросы управления человека собственной судьбой и сохранения достоинства применимы скорее к творчеству Солженицына, который также писал о сталинских лагерях. В произведениях Солженицына персонажи действительно размышляют о вопросах нравственных. Сам Александр Исаевич говорил о том, что его герои поставлены в более мягкие условия, нежели герои Шаламова, и объяснял это разными условиями заключения, в которых оказались они, авторы-очевидцы.
Сложно представить, какого душевного напряжения стоили Шаламову эти рассказы. Хотелось бы остановиться на композиционных особенностях «Колымских рассказов». Сюжеты рассказов на первый взгляд несвязанны между собой, тем не менее они являются композиционно целостными. «Колымские рассказы» состоят их 6 книг, первая из которых так и называется — «Колымские рассказы», далее примыкают книги «Левый берег», «Артист лопаты», «Очерки преступного мира», «Воскрешение лиственницы», «Перчатка, или КР-2».
Книга «Колымские рассказы» включает 33 рассказа, располагающихся в строго определенном порядке, но не привязанным к хронологии. Это построение направлено на то, чтобы изобразить сталинские лагеря в истории и развитии. Таким образом, произведение Шаламова представляет собой не что иное, как роман в новеллах, несмотря на то, что автор неоднократно заявлял о смерти в XX веке романа как литературного жанра.
Повествование в рассказах ведется от третьего лица. Главные герои рассказов — разные люди (Голубев, Андреев, Крист), но все они чрезвычайно близки автору, поскольку напрямую причастны к происходящему. Каждый из рассказов напоминает исповедь героя. Если говорить о мастерстве Шаламова — художника, о его манере изложения, то следует отметить, что язык его прозы — простой, предельно точный. Интонация повествования — спокойная, без надрыва. Сурово, лаконично, без каких-либо попыток психологического анализа, даже где-то документально писатель говорит о происходящем. Думаю, Шаламов добивается ошеломляющего воздействия на читателя путем контраста спокойствия неспешного, спокойного повествования автора и взрывного, ужасающего содержания.
Главный образ, объединяющий все рассказы — образ лагеря как абсолютного зла. «Лагерь — ад» — постоянная ассоциация, приходящая на ум во время прочтения «Колымских рассказов». Это ассоциация возникает даже не потому, что постоянно сталкиваешься с нечеловеческими муками заключенных, но и потому, что лагерь представляется царством мертвых. Так, рассказ «Надгробное слово» начинается со слов: «Все умерли…» На каждой странице встречаешься со смертью, которую здесь можно назвать в числе главных героев. Всех героев, если рассматривать их в связи с перспективой смерти в лагере, можно разделить на три группы: первая — герои, которые уже умерли, а писатель вспоминает о них; вторая — те, которые умрут почти наверняка; и третья группа — те, которым, возможно, повезет, но это не наверняка. Это утверждение становится наиболее очевидным, если вспомнить о том, что писатель в большинстве случаев рассказывает о тех, с кем встречался и кого пережил в лагере: человека, расстрелянного за невыполнение плана его участком, своего однокурсника, с которым встретились через 10 лет в камере Бутырской тюрьмы, французского коммуниста, которого бригадир убил одним ударом кулака…
Но смерть не самое страшное, что может случиться с человеком в лагере. Чаще она становится спасением от мук, для того, кто умер, и возможностью извлечь какую-либо выгоду, если умер другой. Здесь стоит вновь обратится к эпизоду раскапывания лагерниками из промерзшей земли только что захороненного трупа: все, что при этом испытывают герои — радость оттого, что белье мертвого можно будет завтра поменять на хлеб и табак («Ночь»),
Основное чувство, которое толкает героев на кошмарные поступки — чувство постоянного голода. Это чувство — самое сильное из всех чувств. Еда — то, что поддерживает жизнь, поэтому писатель обстоятельно описывает процесс принятия пищи: заключенные едят очень быстро, без ложек, через борт тарелки, вылизывая дочиста языком ее дно. В рассказе «Домино» Шаламов изображает юношу, который ел мясо человеческих трупов из морга, вырубая «не жирные» куски человечины.
Шаламов рисует быт заключенных — еще один круг ада. Жилищем заключенным служат огромные бараки с многоэтажными нарами, где размещаются по 500—600 человек. Заключенные спят на матрасах, набитых сухими ветками. Везде полная антисанитария и, как следствие, болезни.
Шаламова рассматривает ГУЛАГ как точную копию модели тоталитарного сталинского общества: «…Лагерь — не противопоставление ада раю. а слепок нашей жизни… Лагерь… мироподобен».
В одной из тетрадей-дневников 1966 года Шаламов так объясняет задачу, поставленную им в «Колымских рассказах»: «Я пишу не для того, чтобы описанное не повторилось. Так не бывает… Я пишу для того, чтобы люди знали, что пишутся такие рассказы, и сами решились на какой-нибудь достойный поступок…»
«Колымские рассказы» — это не просто цикл рассказов и очерков, повествующих о жизни заключенных в исправительно-трудовых лагерях, это также столкновение Колымы и культуры, человека и государственной машины, Слова и злобы. В работе прокомментирован каждый тезис главным образом на примерах из нескольких рассказов: «На представку», «Кант», «Шерри-бренди».
Содержимое публикации
Ведерникова П.Н., РИЛ-1601
Поэтика «Колымских рассказов» Варлама Шаламова
«Колымские рассказы» — это не просто цикл рассказов и очерков, повествующих о жизни заключенных в исправительно-трудовых лагерях, это также столкновение Колымы и культуры, человека и государственной машины, Слова и злобы. Далее попробуем прокомментировать каждый тезис главным образом на примерах из нескольких рассказов: «На представку», «Кант», «Шерри-бренди».
Столкновение Колымы и культуры? Что мы имеем ввиду? Н.Л.Лейдерман в своей работе1 справедливо отмечает, что «подходить к «Колымским рассказам», как к Искусству, страшно». Однако этот цикл, несомненно, есть искусство — самое великое и самое большое, переведенное в документальность2. Стоит, конечно, уточнить, что эта документальность предполагает авторскую достоверность, «выстраданность», без нарочитых украшений.
Интересно проследить то, как культура и Колыма взаимно проверяют друг друга3. В какой-то момент, конечно, кажется, что победу одерживает Колыма, ведь все литературное здесь используется совсем иначе. Так, например, хорошие книги превращаются в хорошие карты: «Сегодняшние карты были только что вырезаны из томика Виктора Гюго – книжка была кем-то позабыта вчера в конторе»4. Фигура Есенина – единственная фигура, которая почитается арестантами: «цитату из Есенина, единственного поэта, признанного и канонизированного преступным миром»5. А фамилия известного немецкого философа становится обозначением легкой, временной работы: «Кант» – это широко распространенный лагерный термин»6. В конечном итоге, даже поэт умирает7. Но поэт – человек, которому отведено определенное время, который состоит из плоти, которого можно «сломать», убить, погубить, однако, это же нельзя сделать с его искусством: «Он верил в бессмертие своих стихов».8
В конечном итоге, оказывается, что культура побеждает, потому как побеждает Слово. Возрождение Слова есть внутренняя свобода, свобода души человека. Главная цель героев «понимающих» сохранить эту способность к мысли, к Слову. Вместе со Словом человек восстанавливает человеческий облик. Заслуживает особого внимания анализ этой трансформации у Н.Л.Лейдермана. Схематически ее можно было бы изобразить так: злоба – равнодушие – бесстрашие – жалость и уже затем, самое высшее – слово. Главным хранителем Слова является повествователь, он «субъект повествования», провожатый читателей в мир лагерей. Арестантские термины и понятия он обязательно заключает в кавычки, как слово чужое, иностранное. Например, «Кант», «припухает», «фиксы», «превосходно исполняет» и так далее. Интересно, что цитаты из произведений поэтов не омрачаются кавычками, а провозглашаются «главными», начинает повествователь их с красной строки:
Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые.
Даже графически искусство Слова побеждает над искусством мира античеловеческий условий. Говоря же об образе мира, стоит заметить, что архипелаг лагерей – это образ, который способен эпически развиваться. Всё подчиняется «специфике» этого мира: и природа, и люди, и мысли. Внешность людей, само собой, тоже: «Ноготь мизинца был сверхъестественной длины – тоже блатарский шик», но, что более примечательно: моральное составляющее человека тоже подчиняется этому миру расчеловечения. Кто-то остается со Словом, а кто-то становится чесальщиком пяток.
Отметим также, что ГУЛАГ является символом целой страны, которая под давлением государственной машины превратилась в архипелаг лагерей, лагерей страданий, боли. Но есть и периферийное место, где свобода не латентна, еще ощущается, и это пересыльный барак, в котором было суждено умереть поэту: ««транзитке», как любовно выговаривали здешние жители. Она была преддверием ужаса, но сама ужасом не была. Напротив, здесь жил дух свободы, и это чувствовалось всеми. Впереди был лагерь, позади – тюрьма»9.
Оценивая же время, можно сказать, что оно неестественное, ненормальное, странное. У героев есть жизнь первая и та, что теперь (немногие ее и жизнью назовут): «В своей первой жизни Фризоргер был пастором», «Платонов, киносценарист в своей первой жизни».
И весь мир Колымы строится на антитезе. Так, например, образу «чесальщика» явно противопоставляется стланик, самое почитаемое дерево: «из всех северных деревьев я больше других любил стланик, кедрач»10. И это не просто любимое дерево, это дерево-символ мужества, стойкости и благородства: «Он неприхотлив и растёт, уцепившись корнями за щели в камнях горного склона. Он мужествен и упрям, как все северные деревья. Чувствительность его необычайна»11.
Вероятно, ярче всего мастерство В. Шаламова проявляется в изображении деталей:«Сашка растянул руки убитого, разорвал нательную рубашку и стянул свитер через голову.Свитер был красный, и кровь на нем была едва заметна. Севочка бережно, чтобы не запачкать пальцев, сложил свитер в фанерный чемодан». И деталь эта кажется абсолютно абсурдной, если быть точнее, то абсурдная деталь абсурдного мира. Весь эпизод игры в карты становится чем-то демоническим, существует прямая апелляция к Н.В.Гоголю, к его чертовщине в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», но когтистый дьявол Колымы обусловлен миром, в котором существует, поэтому не выглядит как что-то сверхфантастическое.
Такой же ирреальной предстает деталь смерти поэта: «Но списали его на два дня позднее, – изобретательным соседям его удавалось при раздаче хлеба двое суток получать хлеб на мертвеца; мертвец поднимал руку, как кукла-марионетка»12. Таким образом, детали подчеркивают абсурдность не только всего мироустройства ГУЛАГа, но и существования в нем человека. Жизни там нет и не может быть. Это также доказывают и другие детали, которые чаще всего строятся на гиперболе или сравнении. Читатель обязательно «увидит» и плевки, которые замерзают на лету, и белую наволочку, крики конвоиров, которые как плети и др.
В этом ирреальном мире высшая награда – баня, а чудом является обычный хлеб, а если быть точнее мимолетное чувство «неголода»: «Кусок хлеба растаял, исчез, и это было чудо – одно из многих здешних чудес»13.
Современному человеку, кажется, этого совсем не понять, но также и не понять, как лучшие умы оказывались в лагерях, как и почему эти лагеря вообще существовали, почему государство уничтожало своих людей? Варлам Шаламов, несомненно, в своем цикле пытается найти ответ на эти вопросы, ставит ребром противопоставление человека и государственной машины. Для нас же будет важнее ответить на вопрос: Как же выживали люди в ГУЛАГе? Кажется, благодаря Слову, и способности даже в нечеловеческих условиях оставаться человеком, сохранять способность мыслить и чувствовать. Таким образом, мы можем сказать, что поэтика «Колымских рассказов», безусловна, специфична, как и художественный опыт самого писателя. Даже несмотря на то, что существует достаточное количество исследовательских работ по феномену Варлама Шаламова, кажется, и этого все равно недостаточно, ведь его произведения – это «духовное сокровище России»14,которое предстоит разгадывать и оберегать всем нам.
Список литературы
Вопросы литературы. 1989. № 5
Лейдерман Н.Л. «…В метельный, ледяной век» //Урал, 1992. № 3.
Тимофеев Л. Поэтика лагерной прозы. — М. «Октябрь». 1991, №3, стр. 182-195
Шаламов В.Т. Колымские рассказы М.,1991.
Шкловский В. Варлам Шаламов. М., 1991.
1 Имеется ввиду статья «В метельный леденящий век»: О «Колымских рассказах» Варлама Шаламова // Русская литературная классика XX века: Моногр. очерки / Урал. гос. пед. ун-т. – С. 245-278
2 «Писатель должен уступить место документу и сам быть документальным… Проза будущего — это проза бывалых людей» — высказывание из «манифеста» В. Шаламова (Вопросы литературы. 1989. № 5)
3 Н.Л.Лейдерман в своей работе отмечал диалог В. Шаламова с жанровой традицией: «в «Колымских рассказах» он не столько следует за традицией, сколько вступает с нею в диалог: он сталкивает опыт Колымы с тем опытом, который «окаменел» в традиционных жанровых формах.»
4 Варлам Шаламов. На представку. URL: https://shalamov.ru/library/2/2.html
5 Варлам Шаламов. На представку. URL: https://shalamov.ru/library/2/2.html
6 Варлам Шаламов. Кант. URL:https://shalamov.ru/library/2/8.html
7 Варлам Шаламов. Шерри-бренди. URL: https://shalamov.ru/library/2/14.html
8 Там же
9 Варлам Шаламов. Шерри-бренди. URL: https://shalamov.ru/library/2/14.html
10 Варлам Шаламов. Кант. URL:https://shalamov.ru/library/2/8.html
11 Варлам Шаламов. Стланик. URL: https://shalamov.ru/library/2/30.html
12 Варлам Шаламов. Шерри-бренди. URL:https://shalamov.ru/library/2/14.html
13 Там же
14Л.Тимофеев.Поэтика лагерной прозы. — М. «Октябрь». 1991, №3, стр. 182-195
Вам также может понравиться:
Конкурсы
7 работ
-192
Всероссийский конкурс детского рисунка «СКАЗОЧНЫЕ И БЫЛИННЫЕ ГЕРОИ
» к 175-летию со дня рождения В.М. Васнецова
30 Ноября – 30 Ноября
-192
Международный конкурс детско-юношеского творчества «ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ
»
30 Ноября – 30 Ноября
Свидетельство участника экспертной комиссии
Оставляйте комментарии к работам коллег
и получите документ БЕСПЛАТНО!
Подробнее
Также вас может заинтересовать
-
Презентации по литературе для 6 класса «Презентация на тему: «На родину к Сергею Есенину»»
Литература -
Презентации по литературе для 6 класса «Презентация по литературе для 6 класса «Анализ басни И.А.Крылова «Осёл и Соловей»»
Литература -
Планирование по литературе для 7 класса «Календарно-тематическое планирование по литературе 7 класс ОВЗ ( УО)»
Литература -
Конспект занятия по литературе для 5 класса ««Интерактивные приемы как средство развития коммуникативной грамотности учащихся»»
Литература -
Конспект занятия по литературе для «Конспект занятия по развитию речи в старшей группе «Рождество Христово»
Литература
Как ранний Солженицын, так и весь Шаламов
– экзистенциальные писатели. Колыма,
даже по Солж., предел всего. Единственная
задача шаламова – передать то, что он
видел. Нет проповеднической ели. Вне
традиций русской классической литры.
«Искусство не облагораживает»
(противоп.солж) факт, что он пишет –
учатие в борьбе за память. Все герои
ш.будто пытаютя поделитья читателем
чем-то, но у него для этого нет лов.
Главная эстетическая теоретическая
публикация – о прозе. Концепция новой
прозы: герои – не люди, а скелеты, лишённые
мяса, происхождения. С ними – движение
к смерти. У скелета нет и не может быть
биографии. Жизнь на колыме начинается
как табула раса. Нет ни прошлого, ни
будущего. Действие предельно сжато и
завершено. Традиции чехова, бабеля.
Повествователь – переходящий герой.
Стиль – фраза-сентенция, фраза-пощёчина.
Важность детали, которая становится
знаком или символом. 1я и посл.фразы-главные.
Также и в сборниках-1й и посл. Новеллы
самые ударные. До читателя нельзя донести
чистый факт. Худ.не лжёт лишь в выражении
собств.чувтв. главная задача повествователя-
найти правильный язык, на котором
можно разговаривать с читателем.
Отказ от попытки описать увиденное.
Полагал, что все сюжеты уже существуют
в сознании культуры, нужно только их
вовремя вытащить (пересечение со
шкловким). Публиковаться начал рано, с
30х. низко ценил свою прозу, считал себя
поэтом. От колымских рассказов в 80х
отказался, чего ему не простили ни друзья
ни враги. Разрешены к публикации с конца
80х. впервые многие были опубликованы
«новым журналом» (амер.рускояз) – в 60х.
137 текстов. 5 сборников. Отдельно сборник
1959г. «очерки преступного мира» — 8 текстов.
1й сб – колымские рассказы. 34 текста.
Сборник смерти. Герой – мертвец на
грани. 2й- левый берег. О больнице, спасшей
ему жизнь. 35 текстов. 3й – артист лопаты.
Сборник памяти. 4й-воскрешение лиственницы.
5й-перчатка, или колымские рассказы –
2. рефлексия автора. Организационные
принципы: генезис: философские очерк,
литература мемуаров, классическая
новелла. Экзистенциальная проза. Не
вязана с материалом. Важен человек в
экстремальной ситуации. Шаламову лагерь
важен как грань, подходя к которой
чел.уже не является человеком. Доказывает,
что здесь открывается вся правда о
человеке. Главный постулат шаламова:
человек зол по своей природе (но
опровергает это своими же текстами).
Отказ от традиционных категорий добра
и зла. Его опыт зачеловеческий, его
нельзя описать чел.категориями – его
продолжатель – довлатов. У солженицина
ад – лагерь. Шаламов – ад – это мы
сами. Есть ли тогда исход из ада? Какой?
Солженицын всегда пеняет на обстоятельства.
У шаламова виновны все. Никак не
комментирует систему. Портреты
палачей-жертв и жертв-палачей. Солженицын
– выход в боге. В целом маркирует лагерь
+. Шаламов – лагерь «–« и ничего не даёт
человеку. Жёсткая полемика с предыдущей
традицией романтизации преступника
(бабель, горький, ильф и петров).
Интеллигениция – иван иванычи – в
двойном кольце – лагерной администрации
и блатных. Шаламов описывает преступный
мир через несколько сквозных тем: как
попадают в блатной мир (лучше не вижть,
чем в него попасть), внутренняя структура
и характер конфликта в нём, отношение
с государством. Вопрос о женщине и
ребёнке. Они самые ущербные и одновременно
самые изощрённые в этом мире. Мир колымы
предстоит со всех точек зрения. Очерки
преступного мира в основном проблемные.
Но есть и очерки портреты (вернётся к
ним в перчатке). Всё, о чём пишется – на
личной судьбе. Главная похвала для
шаламова: да, вы можете сидеть в тюрьме
(от просидевшего в лагерях). Судьба
отдельно опрокинута в общий мир колымы.
Опм в целом – документального свойства.
Почти везде сохранены реальные имена.
Стремление подчеркнуть подлинность.
Прямое слово обвинителя. Называет всех
убийц поименно. Слово приобретает статус
пророческого, , хотя сам шаламов этого
не признаёт. Современная критика
сравнивает шаламова с ионной (не смирился
с богом, задаёт ему вопросы), а солженицына
с иовом (смирился, оправдал все бедствия).
Никогда шаламов не избавится от колымы
внутри. Вернуться полностью (как солж)
не смог. Через всё творчество – колымский
лагерь – самое страшное, что может
пережить человек (дант – дилентант
ада). Солж.-пафос спасения крестьянина.
Шаламов – мужик имеет больше шансов
выжить. Иван иванычи обречены. Максимум
– 3 недели, потом чел. Превращается в
доходягу. От этого не спастись. Доказывает,
что нет вины интеллигенции перед народом,
скорее наоборот. ИИ ненавидят все.
Главный процесс – утрата мяса с костей,
это показано натуралистично. Вместе с
этим человек теряет память, из него
уходит всё человеческое. Образ
человека-обрубка. Мечта скелета стать
ещё меньше. Только тогда он может найти
в себе силы, чтобы плюнуть палачам в
лицо. Шаламовские герои неподсудны,
т.к. они прошли через то, что непосильно
никому. Именно в качестве скелета,
обрубка человек максимально равен
самому себе – экзистенциальный вывод.
Наиболее сильное унижение человка – в
отношении к женщине. В лагере нельзя
любить, думать, говорить – здесь все
тебя предадут. Даже чтобы совершить
самоубийство, нужна пайка (чтобы найти
силы взять верёвку или уйти на мороз).
Элементы физиологических очерков
рассыпаны по всем кол.расск. самопротиворечие:
если опыт колымы ничего не даёт человеку,
то зачем его воспроизводит сам шаламов?
Колымские рассказы, сборник. Рассказ
по снегу Начало бытия. Движение не
людей, а стаи. Философская картинка
чел.бытия. пустыня – само бытие. Жизнь
– это путь. Умрут все: и сильные, и слабые,
важно лишь, сколько кто пройдёт. Абсолютно
экзистенциальный смысл. Ты можешь только
двигаться во след. До конца, до цели не
дойти никогда. На представку.
Карточная игра. Бессмысленно всё:
убийство, свитер. Абсолютно жёстка,
натуралистичная зарисовка. Основная
тема – рок, судьба играет всеми. Карточная
игра – традиция 19 века (Пиковая дама,
отверженные гюго). Гюго – благородный
каторжник. Шаламов – современный. Факт
– человеческая жизнь ничего не стоит.
Появление кроме очерка новеллы –
строится вокруг одного события. У
шаламова такое событие – 1 смерть. Скелет
движется к ней или – каким-то чудом –
от неё. Ненадолго. Удача и неудача связаны
со смертью. Рассказ Плотники
философский ракурс: сюда может попасть
каждый. Обобщающая фраза: каждый студент
мгу должен уметь плотничать. Культурная
традиция: трикстер – выдаёт себя за
другого. Здесь тоже, но это игра со
смертью. В лагере нельзя выжить почему-то,
можно выжить вдруг. Утка – об
абсурдности мира. Доходяга пытается
поймать такую же доходягу-утку, застрявшую
в полынье. Философ.картинка невозможности
расположить к себе роковые обстоятельства.
Рассказы-новеллы. Проза оч.ритмична.
1я и посл.фразы – самые сильные, ударные.
Это во мн. Приём бабеля. Худ.обобщения
в рассказе протезы. Лагерь
пожирает человека, даже если он в этом
лагере начальник. Почти анекдот выходит
на уровень мировых обобщений (часто у
шал) нет. Душу я вам не сдам – последняя
фраза. Тема торговли с дьяволом. Зарисовка
из анекдота выходит в притчу. Теме смерти
посвящён и рассказ надгробное слово.
Отсылка к ситуации с апостольством.
Смерть кажется фатальной. Но с другой
стороны – 12 человек – апостолы, с
кот.связ.высшая истина, существующая в
мире. Если есть истина, то есть и воздаяние
(перейдёт в тему памяти в след.сб).
зарисовывая жуткое, абсурдное существование
на колыме, движим не истиной, а сознанием
очевидца. О зле говорит в последнем
сборнике перчатка. Люди должны знать
своих палачей поимённо, в этом и будет
возмездие. Запомнить, чтобы можно было
свидетельствовать на другом, последнем,
суде. Очень важна энергия разрывов,
разломов. Иронизирует над теми, кто
пишет о гармонии. Шал.у истоков негативной
антропологии (зло как основа чел.натуры).
Левый берег. Лагерь
больница. Прокуратор иудеи – о
хирурге-фронтовике, прямо с фронта
приехал на колыму. Фронт – страшное
испытаение, но хотя бы знаешь врага.
Зеки, залитые водой. Через 17 лнт хирург
об этом забывает (заставляет себя).
Анатоль франс – прокуратор иудеи –
через 17 лнт пилат забыл христа. 1й рассказ
где хоть как-то возникла тема бунта.
Пробуждение чего-то человеческого. В
ЛБ появляется и тема возмездия. Поле
лендлизо. Мотив попытки уничтожить с
лица земли, из памяти историю. Коль есть
память и она жива, будет и возмездие.
Тема бессмысленности смерти
(корректируется). Возмездие решается
особо. Верит не в божественное возмездие,
а в возмездие внутри истории. Рождаетвся
в ЛБ тема чувств. Чувства ранжируются
прямо пропорционально отношениеям с
границей. Последней возвращается любовь,
когда уже чел, а не обрубок, самое
бесполезное чувство. Сборник о
размораживании души. Лида – женщина
убирает из дела букву Т (троцкист). Зек
не благодарит – для такого нет слов.
Прокажённые – плотская страсть
такой силы, которую может ощутить только
человек. 1й жуткий взгляд на страсть
чел., кот. возникает даже когда чел.обречён.
в 1м сб. нет понятия свобода. Здесь –
«Последний бой майора пугачёва».
Здесь личность, а не мясо, кости,
делающая сознательный выбор. Очень
сближается с солж (бой кингира). Восторг
мощью духа человека. Люди, которые уже
знают, что за границей (прошли войну).
Сентенция – возвращение человеку
слова. Это знак, что он –человек. Артист
лопаты. Уже рефлексия. Главный мотив
– памяти. Рассказ припадок – у героя
припадок, в котором ему кажется, что
вернулся на колыму. Величайшее признание
права рассказчика рассказывать. Он
понимает, что способен вспоминать. Здесь
есть выход за грань колымы. Но нет выхода
в инопространство. Оно как бы просачивается.
Новелла перестаёт выдавать себя за
документ, признаёт свою художественность.
Анекдоты, переходящие в притчу. Первый
зуб. Уже не личный, а чей-то опыт,
отрефлексированный. Предсказывается
3 равноубедительных концовки, каждая
из них выводит конвоира убогим. АЛ –
самый художественный сборник. Поезд
— о возвращении с колымы. Заверш.сб.
прорвано замкнутое пространство колымы,
поезд оч. Многомерный символ. Первое,
что видит в поезде зек – отец, заботящийся
о ребёнке – в лагере этого нет. Постепенное
изменение пространства – якутск (почти
лагерь), иркутстк (уже др.мир), москва
(радость радости). Перчатка.
Воспоминание о воспоминании. Рефлексия
над собств.тв-м. отсылка к прошлому.
Память о собственном творчестве и
памяти. Сборник усталости. Отсылка к
очеркам преступного мира – цикл замкнут.
Снова возобладает роль документа. Более
публицистична и философична. Каждая
деталь – символ. Ряд открытых приговоров
колыме. Колыма – сталинский лагерь
уничтожения. НО шаламов всю жизнь
верил в рев., считал, что мы упустили
свой шанс. Не верил в бога, но верил в
человека. Признание, что даже запредельный
опыт колымы не уникален сам по себе.
Лагерь – мироподобен
невиновных в мире нет. Предъявляет по
счёту самому себе. Смытая фотография
– будучи санитаром, разрешил доходяге
постирать гимнастёрку. А в ней – фото
жены и письмо. Вечная мерзлота.
Думает, что обнаружил в больнице
симулянтов, выгоняет. 1 из них вешается.
У человека нет права распоряжаться
другим человеком, его жизнью. Литература
о лагере – литература недоумения: как
такое могло произойти? (Гиллер).
9. Начало «лагерной прозы» – «Один
день Ивана Денисовича» А. Солженицына.
История написания и публикации. «Лагерь
глазами мужика». Образ главного героя,
тенденция к поэтизации «мужества
непротивления» (Д.С. Лихачев). Поэтика
повести.
Солженицын всерьёз решил, что его миссия
– подлинно рассказать, как в России
могло произойти то, что произошло.
Рассмотреть были ли «узлы», в которые
всё можно было изменить. Революция 1917
по Солж уже ничего не могла изменить.
Зная свою миссию, сознательно отказывается
от себя как художника. Всё, созданное
Солженицыным – один метатекст. В ранних
рассказах в небольшой форме предсказывается
всё развитие дальнейшей прозы. «Один
день…» — начало лагерной прозы. Но
главная тема экзистенциальная, тема
свободы как внутреннего измерения.
Солженицын пытается понять, кода русский
человек был отлучён от необходимости
такой свободы. Идея, что со времён
опричнины русский человек не знал, что
такое свобода. Русский мужик вообще не
понимает, как с ней жить. «Один день»:
вся Россия создана зеками. Зона – в ней
нет выхода. Сам Шухов не жалеет о своей
несвободе. Те, кто снаружи – тоже
несвободны. Зэк становится более
узнаваем, чем свободный. Человек, который
уже не является человеком, т.к. он не
личность. У него нет ничего своего ни
внешне, ни внутренне. Лагерь – Тартар.
Зэки – бывшие люди. Образ ивана денисовича
усреднён. Совершенно растворён в быту.
Он всякий раз должен сам себя создавать.
У этого мира верх – тот же низ. Перевёрнутый
мир. Всегда смотрит вниз, никогда – на
небо. Неверие в молитвы – перерождение
крестьянина в зэка. Но есть исключение:
алёшка баптист (алексий – самый почитаемый
на руси святой). Но философия его – уход
от мира. Шухов понимает, что уход от мира
– уход от земли – смерть. Опыт алёшки
уникален и бесполезен для лагеря =
россии. Уровень официального православия:
церковь, пошедшая на сделку с государством
ещё виновнее, чем государство. Поп живёт
с тремя бабами. Яркое неприятие баптистов
– навязанная вера, а всё навязанное –
опасно. В воспоминаниях шухова возникают
старообрядцы – некая надежда, есть в
почти мистическом где-то. Намеренно
вынесены вне фабулы. Единств. Поэт.
Строчки. У зэков своё волчье солнце –
месяц. Месяц крошится на звёзды. Метафора
апокалипсиса. Разговор о звёздах
(=падающие души) – мистическая отсылка
к апокалипсису. Пожирание мироздания:
змей сшибает хвостом звёзды – колонна
зэков, напоминающая змея. Колонна
обыгрывается и через отсылку к сов.шеренге.
шеренга зэков и шеренга демонстрантов
ничем не отличаются. Грани между этими
мирами практически нет. Человек становится
куклой. Кукла – карнавальная фигура.
Всё в лагере – зловещий карнавал. Странно
и смешно. Шутовской мир с князем тьмы в
основе. Человек сам себя уничтожает.
Все отношения вывернуты. История сжирает
сама себя. Лагерные обычаи обыгрывают
церковные. Образная система. Очень
замкнутый космос. В центре – слуги
закона. Чётко системат.мир. маргинальные
фигуры обеспечивают связь между лагерем
и управляющими. Бригадир тюрин: христос,
рус.богатырь, благодетель/великий
инквизитор (абсолютная власть). Сочетание
христа и антихриста: даёт жизнь и отбирает
её. Всё в его руках. У бригадира и лагеря
общая вина. Абсолютная замкнутость,
неподвижность, непреодолимость (ни у
кого срок не заканчивается), бесконечность.
Выхода отсюда нет. Ни у кого нет надежды.
Выжить в лагере можно только случайно.
Чем быстрее перестанешь быть человеком,
тем больше шансов выжить. Письма жены:
тупик. Лагерь. Всё едино. Воли нет.
Экзистенциальный коллапс: лагерь –
внутреннее бытие человека, из него
нельзя сбежать, другого мира нет, бежать
некуда. За проволокой: крестьяне пошли
кривым путём – дьявольский путь – всё
едино и в лагере, и вне его. Сквозной
образ руси-тройки. Добежала до лагеря
– дальше – тупик. Народ, у которого
забрали веру, душу – ни на что не способен.
Даже рисует по трафарету. Намечены пути
исхода: бунт (стукачи, бандитизм). У
шухова ничего нет. Эпизод как шухов
кладёт стену. Т.зр.: 1.зэк сам себя
замуровал. Но ведь и красили работают
на ту же систему, как и всё в лагере. 2.
только это даёт быть человеком, возвыситься
до бригадира. В твари просыпается мастер,
строитель. Строительство мира, строительная
метафорика. Не стать, но почувствовать
себя человеком. Помогает сохранить
рассудок. Образ интеллигенции – жуткий.
Она очень иерархична: старая интеллигенция,
молодая типа цезаря – барство.
Договариваются с конворирами. Шухова
цезарь в упор не видит. Барствует,
рассуждает об эстетике. Презрение знати
к быдлу. Имя – цезарь – коронация. Шапка
– родство с конвоирами. Плётка –
историч.деталь. от опричников – народ
ненавидит. Между палачами и жертвами
нет принципиальной разницы. Если кто
сбежит – конвоиры пойдут на место зэков.
Конвоиры шухову ближе чем интеллигенция.
Ю-81. старик с абсолютно негнущейся
спиной. Ест не торопясь, медленно, ложку
на тряпочку. Есть внутр.к-ра, сидит ещё
с дореволюц.времени, посажен ещё той
историей, знает, за что сидит.за дело:
сел, чтобы не иметь ничего общего с этим
режимом. Личный выбор. Это отличие от
всех зэков. В портрете иконография,
символика апостольства. Каменное лицо
– знак петра. А руки – такие же. Трудяга.
Нет невиновных. Не уберёг паству. У
каждого свой грех, своя вина. Смотрит
поверх – божий взгляд. Идеализация
дорев.россии. фетюков – прямо обратный.
Чиновник. Мерзкий. Сов. Действительность.
Опустился до предела.
День – в 1 дне отражена вся жизнь, история.
Никаких духовных метаний. Желудок
буквально заменяет душу. Все думают
только о еде. Абсолютный гротескный
низ. Столовая в лагере заменяет церковь.
Зэк – абсолютно голый, смешной. Не
личность. Нет ничего ни внутри ни снаружи.
Проходит бесконечные круги и повторы.
Последний круг ада. Людей нет – тени,
бывшие люди. Иван Денисович – усреднённый
крестьянин в усреднённой ситуации. Весь
в быту, нет ничего духовного. Каждый
день себя создаёт, собирает по тряпочкам.
Кукла, души нет, бога нет. Сам себя собрал.
У этого мира нет верха, тот же низ, мир
перевёрнут. Смотрят вниз, не к кому
взывать и даже смотреть не на кого.
Абсолютная пустота. Не верит в молитву.
Бог – конвоир, слова – шелуха, не имеют
смысла. Всем наплевать, можно говорить,
что угодно.
Белое поле, через которое ходят ежедневно
– граница между жизнью и смертью
(соотносится с полем и костями – былинное
поле на тот свет). Каждый день ходят.
Катарсис: нормальный человек, читая про
день счастливого зэка, содрогнётся от
ужаса. Это наша страна. На это и рассчитано.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
Литература
11 класс
Урок № 45
В. Шаламов. Проблематика и поэтика «Колымских рассказов».
Перечень вопросов, рассматриваемых по теме
1. Особенности раскрытия лагерной темы в «Колымских рассказах» В. Шаламова.
2. Этапы жизни и творчества В. Шаламова;
3. Художественные и мировоззренческие особенности сборника «Колымские рассказы» В. Шаламова;
Тезаурус
ГУЛАГ – Главное Управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключений. В СССР в 1934 году – 56 подразделение Народного Комиссариата Внутренних Дел (МВД), осуществлявшее руководство системой исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ). Специальные управления ГУЛАГа объединяли многие ИТЛ в разных районах страны: Карагандинский ИТЛ («Карлаг»), Дальстрой Народного Комиссариата Внутренних Дел (НКВД/ МВД СССР), Соловецкий ИТЛ (Управление Соловецких лагерей Особого Назначения), Беломорско-Балтийский ИТЛ и другие.
Мировоззрение – совокупность принципов, взглядов и убеждений, определяющих отношение к действительности.
Сентенция (от лат. sententia — мнение, суждение) – Изречение нравоучительного характера.
Список литературы
Основная литература:
1. Журавлёв В. П. Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 ч. Ч 2. М.: Просвещение, 2015. С. 292 – 293.
2. Шаламов В. Т. Собрание сочинений: в 4 т.. Сост., подгот. текста и примеч. И. Сиротинской. М.: Худож. лит.; Вагриус, 1998.
Дополнительная литература:
1. Сиротинская И. П. Мой друг Варлам Шаламов. М., 2006. С. 6-167
2. Шаламовский сборник. Вып. 2. Сост. Есипов В. В. Вологда: Грифон, 1997
Открытые электронные ресурсы:
1. Варлам Шаламов. Опыт юноши (документальный фильм). Портал о культурной жизни России. URL: https://www.culture.ru/movies/3414/varlam-shalamov-opyt-yunoshi
(дата обращения 16.08.2018)
Материал для самостоятельного изучения:
Варлам Шаламов родился в 1907 году в Вологде. Отец будущего писателя был священником русской православной церкви. Кодекс чести, который для Тихона Николаевича был едва ли не важнее, чем религия, нашёл отклик в душе сына и во многом сформировал характер будущего писателя. Близкие отношения у Шаламова с матерью, которая была домохозяйкой.
В 1924 году семнадцатилетний Варлам Шаламов уезжает из Вологды в Москву. Первые два года в столице он работает дубильщиком на кожевенном заводе, а после поступает в МГУ на факультет советского права. Он ведёт активную студенческую жизнь. В 1929 году его арестовывают по обвинению в распространении политического завещания Ленина. Три года писатель проводит в Вишерских лагерях на Северном Урале. Позже в своих воспоминаниях Шаламов напишет, что воспринял заключение как неизбежное испытание, данное ему для пробы нравственных и физических сил. После возвращения Шаламова в Москву в 1932 году литература и журналистика становится главным делом его жизни. Он печатается в журналах «Вокруг света», «Литературный современник» и других. В 1936 году в первом номере журнала «Октябрь» выходит рассказ Шаламова «Три смерти доктора Аустино». В 1937 году происходит второй арест по доносу за контрреволюционную троцкистскую деятельность. Его приговаривают к 5 годам заключения в исправительно-трудовых лагерях. Шаламов попадает в самое пекло ГУЛАГа – на Колыму. В 1943 году его осуждают повторно по доносу солагерников «за антисоветские высказывания». На самом деле писатель назвал эмигранта Ивана Бунина классиком советской литературы. Шаламов получает ещё 10 лет тюрьмы. Каторжный труд на золотодобывающих приисках, на лесоповале, в угольных забоях тяжело сказывается на здоровье. Он несколько раз был «доходягой». В 1946 году Шаламов заканчивает фельдшерские курсы, и его берут на работу в Центральную лагерную больницу, где он, оставаясь заключённым, работает фельдшером до освобождения в 1951 году. В 1949-1950 гг., находясь на таёжном медпункте «Ключ Дусканья», он начинает тайно писать стихи., которые в 1952 году посылает Б.Пастернаку.
В ноябре 1953 года Шаламов уезжает с Колымы и до реабилитации в 1956 году работает на торфопредприятии на «101-м» километре» от Москвы, в Калининской (Тверской) области. В это время он встречается и переписывается с Пастернаком, который высоко ценит его стихи. До 1956 г. Шаламов написал около 500 стихотворений, которые составили шесть сборников «Колымских тетрадей» (не изданных при жизни). Первые рассказы о пережитом на Колыме он начал писать в 1954 году, но никому их не показывал. Только в 1962 году он предложил их журналу «Новый мир» и издательству «Советский писатель», но их отклонили. Его обвинили в том, что рассказы – «антигуманистичны», в отличие от повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича», где есть «положительный герой», который хорошо трудится в лагере. «Колымские рассказы» так и не были напечатаны в СССР при жизни автора, они печатались в «пиратских» изданиях без ведома автора на Западе. Проза Шаламова стала широко известна среди читателей лишь период перестройки. Сейчас Шаламов признан классиком русской литературы.
Комментируя концепцию «Колымских рассказов», автор говорит так: «Современная новая проза может быть создана только людьми, знающими свой материал в совершенстве, для которых овладение материалом, его художественное преображение не являются чисто литературной задачей, а долгом, нравственным императивом». При этом Шаламов не относится к своей литературе, как к документалистике. В эссе «О прозе» писатель утверждает: «В “Колымских рассказах” дело в изображении новых психологических закономерностей, в художественном исследовании страшной темы…
Шаламов пишет, что для его произведения существенно то, что в нём показаны новые психологические закономерности, новое в поведении человека, доведённого до уровня животного. Писатель говорит: «Эти изменения психики необратимы, как отморожения. Память ноет, как отмороженная рука при первом холодном ветре. Нет людей, вернувшихся из заключения, которые бы прожили хоть один день, не вспоминая о лагере, об унизительном и страшном лагерном труде».
Писатель тонко рисует психологию взаимоотношений своих персонажей, демонстрирует изменение психики и восприятия заключённых. В рассказе «Термометр Гришки Логуна» Шаламов пишет: «…Кто бы тогда разобрался, минута, или сутки, или год, или столетие нужно было нам, чтобы вернуться в прежнее своё тело – в прежнюю свою душу мы не рассчитывали вернуться назад. И не вернулись, конечно. Никто не вернулся».
Перед читателями предстают разные сюжеты из лагерной жизни Шаламова и каждый из них, как болезнь, как ноющая рана. Невозможно поверить в то, что человек может выжить в таких невыносимых условиях. В рассказе «Перчатка» мы читаем: «Я – доходяга, кадровый инвалид прибольничной судьбы, спасённый, даже вырванный врачами из лап смерти. Но я не вижу блага в моём бессмертии ни для себя, ни для государства. Понятия наши изменили масштабы, перешли границы добра и зла. Спасение может быть благо, а может быть и нет: этот вопрос я не решил для себя и сейчас».
Тему разрушения личности писатель раскрывает в рассказе «Хлеб». В нём показаны голодные заключённые, которые с вожделением ждут рыбные хвосты. Шаламов так описывает этот момент: «…поднос приближался, и наступала самая волнующая минута: какой величины обрезок достанется, менять ведь было нельзя, протестовать тоже, всё было в руках удачи – картой в этой игре с голодом. Человек, который невнимательно режет селедки на порции, не всегда понимает (или просто забыл), что десять граммов больше или меньше – десять граммов, кажущихся десять граммов на глаз, – могут привести к драме, к кровавой драме, может быть». Но самое главное для арестанта – это хлеб. Заключённым в ГУЛАГе выдавали пятьсот граммов на сутки. Однако, как пишет Шаламов, «хлеб все едят сразу – так никто не украдёт, и никто не отнимет, да и сил нет его уберечь. Не надо только торопиться, не надо запивать его водой, не надо жевать».
Финалом «Колымских рассказов» является текст «Сентенция» – одно из самых загадочных произведений писателя. Он начинается со слов: «Люди возникали из небытия – один за другим. Незнакомый человек ложился по соседству со мной на нары, приваливался ночью к моему костлявому плечу, отдавая своё тепло – капли тепла – и получая взамен моё». Под «небытием» автор подразумевает потусторонний, загробный мир. В лагере нет живых или мёртвых – здесь есть только заключённые. Тем не менее человек, пройдя через злость, страх, унижение, равнодушие, зависть, жестокость, ложь всё равно может найти в себе силы для возрождения. В «Сентенции» герой Шаламова восстанавливает связь с миром чрез слово, он снова начинает мыслить не как арестант, а как человек: «Прошло много дней, пока я не научился вызывать из глубины мозга всё новые и новые слова, одно за другим…».
Завершается рассказ символично: на проигрывателе кружится пластинка и играет симфоническая музыка. «И все стояли вокруг – убийцы и конокрады, блатные и фраера, десятники и работяги. А начальник стоял рядом. И выражение лица у него было такое, как будто он сам написал эту музыку для нас, для нашей глухой таёжной командировки». Позднее Шаламов объяснит этот эпизод: «На свете есть тысячи правд (и правд-истин, и правд-справедливостей) и есть только одна правда таланта. Точно так же, как есть один род бессмертия – искусство».
Писатель утверждал, что «каждая минута лагерной жизни – отравленная минута. Там много такого, о чём человек не должен знать, не должен видеть, а если видел – лучше умереть». Так зачем же тогда он с документальной точностью описывает как «зубьями государственной машины, зубьями зла» переламываются человеческие судьбы? Изображая Колыму, Шаламов высказывает мысль, что построен этот ад на земле не только тираном- Сталиным, но и всем поколением людей, допустившим это историческое безумие.
Шаламов не дожил до издания «Колымских рассказов» в Советском Союзе. Незадолго до смерти великого писателя произведение было напечатано за границей. Но автор до конца жизни был уверен, что труд его будет оценён потомками. И не напрасно.
Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля
Единичный выбор.
1. Как назывался первый сборник рассказов Варлама Шаламова, в котором отражена жизнь заключённых Севвостлага? Сборник создавался с 1954 по 1962 гг. после возвращения писателя с Колымы.
Варианты ответов:
«Колымская тетрадь»
«Колымские рассказы»
«Архипелаг ГУЛАГ»
Правильный ответ:
«Колымские рассказы»
В ноябре 1953 года Шаламов уезжает с Колымы и до реабилитации в 1956 году работает на торфопредприятии на «101-м» километре» от Москвы, в Калининской (Тверской) области. В это время он встречается и переписывается с Пастернаком, который высоко ценит его стихи. До 1956 г. Шаламов написал около 500 стихотворений, которые составили шесть сборников «Колымских тетрадей» (не изданных при жизни). Первые рассказы о пережитом на Колыме он начал писать в 1954 году, но никому их не показывал. Только в 1962 году он предложил их журналу «Новый мир» и издательству «Советский писатель», но их отклонили. Его обвинили в том, что рассказы – «антигуманистичны», в отличие от повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича», где есть «положительный герой», который хорошо трудится в лагере. «Колымские рассказы» так и не были напечатаны в СССР при жизни автора, они печатались в «пиратских» изданиях без ведома автора на Западе. Проза Шаламова стала широко известна среди читателей лишь период перестройки. Сейчас Шаламов признан классиком русской литературы.
Сортировка элементов по категориям.
Разместите предложенные варианты художественных приёмов из стихотворения В. Шаламова «Луна, точно нежная сойка» по трём столбцам: сравнение, олицетворение, метафора.
ЛУНА, ТОЧНО СНЕЖНАЯ СОЙКА…
Луна, точно снежная сойка,
Влетает в окошко ко мне
И крыльями машет над койкой,
Когтями скребёт по стене.
И бьётся на белых страницах,
Пугаясь людского жилья,
Моя полуночная птица,
Бездомная прелесть моя.
Правильный вариант/варианты (или правильные комбинации вариантов):
Сравнение
«точно снежная сойка»
Олицетворения
«Луна влетает», «машет», «скребёт»
Метафора
«полуночная птица», «бездомная юность моя»
Подсказка:
Сравнение – вид тропа: уподобление соотносимых явлений (предметов, состояний), выраженное при помощи слов точно, будто, словно, как, что, как будто и др.
Олицетворение – изображение неодушевлённых предметов как одушевлённых, при котором они наделяются свойствами живых существ.
Метафора (от греч. metaphora — перенос) – вид тропа: переносное знание слова, основанное на уподоблении одного предмета или явления другому; скрытое сравнение.