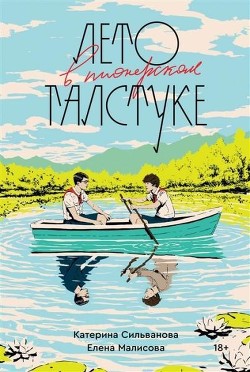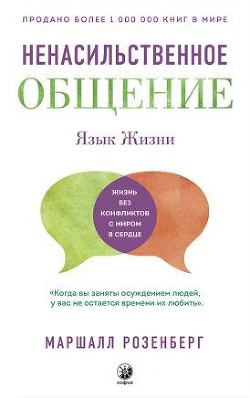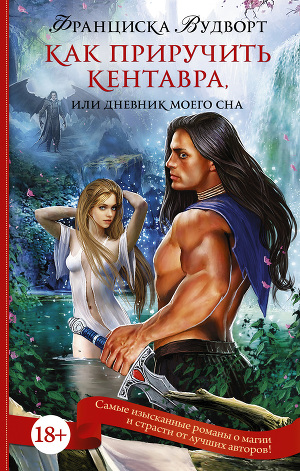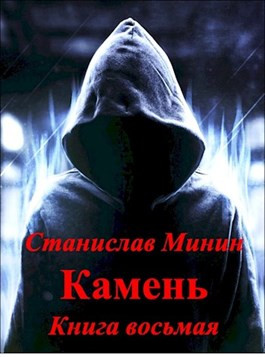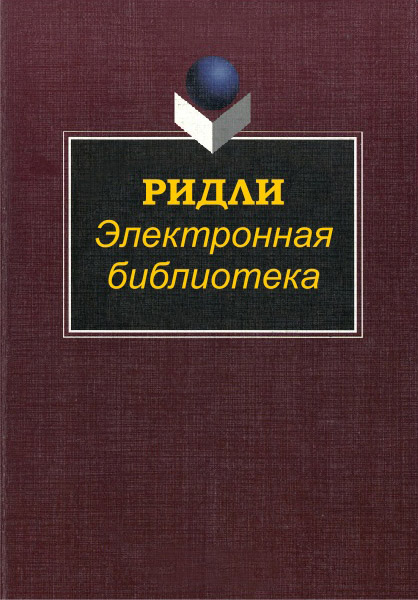Два рассказа
Два рассказа. Александр Исаевич Солженицын
Рассказ публикуется с сохранением авторской орфографии и пунктуации.
КУРСИВ и ударЕния авторские
* ЭГО *
1
Павел Васильевич Эктов ещё и раньше, чем к своим тридцати годам, ещё до германской войны, устоялся в осознании и смысле быть последовательным, если даже не прирождённым, сельским кооператором — и никак не замахиваться на великие и сотрясательные цели. Чтобы в этой линии удержаться — ему пришлось поучаствовать и в резких общественных спорах и выстоять против соблазна и упрёков от революционных демократов: что быть «культурным работником» на поприще «малых дел» — это ничтожно, это не только вредная растрата сил на мелкие бесполезные работы, но это — измена всему человечеству ради немногих ближайших людей, это — плоская дешёвая благотворительность, не имеющая перспективы завершения. Раз, мол, существует путь универсального спасения человечества, раз есть верный ключ к идеалу народного счастья, — то чего стоит по сравнению с ним мелкая личная помощь человека человеку, простое облегчение горестей текущего дня?
И многие культурные работники устыживались от этих упрёков и уязвлённо пытались оправдаться, что их работа «тоже полезна» для всемирного устроения человечества. Но Эктов всё более укреплялся в том, что не требует никакого оправдания повседневная помощь крестьянину в его текущих насущных нуждах, облегчение народной нужды в любой реальной форме — не то что в отвлекающей проповеди сельских батюшек и твердилке церковно-приходских школ. А вот сельская кредитная кооперация может оказаться путём куда поверней всемирного перескока к окончательному счастью.
Все виды кооперации Эктов знал и даже убеждённо их любил. Побывавши в Сибири, он изумился тамошней маслодельческой кооперации, накормившей, без всяких крупных заводов, всю Европу пахучим и объядЕнным сливочным маслом. Но у себя в Тамбовской губернии он ряд лет был энергичным деятелем ссудо-сберегательной кооперации — и продолжал в войну. (Одновременно участвуя в системе Земгора, впрочем брезгуя её острой политичностью, а то и личным укрывательством от фронта.) Вёл кооперацию и во весь революционный Семнадцатый год, — и только в январе Восемнадцатого, накануне уже явно неизбежной конфискации всех кооперативных касс, — настоял, чтобы его кредитное общество тайно роздало вкладчикам их вклады.
За то — непременно бы Эктова ПОСАДИЛИ, если б точно разобрались, но у подвижных большевиков были руки наразрыв. Вызвали Эктова один раз в Казанский монастырь, где расположилась Чрезвычайка, но одним беглым допросом и обошлось, увернулся. Да хватало у них забот покрупней. На главной площади близ того же монастыря как-то собрали они сразу пять возрастов призывников — тут выскочил сбоку лихой всадник чубатый на серой лошади, заорал: «Товарищи! А что Ленин обещал? Что больше никогда воевать не будем! так ступайте по домам! Только-только отвоевали, а теперь опять на войну гонят? А-рас-сходись по домам!!» И — как полыхнуло по этим парням в серо-чёрной крестьянской одёжке: от того окрика — по сыпали, посыпали вразбежку, кто сразу за город, к лескам, в дезертиры, кто по городу заметался и мятежничал — и уже власти сами бежали. Через день вернулись с конницей Киквидзе.
Годы гражданской войны Эктов прожил в душевной потерянности: за жестоким междоусобным уничтожением соотечественников и под железной подошвой большевицкой диктатуры — потерялся смысл жизни и всей России и своей собственной. Ничего и близко сходного никогда на Руси не бывало. Человеческая жизнь вообще потеряла своё разумное привычное течение, деятельность разумных существ, — но, при большевиках, затаилась, исказилась в тайных, обходных или хитро-изобретательных ручейках. Однако, убеждённому демократу Эктову никак не казалась выходом и победа бы белых, и возврат казацких нагаек. И когда в августе Девятнадцатого конница Мамонтова на два дня врывалась и в Тамбов, — за эти двое суток, хоть и сбежала ЧК из Казанского монастыря, а не ощутил он душевного освобождения или удовлетворения. (Да, впрочем, и видно было, что это всего лишь короткий наскок.) Да вся тамбовская интеллигенция считала режим большевиков вовсе недолговечным: ну год-два-три и свалятся, и Россия вернётся к теперь уже демократической жизни. А в крайностях большевиков проявлялась не только же злая воля их или недомыслие, но и наслоенные трудности трёхлетней внешней войны и сразу же вослед гражданской.
Тамбов, окружённый хлебородной губернией, не знал в эти годы полного голода, но стыла зимами опасная нужда и требовала от людей отдавать все силы ума и души — бытовой изворотливости. И крестьянский раздольный мир вокруг Тамбова стал разрушаться безжалостно вгоняемыми клиньями сперва заградотрядов (отбиравших у крестьян зерно и продукты просто при перевозе по дорогам), продотрядов и отрядов по ловле дезертиров. Вход такого отряда в замершую от страха деревню всегда означал неминуемые расстрелы хоть нескольких крестьян, хоть одного-двух, в науку всей деревне. (Могли и с крыльца волостного правления запустить из пулемёта боевыми патронами очередь наугад.) А всегда и у всех отрядов начинался большой грабёж. Продотряд располагался в деревне постоем и прежде всего требовал кормить самого себя: «Давай барана! давай гусей! яиц, масла, молока, хлеба!» (А потом и — полотенца, простыни, сапоги.) Но и этим ещё рады были бы крестьяне отделаться, да только, отгуляв в деревне день два, продотрядники сгоняли понурый обоз из тех же крестьян с их зерном, мясом, маслом, мёдом, холстами — навывоз, в дар пролетарской власти, никогда не поделившейся с крестьянами ни солью, ни мылом, ни железом. (В иной сельский магазин вдруг присылали шёлковые дамские чулки или лайковые перчатки, или керосиновые лампы без горелок и без керосина.) И так подгребали зерно по амбарам подряд — нередко не оставляли мужикам ни на едево, ни на семена. «Чёрными» звали их крестьяне — то ли от чёрта, то ль оттого, что нерусских было много. Надо всей Тамбовской губернией гремел неистовый губпродкомиссар Гольдин, не считавший человеческих жизней, не меривший людского горя и бабьих слёз, страшный и для своих продотрядников. Не многим мягче его был и борисоглебский уездный продкомиссар Альперович. (Достойными кличками власть окрещала и сама себя: ещё существовал и НАЧПОГУБ Вейднер — даже Эктов долго не мог вникнуть, что это страшное слово значило: начальник политического отдела губернии.)
Отначала крестьяне поверить не могли: что ж это такое вершится? Солдаты, вернувшиеся с германского фронта, из запасных полков и из плена (там их сильно обделывали большевицкой пропагандой), приезжали в свои деревни с вестью, что теперь-то и наступит крестьянская власть, революция сделата ради крестьян: крестьяне и есть главные хозяева на земле. А это что ж: городские насылают басурманов и обидят трудовое крестьянство? Свой хлеб не сеяли — на наше добро позарились? А Ленин говорил: кто не пахал, не сеял — тот пусть и не ест!
И потёк по деревням ещё и такой слух: произошла измена! Ленина в Кремле подменили!
Сердце Павла Васильевича, всю жизнь нераздельное с крестьянскими бедами, их жизненным смыслом и расчётливой бережливостью (в церковь — в сапогах, по селу — в лаптях, а пахать босиком), изболелось от этого безумного деревенского разорения: тамбовскую деревню большевики грабили напрокат догола (ещё ж дограбливал и каждый приезжий пустой ревизор или инструктор). Увидишь ли теперь прежнюю сытую мирную картину: вечерний медленный возврат добротного многосотенного скота в село, кой-где ребятишки с хворостинами, заворачивать своих, взвешенное стоячее облако прозрачной пыли в закатных лучах и скрип колодезных журавлей, предвестников пойки перед обильной дойкой? И на ночь теперь не засвечивались избяные окна: без дела стояли керосиновые лампы и еле светили внутри жирники — плошки из бараньего жира.
А между тем — гражданская война кончалась, и упущено было для тамбовских крестьян соединяться и с белыми. Однако и терпёж их уже перешёл через край, взбуривало народ. Осенью 1919 крестьяне убили предгубисполкома Чичканова во время его поездки по губернии. Ответ власти был — сильным карательным отрядом (венгры, латыши, финны, китайцы — кого только не было в карателях) и многими снова расстрелами.
Той ограбленной зимой крестьянский гнев ещё подбывал, копился. С весны, как стаяло, Павел Васильич поехал на телеге знакомого мужика запастись продуктами: из Каравайнова в хорошо знакомый ему угол, где сливаются Мокрая Панда и Сухая Панда, а дальше текут в Ворону. Знал он там Грушевку, Гвоздёвку, Трескино, Курган, Калугино. Грушевку — с её обильными сенокосами прямо на задах деревни, в июне всю в запахах мятлика, костера и клевера; Трескино с её странным храмом — трёхэтажным кубом, а барская церковь в Никитине облицована сине-коричневой плиткой, и крыша её под чешуйчатой выкладкой; Курган — с насыпным курганом татарских времён; и саблевидное Калугино с беспорядочно разбросанными куренями по голой балке Сухой Панды. А пойма извилистой Мокрой Панды вся в густой траве, с боем перепелов, приволье ребятишек, рыболовов, гусей и уток, — хотя и ребятишкам там купанье по пояс, однако и коровы на дневную дойку вылезают из реки же. Лес большой там был — сразу за Грушевкой и Гвоздёвкой; да и близ Никитина, с её множеством садов, несколько лесистых балок.
Ту весну мужики встречали в большой тревоге, и многие даже не хотели сеять: ведь всё уйдёт зазря, отымут? но и самим-то как без прокорма?
Ватажились в лесках и оврагах. Толковали, как себя защитить.
Но трудно крестьянам разных сёл — сговориться, соединиться, решиться, да ещё ж и выбрать момент, когда перейти черту большой войны.
А между тем гольдинские продотряды всё так же наваливались на сёла грабить, и всё так же сами пировали на стоянках. (А были случаи: велели подавать им на ночь заказанное число женщин — и подавало село, а куда денешься? легче, чем расстрелы.) И всё так же отряды из Губдезертира расстреливали для примера изловленных. (Призывали сразу три возраста 18-20-летних. А вступающие в РКП(б) освобождались от общего призыва.)
И в августе Двадцатого само собою вспыхнуло в Каменке Тамбовского уезда: пришедший продотряд крестьяне перебили и взяли их оружие. И в тех же днях в Трескино: близ волостного правления продотряд созвал собрание активистов — вдруг побежала по улице сила мужиков с вилами, лопатами, топорами. Продотряд стал в них стрелять — но нахлынувшей волной порубали отрядников два десятка, ещё и нескольких жён коммунистов заодно. (Убили и маленького мальчика из толпы: он признал одного из повстанцев: «дядя Петя, ты меня узнал?» — и тот убил, чтобы мальчик его потом не выдал.) А в Грушевке так озлобились за всё отымаемое — повалили продотрядчика и, как по бревну, перепилили ему шею пилой.
Трудно, трудно русских мужиков стронуть, но уж как попрёт народная опара — так и не удержать в пределах рассудка. Из Княже-Богородицкого, Тамбовского же уезда, освячённая порывом справедливости крестьянская толпа в лаптях —
Александр Солженицын
Два рассказа
Рассказ публикуется с сохранением авторской орфографии и пунктуации.
КУРСИВ и ударЕния авторские
* ЭГО *
1
Павел Васильевич Эктов ещё и раньше, чем к своим тридцати годам, ещё до германской войны, устоялся в осознании и смысле быть последовательным, если даже не прирождённым, сельским кооператором — и никак не замахиваться на великие и сотрясательные цели. Чтобы в этой линии удержаться — ему пришлось поучаствовать и в резких общественных спорах и выстоять против соблазна и упрёков от революционных демократов: что быть «культурным работником» на поприще «малых дел» — это ничтожно, это не только вредная растрата сил на мелкие бесполезные работы, но это — измена всему человечеству ради немногих ближайших людей, это — плоская дешёвая благотворительность, не имеющая перспективы завершения. Раз, мол, существует путь универсального спасения человечества, раз есть верный ключ к идеалу народного счастья, — то чего стоит по сравнению с ним мелкая личная помощь человека человеку, простое облегчение горестей текущего дня?
И многие культурные работники устыживались от этих упрёков и уязвлённо пытались оправдаться, что их работа «тоже полезна» для всемирного устроения человечества. Но Эктов всё более укреплялся в том, что не требует никакого оправдания повседневная помощь крестьянину в его текущих насущных нуждах, облегчение народной нужды в любой реальной форме — не то что в отвлекающей проповеди сельских батюшек и твердилке церковно-приходских школ. А вот сельская кредитная кооперация может оказаться путём куда поверней всемирного перескока к окончательному счастью.
Все виды кооперации Эктов знал и даже убеждённо их любил. Побывавши в Сибири, он изумился тамошней маслодельческой кооперации, накормившей, без всяких крупных заводов, всю Европу пахучим и объядЕнным сливочным маслом. Но у себя в Тамбовской губернии он ряд лет был энергичным деятелем ссудо-сберегательной кооперации — и продолжал в войну. (Одновременно участвуя в системе Земгора, впрочем брезгуя её острой политичностью, а то и личным укрывательством от фронта.) Вёл кооперацию и во весь революционный Семнадцатый год, — и только в январе Восемнадцатого, накануне уже явно неизбежной конфискации всех кооперативных касс, — настоял, чтобы его кредитное общество тайно роздало вкладчикам их вклады.
За то — непременно бы Эктова ПОСАДИЛИ, если б точно разобрались, но у подвижных большевиков были руки наразрыв. Вызвали Эктова один раз в Казанский монастырь, где расположилась Чрезвычайка, но одним беглым допросом и обошлось, увернулся. Да хватало у них забот покрупней. На главной площади близ того же монастыря как-то собрали они сразу пять возрастов призывников — тут выскочил сбоку лихой всадник чубатый на серой лошади, заорал: «Товарищи! А что Ленин обещал? Что больше никогда воевать не будем! так ступайте по домам! Только-только отвоевали, а теперь опять на войну гонят? А-рас-сходись по домам!!» И — как полыхнуло по этим парням в серо-чёрной крестьянской одёжке: от того окрика — по сыпали, посыпали вразбежку, кто сразу за город, к лескам, в дезертиры, кто по городу заметался и мятежничал — и уже власти сами бежали. Через день вернулись с конницей Киквидзе.
Годы гражданской войны Эктов прожил в душевной потерянности: за жестоким междоусобным уничтожением соотечественников и под железной подошвой большевицкой диктатуры — потерялся смысл жизни и всей России и своей собственной. Ничего и близко сходного никогда на Руси не бывало. Человеческая жизнь вообще потеряла своё разумное привычное течение, деятельность разумных существ, — но, при большевиках, затаилась, исказилась в тайных, обходных или хитро-изобретательных ручейках. Однако, убеждённому демократу Эктову никак не казалась выходом и победа бы белых, и возврат казацких нагаек. И когда в августе Девятнадцатого конница Мамонтова на два дня врывалась и в Тамбов, — за эти двое суток, хоть и сбежала ЧК из Казанского монастыря, а не ощутил он душевного освобождения или удовлетворения. (Да, впрочем, и видно было, что это всего лишь короткий наскок.) Да вся тамбовская интеллигенция считала режим большевиков вовсе недолговечным: ну год-два-три и свалятся, и Россия вернётся к теперь уже демократической жизни. А в крайностях большевиков проявлялась не только же злая воля их или недомыслие, но и наслоенные трудности трёхлетней внешней войны и сразу же вослед гражданской.
Тамбов, окружённый хлебородной губернией, не знал в эти годы полного голода, но стыла зимами опасная нужда и требовала от людей отдавать все силы ума и души — бытовой изворотливости. И крестьянский раздольный мир вокруг Тамбова стал разрушаться безжалостно вгоняемыми клиньями сперва заградотрядов (отбиравших у крестьян зерно и продукты просто при перевозе по дорогам), продотрядов и отрядов по ловле дезертиров. Вход такого отряда в замершую от страха деревню всегда означал неминуемые расстрелы хоть нескольких крестьян, хоть одного-двух, в науку всей деревне. (Могли и с крыльца волостного правления запустить из пулемёта боевыми патронами очередь наугад.) А всегда и у всех отрядов начинался большой грабёж. Продотряд располагался в деревне постоем и прежде всего требовал кормить самого себя: «Давай барана! давай гусей! яиц, масла, молока, хлеба!» (А потом и — полотенца, простыни, сапоги.) Но и этим ещё рады были бы крестьяне отделаться, да только, отгуляв в деревне день два, продотрядники сгоняли понурый обоз из тех же крестьян с их зерном, мясом, маслом, мёдом, холстами — навывоз, в дар пролетарской власти, никогда не поделившейся с крестьянами ни солью, ни мылом, ни железом. (В иной сельский магазин вдруг присылали шёлковые дамские чулки или лайковые перчатки, или керосиновые лампы без горелок и без керосина.) И так подгребали зерно по амбарам подряд — нередко не оставляли мужикам ни на едево, ни на семена. «Чёрными» звали их крестьяне — то ли от чёрта, то ль оттого, что нерусских было много. Надо всей Тамбовской губернией гремел неистовый губпродкомиссар Гольдин, не считавший человеческих жизней, не меривший людского горя и бабьих слёз, страшный и для своих продотрядников. Не многим мягче его был и борисоглебский уездный продкомиссар Альперович. (Достойными кличками власть окрещала и сама себя: ещё существовал и НАЧПОГУБ Вейднер — даже Эктов долго не мог вникнуть, что это страшное слово значило: начальник политического отдела губернии.)
Два рассказа

Александр Солженицын
Два рассказа
Рассказ публикуется с сохранением авторской орфографии и пунктуации.
КУРСИВ и ударЕния авторские
* ЭГО *
1
Павел Васильевич Эктов ещё и раньше, чем к своим тридцати годам, ещё до германской войны, устоялся в осознании и смысле быть последовательным, если даже не прирождённым, сельским кооператором — и никак не замахиваться на великие и сотрясательные цели. Чтобы в этой линии удержаться — ему пришлось поучаствовать и в резких общественных спорах и выстоять против соблазна и упрёков от революционных демократов: что быть «культурным работником» на поприще «малых дел» — это ничтожно, это не только вредная растрата сил на мелкие бесполезные работы, но это — измена всему человечеству ради немногих ближайших людей, это — плоская дешёвая благотворительность, не имеющая перспективы завершения. Раз, мол, существует путь универсального спасения человечества, раз есть верный ключ к идеалу народного счастья, — то чего стоит по сравнению с ним мелкая личная помощь человека человеку, простое облегчение горестей текущего дня?
Два рассказа скачать fb2, epub бесплатно
Рекомендуем почитать
Другие книги автора Александр Исаевич Солженицын
Популярные книги в жанре Классическая проза
Оставить отзыв
Еще несколько интересных книг
- Полный текст
- Правая кисть
- Случай на станции Кочетовка
- Для пользы дела
- Захар-Калитa
- Как жаль
- Двучастные рассказы 1993–1998
- Эго
- На краях
- Молодняк
- Настенька
- Абрикосовое варенье
- Всё равно
- На изломах
- Желябугские выселки
- Адлиг Швенкиттен. Односуточная повесть
- Крохотки
- Дыхание
- Озеро Сегден
- Утёнок
- Прах поэта
- Вязовое бревно
- Отраженье в воде
- Гроза в горах
- Город на неве
- Шарик
- Способ двигаться
- Старое ведро
- На родине Есенина
- Колхозный рюкзак
- Костёр и муравьи
- Мы-то не умрём
- Приступая ко дню
- Путешествуя вдоль Оки
- Молитва
- Лиственница
- Молния
- Колокол Углича
- Колокольня
- Старение
- Позор
- Лихое зелье
- Утро
- Завеса
- В сумерки
- Петушье пенье
- Ночные мысли
- Поминовение усопших
- Молитва о России
- Комментарии
- Биографическая справка
- Рассказы 1959–1966
- Примечания
Двучастные рассказы 1993–1998
Эго
1
Павел Васильевич Эктов ещё и раньше чем к своим тридцати годам, ещё до германской войны, устоялся в осознании и смысле быть последовательным, если даже не прирождённым, сельским кооператором – и никак не замахиваться на великие и сотрясательные цели. Чтобы в этой линии удержаться – ему пришлось поучаствовать и в резких общественных спорах и выстоять против соблазна и упрёков от революционных демократов: что быть «культурным работником» на поприще «малых дел» – это ничтожно, это не только вредная растрата сил на мелкие безполезные работы, но это – измена всему человечеству ради немногих ближайших людей, это – плоская дешёвая благотворительность, не имеющая перспективы завершения. Раз, мол, существует путь универсального спасения человечества, раз есть верный ключ к идеалу народного счастья, – то чего стоит по сравнению с ним мелкая личная помощь человека человеку, простое облегчение горестей текущего дня?
И многие культурные работники устыживались от этих упрёков и уязвлённо пытались оправдаться, что их работа «тоже полезна» для всемирного устроения человечества. Но Эктов всё более укреплялся в том, что не требует никакого оправдания повседневная помощь крестьянину в его текущих насущных нуждах, облегчение народной нужды в любой реальной форме – не то что в отвлекающей проповеди сельских батюшек и твердилке церковно-приходских школ. А вот сельская кредитная кооперация может оказаться путём куда поверней всемирного перескока к окончательному счастью.
Все виды кооперации Эктов знал и даже убеждённо их любил. Побывавши в Сибири, он изумился тамошней маслодельческой кооперации, накормившей, без всяких крупных заводов, всю Европу пахучим и объядéнным сливочным маслом. Но у себя в Тамбовской губернии он ряд лет был энергичным деятелем ссудосберегательной кооперации – и продолжал в войну. (Одновременно участвуя в системе Земгора, впрочем брезгуя её острой политичностью, а то и личным укрывательством от фронта.) Вёл кооперацию и во весь революционный Семнадцатый год, – и только в январе Восемнадцатого, накануне уже явно неизбежной конфискации всех кооперативных касс, – настоял, чтобы его кредитное общество тайно роздало вкладчикам их вклады.
За то – непременно бы Эктова посадили, если б точно разобрались, но у подвижных большевиков были руки наразрыв. Вызвали Эктова один раз в Казанский монастырь, где расположилась Чрезвычайка, но одним беглым допросом и обошлось, увернулся. Да хватало у них забот покрупней. На главной площади близ того же монастыря как-то собрали они сразу пять возрастов призывников – тут выскочил сбоку лихой всадник чубатый на серой лошади, заорал: «Товарищи! А что Ленин обещал? Что больше никогда воевать не будем! так ступайте по домам! Только-только отвоевали, а теперь опять на войну гонят? А‑рас-сходись по домам!!» И – как полыхнуло по этим парням в серо-чёрной крестьянской одёжке: от того окрика – по-сыпали, посыпали вразбежку, кто сразу за город, к лескам, в дезертиры, кто по городу заметался и мятежничал – и уже власти сами бежали. Через день вернулись с конницей Киквидзе.
Годы Гражданской войны Эктов прожил в душевной потерянности: за жестоким междоусобным уничтожением соотечественников и под железной подошвой большевицкой диктатуры – потерялся смысл жизни и всей России и своей собственной. Ничего и близко сходного никогда на Руси не бывало. Человеческая жизнь вообще потеряла своё разумное привычное течение, деятельность разумных существ, – но, при большевиках, затаилась, исказилась в тайных, обходных или хитро-изобретательных ручейках. Однако убеждённому демократу Эктову никак не казалась выходом и победа бы белых, и возврат казацких нагаек. И когда в августе Девятнадцатого конница Мамонтова на два дня врывалась и в Тамбов, – за эти двое суток, хоть и сбежала ЧК из Казанского монастыря, а не ощутил он душевного освобождения или удовлетворения. (Да, впрочем, и видно было, что это – всего лишь короткий наскок.) Да вся тамбовская интеллигенция считала режим большевиков вовсе недолговечным: ну год-два-три – и свалятся, и Россия вернётся к теперь уже демократической жизни. А в крайностях большевиков проявлялась не только же злая воля их или недомыслие, но и наслоенные трудности трёхлетней внешней войны и сразу же вослед Гражданской.
Тамбов, окружённый хлебородной губернией, не знал в эти годы полного голода, но стыла зимами опасная нужда и требовала от людей отдавать все силы ума и души – бытовой изворотливости. И крестьянский раздольный мир вокруг Тамбова стал разрушаться безжалостно вгоняемыми клиньями сперва заградотрядов (отбиравших у крестьян зерно и продукты просто при перевозе по дорогам), продотрядов и отрядов по ловле дезертиров. Вход такого отряда в замершую от страха деревню всегда означал неминуемые расстрелы хоть нескольких крестьян, хоть одного-двух, в науку всей деревне. (Могли и с крыльца волостного правления запустить из пулемёта боевыми патронами очередь наугад.) А всегда и у всех отрядов начинался большой грабёж. Продотряд располагался в деревне постоем и прежде всего требовал кормить самого себя: «Давай барана! давай гусей! яиц, масла, молока, хлеба!» (А потом и – полотенца, простыни, сапоги.) Но и этим ещё рады были бы крестьяне отделаться, да только, отгуляв в деревне день-два, продотрядники сгоняли понурый обоз из тех же крестьян с их зерном, мясом, маслом, мёдом, холстами – на вывоз, в дар пролетарской власти, никогда не поделившейся с крестьянами ни солью, ни мылом, ни железом. (В иной сельский магазин вдруг присылали шёлковые дамские чулки, или лайковые перчатки, или керосиновые лампы без горелок и без керосина.) И так подгребали зерно по амбарам подряд – нередко не оставляли мужикам ни на едево, ни на семена. «Чёрными» звали их крестьяне – то ли от чёрта, то ль оттого, что нерусских было много. Надо всей Тамбовской губернией гремел неистовый губпродкомиссар Гольдин, не считавший человеческих жизней, не меривший людского горя и бабьих слёз, страшный и для своих продотрядников. Не многим мягче его был и борисоглебский уездный продкомиссар Альперович. (Достойными кличками власть окрещала и сама себя: ещё существовал и начпогуб Вейднер – даже Эктов долго не мог вникнуть, что это страшное слово значило: начальник политического отдела губернии.)
Отначала крестьяне поверить не могли: что ж это такое вершится? Солдаты, вернувшиеся с германского фронта, из запасных полков и из плена (там их сильно обделывали большевицкой пропагандой), приезжали в свои деревни с вестью, что теперь-то и наступит крестьянская власть, революция сделата ради крестьян: крестьяне и есть главные хозяева на земле. А это что ж: городские насылают басурманов и обидят трудовое крестьянство? Свой хлеб не сеяли – на наше добро позарились? А Ленин говорил: кто не пахал, не сеял – тот пусть и не ест!
И потёк по деревням ещё и такой слух: произошла измена! Ленина в Кремле подменили!
Сердце Павла Васильевича, всю жизнь нераздельное с крестьянскими бедами, их жизненным смыслом и расчётливой бережливостью (в церковь – в сапогах, по селу – в лаптях, а пахать босиком), изболелось от этого безумного деревенского разорения: тамбовскую деревню большевики грабили напрокат догола (ещё ж дограбливал и каждый приезжий пустой ревизор или инструктор). Увидишь ли теперь прежнюю сытую мирную картину: вечерний медленный возврат добротного многосотенного скота в село, кой-где ребятишки с хворостинами, заворачивать своих, взвешенное стоячее облако прозрачной пыли в закатных лучах и скрип колодезных журавлей, предвестников пойки перед обильной дойкой? И на ночь теперь не засвечивались избяные окна: без дела стояли керосиновые лампы и еле светили внутри жирники – плошки из бараньего жира.
А между тем – гражданская война кончалась, и упущено было для тамбовских крестьян соединяться и с белыми. Однако и терпёж их уже перешёл через край, взбуривало народ. Осенью 1919 крестьяне убили предгубисполкома Чичканова во время его поездки по губернии. Ответ власти был – сильным карательным отрядом (венгры, латыши, финны, китайцы – кого только не было в карателях) и многими снова расстрелами.
Той ограбленной зимой крестьянский гнев ещё подбывал, копился. С весны, как стаяло, Павел Васильич поехал на телеге знакомого мужика запастись продуктами: из Каравайнова в хорошо знакомый ему угол, где сливаются Мокрая Панда и Сухая Панда, а дальше текут в Ворону. Знал он там Грушевку, Гвоздёвку, Трескино, Курган, Калугино. Грушевку – с её обильными сенокосами прямо на задах деревни, в июне всю в запахах мятлика, костера и клевера; Трескино с его странным храмом – трёхэтажным кубом, а барская церковь в Никитине облицована сине-коричневой плиткой, и крыша её под чешуйчатой выкладкой; Курган – с насыпным курганом татарских времён; и саблевидное Калугино с безпорядочно разбросанными куренями по голой балке Сухой Панды. А пойма извилистой Мокрой Панды – вся в густой траве, с боем перепелов, приволье ребятишек, рыболовов, гусей и уток, – хотя и ребятишкам там купанье по пояс, однако и коровы на дневную дойку вылезают из реки же. Лес большой там был – сразу за Грушевкой и Гвоздёвкой; да и близ Никитина, с его множеством садов, – несколько лесистых балок.
Ту весну мужики встречали в большой тревоге, и многие даже не хотели сеять: ведь всё уйдёт зазря, отымут? но и самим-то как без прокорма?
Ватажились в лесках и оврагах. Толковали, как себя защитить.
Но трудно крестьянам разных сёл – сговориться, соединиться, решиться, да ещё ж и выбрать момент, когда перейти черту большой войны.
А между тем гольдинские продотряды всё так же наваливались на сёла грабить, и всё так же сами пировали на стоянках. (А были случаи: велели подавать им на ночь заказанное число женщин – и подавало село, а куда денешься? легче, чем расстрелы.) И всё так же отряды из Губдезертира – расстреливали для примера изловленных. (Призывали сразу три возраста – 18–20-летних. А вступающие в РКПб освобождались от общего призыва.)
И в августе Двадцатого само собою вспыхнуло в Каменке Тамбовского уезда: пришедший продотряд крестьяне перебили и взяли их оружие. И в тех же днях в Трескине: близ волостного правления продотряд созвал собрание активистов – вдруг побежала по улице сила мужиков с вилами, лопатами, топорами. Продотряд стал в них стрелять – но нахлынувшей волной порубали отрядников два десятка, ещё и нескольких жён коммунистов заодно. (Убили и маленького мальчика из толпы: он признал одного из повстанцев: «Дядя Петя, ты меня узнал?» – и тот убил, чтобы мальчик его потом не выдал.) А в Грушевке так озлобились за всё отымаемое – повалили продотрядчика и, как по бревну, перепилили ему шею пилой.
Трудно, трудно русских мужиков стронуть, но уж как попрёт народная опара – так и не удержать в пределах рассудка. Из Княже-Богородицкого, Тамбовского же уезда, освячённая порывом справедливости крестьянская толпа в лаптях – пошла «брать Тамбов» с топорами, кухонными рогачами, вилами – вильники, как ходили в татарское время; потекли под колокольный звон попутных сёл, нарастая в пути, – и так шли к губернскому городу, пока в Кузьминой Гати их, безпомощных, не посекли пулемётными заставами, остальных рассеяли.
И – как пожар по соломенным крышам – понеслось восстание по всему уезду сразу, захватив и Кирсановский и Борисоглебский: повсюду перебивали местных коммунистов (и бабы резали их, серпами), громили сельсоветы, разгоняли совхозы, коммуны. Уцелевшие коммунисты и активисты – бежали в Тамбов.
Коммунисты нахожие – понятно откуда приходили. Но откуда набрались местные? По разным сельским случаям Павел Васильич это осмыслил, да кой-кого он и раньше знал сам. При первых советских выборах волостных и сельских должностных лиц крестьяне ещё не разбирались, какая этим новым выпадет всеразмерная власть, им мнилось – ничтожная, ведь теперь для всех наступила слобода, и не выборы главное, а хватать помещичью землю. И какой порядочный мужик оторвётся от своего хозяйства, чтоб исправлять какую-то там должность по выбору? И потекли на те должности – крестьяне лишь по рождению, а не по труду, озорные, безшабашные, бездельники, голь, да кто с отрочества болтался чернорабочими при городах да на постройках, там успел лизнуть революционных лозунгов, да ещё все дезертиры с фронта Семнадцатого года, кто торопился на грабёж. Вот все эти – и стали сельские коммунисты, активисты, власть.
Павел Васильевич всем своим воспитанием и гуманистической традицией был всегда всей душой против всякого кровопролития. Но теперь, особенно после этого святого народного похода на Кузьмину Гать, соотношение безсильной правоты и неумолимого насилия проступило столь явно, что и правда же: не оставалось крестьянам ничего иного, как поднять оружие. (А много винтовок, патронов, шашек, гранат оставалось ещё, привезенных с германской войны и разбросанных после мамонтовского прорыва, – у кого спрятано, у кого закопано.)
И Эктов не увидел и для себя, народника, народолюбца, иного выхода, как идти туда же и в то же. Хотя: кончилась большая гражданская война – и какие надежды были теперь у мужицкого восстания? Но несомненно, что крестьяне будут лишены грамотного связного руководства. Пусть никакой не военный, лишь кооператор, да грамотный и смышлёный человек, – Эктов пригодится где-то там.
Но – жена, Полина, сердце моё неотрывное! и Мариночка, крошка пятилетняя, глазки васильковые! – как оставить вас? и – на какие испытания? на какие опасности? даже просто на голод? Вот оно, наше самое трепетное, – оно и высшее наше счастье, оно и наша слабость.
Полина – в острой тревоге, но и посильно крепясь, отпустила его: ты – прав. Да… прав… Иди.
И осталась она с дочуркой на их городской квартире, со скудными запасами провизии и дров на будущую зиму, – но и что-то же заработает, учительница.
А Павел Васильич уехал из Тамбова, отправился искать предполагаемый центр восстания.
И нашёл его – в передвижном состоянии – малую кучку вокруг Александра Степановича Антонова, по происхождению кирсановского мещанина, в 1905 году – эсера-экспроприатора (не закрыть глаз: значит, и вперемежку с уголовщиной?), в 1917 вернувшегося из сибирской ссылки, до большевицкого переворота начальника кирсановской милиции, потом набравшего много оружия разоружением чехословацких эшелонов, проходивших через Кирсанов, – и уже летом 1919 с небольшой дружиной перебивал налётами местные комъячейки там и здесь – когда сама партия эсеров всё никак не решалась сопротивляться большевикам, чтобы этим не помочь белым. Действовал Антонов и теперь не от эсеров, а от самого себя. Губчека ловила его всю зиму с 19-го года на 20‑й – и не поймала. Антонов не кончил и уездного училища, образование никакое, но – отчаянный, решительный и смекалистый.
В нарождающемся штабе Антонова, который и штабом назвать ещё было нельзя, – не состояло даже хоть одного офицера со штабным опытом. Был местный самородок, из крестьян села Иноковки 1‑й, Пётр Михайлович Токмаков: унтер царской армии, он на германском фронте выслужился в прапорщики, затем и в подпоручики, и вояка был превосходный, но всего три класса церковно-приходской. Ещё был боевой и буйный прапорщик, тоже из унтеров, распирающей энергии, Терентий Чернега, – в Семнадцатом примкнувший к большевикам, два года служил им, даже и в ЧОНе, а всего насмотрясь – перешёл на крестьянскую сторону. И ещё был унтер, артиллерист, Арсений Благодарёв, – из той самой Каменки, где всё началось, он и был из начинателей. Все эти трое дальше получили в командование по партизанскому полку, Токмаков потом – бригаду из четырёх полков, – но ни один же из них и близко не был способен к штабной работе. И адъютантом Антонова был вовсе не военный, а учитель Старых из Калугина на Сухой Панде.
И когда Эктов представился Антонову – так и пришёлся он пока самый подходящий «начальник штаба»: лишь бы грамотный сообразительный человек да умел бы топографическую карту читать. Спросил Антонов фамилию. Странно, но Эктов не запасся. Уже начал: «Эк…», и тут же прохватило: нельзя называть! И горло само перешло на:
– а… га…
Антонову послышалось:
– Эгов?
А что? Псевдоним, и неплохой. Ответил уже чётко:
– Эго. Пусть так.
Ну, так и так, Антонов и не допытывался.
И скоро все его знали как «Эго», тоже Павел, только Тимофеевич. И вскоре признали за ним авторитет «начальника штаба» (сам себе удивлялся), впрочем, он только чуть и связывал, соединял их общие дела, – а и сам Антонов и его партизанские начальники чаще вели отряды своим порывом, никого не спрашивая, да и по внезапности обстоятельств.
Тамбовский уезд не так-то был и удобен для партизанской войны: как и бóльшая часть губернии – малолесен, равнина, небольшие холмы, правда много глубоких балок и оврагов («яруг»), дающих и коннице укрытие от степного прозора. И сеть просёлков с наезженной колеёй, да скакала конница и поперёк поля.
А что это была за конница! Стремена – верёвочные, вместо сёдел у большинства – подушки (и на ходу вьётся пух из-под всадника…). Кто в солдатской одёжке, а кто в крестьянской (на шапке – красная ленточка наискось: они – за революцию, тоже красные! и обращение, когда не по деревенским кличкам: «товарищ»). Зато – повстанцы всегда на свежих конях, безпрепятственно меняют их у крестьян (хоть и не без крестьянской обиды: наши-то ребята наши, так ведь и лошадь моя…). Понасобирали берданок, двустволок, винтовочных обрезов (их легче прятать, а меткость вблизи не намного меньше), трофейных с войн Гра и Манлихеров. Начинали – с по пять патронов к винтовке, потом отбивали у продотрядов, у чоновцев, и даже захватывали целые оружейные склады, а раз была и такая смелая антоновская операция: захватили у красных целый поездной эшелон боеприпасов, в поспешке развезли телегами по деревням, подальше прочь от железки, которой лишнего часа не удержишь.
Впрочем, из-за многолюдства повстанцев, всё равно сильно не хватало оружия, даже и шашек, – и по набату всё ещё бежали из деревень с вилами. (Был и такой сигнал у повстанцев: при появлении большевицкого отряда – останавливаются в том селе мельничные крылья, либо – с другого конца села тут же ускакивает вестовой, оповещать соседей.)
Радость успешных набегов, да и успешных уходов – взбадривала и изумляла Эктова: и как же это всё удаётся? ведь прямо – из ничего!
Так и жили – сперва недели, потом и месяцы: днём работали как крестьяне, а при тревоге и просто с вечера – садились на коня и в набег. Через буераки гонялись отряды друг за другом, и те и эти. При разгроме – повстанцы разлетались, прятали оружие, и не у себя во дворах, а по яругам.
…После пролёта боя лежит убитый, головой в ручье. А лошадь – печально стоит, часы, возле мёртвого хозяина… А по травам перескакивает трясогузка…
Любимое место укрытия антоновской конницы было – низменность по реке Вороне. Там – и поляны в просторном кольце как бы расставленных дубов, вязов, осин, ив. Измученные верховики сваливались полежать на полянах, заросших мятликом да конским щавелем, и лошади тут же щиплют, медленно перебраживая. К тем местам – заброшенные полудороги, а дальше – непродорная урёма – низкое густое переплетенное лесокустье, высоченная трава, в ней и гадюки двухаршинные с чёрно-насеченной спиной. (Одно из самых недоступных мест так и зовётся – Змеиное болото.)
В сентябре вспыхнуло восстание и в Пахотном Углу, много северней Тамбова, к Моршанску: там сколотили коммунисты год назад «образцовую коммуну» – а теперь те образумленные коммунисты стали отдельной, но крепкой группировкой повстанцев.
Так множились повстанцы, что, осмелев, в начале октября пошли атаковать с юга Каменку, выручать её от ставшего там красного гарнизона. Те ответили пушками и в контратаку кроме конницы послали и пехоту. Повстанцы спешились и – в первый и единственный раз – вырыли окопы, привычное дело с войны, но то для них была ошибка: не выдержали регулярного двухсуточного боя, бросили окопы, отступили к Туголукову, изобильному лошадьми, – и из Туголукова много крестьян, сев на лошадь и добавив ещё заводную, уходили вместе с партизантами.
Район восстания был опасно охвачен треугольником железных дорог Тамбов – Балашов – Ртищево, и постоянные гарнизоны стояли на крупных станциях. Эти пути надо было портить при каждом случае. И несколько раз антоновцы, налетев, местами разбирали пути, лошадиной тягой гнули рельсы в дугу.
Зато железнодорожные служащие, особенно телефонисты и телеграфисты, в массе своей сочувствовали повстанцам, и иные задерживали в передаче распоряжения красных, или теряли, искажали, а то и передавали партизанам – и большевики не могли надёжно использовать свои линии связи. А железнодорожники ртищевского узла даже избрали делегацию к повстанцам, на поддержку, но чекисты успели арестовать делегатов, а на всё Ртищево объявили чрезвычайное положение.
Повстанцев становилось всё больше – и один за другим формировались партизанские полки, по полторы и по две тысячи человек, уже переваливало число полков за десяток, у полков появились и свои знамёна и пулемёты – Максима и Льюиса. Командирами становились и бывшие унтеры и ефрейторы, с опытом германской войны, и просто крестьяне от сохи. И смышлёно же командовали.
В ноябре Антонов с главными силами пошёл и на сам Тамбов, вызвав большой переполох у тамбовских властей (те пилили-валили вековые дубы на завалы дорог к городу, расставляли пулемёты на городских колокольнях). Эктов верить не мог: неужели, вот, хоть на короткий час и сам туда, и выхватит, увезёт семью?.. (До Сердобска бы довёз, а там у Полины двоюродная сестра, у неё б и прикрылась.)
Нет, в двадцати верстах от Тамбова, в Подосклей-Рождественском, после крупного боя, пришлось повстанцам отступить.
Вандея? Но отметная была разница: наше православное духовенство, не от мира сего, не сливалось с повстанцами, не вдохновляло их, как боевое католическое, а осторожно сидело по приходам, по своим домам, хотя и знали: красные придут – всё равно могут голову размозжить. (Как в Каменке попа Михаила Молчанова застрелили ни за что на ступеньках своего дома.)
Вандея? Иногда и не без насилия: приходил красноармеец в отпуск в свою деревню, а у него односельчане уничтожали документы – и куда ему после того деваться? выхода нет, как в партизаны. И из отряда партизанского уж и вовсе не уйти, хоть и задумал бы: свои ж не дадут жить в селе с семьёй. Или какая баба замечена, что проболтала красным о передвижениях повстанцев, – секли её по голому заду прилюдно, на площади перед церковью.
Тамбовским мирным мужикам теперь гроза была со всех сторон: что не так сделаешь – отомстят потом хоть красные, хоть повстанцы. Боятся и с иными соседями просказываться. Один раз, в общем валу, сходил вильником за десять вёрст, пойман, а хоть и отпущен – вперёд уже навек виноват перед властями.
Стук в дверь: «Кто там?» – «Свои». Чтоб не попасться, на всяк случай: «Все вы, черти, свои, да житья от вас нет».
Одну бабу допрашивали красные, где её сын. Отреклась: «Нет у меня никакого сына!» А потом его поймали, он назвался: сын такой-то. И его расстреляли: мол, врёт.
В это мужицкое положение ставил Павел Васильич не раз и себя. Извечная радость человека и извечная его уязвимость: семья! У кого вместо сердца подкова железная, чтоб не дрогнуть за своих родных, что затерзают их эти чёртовы когти?
А бывало и такое: растрепали в деревне продотряд, двое из них – китаец и финн – спрятались на задах у деда. Китайца заметили, подстрелили, а финна дед пожалел и, головой рискуя, спрятал в сноп, а ночью выпустил – и тот дал дёру, к своему гарнизону, в Чокино. (Для следующей экспедиции?..)
Вандея? Эсеры Тамбовской губернии заколебались: и нельзя поддерживать восстание против революции, и возглавить это восстание было упущено, за ними уже не пойдут. Но и: теперь, когда кончилась Гражданская война, как не использовать народный напор против коммунистов? Пристраивались к возникшим «союзам трудового крестьянства» и писать листовки, и приписать всё восстание эсеровской партии.
Да у повстанцев уже свои были лозунги: «Долой Советы!» (никак не эсеровский, эсеры – за Советы); «Не платим развёрстки!»; «Да здравствуют дезертиры Красной армии!».
У Эктова оказалась пишущая машинка, захваченная в исполкоме, так он и сам сочинял и усердно печатал прокламации: «Мобилизованные красноармейцы! Мы – не бандиты! мы такие же крестьяне, как вы. Но нас заставили бросить мирный труд и послали на своих братьев. А разве ваши семейства не в таких же условиях, как наши? Всё убито Советами, на каждом шагу озверелые коммунисты отбирают последнее зерно и расстреливают людей ни за что. Раскалывают наши головы как горшки, ломают кости – и на том обещают построить новый мир? Сбрасывайте с себя коммунистическое ярмо и идите домой с оружием в руках! Да здравствует Учредительное Собрание! Да здравствуют союзы трудового крестьянства!»
Да повстанцы и сами, кто горазд, выписывали чернильными карандашами на случайных листках бумаги: «Довольно слушать нахалов коммунистов, паразитов трудового народа!» – «Мы пришли крикнуть вам, что власть обидчиков и грабителей быть не должна!» И к нерешительным: «Мужики! У вас забирают хлеб, скотину, а вы всё спите?»
Коммунисты отвечали большим тиражом типографских листовок со своей обычной классовой долдонщиной или сатирическими картинками: Антонов в кровавой шапке с кровавым ножом, а на груди, в виде орденов, – Врангель и Керенский. «Мы, Антонов Первый, Поджигатель и Разрушитель Тамбовский, Самодержец Всеворовской и Всебандитский…»
Это стряпал завагитпропа губкома Эйдман, никогда его тут, в Тамбове, не слышали прежде. А в грозных распоряжениях чаще всего мелькали подписи секретарей губкома Пинсона, Мещерякова, Райвида, Мейера, предгубисполкома то Загузова, то Шлихтера, предгубчека Трасковича, начальника политотдела Галузо – и этих тоже Тамбов не знал никогда, и эти тоже были пришлые. А в составе их губ-губ властей мелькали и другие, кто не подписывал грозных приказов, но решали-то все вместе: Смоленский, Зарин, Немцов, Лопато и даже женщины – Коллегаева, Шестакова… И об этих тоже Эктов не слышал прежде, только один среди них был точно местный, всеизвестный оголтелый большевик Васильев, прохулиганивший в городе весь Семнадцатый год, свистевший и топавший даже на чинных собраниях в Нарышкинской читальне. Об остальных не слыхивал Эктов, а ведь свора эта была – не из той же ли оппозиционной интеллигенции, что и он сам? и несколько лет назад, до революции, встретились бы где-нибудь – он пожимал бы им руки?..
Но пропаганда пропагандой, а большевики подтягивали силы. Установила антоновская разведка, что прибыл из Москвы полк Особого назначения ВЧК, ещё эскадрон от тульской ЧК, ещё 250 сабель из Казани, до сотни из Саратова. Ещё пришёл из Козлова «коммунистический отряд» и два таких отмобилизовались в Тамбове. Ещё появился у них и «автобоевой отряд имени Свердлова» и отдельный железнодорожный батальон. (Рискованную разведку вели и верная баба с махоткой молока, и надёжный мужик с возом дров в город. Через одну такую бабу раз послал Павел Васильич устную весточку о себе Полине – и в ответ узнал, что – целы, не раскрыты чекой, скудно живут, но надеются…)
Отделавшись от страха за целость самого Тамбова, красные вожди свои нарощенные силы стали равномерно расквартировывать по всем трём мятежным уездам, особенно по Тамбовскому, – планово оккупировать их. (В большом десятитысячном селе взяли 80 заложников и объявили жителям: за несдачу селом огнестрельного оружия к следующему полудню – все эти 80 будут расстреляны. Угроза была слишком непомерна, село не поверило, никто ничего не сдал – и в следующий полдень на виду у села все восемьдесят были расстреляны!)
Стали и летать большевицкие самолёты (были и хвастливо выкрашенные в красный цвет), наблюдать, иногда и сбрасывать бомбы, что сильно пугало селян.
Осенью, избегая наседающего преследования, Антонов временно уводил свои главные силы то в Саратовскую губернию, то в Пензенскую. (А саратовские крестьяне, мстя за забранных или смененных лошадей, стали и сами ловить тамбовских повстанцев и расправляться самосудом. Судьба крестьянских восстаний…)
Вместе с главным штабом и Эго был в этих рейдах, и уже привык к такой жизни, конной, бродячей, бездомной, на холодах и в тревоге, в уходах от погони. Стал военным человеком? – нет, не стал, трудно было ему, никогда к такому не готовился. А – надо терпеть. Разделял крестьянскую боль – и тем насыщалась душа: он – на месте. (А не пришёл бы сюда – дрожал бы в норке в Тамбове, презирал бы себя.)
А мятежный край не утихал! Хотя поздней осенью и к зиме партизанам стало намного трудней скрываться и ночевать – а полки партизанские росли в числе. Поборы, собираемые красными отрядами, откровенный грабёж, когда делили отобранное крестьянское имущество – тут же, на глазах крестьян, избивали стариков, а то и сжигали деревни начисто, как Афанасьевку, Бабино, и это к зиме, выгоняя и старых и малых на снег, – поддавало новый заряд повстанческому сопротивлению. (Но и повстанцам же где-то питаться. Раньше брали у семей советского актива, потом и у семей красноармейцев, а дальше, не хватало, – уже и у крестьян подряд. Кто давал понимаючи, а кто и обозлевался.)
К середине зимы уже сформировалось две партизанских Армии, каждая по десятку полков, 1‑й армией командовал Токмаков, 2‑й – сам Антонов. В штабах армий появились уже и настоящие военные, наводившие порядок, начиная с формы: рядовым установили красные нашивки на левом рукаве выше локтя, командирам добавлялась ленточка, нашитые треугольники вершиной вниз или вверх, а с командиров бригад – ромбы. Командный состав избирался на полковых собраниях (и ещё – политкомы, и ещё – полковой суд). Издавали и приказы: полный запрет устраивать в деревнях конфискации одежды, вещей и обыски на поиск продуктов; не разрешать партизанам слишком часто менять своих лошадей у крестьян, только по решению фельдшера, а – получше следить за лошадью своей; и, как в настоящей армии, вводили партизанам черёдность отпусков – но и своя милиция в сёлах проверяет документ, по какому партизан приехал.
Зимой взаимное озлобление только ещё распалилось. Красные отряды расстреливали и уличённых, и подозреваемых, стреляли безо всякого следствия и суда. У карателей выявился разряд людей, уже настолько привыкших к крови, что рука у них подымалась, как муху смахнуть, и револьвер сам стрелял. Партизаны, бережа патроны, больше рубили захваченных, убивали тяжёлым в голову, комиссаров – вешали.
И до того доходило разъярение мести с обеих сторон, что и глаза выкалывали захваченному, прежде чем убить.
Из ограбленных сёл ребятишки с салазками ездили за битой кониной. Этой зимой развелось много обнаглевших волков. И собаки тоже ели трупы, разбросанные по степи и по балкам, и разрывали мелко закопанных.
Разъезжала по оккупированным сёлам выездная сессия Губчека – Рамошат, Ракуц и Шаров, сыпали расстрельные приговоры, а подозреваемых, но никак не пойманных на повстанчестве, стали ссылать в «концентрационные лагеря». В январе антоновский штаб сведал секретное письмо: тамбовская Губчека получила от центрального управления лагерей Республики дополнительно 5 тысяч мест в лагерях для своих задержанных. А с бабами и девками, уведенными в ближние концлагеря, охрана с кем развратничала, кого насиловала, слухом полнилась земля.
Сёла скудели. Даже в богатенной когда-то Каменке осталось с два десятка лошадей. Ко рваным башмакам люди ладили деревянные подошвы, бабы ходили по морозу без чулок. И заведёт кто-нибудь: «А при царе поедешь на базар – покупай, что по душе: сапоги, ситцу, кренделёв». Только бумага нашлась на курево: из помещичьих книг да из красных уголков.
Со старым-престарым дедом из хутора Семёновского Эктов горевал, как гинет всё. Казалось – жизнь уже доходит до последнего конца, и после этого какая ещё останется?
– Ништо, – сказал серебряный дед. – Из-под косы трава да и то уцелевает.
А достали-таки тамбовские крестьяне до Кремля! В середине февраля стали объявлять, что в Тамбовской губернии хлебная развёрстка прекращается.
Никто не поверил.
Тогда напечатали в газетах, что Ленин вдруг «принял делегацию тамбовских крестьян». (В самом ли деле? Позже стало в антоновском штабе известно: да, несколько мужиков, сидевших в тамбовской ЧК, запуганных, доставляли в московский Кремль.)
Большевики, видно, торопились кончить восстание к весне, чтобы люди сеяли (а осенью – опять отбирать).
Но ярость боёв уже не унималась. И в марте, двумя полками, антоновцы налетели на укреплённое фабричное село Рассказово, под самым Тамбовом, разгромили гарнизон и целый советский батальон взяли в плен. И половина из них охотой пошла в партизанты.
Павел Васильич с осени не верил, не надеялся, что в таких передрягах вытянет, перезимует. Но вот – дотерпел, дожил и до марта. И даже настолько признали уже его военным человеком, что сделали помощником командира полка Особого назначения при штабе 1‑й армии.
И ещё успел он прочесть два мартовских приказа звереющих карателей: «Обязать всех жителей каждого села круговой порукой, что если кто из села будет оказывать какую-либо помощь бандитам, то отвечать за это будут все жители этого села», а «бандитов ловить и уничтожать как хищных зверей». И – наивысшим доводом: «всё здоровое мужское население от 17 до 50 лет арестовывать и заключать в концентрационные лагеря»! А прямо к повстанцам: «Помните: ваши списки большей частью уже в руках Чека. Явитесь добровольно с оружием – и будете прощены».
Но ни калёной прокаткой, ни уговором – уже не брались повстанцы, в затравленных метаньях по заснеженным морозным оврагам и перелескам. И уже вот-вот манила весна – а там-то нас и вовсе не возьмёшь!
И тут, в марте, уже перенеся зиму, Эктов сильно простудился, занемог, должен был отстать от полка, лечь в селе, в тепле.
И – на вторую же ночь был выдан чекистам по доносу соседской бабы.
Схвачен.
Но – не расстрелян на месте, хотя уже знали его роль при токмаковском штабе.
А – повезли в Тамбов.
Город имел вид военного лагеря. Многие дома заколочены. Нечищенный грязный снег на панелях. (Свой домик – на боковой улице, не видел.)
И – дальше, через Тамбов. Посадили в зарешеченный вагон, в Москву.
Только не на свиданье с Лениным.
2
Сидел в лубянской тюрьме ВЧК, в полуподвале, в одиночке, малое квадратное окошко в уровень тюремного двора.
Отначала видел главное испытание в том, чтобы себя не назвать, – да то самое испытание, какое нависло и над каждым вторым тамбовским крестьянином, да с тем же и выбором: назвал себя – погиб. А не назвал – погиб же, только другим родом.
Придумал себе биографию – тоже кооператора, только из Забайкалья, из тех мест, которые знал. Может, по нынешнему времени проверить им трудно.
На допросы водили его тремя этажами вверх, в один и тот же всегда кабинет с двумя крупными высокими окнами, старой дорогой мебелью Страхового общества и плохоньким бумажным портретом Ленина в богатой раме на стене над головой следователя. Но следователи – сменялись, трое.
Один, Марагаев, кавказского вида, допрашивал только ночами, спать не давал. Допрашивал ненаходчиво, но кричал, вызверивался, бил по лицу и по телу, оставляя синячные ушибы.
Другой, Обоянский, всем нежным видом выдавая голубую кровь, – не так допрашивал, как вселял в подследственного безнадёжность, даже будто бы становясь с ним сочувственно на одну сторону: они всё равно победят, да уже везде победили, Тамбовская губерния осталась последняя; против них никто не может устоять и в России и в целом мире, это – сила, какой человечество ещё не встречало; и благоразумнее сдаться им, прежде чем они будут карать. А может быть – смягчат участь.
А третий – пухлощёкий, черноволосый, весело подвижный Либин никогда не дотронулся до подследственного и пальцем, и не кричал, но всегда говорил с бодрой победной уверенностью, да видно, что и не наигранной. И домогался пробудить в подследственном демократическую совесть: как же он мог изменить светлому идеалу интеллигенции? как же может демократ стоять против неумолимого хода истории, пусть и отягчённого жестокостями?
Этих жестокостей Эктов мог поведать следователю больше, чем тот и представлял. Мог бы, но не смел. Да не ту линию он и избрал: вот на этом-то и стоять: что – демократ, народник, что тронула сердце пронзительная крестьянская беда, а белогвардейщиной тут и не веет. (Да ведь – и правда так.)
А Либин – как будто по той же освободительной линии и вёл навстречу:
– В будущие школьные хрестоматии войдёт не один эпизод героизма красных войск и коммунистов, давивших этот кулацкий мятеж. Момент борьбы с кулачеством займёт почётное место в советской истории.
Спорить было безнадёжно, да и к чему? Главное: узнают ли, кто он. Это хорошо, что увезли в Москву, в Тамбове легче бы его узнали, пропуская через свидетелей. Одно только ныло предчувствием: сфотографировали его в фас и в профиль. Могли фотокарточку размножить, разослать в Тамбов, Кирсанов, Борисоглебск. Хотя и: за полгода боевой жизни Эктов так изменился, посуровел, пожесточел, и в ветрогаре, – сам себя не узнавал в зеркало в избах, впрочем и зеркала там плохонькие.
Пока не вызнали – кто, семья была в безопасности. А самого – что ж, пусть и стреляют: за эти месяцы безщадной войны Павел Васильич давно обвыкся с мыслью о смерти, да и попадал уже на волосок от неё.
Да его запросто могли расстрелять и при взятии – непонятно, зачем уж так им надо было его опознать? зачем везли в Москву? зачем столько времени надо было тратить на переубеждения?
А недели текли – голодные, скудная похлёбка, крохотка хлеба. Бельё без смены, тело чесалось, стирал как мог в редкие бани.
Из одиночки соединяли и в камеру – сперва с одним, потом с другим. По соседству не обойтись без расспросов: а кто вы сами? а как попали в восстание? а что там делали? Отвечать – нельзя, и совсем не ответить нельзя. А оба – мутные типы, сердце-вещун узнаёт. Что-то плёл.
Прошёл апрель – не узнали!
Но – ещё раз сфотографировали.
Клещи.
Опять в одиночку, в подвал.
Потёк и май.
Тянулись и дни, но ещё мучительней – ночи: в ночи, плашмя, ослабляется человек и его жизненная сила сопротивления. Кажется: ещё немного – и сил уже не собрать.
И Обоянский кивал с измученной улыбкой:
– Не устоять никому. Это проснулось и пришло к нам могучее невиданное племя. Поймите.
А Либин оживленно рассказывал о военных красных успехах: и сколько войск нагнали в Тамбовскую губернию, и даже – тут не секрет и сказать – каких именно. И курсантов из нескольких военных училищ расположили по тамбовским сёлам для усиления оккупации.
Да – разбиты уже антоновцы! Разбиты, теперь добивают отдельные кучки. Уже сами приходят в красные штабы гурьбами и приносят винтовки. И ещё помогают находить и разоружать других. Да один полк бандитов – полностью перешёл на красную сторону.
– Какой? – вырвалось.
Либин с готовностью и отчётливо:
– 14‑й Архангельский 5‑й Токайской бригады.
Здóрово знали.
Но ещё проверь – так ли?..
Да приносил на допросы в подтверждение тамбовские газеты.
Судя по ним – да, большевики победили.
А – что могло стать иначе? Он когда и шёл в восстание – понимал же безнадёжность.
А вот – приказ № 130: арестовывать семьи повстанцев (выразительно прочёл: семьи), имущество их конфисковать, а самих сгонять в концентрационные лагеря, потом ссылать в отдалённые местности.
А вот – приказ № 171, и опять: о каре семьям.
И – не замнутся перед тем, уж Эктов знал.
И, уверял Либин, от приказов этих – уже большие плоды. Чтобы самим не страдать – крестьяне приходят и указывают, кто скрылся и где.
Очень может и быть. Великий рычаг применили большевики: брать в заложники семьи.
Кто – устоит? Кто не любит своих детей больше себя?
– А дальше, – заверял Либин, – начнётся полная чистка по деревням, всех по одному переберём, никто не скроется.
А кое-кто из крестьян знали же Павла Васильича по прошлым мирным годам, могли и выдать.
Однако сидел Эктов третий месяц, и врал, и плёл, а вот же – не расшифровали?..
Пока Либин как-то, с весёлой улыбкой, даже дружески расположенный к неисправимому демократу-народолюбцу, кстати посадив его под усиленный свет, улыбнулся сочными плотоядными губами:
– Так вот, Павел Васильич, мы прошлый раз не договорили…
И – обвалилось.
Оборвалось.
Уже катясь по круче вниз, последними ногтями цепляясь за кочки надежд: но это ж не значит – и семью? Но, может, Полина с девчуркой поостереглась? сменила место? куда-нибудь уже переехала?..
А Либин, поблескивая чёрными глазами, насладясь растерянностью подследственного, его безпомощным неотрицанием, довернул ему обруч на шее:
– И Полина Михайловна не одобряет вашего упорства. Она теперь знает факты и удивляется, что вы до сих пор не порвали с бандитами.
Несколько минут Эктов сидел на табуретке оглушённый. Мысли плясали в разные стороны, потом стали тормозиться в своём кругообороте – и застывать.
Либин – не спускал глаз. Но и – молчал, не торопил.
Так Полина не могла ни думать, ни говорить.
Но, может, – измучилась до конца?
Но, может, это и повод: дайте увидеться! дайте мне с ней поговорить самому!
Либин: э, нет. Это – надо вам ещё заслужить. Сперва своим раскаянием.
И пошло два-три дня так: Эктов настаивал на встрече. Либин: сперва полное раскаяние.
Но Эктов не мог растоптать, чтó он видел своими глазами и твёрдо знал. И притвориться не мог.
Но и Либин не уступал ни на волос. (Да тем и доказывал, что Полина думает совсем не так! Наверное же не так!)
И тогда Либин прервал поединок – наперехват дыхания: чёрт с вами, не раскаивайтесь! чёрт с вами, оставайтесь в вашем безмозглом народничестве! Но если вы не станете с нами сотрудничать – я вашу Полину отдам мадьярам и ЧОНу на ваших глазах. А девчёнку возьмём в детдом. А вам – пулю в затылок после зрелища, это вы недополучили по нашей ошибке.
Ледяное сжатие в груди. А – что ж тут невозможного для них?
Да подобное и было уже не раз.
Да на таком – они и стоят.
Полина!!..
Ещё день и ещё два дали Эктову думать.
А можно ли думать – в застенке угроз, откуда выхода нет? Мысли прокруживаются безсвязно, как впрогрезь.
Пожертвовать женой и Маринкой, переступить через них – разве он мог??
За кого ещё на свете – или за что ещё на свете? – он отвечает больше, чем за них?
Да вся полнота жизни – и были они.
И самому – их сдать? Кто это может?!..
И Полину же потом пристрелят. И Маринку не пощадят. Этих он уже знал.
И – если б он этим спасал крестьян? Но ведь повстанцы – уже проиграли явно. Всё равно проиграли.
Его сотрудничество – какое уж теперь такое? Что оно может изменить на весах всего проигранного восстания?
Только жертва семьёй – а ничего уже не изменишь.
Как он ненавидел это нагло торжествующее победное смуглое либинское лицо с хищным поблеском глаз!
А в сдаче – есть и какое-то успокоение. То чувство, наверное, с каким женщина перестаёт бороться. Ну да, вы оказались сильней. Ну что ж, сдаёмся на вашу милость. Род облегчающей смерти.
И уж какую такую пользу он мог сейчас принести красным?
Сокрушился. Однако с условием: дать свидание с Полиной.
Либин уверенно принял капитуляцию. А свидание с женой: только тогда, когда вы выполните наше задание. Тогда – пожалуйста, да просто – отпустим вас в семью.
И – что ж оставалось?
Какое немыслимо каменное сердце надо иметь, чтобы растоптать своё присердечное?
И во имя чего теперь?
Да и мелодичные наговоры Обоянского тоже не прошли без следа. Действительно: сильное племя! Новые гунны – но вместе с тем с социалистической идеологией, странная смесь…
Может быть и правда: мы, интеллигенты старой закалки, чего-то не понимаем? Пути будущего – они совсем не просто поддаются человеческому глазу.
А задание оказалось вот какое: быть проводником при кавалерийской бригаде знаменитого Григория Котовского, героя Гражданской войны. (Они только что прошлись по мятежному Пахотному Углу и вырубили полтысячи повстанцев.) При том – себе – никакой личины не надо придумывать, тот самый и есть известный Эго, из антоновского штаба. (Антонов – разгромлен полностью, армии его уже нет, но сам он сбежал, ещё скрывается. Да им – заниматься не будем.)
А что делать?
А, выяснится по дороге.
(Ну, как-нибудь, может быть, обойдётся?)
Из Тамбова дорога была недлинная – до Кобылинки, впрочем уже на краю одного из излюбленных партизанских районов.
Всё – верхом. (И чекисты, в гражданском, рядом, неотступно. И полуэскадрон красноармейцев при них.)
А – снова открытый воздух. Открытое небо.
Уже начало июля. Цветут липы. Вдыхать, вдыхать.
Сколько наших поэтов и писателей напоминали об этом: как прекрасен мир – и как принижают и отравляют его люди своими неиссякаемыми злобами. Когда ж это всё утишится в мире? Когда же люди смогут жить нестеснённой, неискорёженной, разумной светлой жизнью?.. – мечта поколений.
Несколько вёрст не доезжая Кобылинки, встретились с самим Котовским – крупная мощная фигура, бритоголовый и совершенно каторжная морда. При Котовском был эскадрон, но не в красноармейской форме, а в мужицких одеяниях, хотя все в сапогах. Бараньи шапки, папахи. У кого, не у всех, нашиты казачьи красные лампасы по бокам брюк. Самодельные казаки?
Так и есть. Приучались называть друг друга не «товарищ», а «станичник».
Старший из сопровождавших Эктова чекистов теперь объяснил ему задачу: этой ночью будет встреча с представителем банды в 450–500 сабель. Эго должен подтвердить, что мы – казаки из кубано-донской повстанческой армии, прорвались через Воронежскую губернию для соединения с Антоновым.
И к ночи дали Эго навесить на бок разряженный наган и посадили на самую скверную хилую лошадь. (Четверо переодетых чекистов держались тесно при нём как его новая, после разгрома главных антоновских сил, свита. И у них-то наганы – полнозаряженные, «убьём по первому слову».)
И сам Котовский с эскадроном поехал на встречу в дом лесника, у лесной поляны. С другой стороны, тоже с несколькими десятками конников, подъехал Мишка Матюхин, брат Ивана Сергеевича Матюхина, командира ещё неразбитого отряда. (У тамбовцев часто шли в восстание по несколько братьев из одной семьи; так и при Александре Антонове сражался неотлучно его младший брат Митька, сельский поэт. Вместе они теперь и ускользнули.)
Конники остались на поляне. Главные переговорщики вошли в избу лесника, где горело на столе две свечи. Лица разглядывались слегка.
Миша Матюхин не знал Эго в лицо, но Иван-то Матюхин знал.
– Проверит, – сам не узнавал своего голоса Эктов и что он несёт мужикам такую ложь. Но когда уже пошёл по хлипкому мостику, то и не останавливаться стать. И на Котовского: – А вот начальник их отряда, войсковой старшина Фролов.
(Чтобы не переиграть, Котовский не нацепил на себя казачьих полковницких погонов, хотя это было легко доступно.)
Матюхин потребовал, чтобы Эго поехал с ним на сколько-то вёрст для встречи со старшим братом, удостоверить себя.
Чекистская свита не дрогнула, заминки не вышло, кони под ними боевые и патронов к наганам запас.
Поехали сперва по лесной просеке, потом поперёк поля, под звёздным небом. Мелкой рысью и в темноте никому не удивиться, что под Эго-то кобылка никудышняя рядом с его свитскими.
Трясся в седле Павел Васильевич – и думал ещё раз, и ещё раз, и ещё раз, и думал отчаянно: вот сейчас открыться Матюхину, себе смерть, но и этих четверых перебьют!
А полтысячи матюхинских – спасётся. А ведь – отборная сила!
Но – и столько уже раз перекладенные: в голове – аргументы, в груди – живое страдание. Нет, не за себя, нисколько. А: ведь отомстят Полине, как и угрозили, если ещё и не малютке-дочке. Чекистов – он и давно понимал, а за эти месяцы на Лубянке, а за эти дни в переезде – и ещё доскональнее.
И – как же обречь своих?.. Сам ты, своими руками?..
Да ведь – проиграна вся боевая кампания Антонова. Если посмотреть шире, в большом масштабе – может и всей губернии будет легче от замирения наконец. Ведь вот отменена уже грабительская продразвёрстка, отныне заменится справедливым продналогом.
Так скорей к замирению – может и лучше? Раны – они постепенно затянутся. Время, время. Жизнь – как-то и наладится, совсем по-новому?
А – изныли мы все, изныли.
Доехали. Новая изба, и свет посветлее.
И Иван Сергеич Матюхин – налитой богатырь с разведенными пшеничными усами, неутомный боец – шагнул навстречу, вознался в Эго, с размаха пожал руку.
Иудина ломота в руке! Кто эти муки оценит, если не испытал?..
А держаться надо – уверенно, ровно, командно.
Прямодушный Матюхин с белым густым чубом, прилегающим набок. Плотные нáщеки. Сильное пожатие. Воин до последнего.
Поверил – и как рад: нашего полку прибыло! Ещё тряханём большевиков!
Усмешка силы.
Сговорились: в каком большом селе завтра к вечеру сойдутся обоими отрядами. А послезавтра – выступим.
Был момент! – Эктову блеснуло: нет!! говорю! застреливайте меня, терзайте семью – но этих честных я не могу предать!
Но – в этот миг пересохло в горле, как чем горелым.
Пока проглотнул – а кто-то перебил, своё сказал. Кто-то – ещё. (Чекисты здорово играли роли, и у каждого своя история, почему его раньше не видели в восстании. И выправка у всех – армейская или флотская.)
А решимость – уже и отхлынула. Опала безсильно.
На том и разъехались.
И потом растягивался долгий – долгий – долгий мучительный день при отряде Котовского.
Ненависть к себе.
Мрак от предательства.
С этим мраком – всё равно уже не жить никогда, уже не быть человеком. (А чекисты не спускают глаз за каждым движеньем его бровей, за каждым моргом век.) Да скорей-то всего: как отгодишься, так и застрелят. (Но тогда не тронут Полину!)
К вечеру – вся кавбригада на конях. И – много ряженных в казаков.
Потянулись строем. При Эго – свита его. Котовский – в кубанской лохматой папахе, из-под неё звериный взгляд.
Котовский? или Катовский, от ката? На каторге сидел он – за убийство, и неоднократное. Страшный человек, посмотришь на него – в животе обвисает.
В условленное село отряды въехали в сумерках, с двух разных концов. И – расставлялись по избам. (Только котовцы – не всерьёз, кони оседланы, через два часа бойня. А матюхинцы – располагались по-домашнему.)
В большой богатой избе посреди села, где сходились порядки, у церкви – величавая хозяйка, ещё не старуха, с дочерьми и снохами уряжала составленные в ряд столы на двадцатерых. Баран, жареные куры, молодые огурчики, молодая картошка. Самогон в бутылках расставлен вдоль стола, гранёные стаканы к нему. Керосиновые лампы светят и со стены, и на столе стоят.
Матюхинцы – больше рядом, по одну сторону, котовцы – больше по другую. Эго посадили на торце как председателя, видно тех и других.
Какая жизненная сила в повстанческих командирах! Да ведь сколькие из них прошли через германскую войну – унтеры, солдаты, а теперь в командирских должностях.
Скуластая тамбовская порода, неутончённые тяжёлые лица, большие толстые губы, носы один-другой картошкой, а то – крупный свисающий. Чубы – белые, кудель, чубы чёрные, один даже с чёрно-кирпичным лицом, к цыгану, зато повышенная белота зубов.
У котовцев условлено: больше гуторить тем, кто по-хохлацки, идут за кубанцев. А донца – средь них ни одного, но расчёт, что тамбовцы не отличают донского говора.
У одного матюхинца – дремуче недоверчивое лицо с оттопыренным подбородком. Мешки под глазами, повисшие чёрные усы. Сильно усталый.
А другой – до чего же лих и строен, усы вскрученные, взгляд метуче зоркий, но весёлый. На углу сидит и, по простору, нога за ногу вскинул, с изворотом. Неожиданности как будто и не ждёт, а готов к ней, и к чему хочешь?
Эго не удержался: дважды толкнул его ногой. Но тот не понял?
А стаканы самогона – заходили, горяча настроение и встречу дружбы. Длинные ножи откраивали баранину и копчёный окорок. Дым ядрёной махорки подымался там и сям, стлался к потолку. Хозяйка плавала по зальцу, молодые бабы спешили угадать-подать-убрать.
А вдруг какое чудо произойдёт – и всё спасёт? Матюхинцы сами догадаются? спасутся?
«Подхорунжий» (комиссар и чекист) «Борисов» поднялся и стал читать измышленную «резолюцию всероссийского совещания повстанческих отрядов» (которое надо собрать теперь). Советы без коммунистов! Советы трудового крестьянства и казачества! руки прочь от крестьянского урожая!
Один матюхинец – не старый, а с круглой распушенной бородой, пушистыми усами, устоенное жизнью лицо, – смотрел на читающего спокойными умными глазами.
Рядом с ним – как из чугунной отливки, голова чуть набок, косит немного.
Ох, какие люди! Ох, тяжко.
Но сейчас – уже ничего не спасёшь, хоть и крикни.
А Матюхин, подтверждая подхорунжего, стукнул кулачищем по столу:
– Уничтожим кровавую коммунию!
А молодой лобастый, белые кудлы вьются как завитые, сельский франт, закричал с дальнего конца:
– Вешать мерзавцев!
Котовский – к делу: но где же Антонов сам? Без него у нас вряд ли выйдет.
Матюхин:
– Пока не найдём. Говорят, контужен в последней рубке, лечится. Но всех тамбовцев поднимем и мы, опять.
И план его ближний: напасть на концлагерь под Рассказовом, куда согнали и вымаривают повстанческие семьи. Это – первое наше дело.
Котовский – согласен.
Котовский – сигнал?..
И – разом котовцы вырвали с бёдер кто маузер громадный, кто наган – и стали палить через стол в союзников.
Грохот в избе, дым, гарь, вопленные крики баб. Один за другим матюхинцы валились кто грудью на снедь, на стол, кто боком на соседа, кто со скамейки назад, в опрокид.
Упала лампа на столе, керосин по клеёнке, огонь по ней.
Этот лихой, зоркий, с угла – успел отстреляться дважды – и двух котовцев наповал. Тут и его – саблей напрочь голову со вскрученными усами, – так и полетела на пол, и алая – хлынула из шеи на пол, и кругом.
Эктов не вскочил, окаменел. Хоть бы – и его поскорей, хоть из нагана, хоть саблей.
А котовцы выбегали из избы – захватывать переполошенную, ещё не понявшую матюхинскую там, снаружи, охрану.
А уже конные котовцы гнали на другой конец села – рубить и стрелять матюхинцев – во дворах, в избах, в постелях – не дать им сесть на коней.
Кто успевал – ускакивал к ночному лесу.
1994
На краях
1
Ёрка Жуков, сын крестьянский, с 7 лет поспевал с граблями на сенокосе, дальше – больше в родительское хозяйство, в помощь, но и три года церковно-приходской кончил, – потом его отдали в саму Москву к дальнему богатому родственнику, скорняку, мальчиком-учеником. Там он и рос – и в прислуге, и в погонках, и в работе – и так, помалу, определился к скорняжному делу. (Кончив учение – снялся в чёрном костюме чужом и в атласном галстуке, послал в деревню: «мастер-скорняк»!)
Но началась германская война, и в 15‑м году, когда исполнилось Ёрке 19 лет, – призвали его, и, хотя не рослый, но крепкий, широкоплечий, отобран был в кавалерию, в драгунский эскадрон. Стал учиться конному делу, с хорошей выпрямкой. Через полгода возвысился в учебную команду, кончил её младшим унтером – и с августа 16-го в драгунском полку попал на фронт. Но через два месяца контузило его от австрийского снаряда; госпиталь. Дальше стал Жуков председатель эскадронного комитета в запасном полку – да уже на фронт больше и не попадал. В конце Семнадцатого сами они свой эскадрон распустили: роздали каждому законную справку чин чином, и оружие каждый своё бери, коли хошь, – и айда по домам.
Побыл в Москве, побыл в своей калужской деревне, перележал в сыпном тифу, частом тогда, перележал и в возвратном, так время и шло. Меж тем, в августе 18-го, начиналась всеобщая мобилизация в Красную армию. Взяли Жукова в 1‑ю Московскую кавалерийскую дивизию – и послали их дивизию против уральских казаков, не желавших признать советскую власть. (На том фронте повидал он раз и Фрунзе.) С казаками порубились, отогнали их в киргизскую степь – перевели дивизию на Нижнюю Волгу. Стояли под Царицыном, потом посылали их на Ахтубу против калмыков: калмыки как сдурели, все как один советской власти не признавали, и не втямишь им. Там Ёрку ранило от ручной гранаты, опять госпиталь и ещё раз опять тиф – эта зараза по всем перекидывалась. В том 1919 году ещё с весны Георгия Жукова как сознательного бойца приняли в РКПб, а с начала 20-го продвинули как бы в «красные офицеры»: послали на курсы красных командиров под Рязань. И среди курсантов он тоже сразу стал не рядовой, а старшина учебного эскадрона, пёрло из него командное.
Гражданская война уже шла к концу, оставался Врангель один. Считали курсанты, что и на польскую они уже не успеют. Но в июле 1920 учение их прервали, спешно погрузили в эшелоны и повезли часть на Кубань, часть в Дагестан (и там многие курсанты погибли). Жуков попал в сводный курсантский полк в Екатеринодар – и послали их против десанта Улагая, потом против кубанских казаков, разбившихся на отряды в пригорьях и не желавших, скажéнные, сдаваться даже и после разгрома Деникина. Порубали там, постреляли многих. На том курсантское учение посчитали законченным и в Армавире досрочно выпустили их в красные командиры. И выдали всем новые брюки – но почему-то ярко-малиновые, с каких-то гусарских складов? других не оказалось. И выпускники, разъехавшись по частям, стали дивно выделяться – вчуже странно смотрели на них красноармейцы.
Принял Жуков командование взводом, но вскоре же возвысили его в командира эскадрона. А операции их были всё те же и те же: «очищать от банд». Сперва – в приморском районе. В декабре перевезли в Воронежскую губернию: ликвидировать банду Колесникова. Ликвидировали. Тогда перевели в соседнюю Тамбовскую, где банды разыгрались уже неисчислимо. Зато ж и тамбовский губернский штаб тоже сил натянул: уже к концу февраля, говорил комиссар полка, состояло 33 тысячи штыков, 8 тысяч сабель, 460 пулемётов и 60 орудий. Жаловался: вот нет у нас политических работников, которые могли бы внятно осветить текущий момент; это – война, развязанная Антантой, отчего смычка города с деревней нарушилась. Но будем стойки – и разгоним шушеру!
Два их кавалерийских полка стали наступать в марте, ещё до оттепели, от станции Жердёвка на бандитский район Туголуково – Каменка. (Распоряжение было председателя Губчека Трасковича: Каменку и Афанасьевку вообще стереть с лица земли и применять безпощадный расстрел!) Эскадрон Жукова при четырёх станковых пулемётах и одном трёхдюймовом орудии шёл в головном отряде. И под селом Вязовое атаковали отряд антоновцев – сабель в 250, ни одного пулемёта, огонь их винтовочный.
Был Жуков на золотисто-рыжей Зорьке (взял в Воронежской губернии в стычке, застрелив хозяина). А тут – рослый антоновец рубанул его шашкой поперёк груди, через полушубок, сшиб с седла, но свалилась и Зорька и придавила своего эскадронного, громадный антоновец замахнулся дорубить Жукова на земле, но подоспел сзади политрук Ночёвка – и срубил того. (Потом обыскали мёртвого и по письму поняли, что был он такой же драгунский унтер, как и Жуков, да чуть не из одного полка.) Стал отступать и соседний 1‑й эскадрон, жуковский 2‑й отбивался как арьергард полка, только и отбился пулемётами. Еле спас свои четыре пулемёта на санях, утянули и орудие назад.
Но – обозлился на бандитов сильно. Они ж тоже были из мужиков? – но какие-то другие, не как наши калужские: уж что они так схватились против своей же советской власти?? Из дому писали: голодом моримся, – а эти хлеба не дают! Комиссар так говорил: правильно, не шлём мы им городских товаров, потому у самих нет, да ведь они как-нибудь и своим кустарством обернутся, а городу – откуда хлеба взять? Да они по глухим местам, где наши отряды не прошли, – объедаются.
Ну так и оставался с ними разговор короткий. Уж всегда, придя в село, отбирали у них лошадей покрепче, а им давали подохлей. Когда приходил донос, что антоновцы в таком-то селе, – налетали на село облавой, обыскивали по чердакам, в подворных сараях, в колодцах (один партизанский фельдшер вырыл себе в колодце боковое логово и прятался там). Или иначе: выстраивается всё село, от стара до мала, тысячи полторы человек. Отсчитали каждого десятого – и в заложники, в крепкий амбар. Остальным – 40 минут на составление списков бандитов из этого села, иначе заложники будут расстреляны!
И куда денешься? – несут список. Полный не полный, а в Особотдел, в запас, пригодится.
Да ведь и у них осведомление: раз пришли на стоянку бандитов, покинутую в поспехе, – и нашли там копию того приказа, по которому сюда и выступили. Во работают, вражины!
А снабжение в Красной армии – сильно перебойчатое, то дают паёк, то никакого. (Командиру эскадрона – 5 тысяч рублей в месяц оклад, а что на них купишь? фунт масла да два фунта чёрного хлеба.) У кого ж и брать, как не в этих бандитских сёлах? Вот прискакал взвод в посёлок при мельнице, несколько домов всего и одни бабы. Красноармейцы, не сходя с лошадей, стали баб погонять плётками, загнали их всех в кладовку при мельнице, заперли. Тогда пошли шарить по погребам. Выпьют махотку с молоком, а горшок – обземь, озлясь.
А заставили крестьянского подростка гнать свою телегу с эскадронной клажей вместе с красной погоней, он от сердца: «Да уж хоть бы скорей вы этих мужиков догнали, да отпустили бы меня к мамане».
А один, совсем мальчонка, ещё не понимая, без зла: «Дядь, а за что ты моего батьку застрелил?»
Поймали два десятка повстанцев, допрашивали порознь, и один указал на другого: «Вот он был пулемётчик».
Малым разъездом вступишь в село – все затворились, будто вымерли. Стучишь, оттуда бабий голос: «Не прогневайтесь, у самих ничего нет, голодуем». Ещё стучишь – «Да мы веру всяку потеряли, тут какие властя ни приходят, а все только норовят хлебу получить».
Уже так запугались – ни за власть, ни за партизантов, а только: душу отпустите.
На политзанятиях предупреждали: «Излишне не раздражать население». Но и так: «А вы уши не развешивайте, а чуть что – прикладом в морду!»
Но и у красноармейцев опасно замечалась неохотливость идти с оружием против крестьян («мы ж и сами крестьяне, как же в своих стрелять?»). А ещё и бандиты подкидывали листовки: «Это вы – бандиты, не мы к вам лезем. Уходите из наших местов, без вас проживём». Откуда-то потекла басня, что в близких неделях выйдет всем демобилизация. «А ждать нам доколе? а ещё сколько воевать?» (Были и сбега к бандитам или в дезертиры, особенно при больших перебросках.) Политрук Ночёвка говорил: «Надо таких обратно воспитывать! А то ведь и когда напьются – чего поют? Ни одной революционной песни, всё – „Из-за острова“, или похабные. А как в селе заночуем – пока ихние мужики в лесу, наши бабьим классом пользуются». И проводил беседы: «Проживать на свете без трудов и без революционных боёв – это тунеядство!» (А ему тычут – фельдшерицу, на весь дивизион развязную: «Я не кулеш, меня всю не доешь, и на эскадрон хватит».)
На утренней поверке так и жди: кого нет, дал жигача? Надо своих-то красноармейцев крепкими шенкелями держать. Военрук из губвоенкомата говорил: по Тамбовской губернии – 60 тысяч дезертиров. Это ж всё – бандитам на пополнение.
А приказы из тамбовского штаба и по полку никогда не были строго военные – полоса там разведки или порядок боевой операции, а всегда только: «атаковать и уничтожить!», «окружить и ликвидировать!», «не считаясь ни с чем!».
И не считались. Только – как бандитов выловить? как дознать? Ведь советской власти в деревнях уже не осталось, все сбежали, отсиживаются в городах, кого спросить? Армейский командир и велит созвать сельский сход. Из мужиков – построение в одну шеренгу. «Кто среди вас бандиты?» Молчание. «Расстрелять каждого десятого!» И – расстреляют тут же, перед толпой. Бабы ахают навскличь, воют. «Сомкнуть строй. Кто среди вас бандиты?» Пересчёт, отбирают на новый расстрел. Тут уж не выдерживают, начинают выдавать. А кто – подхватился и наутёк, в разные концы, не всех и подстрелишь.
Иногда арестовывали одиноких баб на дорогах: не несёт ли шпионский донос.
А по какой дороге много лошадиного помёта – знать, бандиты проскакали.
Да сами бойцы нередко голодовали. И обувь порвалась, и обмундирование истрёпанное, измызганное, в нём и спят, не раздеваясь. (А уж что – с малиновыми штанами!) Измучились.
А если ногу ампутировать – так без наркоза, ещё и бинтов нет.
В середине апреля достиг Жердёвки слух: антоновцы налётом захватывали крупное фабричное село Рассказово, в 45 верстах от самого Тамбова, и держали его 4 часа, вырезали коммунистов по квартирам, отрубали им головы начисто, половина тамошнего советского батальона перешла к антоновцам, другую половину они взяли в плен – и отступили под аэропланной стрельбой.
Вот – такая пошла с ними война! а теперь, от зимы к весне, станет ещё шибче. И ведь уже 8 месяцев антоновцы не сдавались, и даже росли. (Хотя стреляли иногда не пулями, а какими-то железками.)
Был приказ тамбовского штаба: «Все операции вести с жестокостью, только она вызывает уважение».
Пробандиченные деревни и вовсе сжигали, нацело. Оставались остовы русских печей да пепел.
Не отдыхал и Особый отдел в Жердёвке. Начальник его, Шурка Шубин, в красной рубахе и синем галифе, ходил обвешанный гранатами, и здоровенный маузер в деревянной кобуре, приходил и к кавалеристам во двор (строевой командир подчиняется начальнику Особотдела): «Ребята! Кто пойдёт бандитов расстреливать? – два шага вперёд!» Никто не выступил. «Ну, навоспитали вас тут!» А свой особотдельский двор у него весь был нагнан, кого расстреливать. Вырыли большую яму, сажали лицом туда, на край, руки завязаны. Шубин с подсобными ходили – и стреляли в затылки.
А – что же с ними иначе? Был у Ёрки хороший друг, однофамилец, тоже Жуков, Павел, – зарубили бандиты, на куски.
Война – настоящая, надо браться ещё крепче. Не на той германской – вот тут-то Ёрка и озверился, вот тут-то и стал ожестелым бойцом.
В мае – давить тамбовских бандитов прибыла из Москвы Полномочная комиссия ВЦИКа во главе тоже с Антоновым, но Антоновым-Овсеенко. А командовать Особой Тамбовской армией приехал – с поста Командующего Западным фронтом, только что расквитавшись с Польшей, – командарм Тухачевский, помощником его – Уборевич, который уже много управлялся с бандитами, только в Белоруссии. Тухачевский привёз с собой и готовый штаб и автоброневой отряд.
И в близких днях посчастливилось Жукову и самому повидать знаменитого Тухачевского: тот на бронелетучке, по железной до-роге, приехал в Жердёвку, в штаб отдельной 14‑й кавбригады, и комбригу Милонову велел собрать для беседы командиров и политруков: от полков до эскадронов.
Ростом Тухачевский был невысок, но что за выступка у него была – гордая, гоголистая. Знал себе цену.
Начал с похвалы всем – за храбрость, за понимание долга. (И у каждого в груди – тепло, расширилось.) И тут же стал объяснять общую задачу.
Совнарком распорядился: с тамбовской пугачёвщиной кончить в шесть недель, считая от 10 мая. Любой ценой! Всем нам предстоит напряжённая работа. Опыт подавления таких народных бунтов требует наводнить район восстания до полного его оккупирования и планово распределить по нему наши вооружённые силы. Сейчас прибыла из-под Киева, высадилась в Моршанске и уже пошла на мятежный Пахотный Угол прославленная кавдивизия Котовского. Потом она подойдёт сюда, к центру восстания. Наше большое техническое преимущество над противником: отряд аэропланов и автоброневой отряд. Из наших первых требований к жителям будет: восстановить все мосты на просёлочных дорогах – это для проезда моторных самодвижущих частей. (Только никогда не пользуйтесь проводниками из местных жителей!) Ещё в запасе у нас – химические газы, и если будет надо – применим, разрешение Совнаркома есть. В ходе предстоящего энергичного подавления вам, товарищи командиры, представляется получить отличный военный опыт.
Жуков неотрывно вглядывался в командарма. Кажется, первый раз в жизни он видел настоящего полководца – совсем не такого, как мы, простые командиры-рубаки, да хоть и наш комбриг. И как в себе уверен! – и эту уверенность передаёт каждому: вот так точно оно всё и произойдёт! А лицо его было – совсем не простонародное, а дворянское, холёное. Тонкая высокая белая шея. Крупные бархатные глаза. Височки оставлены длинными, так подбриты. И говорил сильно не по-нашему. И очень почему-то шёл ему будёновский шлем – наш всеобщий шлем, а делал Тухачевского ещё командиристей.
Но, конечно, добавлял, будем и засылать побольше наших агентов в расположение бандитов, хотя, увы, чекисты уже понесли большие жертвы. А ещё главное наше оружие – воздействие через семьи.
И прочёл уже подписанный им «приказ № 130», издаваемый в эти дни на всю губернию, ко всеобщему сведению населения. Язык приказа был тоже безпрекословно уверенный, как и сам молодой полководец. «Всем крестьянам, вступившим в банды, немедленно явиться в распоряжение Советской власти, сдать оружие и выдать главарей… Добровольно сдавшимся смертная казнь не угрожает. Семьи же неявившихся бандитов неукоснительно арестовывать, а имущество их конфисковывать и распределять между верными Советской власти крестьянами. Арестованные семьи, если бандит не явится и не сдастся, будут пересылаться в отдалённые края РСФСР».
Хотя всякое собрание с большим участием коммунистов, как это сегодняшнее, не могло закончиться ранее общего пения «Интернационала», – Тухачевский разрешил себе этого не ожидать, подал белую руку одному лишь комбригу, той же гордой выступкой вышел вон и тут же уехал бронелетучкой.
И эта дерзкая властность тоже поразила Жукова.
А тут, ещё до «Интернационала», командирам раздавали листовку губисполкома к крестьянам Тамбовской губернии: пора избавиться от этого гнойного нарыва антоновщины! До сих пор преимущество бандитов было в частой смене загнанных лошадей на свежих, – так вот, при появлении преступных шаек Антонова поблизости от ваших сёл – не оставляйте в селе ни одной лошади! угоняйте их и уводите туда, где наши войска сумеют сохранить.
Когда уже и все расходились с совещания, Жуков пошёл с каким-то встрявшим в него новым чувством – и одарения, и высокого примера, и зависти.
Просто воевать – и всякий дурак может. А вот – быть военным до последней косточки, до цельного дыхания, и чтобы все другие это ощущали? Здорово.
А ведь и Жуков? – он и правда полюбил военное дело больше всякого другого.
И потекли эти шесть недель решающего подавления. Из отряда Уборевича помогли не так броневики, – они пройти могли не везде, и проваливались на мостах, – как его же лёгкие грузовики и даже легковые автомобили, вооружённые станковыми и ручными пулемётами. Крестьянские лошади боялись автомобилей, не шли в атаку на них – и не могли оторваться от их погони.
А ещё было хорошее преимущество: у антоновцев, конечно же, не было радио, и потому преследующие части могли пользоваться между собой радио без шифра, что облегчало переговоры и убыстряло передачу сведений. Антоновцы скакали, думая, что их никто не видит, а уже по всем трём уездам передавалась искровая связь: где бандиты, куда скачут, куда слать погоню, где перерезать им путь.
И стали гоняться, ловить главное ядро Антонова – навязать ему большой бой, от которого он уклонялся. С севера пошла на него бригада Котовского, с запада бригада Дмитриенко, добавился ещё один отряд ВЧК Кононенко – семь полуторатонных «фиатов» и ещё со своими машинами-цистернами. Антонов натыкался на облаву, тут же умётывался, на сменных лошадях делал переходы по 120–130 вёрст в сутки, уходил в Саратовскую губернию к Хопру, тут же возвращался. И 14‑я бригада, как и вся красная конница, всюду отставала, гнались уже только автобронеотряды. (Рассказывали, что раз автоотряд настиг-таки Антонова – на отдыхе в селе Елань, неожиданно, и покатил по селу, из пулемётов с машин расстреливая бандитов. Но те кинулись к лесу, там собрались и держались, а у наших отказала часть пулемётов. И конница наша опять опоздала, и опять ушли антоновцы, или распылились, – не узнаешь.)
Прошло три недели, уже полсрока от назначенного Совнаркомом, – а не был разбит Антонов. Кавбригады двигались на ощупь, ждали вестей от осведомителей. Оба автоотряда ждали запасных частей и бензина. А по обмыкающим железным дорогам сновали бронепоезд и бронелетучка – тоже выслеживать пути бандитов или перерезать их. А – впустую.
И вот прислали, впрочёт по эскадронам и ротам, секретный 0050 приказ Тухачевского: «С рассвета 1 июня начать массовое изъятие бандитского элемента», – то есть, значит, прочёсывать сёла и хватать подозрительных. Жуков, читая своему эскадрону, как бы видел Тухачевского, вступил в него самого – и его голосом и повадкой? – читал от полной груди: «Изъятие не должно нести случайного характера, но должно показать крестьянам, что бандитское племя и семьи неукоснительно удаляются, что борьба с Советской властью безнадёжна. Провести операцию с подъёмом и воодушевлением. Поменьше обывательской сантиментальности. Командующий войсками Тухачевский».
Жуков – рад был, рад был состоять под таким командованием. Это – так, это – по-солдатски: прежде чем командовать самому, надо уметь подчиняться. И научиться выполнять.
И – изымали, сколько нагребли. Отправляли в концлагеря, семьи тоже. Отдельно.
А через несколько дней, как раз, опять нащупали главное ядро Антонова – далеко, в верховьях Вороны, в ширяевском лесу (по сведениям, прошлый раз, при атаке автоотряда, Антонов был ранен в голову). Тут добавилась ещё одна свежая кавбригада – Федько, ещё один полк ВЧК и ещё один бронепоезд. И все выходы из ширяевского леса были закрыты наглухо. Но поднялась сильная ночная гроза. Из-за неё командир полка ВЧК снял роты с позиций и отвёл на час-два в ближние деревни. А бронелетучка, непрерывно курсировавшая на семивёрстном отрезке от Кирсанова до реки Вороны, была отведена для пропуска личного поезда Уборевича, а затем и столкнулась с ним в темноте. А антоновцы, точно угадав и прореху в кольце и нужные полчаса, – вышли из окружения, всё под той же страшнейшей грозой, и – скользнули в чутановский лес.
Нашли антоновцы ответ и на приказ № 130: велели никому в деревнях не называть своих имён – и тем ставить красных в тупик: горбыляй его, не горбыляй, – не называется, зараза.
Как оглохли, ослепли мы.
Но штаб подавления и тут нашёл ответ, 11 июня, приказ № 171: «Граждан, отказывающихся называть своё имя, расстреливать на месте, без суда. в сёлах, где не сдают оружие, расстреливать заложников. при нахождении спрятанного оружия – расстреливать без суда старшего работника в семье». в семьях, укрывающих не то что самих бандитов, но хотя бы переданное на хранение имущество их, одежду, посуду, – старшего работника расстреливать без суда. в случае бегства семьи бандита – имущество ещё распределять между верными советской власти крестьянами, а оставленные дома сжигать. подписал – антонов-овсеенко.
Нельзя себя не называть? – тогда семьи повстанцев стали сами уходить из деревень. Так – вдодаток – новый на них приказ Полномочной Комиссии ВЦИКа: «Дом, из которого семейство скрылось, разбирать или сжигать. Тех, кто скрывает у себя семьи, – приравнивать к семье повстанцев; старшего в такой семье – расстреливать. Антонов-Овсеенко».
А ещё через пяток дней – от него же ещё приказ, к обнародованию, № 178: со стороны жителей «неоказание сопротивления бандитам и несвоевременное сообщение о появлении таковых в ближайший ревком будет рассматриваться как сообщничество с бандитами, со всеми вытекающими последствиями. Полномочная Комиссия ВЦИК, Антонов-Овсеенко».
Как варом их поливали, как клопов выжигали!
А от чёткого хладнокровного командарма – ещё один секретный, 0116: «Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми газами. Точно рассчитывать, чтобы облако удушливых газов распространялось полностью по всему лесу, уничтожая всё, что в нём прячется. Командующий войсками Тухачевский».
Слишком крепко? А без того – больших полководцев не бывает.
2
Считается, что с семидесяти лет вполне уместно и прилично писать мемуары. А вот досталось: начал и на семь лет раньше.
В тишине, в ненужности – чем и заняться? Год за годом вынужденный и томительный досуг.
Перестали звонить, тем более навещать. Мир – замолк и замкнулся. А пережить эту пору – может и лет нет.
А даже, по ряду соображений, и нельзя не написать. Для истории – пусть будет. Уже многие кинулись писать. И даже опубликовали.
А потому торопятся, что хотят пригрести славу к себе. А неудачи свалить на других.
Нечестно.
Но – и работища же какая невыволочная! От одного перебора воспоминаний разомлеешь. Какие промахи допустил – бередят сердце и теперь. Но – и чем гордишься.
Да ещё надо хорошо взвесить: о чём вообще не надо вспоминать. А о чём можно – то в каких выражениях. Можно такое написать, что и дальше погоришь, потеряешь и последний покой. И эту расчудесную дачу на берегу Москва-реки.
Какой тут вид! С высокого берега, и рядом – красавицы сосны, взлётные стволы, есть и лет по двести. Отсюда – спуск, дорожка песчаная, с присыпом игл. И – спокойный изгиб голубоватого течения. Оно – чистое тут, после рублёвского водохранилища, заповедника. И если гребёт лодка – знаешь, что – кто-то из своих, или сосед. Никто тут не браконьерствует, никто не озорует.
Через заднюю калитку есть тропинка к реке, можно спуститься. Но Галя – не ходит, а Машеньку семилетнюю тем более без себя не пускает. А тебе когда под семьдесят – приятней сидеть наверху, на веранде. Теперь – даже и по участку с палицей.
Стал и недослышивать. Не всякую птицу, не всякий шорох.
Дача-то хороша-хороша, да только государственная, и на каждой мебелюшке – инвентарный номер прибит. Владение – пожизненное. Вот умрёшь – и Галю, в 40 лет, с дочуркой, с тёщей, и выселят тотчас. (Первой семьи – уже нет, дочери замужние отделились.)
А два инфаркта уже было (если только инфаркта). Но растянуло, рассосало, прошло. После второго – и взялся писать.
Последний простор старости. Подумать-подумать, посмотреть на реку, что-нибудь и дописать.
А то – голова заболит. (Иногда болит.)
Скучней всего писать о временах давно прошлых. Об отрочестве своём. Об империалистической войне. Да и о своей эскадронной молодости – что писать, чем отличился? Настоящий интерес начинается с того времени, как уже прочно уставился советский строй. Устойчивая военная жизнь только и началась с 20‑х годов: тренировка в разнообразнейшей кавалерийской службе, отработка в тактических учениях, и, как вершина всего, – манёвры. Безупречно подчиняется тебе твоё тело, взмах руки с коня, сам конь – и: сперва – твой эскадрон, потом – твой полк. Твоя бригада. Наконец, когда-то, и твоя дивизия. (Дал Уборевич, высмотрел воина.) А ещё сильней себя ощущаешь как частица единого великого организма – железной Партии. (Всегда мечтал быть похожим на замечательного большевика Блюхера – мытищинского рабочего, получившего, сперва в шутку, кличку известного немецкого полководца.)
Увлекаешься тактической учёбой и, конечно, в практических делах чувствуешь себя сильней, чем в вопросах теории. А вот – возьмут тебя на год в высшую кавалерийскую школу, а там зададут тебе тему доклада: «Основные факторы, влияющие на теорию военного искусства», – и как в лепёшку тебя расшибли: чего это такое? какие факторы? о чём тут говорить? кого спросить? (Приятель по курсам Костя Рокоссовский подмог. А другой приятель, Ерёменко, – ну просто дуб.)
И так – ты служишь и служишь вполне успешным кавалерийским командиром, знающим конником. Одно желание: хочется, чтобы твоя дивизия стала лучшей в РККА. Часто тебя упрекают в резкой требовательности, погоняльстве – но это и хороший признак, только такой и может быть воинская служба. Вдруг – подняли от дивизии на помощника инспектора всей кавалерии РККА, при Семёне Михайловиче Будённом. Поручают – и ты пишешь боевой устав конницы, это вполне понятная работа. А – кто тебе проверщиком? Обомлеешь: Тухачевский! Тот самый красавец и умница, которого видел раз в Тамбовской губернии, – а теперь два месяца встречались. (А как неуклонимого коммуниста – тебя выбирают и секретарём партбюро всех инспекций всех родов войск.) Тебе – 40 лет. С годами, разумеется, будет и ещё продвижение в должностях и чинах.
А оглядясь по стране – как же много мы сделали: индустрия на полном ходу, и колхозный строй цветёт, и единство наций, – да что хочешь.
Но вот, в 1937 – 38, прямая незамысловатая военная служба вдруг стала – лукавой, скользкой, извилистой. Вызывает высший окружной политрук, некий Голиков: «Среди арестованных – нет ли ваших родственников?» – Уверенно: «Нет». (И мать, и сестра твои – в калужской деревне, вот и всё.) – «А среди друзей?» «Друг» – это не такое чёткое определение, как «родственник». С кем знаком был, встречался, – это «друг»? не друг? Как отвечать? «Когда Уборевич посещал вашу дивизию, он у вас дома обедал». Не отопрёшься. (Больше чем обедал! – покровительствовал.) Да ещё Ковтюх, до последних месяцев «легендарный» – и вдруг «враг народа». А тут ещё и Рокоссовского посадили… «И вы не изменили о них мнения после ареста?» Ну, как же бы: коммунист – и мог бы тут не изменить мнения?.. Мол, изменил. «И вы крестили свою дочку в церкви?» Вот тут уверенно: «Клевета! клевета!» Перегнули в обвинениях. (Никто Эру не крестил.)
И на партийных собраниях разгулялись теперь всякие язвы. Опять обвиняют в повышенной резкости (как будто это – недостаток боевого командира), в жёсткости, в грубости, что не знал снисходительности (а иначе – какая служба?), даже во вражеском подходе к воспитанию кадров: замораживал ценные кадры, не выдвигал. (Вот этих клеветников и не выдвигал. Да некоторые и клевещут-то не со зла, а только – чтобы через то самим наперёд обелиться.) Но и тут как-то отбился.
А – новая беда: выдвигают командовать корпусом. Однако в их Белорусском военном округе командиры корпусов арестованы уже почти все до одного. Значит – это шаг не к возвышению, а в гибель. Безо всякой войны, без единого сабельного удара – и вот сразу в гибель? Но и отказаться нельзя.
Только то спасло, что как раз, как раз в этот момент и кончились аресты. (Уже после XX съезда узнал: в 1939 открывали на Жукова дело в Белорусском округе.)
И вдруг – срочно вызвали в Москву. Ну, думал – конец, арестуют. Нет! Кто-то посоветовал Сталину – послали на боевое крещение, на Халхин-Гол. И – вполне успешно, проявил неуклонность командования, «любой ценой»! Кинул танковую дивизию, не медля ждать артиллерию и пехоту, – в лоб; две трети её сгорело, но удалось японцам нажарить! И – сам товарищ Сталин тебя заметил, особенно по сравнению тут же с финской войной, бездарно проваленной, как будто не та же Красная армия воевала. Заметил – и уже надолго вперёд. Сразу после финской Жуков был принят Сталиным – и назначен командовать Киевским военным округом! – огромный пост.
Но полгода всего прошло – новое распоряжение: передать округ Кирпоносу, а самому – в Москву. А самому – выговорить нельзя: начальником Генерального штаба! (И всего лишь – за Халхин-Гол.)
Искренно отказывался: «Товарищ Сталин! Я никогда не работал в штабах, даже в низших», – и сразу на Генеральный? За 45 лет никакого военно-академического, оперативно-стратегического образования не получал – как можно честному простому кавалеристу справиться с Генштабом, да при нынешнем многообразии родов войск и техники?
А ещё ведь боязно, знал: начальники Генштаба стали меняться по два в год: полгода Шапошников, заменили Мерецковым, теперь сняли Мерецкова и, говорят, посадили, – а теперь тебя?.. (И такая же чехарда в Оперативном управлении Генштаба.)
Нет, принять пост! И ещё – кандидатом в члены ЦК. Каково доверие!
Очень тёплое, ласковое впечатление осталось от того сталинского приёма.
Вот тут-то – и главная трудность мемуаров. (Хоть вообще брось их писать?..) Как о главе правительства, Генеральном Секретаре партии и вскоре Верховном Главнокомандующем писать – генералу, который часто, много соприкасался с ним в Великую Войну, и в очень разных настроениях Верховного, – и даже стал его прямым заместителем? Участнику той войны – поверить нельзя, как с тех пор Верховного развенчали, балабаны, чуть не оплевали разными баснями: «командовал фронтами по глобусу…» (Да, большой глобус стоял у него в комнате рядом с кабинетом – но и карты же висели на стене, и к работе ещё другие раскладывались на столе – и Верховный, шагая, шагая из угла в угол с трубкой, подходил и к картам, чтобы чётче понять докладываемое или указать требуемое.) Сейчас вот главного озорного пустоплёта и самого скинули – по шапке и по шее. И, может, – постепенно, постепенно восстановится почтение к Верховному. Но в чём-то нанесен и непоправимый ущерб.
И вот ты, если не считать членов Политбюро, соприкасался с Ним тесно и, как никто, профессионально. И бывали очень горькие минуты. (Когда сердился, Сталин не выбирал выражений, мог обидеть совсем незаслуженно, барабанную нужно было шкуру иметь. А погасшая трубка в руке – верный признак безпощадного настроения, вот сейчас обрушится на твою голову.) Но бывали и минуты – поразительного сердечного доверия.
И – как теперь написать об этом честно и достойно?
Тут ещё то, что смежность в самые напряжённые – и обманувшие! – предвоенные месяцы связала же вас и смежной ответственностью: Верховный ошибся? промахнулся? просчитался? – а почему же ты не поправил, не предупредил Его, хоть и ценой своей головы? Разве ты уж вовсе не видел, что от принятой в 30‑х годах повелительной догмы «только наступать!» – на всех манёврах, и в 40 – 41‑м, наступающая сторона ставилась нарочито в преимущественное положение? Ведь – мало занимались обороной, и уж вовсе не занимались отступлениями, окружениями – такого в голову не приходило, – и ведь тебе тоже? И пропустил такое сосредоточение немецких сил! Да ведь всё летали, летали немецкие самолёты над советской территорией, Сталин верил извинениям Гитлера: молодые, неопытные лётчики. Или вдруг в 1941 возгорелось у немцев искать по нашу сторону границы немецкие могилы Первой мировой войны? – ничего, пусть ищут… А ведь это – какая разведка! Но тогда казалось Жукову, что – нет на земле человека осведомлённей, глубже и проницательней Сталина. И если Он до последнего надеялся, что войну с Гитлером удастся оттянуть, то и ты же не вскрикнул, хоть и предсмертным криком: нет!!
Кто не бывал скован даже только отдалённым грозовым именем Сталина? А уж прямо к нему на приём – всякий раз идёшь как на ужас. (И всё-таки выпросил у него освободить Рокоссовского из лагеря.) Скован был Жуков ещё и от неуверенности своей в стратегических вопросах, неуместности своей в роли начальника Генштаба. А сверх того, конечно, и от крайней всегда неожиданности поведения Верховного: никогда нельзя было угадать, для чего он сейчас вызывает? И как надёжней отвечать на такие его вопросы: «А что вы предлагаете? А чего опасаетесь?» Выслушивал же доклады кратко, даже как бы пренебрежительно. Напротив, о многом, о чём Сталина осведомляли другие, он с Генштабом не делился. Жуков был для него – пожарной, успешной командой, которую Верховный и дёргал и посылал внезапно.
Грянула война – и в эти первые часы своей небывалой растерянности, которой не мог скрыть, – только через четыре часа от начала войны посмели дать военным округам команду сопротивляться, да было уже поздно, – тут же швырнул начальника Генштаба – в Киев, спасать там («здесь – без вас обойдёмся»). Но всё Верховное командование велось наугад. И через три дня дёрнул назад, в Москву: надо, оказалось, спасать не Юго-Западное направление, а Западное. И – открылся фразой в жалобном тоне: «В этой обстановке – что можно сделать?» (Жуков смекнул дать несколько советов, и в том числе: формировать дивизии из невооружённых московских жителей – много их тут околачивается, а через военкоматы долго. И Сталин тут же объявил – сбор Народного Ополчения.)
От этой замеченной шаткости Сталина Жуков отваживался на веские советы. В конце июля осмелился посоветовать: сдать Киев и уходить за Днепр, спасать оттуда мощные силы, чтоб их не окружили. Сталин с Мехлисом в два голоса разнесли за капитулянтство. И тут же Сталин снял Жукова с Генштаба и отправил оттеснять немцев под Ельней. (А мог и хуже: в те недели – расстрелял десяток крупнейших замечательных генералов, с успехами и в испанской войне, хотя – Мерецкова вдруг выпустил.)
Под Ельней – хоть мясорубочные были бои, зато не высокоштабные размышления, реальная операция – и Жуков выиграл её за неделю. (Конечно, этот ельнинский выступ разумней было бы отсечь и окружить, да тогда ещё не хватало у нас уверенности.)
А Киев-то – пришлось сдать, но уже при огромном «мешке» пленных. (А скольких Власов оттуда вывел, за 500 километров, да теперь и вспоминать его нельзя.) Вот – остался бы Жуков командовать Юго-Западным – может, и ему бы досталось застрелиться, как Кирпоносу.
И, необычайное: в начале сентября вызвав Жукова, Сталин признал его правоту тогда о Киеве… И тут же продиктовал приказ, сверхсекретный, два Ноля два раза Девятнадцать: формировать из полков НКВД заградотряды; занимать линии в тылу наших войск и вести огонь по своим отступающим. (Во как! А – что и делать, если не стоят насмерть, а бегут?) И тут же – послал спасать отрезанный Ленинград, а спасённый Жуковым центральный участок фронта передать другим. Но всё время сохранял Жукову звание члена Ставки – и это дало ему много научиться у военно образованных Шапошникова, Василевского и Ватутина. (А учиться – и хотелось, и надо же, край.) Они много ему передали – а всё-таки главным щитом, или тараном, или болванкой, – на всякий опаснейший участок всегда с размаху кидали Жукова.
По полной стратегической и оперативной неграмотности, при никаком представлении о взаимодействии родов войск (в багаже – что осталось от Гражданской войны), Сталин в первые недели войны нараспоряжался безпрекословно, наворотил ошибок, – теперь стал осторожнее. Бориса Михайловича Шапошникова, вновь назначенного начальником Генштаба, единственного из военачальников называл по имени-отчеству и ему единственному даже разрешал курить в своём кабинете. (А с остальными – и за руку здоровался редко.)
Но несравнимо выше всех военачальников держались Сталиным все члены Политбюро, да ещё такой любимый, как Мехлис (пока не загубил полностью Восточнокрымский плацдарм). Бывало не раз, что, при нескольких политбюровцах выслушав генерала, Сталин говорил: «Выйдите пока, мы тут посовещаемся». Генерал выходил – послушно ожидать решения участи своего проекта или даже своей головы, и нисколько при том не обижаясь: все мы – коммунисты, а политбюровцы – высшие из нас, даже хоть и Щербаков, – и естественно, что они там решают без нас. И гнев Сталина на тех никогда не бывал долог и окончателен. Ворошилов провалил финскую войну, на время снят, но уже при нападении Гитлера получил весь Северо-Запад, тут же провалил и его, и Ленинград – и снят, но опять – благополучный маршал и в ближайшем доверенном окружении, как и два Семёна – Тимошенко и безпросветный Будённый, проваливший и Юго-Запад и Резервный фронт, и все они по-прежнему состояли членами Ставки, куда Сталин ещё тогда не вчислил ни Василевского, ни Ватутина, – и уж конечно оставались все маршалами. Жукову – не дал маршала ни за спасение Ленинграда, ни за спасение Москвы, ни за сталинградскую победу. А в чём тогда смысл звания, если Жуков ворочал делами выше всех маршалов? Только после снятия ленинградской блокады – вдруг дал. Даже не только, что обидно, а – почему не давал? чтобы больше тянулся? боялся ошибиться: возвысить прежде времени, а потом не скачаешь с рук? Напрасно. Не знал Верховный безхитростную солдатскую душу своего Жукова. А – когда бы узнать ему солдатскую душу? Ведь он за всю войну на фронте не побывал ни одного часа и ни с одним солдатом не разговаривал. Вызовет – прилетишь издалека, и после фронтового многонедельного гула даже мучительно оказаться в тиши кремлёвского кабинета или за домашним обедом на сталинской даче.
А вот чему нельзя бы не научиться у Сталина: он с интересом выслушивал, какие людские потери у противника, и никогда не спрашивал о своих. Только отмахивался, четыpьмя пaльцaми: «На то и война». А уж о сдавшихся в плен не хотел и цифры узнать. Почти месяц велел не объявлять о сдаче Смоленска, всё надеясь его вернуть, вне себя посылая туда новые и новые дивизии на перемол. И Жуков усваивал: если считать сперва возможные потери, потом и понесенные потери, то и правда никогда не будешь полководцем. Полководец не может расслабить себя сожалением, и о потерях ему надо знать только те цифры, какие требуется пополнить из резерва и к какому сроку. А не рассчитывать пропорции потерь к какому-нибудь маленькому ельнинскому выступу.
И эту достигнутую жёсткость – уметь передать как деловое качество и всем своим подчинённым генералам. (И стоустая шла, катилась о нём слава: ну, крут! железная воля! один подбородок чего стоит, челюсть! и голос металлический. А иначе – разве поведёшь такую махину?)
И так – Жуков сохранил в сентябре 1941 Ленинград. (Для блокады в 900 дней…) И тут же – через день после того, как Гудериан взял Орёл, – был выдернут снова к Сталину, теперь для спасения самой Москвы.
А тут, и суток не прошло, – наши попали в огромное вяземское окружение, больше полмиллиона… Катастрофа. (За провал Западного фронта Сталин решил отдать Конева под трибунал – Жуков отстоял, спас от сталинского гнева.) Все пути к столице были врагу открыты. Верил ли сам Жуков, что Москву можно отстоять? Уже не надеясь удержать оборону на дуге Можайска – Малоярославца, готовил оборону по Клину – Истре – Красной Пахре. Но собрав свою несломимую волю (у Сталина ли не была воля? – а сламывался несколько раз: в октябре он что-то заговаривал о пользе Брестского мира, и как бы сейчас с Гитлером хоть перемирие заключить…) – Жуков метался (по какому-то персту судьбы рядом со своей калужской деревней, откуда выхватил мать, сестру и племянников), стягивал силы, которых не было, – и за пять дней боёв под Юхновом, Медынью и самой Калугой – сорвал движение немцев на Москву.
А из Москвы к тому времени уже отмаршировали на запад 12 дивизий Народного Ополчения (и проглочены кто в смоленском, кто в вяземском окружении) – это кроме всех мобилизаций. И теперь, увязая в осенней грязи, четверть миллиона женщин и подростков выбрали 3 миллиона кубометров неподъёмной мокрой земли – рыли траншеи. И дыхание подходившего фронта уже обжигало их паническими вестями. С 13 октября начали эвакуировать из Москвы дипломатов и центральные учреждения, и тут же стали бежать и кого не эвакуировали, и – стыдно сказать – даже коммунисты из московских райкомов, и разразилась безудержная московская паника 16 октября, когда все уже считали столицу сданной.
Осталось навек загадкой: почему именно в эту страшную решающую неделю – Верховный не подал ни знаку, ни голосу, ни разу не вызвал Жукова даже к телефону, – а сам-то Жуков не смел никогда. И осталось загадкой: где был Сталин всю середину октября? Наверняка он проявился в Москве только в конце октября, когда Жуков, Рокоссовский (да и Власов же) остановили немцев на дуге от Волоколамска до Наро-Фоминска. В начале ноября Сталин проявился по телефону, требуя немедленного контрудара по всему кольцу, чтоб иметь победу непременно к годовщине Октября, – и, не выслушав возражений Жукова, повесил трубку, как это он делал не раз, просто раздавливая тебе душу.
Однако такой бы сейчас контрудар – был полная безсмыслица при нашем безсилии, Жуков и не затевал его. А немцы сами истощились, временно остановились. И Сталин, как ни в чём не бывало, звонил Жукову и спрашивал: нельзя ли взять с фронта сколько-нибудь войска для парада на Красной площади 7 ноября.
И вот теперь сидишь на веранде с видом на покойную реку и на тот луговой берег, где плещется городской серебряноборский пляж, и обмысливаешь: как?? вот как – об этом всём можно писать? И – вообще можно ли?
Трудно.
Но коммунисту – должно быть доступно. Потому что коммунисту светит не гаснущая никогда истина. А ты – всегда и во всём старался быть достойным коммунистом.
От начала. Мы в те годы были слабы в овладении марксистско-ленинской теорией. Изучение её мне давалось с большими трудностями. Лишь позже я глубже понял организующую роль нашей партии. И что мозг Красной армии, с самых первых дней её существования, – был ЦК ВКПб. И: увы, нынешняя молодёжь не вникает в цифры, а они показывают, что темпы довоенного развития уже были ярким свидетельством нашего прогрессивного строя. Но индустриализация и не могла не идти за счёт ширпотреба. (Нет, ещё раньше, от юности: нищета и вымирание русской деревни при царе. И кулаки сосали бедняков. Разве это неправда? Это правда.)
A – о том жутком 1937 годе? Ты же понимаешь и сам, и надо напомнить другим: необоснованные нарушения законности не соответствовали существу нашего строя. Советский народ верил партии и шёл за ней твёрдой поступью. А вред истекал от безпринципной подозрительности некоторых руководителей. Но преимущества социалистического строя и ленинские принципы всё равно одержали верх. И народ проявил несравненную выдержку.
А когда началась война? Как решающе укрепила наши ряды посылка в армию политбойцов – коммунистов со зрелым стажем пропаганды. И важная директива Политуправления РККА: повысить передовую роль коммунистов. Да, помнится, эта директива сыграла огромную роль. При, порой, недостаточной сопротивляемости самих войск. – А почему наша Ставка оказалась сильнее гитлеровской? А вот по этому самому: она опиралась на марксизм-ленинизм. И войска проявили невиданную стойкость. И стояли насмерть, как от них и ждали ЦК и Командование.
Впрочем, у немцев армия была – первоклассная. Об этом у нас совсем не пишут, или презрительно. Но это обезценивает и нашу победу.
Когда немцы в середине октября остановились от растяжки фронта и коммуникаций – самое было время и нам, в более узком кольцевом объёме, заняться тем же: подтягиванием людских сил, вооружений, боеприпасов, укреплением обороны – и мы могли бы встретить следующий удар немцев, в середине ноября, может быть почти бы и не отступя. Но по несчастной идее иметь поскорее победу, и всё к 7 ноября, Верховный снова требовал контрнаступления, и притом на каждом участке фронта, от клинского направления до тульского. И – кто мог не выполнить? Жуков теперь уже осмелел возражать, спорить, – Верховный и слушать не стал. И приходилось бросать в бой совсем неподготовленные и плохо вооружённые дивизии. И драгоценные две недели мы потратили на никому не нужные, безплодные контратаки, не давшие нам ни одного километра, но отнявшие последние силы. И тут-то, с 15 ноября, немцы начали второй этап наступления на Москву, а 18-го и под Тулой: Гудериан взял Узловую, шёл на Каширу, подошёл и к рязанскому Михайлову – шёл охватить Москву с востока! Это – был бы последний конец.
И 20 ноября Сталин позвонил Жукову, не скрывая тревоги и тоном необычайным, голос сломался: «Вы уверены, что мы удержим Москву? Спрашиваю – с болью в душе. Говорите честно, как коммунист».
Жуков был потрясён, что Сталин не умеет и даже не пытается скрыть страха и боли. И – так доверяет своему полководцу. И, собрав всю, всю, всю свою – действительно железную – волю, Жуков как поклялся Сталину, и родине, и себе: «Отстоим!!»
И, по точному расчёту дней, назначил возможную дату нашего контрнаступления: 6 декабря. Сталин тут же стал торговаться: нет, 4‑го. (Не потому что что-то рассчитал, а – ко дню Конституции, вот как.)
Между тем каждый день приносил всё новые поражения: сдали Клин, сдали Солнечногорск, под Яхромой немцы перешли и канал, открывая и тут себе путь в Подмосковье уже восточное. Всё было – в неразберихе и катастрофе, уже не воинские части, а случайные группы солдат и танков. И почти уже не хватало воли верить, заставить себя верить: нет, не рухнет! Нет, удержим. (В эти дни московской битвы спал по два часа в сутки, не больше. Молотову, по телефону грозившему расстрелять, отвечал – дерзко.)
И тут – доконал Жукова сталинский звонок:
– Вам известно, что взят Дедовск?
Дедовск? На полпути ближе Истры? Абсолютно исключено.
– Нет, товарищ Сталин, неизвестно.
Сталин в трубку – со злой издёвкой:
– А командующий должен знать, что у него делается на фронте. Немедленно выезжайте туда сами – и верните Дедовск!
Бросать командный пункт, связь всех движений, всей подготовки, в такие минуты? Нет, Он ничему не научился и за полгода войны. (Впрочем, и Жуков считался с подчинёнными генералами не больше, только так и побеждают.)
– Но, товарищ Сталин, покидать штаб фронта в такой напряжённой обстановке вряд ли осмотрительно.
Сталин – с раздражённой насмешкой:
– Ничего, мы как-нибудь тут справимся и без вас.
То есть: ты – ничего и не значишь, такая тебе и цена.
Жуков кинулся звонить Рокоссовскому и узнал, что, конечно, никакой Дедовск и не сдан, а, как догадался Костя, – наверно, речь о деревне Дедово, гораздо дальше и не там.
Спорить со Сталиным – большую отвагу надо иметь. Но тут-то Жуков надеялся, что облегчит и даже посмешит его звонком. А Сталин – прямо разъярился: так немедленно ехать к Рокоссовскому и с ним вдвоём отбить это Дедово назад! И ещё взять третьего с собой, командующего армией!
И – дальше уже спорить нельзя. Поехал к Рокоссовскому, втроём в штаб дивизии и ещё раз уточнили, да: несколько домов деревни Дедово, по ту сторону оврага, немцы взяли, а остальные – тут, у нас. Те дома не стоили и одного лишнего выстрела через овраг, но четыре высших генерала стали планировать операцию и посылать туда стрелковую роту с танками.
А день – у всех пропал.
И всё-таки Жуков обернулся подтянуть все резервы к сроку – и 5 декабря перешёл в желанное большое наступление.
И в несколько дней заметно отогнал кольцо немцев от Москвы. (Хорошо двинул и Власов с 20‑й армией, а об этом нельзя. Да немцы не дотягивали и сами взять Москву.)
Прогремела победа. Изумился и ликовал весь мир. Но – больше всех в мире был изумлён ею сам Верховный, видимо уже никак не веривший в неё. И – закружилась от победы его голова, он и слышать не хотел, что это были использованы наши последние резервы, теперь и они истощены, мы еле-еле удерживаем то, что взяли. Нет! Ликующий Сталин в безграничной отчаянной храбрости приказал: немедленно начать общее крупное наступление всеми нашими войсками от Ладожского озера до Чёрного моря, освободить и Ленинград, и Орёл, и Курск – и всё одновременно!!
И потекли месяцы – январь, февраль, март – этого непосильного и ненужного напряжения наших измученных войск – чтоб осуществить радужную мечту Сталина. И только – клали, клали, клали десятки и сотни тысяч в безполезных атаках. (Среди них – и Вторую Ударную армию Власова сгноили в болотах Северо-Запада и бросили без помощи, – но вот об этом писать уже никому никогда не придётся, и лучше забыть и самому. Да Власов и оказался потом – предатель.) Дошли до того, что на орудие отпускали в сутки 1–2 выстрела.
Ничего нигде не добились, только испортили картину от московской победы. Был единственный заметный успех – именно у жуковского Западного фронта, – и тут же Сталин отнял от его фронта Первую Ударную армию. Жуков позвонил, уверенный убедить перспективою успеха, – а Сталин и разговаривать не стал, выругался и бросил трубку.
Не меньшее искусство, чем военное, нужно было иметь для того, чтобы разговаривать со Сталиным. Много раз то бросал трубку, то ругал нечистыми словами. (А вызовет и с фронта дальнего, добираться больше суток, – хоть ты в жару болезни, хоть погода совсем нелётная – а лети к Верховному, и даже на 10 минут опоздать нельзя. Один раз снижались в Москву через туман, чтоб только не опоздать, – чуть не зацепили крылом фабричную трубу.)
Но – каким-то непонятным образом – все даже и промахи Сталина всегда покрывались и исправлялись Историей.
Очевидно: именно по превосходству нашего строя и нашей идеологии. На это – и врагам нечего возразить. Уместно и повторить: ЦК потребовал более широко развернуть партийно-политическую работу – и это вызвало массовый героизм коммунистов и комсомольцев, и весь народ ещё тесней сплотился вокруг коммунистической партии.
А лично – Жуков на Сталина не обижался: на Нём не только фронт, но и промышленность, которую Он держал в каменных руках. Но и – вся страна.
Порок ли это был Сталина или, наоборот, достоинство? – но он не любил менять свои решения. Провалились все зимние контрнаступления, в крови утонул десант Мехлиса под Керчью (но: так как его Сталин и придумал, то никого серьёзно не наказывал), – всё равно, не слушая возражений ставочных генералов, Верховный затеял в мае несчастную попытку вернуть Харьков – и растранжирил безплодно все наши резервы и усилия. И когда летом укрепившиеся немцы пошли в большое наступление (и не на Москву, как только и ждал Сталин), ещё один сталинский любимчик, Голиков (тот самый политрук, который в 37‑м допрашивал Жукова о близости к врагам народа), едва не отдал Воронежа, а лавина немцев покатилась на Дон и на Северный Кавказ, и к сентябрю они уже заняли горные перевалы, – вот, кажется, только тут Сталин понял, что в провале 1942 года виноват он сам. И не искал виновных генералов. В конце августа он назначил Жукова (всё ещё – не маршала) заместителем Верховного, и опять признался с открытой болью: «Мы можем потерять Сталинград». И послал его туда. (А через несколько дней, узнав, что ближайший контрудар назначен на 6 сентября, а не на 4‑е, – опять кидал трубку. И ещё добавил слишком выразительной телеграммой: «Промедление подобно преступлению».)
Но впервые под Сталинградом Сталин дал удержать себя в терпении, и Жуков с умницей Василевским выиграли почти два месяца – на детальнейшую разработку плана огромного окружения (втянули и Сталина в красоту этого замысла) и планомерное стягивание сил, подготовку командований, взаимодействий, – и наученный своими промахами Сталин терпел, не прервал. И так – удалась великая сталинградская победа.
Но удалось и другое, чего не знали многие: ведь ты этому ничему никогда не учился, а видно, что-то в твоей башке заложено. Вот только здесь впервые, в напряжённом преодолении, Жуков, кажется, стал стратегом, он стал – другой Жуков, каким себя до сих пор не знал. Он приобрёл – пронзительность предвидения противника и не уходящее ни на миг из головы и груди ощущение всех наших сил сразу – в их составе, разнообразии, возможностях, и в качествах их генералов. Он приобрёл уверенность высокого полёта и обзора, которого всегда ему не хватало.
И тем обиднее было потом читать, как Ерёменко врал, будто сталинградскую операцию они разработали… вдвоём с Хрущёвым. Спросил его прямо в лоб: «Как же ты мог?!» – «А меня – Хрущёв попросил».
После этого – Чуйков, всего лишь командующий одной из сталинградских армий, приписал всю заслугу трёх фронтов – себе, и пинал в мемуарах павшего Жукова, что тот – «только путал». Загорелось сердце, вот опять хватит инфаркт, – позвонил прямо Хрущёву: как же можно такую ложь допускать в печатности? Обещал кукурузный царь заступиться. (Да ведь чтó эти чуйковские мемуары? Своего – ему сказать нечего? а – надёргал эпизодов из фронтовых и армейских газет и к себе натыкал.)
После Сталинграда, с тем же Василевским, Жуков уверенно вошёл в новый план Курской битвы – с отчаянно рискованным решением: не спешить наступать! вообще не начинать наступления – а дать сперва Манштейну неделю биться и разбиться о нашу слаженную, многоэшелонную оборону (решение почти азартное: а вдруг прорвёт??) – лишь потом ошеломить немцев нашим наступлением, на Орёл.
И оказалось это – ещё одно такое же, по красоте, силе и разгромному успеху, стратегическое творение, как и Сталинград. Жуков – ещё вырос и укрепился в стратегии, он уже приобрёл уверенность, что разобьёт Гитлера и без «Второго фронта» союзников. Он был – и направляющим этого ощутимо огромного карающего процесса, но и – деталью его, процесс сам его направлял. (И всё укреплялся в спорах со Сталиным; и даже отучил его от телефонных звонков после полуночи: Вы потом спите до двух часов дня, а нам с утра работать.)
Однако сталинской выдержки не хватило надолго. Затягивалась ликвидация окружённого Паулюса – Он нервничал, погонял, бранился обидными словами. А после Курска уже не давал времени на разработку операций по окружению, а только – фронтально и безвыигрышно толкать немцев в лоб, давая им сохранять боевую силу, а чтобы только – ушли скорей с советской земли, хоть и целыми. (Но: уже при каждой встрече теперь пожимал Жукову руку, даже шутил, за маршальским званием стал давать то Суворова 1‑й степени, то золотые звёзды Героя, одну, вторую, третью. Всё перебрасывал и перебрасывал его на каждую неудачу или задержку, и однажды Жуков не без удовольствия снял с командующего фронтом – того Голикова.)
Ещё потом был – цепкий прыжок за Днепр. И лавинная прокатка до Румынии. До Болгарии. Ещё была Белорусская операция, где легко дался бобруйский котёл. И, опять лавиною, – в Польшу. Потом – за Вислу. На Одер.
И в каждой операции Жуков ещё рос и ещё уверялся в себе. Одно его имя уже стало нагонять страх на немцев: что прибыл на этот фронт. Теперь он уже и придумать не мог бы себе преграды, которую нельзя одолеть. И так, по приказу Сталина, изжигаемого взять Берлин – чего Гитлер не мог с Москвой, и взять скорей! скорей самим, без союзников! – Жуков увенчал войну – и свою жизнь – Берлинской операцией.
Берлин оказывался почти на равном расстоянии – от нас и от союзников. Но немцы сосредоточивали все силы против нас, и была большая опасность, что они союзникам просто поддадутся, пропустят их. Однако этого нельзя же было допустить! Родина требовала: наступать – нам! и побыстрей, побыстрей! (Перенял от Сталина и тоже хотел теперь – непременно к празднику, к 1 мая. Не вышло.) И не оставалось Жукову иначе как опять: атаковать в лоб и в лоб, и не считаясь с жертвами.
Заплатили мы за Берлинскую операцию, будем говорить, тремястами тысячами павших. (Полмиллиона-то легло?) Но – мало ли пало и раньше? кто их там считал? Специально теперь на этом останавливаться – не полезно. Конечно, нашим людям тяжко было терять отцов, мужей, сыновей, – но все они стойко переносили неизбежные потери, ибо все понимали, что идут звёздные часы советского народа. Кто уцелеет – будет внукам рассказывать, а сейчас – вперёд!! (Союзники, больше из зависти, после войны стали утверждать, что не только не нужна была Берлинская операция, но и вся весенняя кампания 1945 года: мол, Гитлер сдался бы и без неё и без новых боёв, он уже был обречён. А сами – зачем тогда сжигали ненужной бомбёжкой невоенный Дрезден?.. тоже – тысяч полтораста сожгли, да гражданских.)
Да Жуков готов был воевать хоть и ещё дальше, как машина, его стратегическая теперь хватка и разогнанная стальная воля даже требовали пищи, помола. Но – жизнь вся сразу сменилась: как бы с полного разгона корабля он сел на мягкую и почётную мель. Теперь – он стал Главнокомандующим советскими оккупационными войсками в Германии. Бессонные ночи оперативных разработок сменились на долгие сытые и пьяные банкеты с союзниками (они так и липли на икру и водку). Завязалась как бы дружба с Эйзенхауэром. (На одном ночном банкете – отплясал ему «русскую», показывал.) Пошёл поток взаимных с союзниками наград. (Эти крупные их ордена уже приходится спускать на живот.) Вместо боевых потекли заботы хозяйственные: демонтировать немецкие предприятия и вывозить их в СССР. Ну и, конечно же, налаживать жизнь немецкого населения – мы много сделали для них, наши интернациональные чувства не давали нам отдаться мести, и нам многое объяснили Ульбрихт и Пик-младший. (И через 8 лет изумлён был Жуков необъяснимым восстанием берлинских рабочих: ведь мы – отменили им все нацистские законы и дали полную свободу всем антифашистским партиям.)
Гордость была только – в июне съездить принять парад Победы на Красной площади, на белом коне. (Сталин, видно, сам хотел, но не уверен был, усидит ли на лошади. А видно – завидовал: желваки заходили по лицу. А раз, внезапно, небывало признался Жукову: «Я – самый несчастный человек. Я даже тени своей боюсь», – боялся покушения? Жуков поверить не мог такой откровенности.)
Летом потекла церемонная Потсдамская конференция (в Берлине, полностью разбитом нашей артиллерией и авиацией, места для конференции не нашлось). Дальше были заботы, как заставить союзников вернуть советским органам наших советских граждан, опять-таки необъяснимо не желающих возвращаться на родину. (Что это? как это может быть? Или знают за собой тяжёлые преступления, или льстятся на лёгкую западную жизнь.) Приходилось жёстко требовать от союзников, чтобы на встречу с этими людьми допускали наших представителей, профессионалов сыска. (Это оказались очень деловые люди, они в нашей армии состояли и всегда, но Жуков со своей высоты с ними раньше как-то мало соприкасался.)
И – много такого. Жуков всё это исполнял, но как бы с ленью, как бы засыпая: уже никогда не возвращался прежний его орлиный полёт – разгадок противника и постройки своих замыслов.
Что ж, пора была бросать этот почётный и скучный пост в Берлине, возвращаться, и обновлять и укреплять Советскую (теперь уже не Красную) армию для возможных будущих конфликтов – и в рост с новой военной техникой. После войны вряд ли Сталин захочет сохранять за собой пост наркома (теперь – министра) обороны. А значит – отдаст Жукову. Да и оставаясь бы его первым заместителем – всё равно в руки Жукова попадало всё военное дело.
Но когда в 1946 Жуков вернулся из Берлина, он был поражён неожиданным назначением заместителем министра обороны вовсе не себя – а вполне штатского Булганина. И, как объяснил Сталин, руку с дымящей трубкой отводя с видом своей безпомощности вмешаться: Булганин уже так построил штаты министерства обороны, что в них нет места второму заместителю.
Жукова – как скинули с лошади на скаку.
Ну всё-таки!.. Но я же…?
И – что Ему возразишь? Да не Сталин это придумал, не мог бы Он так поступить после всего, что связывало их в военных победах! после стольких в Его доме встреч, работы, обедов один на один. Это, конечно, придумал – двуличный Булганин. (Подобное неожиданное хитрое проворство Жукову, бывало, приходилось замечать и у других «членов военного совета», то есть политуправленцев фронтов и армий, – после того, как миновали главные бои, а до этого они сидели тихо. Такой же был всегда и Хрущёв, по виду очень простодушный.)
А начальником Генштаба – уже был Василевский, и это совершенно справедливо. Жукову предложили быть Главнокомандующим сухопутными войсками. То есть – не только без авиации и флота, не только без стратегической работы – но ещё и в прямом подчинении лишь Булганину, без права обращения к Сталину (так было указано в новом штатном расписании).
Да: на скаку – и обземь. Больно.
Как когда-то в Тамбовской губернии, когда вышибли из седла.
А наступило тогда Георгию Константиновичу как раз и ровно – 50 лет. Самый расцвет сил и способностей.
Щемило по своему ушедшему боевому прошлому…
Но обречённость его теперь бездействия – оказалась куда затопистей, чем он ожидал. Всей беды своей он ещё не предвидел.
Когда в конце 1945 на одном кремлёвском совещании Сталин упрекнул Жукова, что он приписывает все победы себе, Жуков готовно отказался: всех – никогда не приписывал. И когда в апреле 1946 горько пережил лукавый ход Булганина – тоже он беды своей ещё не понял. А пробыть Главнокомандующим сухопутными войсками досталось ему всего месяц: на Главном Военном Совете вдруг стали зачитывать показания бывшего адъютанта Жукова (оказывается, арестованного!) и главного маршала авиации Новикова (оказывается, тоже недавно арестованного!) – и ещё других арестованных офицеров, – что Жуков будто бы готовил военный заговор – какой бред!! в какую голову это поместится?? Но Рыбалко, Рокоссовский, Василевский тут подхватились и дружно стали Жукова защищать, спасибо. И убедили Сталина, и Сталин спас его от бериевской расправы – и всего лишь послали маршала на Одесский военный округ.
Крутое падение, болезненное, – но всё ж не тюрьма.
Однако вот написать своей рукой в воспоминаниях, что за все свои мировые победы трижды Герой Советского Союза – единственный такой в стране! – был сброшен в командующего военным округом, – перо не берёт, перед историей стыдно, об этом надо как-то промолчать.
Но и это ещё был не край беды. Не прошло двух лет, как арестовали генерала Телегина, члена военного совета при Жукове в конце войны (и как много позже узналось, ему выбили все зубы, он терял рассудок, да и Новикова пытали также, а потом – выпустили), – вот тогда Жуков понял, что идёт Берия – на него. И тогда-то был у него первый инфаркт.
А Берия с Абакумовым вдруг нагрянули на подмосковную дачу Жукова (подаренную Сталиным за спасение Москвы, вот где он сейчас писал мемуары) – якобы проверять хранение документации, рылись в ящиках, вскрыли сейф, нашли старые оперативные карты, которые полагалось сдавать, – это Главнокомандующему! И состряпали строгий выговор.
Нет, не арестовали пока: Сталин – спас, заступился! Но сослали – на Уральский военный округ, уже и не приграничный. Как это походило на ссылку Тухачевского в 1937 в Средневолжский округ – только того арестовали сразу в поезде. Так – и ждал себе теперь. И держал наготове малый чемоданчик – с бельём, с вещицами.
Славы – как не бывало. Власти – как не бывало. И отброшен – в бездействие, в мучительное бездействие, при всех сохранённых силах, воле, уме, таланте, накопленных стратегических знаниях.
Иногда думал: да неужели – это замысел самого Сталина? (Не простил того белого коня на параде Победы?..) Да нет, это Берия заморочил ему голову, оклеветал.
А с другой стороны – нашлись в мире антинародные силы, которым выгодно было создать обстановку «холодной войны». Но в Холодной – Жуков был совсем безполезен, это правда.
Однако в те годы ему бы и в голову не пришло сидеть писать воспоминания: ведь это как бы признать конец своей жизни?
А Сталин – не забыл своего оклеветанного, но верного полководца и героя, нет. В 1952 допустил его на съезд партии, и кандидатом в ЦК. И перевёл опять в Москву, и готовил ему какую-то важную должность в новой сложной обстановке.
Но – внезапно скончался…
Вечная память Ему! А обстановка стала – ещё и ещё более сложная. Берия ходил в главарях, но не он один. И Жуков снова стал Главнокомандующим сухопутными войсками и первым заместителем министра обороны.
И прошло ещё два месяца – сильно пригодился Жуков! Вызвали его Хрущёв и Маленков: завтра на Политбюро (теперь его переназвали потише, в Президиум) в повестке дня будет стоять военный вопрос, ты будешь вызван туда – и нужно там же сразу арестовать Берию! Это пока будем знать только мы трое. А ты возьми с собой двух-трёх надёжных генералов, и конечно адъютантов, и оружие.
И в назначенный час сидели в приёмной, ждали вызова (генералы гадали, зачем их позвали, – объяснил им только уже перед входом на заседание, и кому – стоять на дверях с пистолетами). Вошёл, прошагал немного и бегом на Берию! – и за локти его, рывком, медвежьей силой, оторвать от стола: может у него там кнопка, вызвать свою охрану? И гаркнул на него: «Ты – арестован!!» Доигрался, сволочь. Гад из гадов! (Политбюро сидит, не шелохнется, из них никто б не осмелился.) Тут вспомнил тамбовский приём, как брали в плен «языков»: адъютанту – вынуть у арестованного брючный ремень, тут же отрезать, оторвать пуговицы с брюк, – пусть штаны двумя руками держит. И – увели. В просторном автомобиле положили на пол, закутанного плотно в ковёр, и кляп во рту, – а то ведь охрана ещё остановит машину на выезде из Кремля. Сели четыре генерала в ту же машину – на вахте их только поприветствовали. И отвезли гада в штаб Военного округа, в бункер внутреннего двора, – и ещё подогнали танки с пушками, наведенными на бункер. (А трибунал вести – досталось Коневу.)
Только: и этого сладкого мига – в мемуары не вставишь. Не целесообразно. Не помогает коммунистическому партийному делу. А мы – прежде всего коммунисты.
После этой операции Коллективное Руководство снова призвало Жукова к реальному делу. Вот только когда – стал он министром обороны, во всю силу и власть, Хозяин Армии. И в какой ответственный момент: развитие атомного оружия! (Вместе с Хрущёвым дружески летали в Тоцкие лагеря на Урал, проводили опыт на выживаемость наших войск, 40 тысяч на поле, сразу после атомного взрыва: отработка упреждающего тактического удара против НАТО.) Готовил Армию на великие задачи, хоть и против Америки бы.
Теперь и ездил в Женеву на встречу союзных стран «в верхах». (И встретил там коллегу-Эйзенхауэра: ишь ведь, уже Президент!)
Как бывает в жизни – беда к беде, а счастье к счастью, – тут и женился второй раз, Галина на 31 год моложе. И – ещё одна дочка родилась, уже третья, – да тем дороже, что малышка. Как внучка…
А на Сталина – не осталось зла, нет. Всё перенесенное за последние годы – просто вычеркнул из памяти. Сталин был – великий человек. И – как сработались с ним к концу войны, сколько вместе передумано, решено.
Только – XX съезд партии потряс сознание: сколько же открылось злоупотреблений! сколько! И подумать было немыслимо.
На XX съезде стал – кандидатом в Политбюро.
А вослед Съезду – стали подступать, подступать ко всесильному военному министру некоторые генералы – поодиночке, по два: «Георгий Констиныч, да не нужны нам теперь в армии политотделы, комиссары, они нам только руки связывают. Освободите вы нас от них, сейчас вам никто не посмеет помешать». – «Да и от смершевцев подковырчивых, от Особотделов тоже! Вполне будет – в духе Съезда».
Так подступали не один раз – и по-тихому, и в малом застольи (только Жуков никогда не распивался): мол, победила-то Гитлера русская армия, а что из нас опять дураков выворачивают? Так не пришла ли пора, Георгий Констиныч…? И даже прямо: мол, сейчас министр Вооружённых Сил – посильней всего Политбюро, вместе взятого. Так что – и…? может быть…?
Жуков даже и задумывался: может, и правда? Сила – вся была у него, и смётка боевая сохранялась, и свалить этих всех было, в оперативном смысле, нетрудно.
Но – если ты коммунист? Но как можно так настраиваться, если мы в своей Победе обязаны – да, также и политическому аппарату, и смершевскому?
Нет, ребята. Это – не дело.
Но – потекло, и распространилось по Москве, если и не по Армии. И уже на Политбюро Жукова спросили тревожно.
Заверил товарищей:
– Да что вы! Да никогда я не был против института политотделов в Армии. Мы – коммунисты, и останемся ими навсегда.
На том и пережили кризис в умах 1956 года.
Исполнилось Жукову 60 лет – в полном соку, и опять он понадобился, в раздорах самого Коллективного Руководства. Там чуть не все до одного стали против Хрущёва: что он сильно раскомандовался, лезет вместо Сталина – и надо его едва ли не снять. Хрущёв кинулся к Жукову: «Спаси!»
А чтобы спасти – надо было собрать голоса ЦК, потому что в Политбюро Хрущёв был совсем в меньшинстве, а его враги собирать ЦК отказались.
Так это легче лёгкого! Семь десятков военных самолётов послал Жуков и всех членов ЦК доставил мигом в Москву. Ими – Хрущёв и взял перевес. И объявил и проклял антипартийную группировку Молотова-Маленкова-Кагановича и примкнувших, и примкнувших. (И Булганин, и Ворошилов тоже перекинулись к тем.)
Спасши Родину от германского фашизма, и спасши от перерожденца Берии, и спасши от антипартийной группировки – этими одолениями был теперь Георгий Жуков трижды увенчан, достойный, любимый сын Отечества.
И – никак не пришла б ему в голову такая пустячная забава, как писать Воспоминания.
Тут как раз надо было ехать с визитом в Югославию и Албанию. Поехал с флотилией в несколько военных кораблей по Чёрному, по Средиземному, по Адриатическому – славно прокатиться с непривычки.
А гостя́ в Албании, узнал, что в Москве снят с поста министра Вооружённых Сил??!
Что это??? Какое-то недоразумение? переназвание, переформировка? будет какой-то иной пост – равноценный или даже поважней?
Защемило сердце. Опустело в груди – и вокруг всё, в этих визитах. Поспешно возвращался с надеждой – объясниться же с Хрущёвым: не может же он настолько не помнить добра – дважды спасённый Жуковым?!
А не только не помнил – уже, оказывается, на ЦК и в кремлёвских кругах заявлял: Жуков – опасная личность! Бонапартист! Жуков хочет свергнуть нашу родную советскую власть! Да в Москве прямо с аэроплана – кто же? Конев! сопроводил Жукова в Кремль, и тут же исключили его и из Политбюро и из ЦК.
Из Албании – ничего было не сделать. А добрался до Москвы – здесь и обезврежен, тут всё сменено, и не осталось линий связи.
Только теперь! теперь задним умом разобрался Георгий Константинович: был он слишком крупная фигура для Хрущёва. Невмоготу было – такого рядом держать.
Где там объясняться: в «Правде» – опять же Конев!! – напечатал гнусную статью против Жукова. Конев! – спасённый Жуковым от сталинского трибунала – вот так же в октябре, в Сорок Первом году.
Такого оскорбления, такого унижения, такой обиды – никогда за весь век не испытывал. (Сталин – тот был законный Хозяин, тот – выше, тот – имел право на Власть, но этот – прыщ кукурузный?!) Так было тяжко – стал глушить себя снотворными: и на ночь снотворное, одно, второе, а утром проснулся – сердце гложет – и опять снотворное. И на ночь – опять. И днём – опять. И так больше недели укачивал себя, чтобы пережить.
Да и на том не кончилось: из Армии выкинули вовсе: в отставку. И на том не кончилось: начальником Политуправления Армии-Флота сделал Хрущёв всё того же Голикова, жуковского врага, – и именно Голиков теперь наблюдал, как пресечь все движения опального маршала и все возможные движения неотшатнувшихся друзей – к нему, на всё ту же подмосковную дачу в лесу, в его дом с обезсмыслевшей колоннадой. (Да спасибо – дачу-то не отобрали.)
И вот тут – хватил Жукова второй инфаркт (если что-то не хуже).
И поднялся от него – уже не прежним железным. Как-то всё тело и огрузло, и ослабло необратимо. Разрыхлилась и шея. И смяк – на весь мир знаменитый его безпощадный подбородок. И щёки набрякли, и губами стало двигать как-то трудней, неровно.
Одно время круглосуточно дежурили на даче медсёстры.
Теперь остались с Жуковым жена (она врач, и чаще на работе), маленькая дочурка, тёща да старый, ещё с фронта, проверенный шофёр. С интересом и участием следил за отметками, как Машенька стала обучаться в музыкальной школе. (Он и сам всегда мечтал играть на баяне, и после Сталинграда находил время маленько учиться. И сейчас на досуге поигрывал. Хотелось играть «Коробейников», «Байкал» и фронтовую «Тёмную ночь».) Ездил – только на любимую рыбалку. А то всё – на лесном своём участке, гулял, возился с цветами, в непогоду бродил по столовому залу, от огромного дубового буфета – до своего же бюста, работы Вучетича, и модели танка Т‑34.
А внешняя жизнь – текла себе как ни в чём не бывало. Печаталась многотомная история Великой Отечественной Войны – но к Жукову не обратились ни разу ни за единой справкой… И само его имя – замалчивали, затирали, сколько могли. И, говорят, – убрали его фотографии из музея Вооружённых Сил. (Кроме Василевского и навещавшего Баграмяна, все отвернулись от Жукова. Ну, Рокоссовского послали возглавлять польскую армию.)
И вот тут-то – многие, многие маршалы и генералы кинулись писать свои мемуары и издавать их. И Жуков поражался их взаимной ревности, как они выставляли себя и старались отобрать честь от соседей, а свои неудачи и промахи – валить на них же. Так и Конев теперь строчил (или ему писали?) свои воспоминания – и во всём он чистенький, и безсовестно перехватывал себе славу достижений скромного и талантливого Ватутина (убитого бандеровцами). И уж на Жукова, зная, что он беззащитен, кто только не нарекал. Артиллерийский маршал Воронов дошёл до того, что приписал себе и план операции на Халхин-Голе, и успех её.
И вот тут-то – взялся Жуков и сам воспоминания писать. (Да без секретарей, своей рукой, медленно выводил, потихонечку. А один бывший офицер-порученец, спасибо, помогал проверять даты, факты по военным архивам – самому теперь ехать в архив министерства и неловко, и ещё на отказ напорешься.)
Да вообще-то военные мемуары – и неизбежная, и нужная вещь. Вон – немцы сколько уже накатали! вон и американцы, хотя, по сравнению с нашей, чтó у них была там за война? Да печатаются воспоминания и наших незатейливых офицеров, даже младших, и сержантов, и лётчиков – это всё пригодится. Но вот когда генерал, маршал садится писать – надо ответственность свою понимать.
Писал – не находил в себе зла и поспешности спорить с ними всеми. (Да Василевский кой-кого недобросовестного и отчитал.) Непримиримость – она нужна в боях, не здесь. Не находил в себе злопамятства ни к Коневу, ни к Воронову. Протекли и месяцы, и годы опалы – и сердце отошло, умирилось. Однако несправедливостей – нельзя в истории оставлять. Хоть мягко – но надо товарищей поправить, поставить всё на место. Мягко, чтоб не дать им и дальше стравливаться за делёжкой общего пирога Победы. И в чём сам не дотянул, не доработал – о том в воспоминаниях тоже не скрывать. Ибо только на ошибках и могут учиться будущие генералы. Писать надо – истинную правду.
Хотя и правда – она как-то, с течением истории, неуклонно и необратимо меняется: при Сталине была одна, вот при Хрущёве другая. А о многом – и сейчас говорить преждевременно. Да… Войною – и кончить. Дальше – и не хочется, и нельзя.
И вдруг вот – скинули пустошлёпа! теперь не нашлось Жукова, чтоб его ещё раз выручить.
Но и положение опального маршала не изменилось в неделю или в месяц: так и висела опала, никем вновь не подтверждаемая (Голикова уже не стало), но и никем же не отменённая: кто первый осмелится на разрешающее слово?
Одно только позволил себе: съездил в Калужскую область, в родную деревню, – очень потянуло, не жил там, считай, полвека. И сильно огорчился: повидал тех, с кем когда-то в молодости танцевал, – все теперь старухи какие же нищие, и деревня как обнищала. «Да что ж вы так бедно живёте?» – «А не велят нам богаче…»
Но придвигалось 20-летие Победы – и новые власти не могли же не пригласить Жукова на торжество в Кремлёвский дворец. Первое за 7 лет его появление на людях. А вослед, неожиданно, – банкет в Доме литераторов. И горячностью приёма от писателей – маршал был и тронут, и поражен. – И ещё раз, в тот же год, позвали его в Дом литераторов снова – на юбилей одного знакомого военного писателя. Пошёл в штатском костюме, посадили в президиуме. А дальше юбилей юбилеем, сторонний гость, но когда в полдюжине речей, без прямой связи, вдруг называли имя Жукова – писательский зал, московская интеллигенция – бурно, бурно аплодировала, а дважды и весь зал вставал.
Вот как!..
Теперь – разрешил себе Жуков и съездить в Подольск, в Центральный архив министерства обороны, и полистать кой-какие документы военных лет, и свои собственные приказы. Да теперь – и архивисты нашлись ему в помощь. Теперь – и на его опальную, всеми забытую дачу посочились то корреспонденты, то киношники – и приехала женщина от какого-то издательства АПН заключать договор на его мемуары, и чтоб он кончил за полгода (да он уже и дописал до Берлина). Могла бы выйти книга к его 70-летию, и чтоб отдать им всё распространение за границей? Ну, пожалуйста.
Ещё вот недавно – никто и не спрашивал его об этих листах воспоминаний, никто почти и не знал – а теперь они понадобились, да скорей, да – сразу на весь мир!
Теперь – гнать, к сроку? А эта раздумчивая, перебирательная работа за письменным столом – она совсем не для профессионального воина. Кажется, легче дивизию двинуть на пять километров вперёд, чем пером вытащить иную строчку.
Но зачастила редакторша – одна, другая. Они – и магнитофон предлагают; у них и все слова наготове, и целые фразы, и очень хорошо звучат. Например: «Партийно-политическая работа являлась важнейшим условием роста боеготовности наших рядов». Сперва это вызывает у тебя некоторое сопротивление: ты-то сам составлял боеготовность сколько раз, знаешь, из чего она. А постепенно вдумаешься: политическая работа? Ну, не самым важным, но, конечно, одним из важнейших. Или: «Партийные и комсомольские организации отдали много душевных сил, чтобы поднять боевое состояние войск». Вдуматься – и это тоже правда, и не противоречит оперативным усилиям командования. – А ещё приносят из архивов материалы, которых ты сам никогда не контролировал и не в состоянии проверить теперь. Вот, стоит чёрным по белому в донесениях политотделов: «За 1943 год наши славные партизаны подорвали 11 тысяч немецких поездов». Как это может быть?.. Но в конце концов не исключено: может, частично подорваны, где – отдельные вагоны, где колесо, где тамбур.
А попросил АПН узнать в КГБ: нельзя ли посмотреть, какие доклады подавали Берия и Абакумов на маршала? Узнали: как раз эти папки – все уничтожены как не имеющие исторического значения.
Зато вот что узнал: уже напечатано, и изрядно давно, нашей бывшей в Берлине армейской переводчицей, что она в мае 1945 в имперской канцелярии участвовала в опознании – по зубным протезам – найденного трупа Гитлера. Как? Разве труп Гитлера вообще нашли? Жуков, Главнокомандующий, победитель Берлина, – ни тогда, ни потом ничего об этом не знал! Ему тогда сказали, что только труп Геббельса нашли. Он так и объявил в Берлине тогда, а о Гитлере, мол, ничего не известно. И в каких же он теперь дураках? Его подчинённые секретно доложили о находке прямо Сталину, помимо Жукова, – как же смели? А Сталин – не только Жукову не открыл, но в июле 1945 сам же и спрашивал: а не знает ли Жуков, где же Гитлер?..
Ну, такого вероломства – и такого непонятного – Жуков и представить не мог.
А думал, что за годы войны – хорошо, хорошо узнал Сталина…
И – как же теперь об этом признаться в мемуарах?.. Да это будет и политически неправильно.
Ещё этот обман тяжело пережил. (Ещё и эту переводчицу просил достать документы, которых сам не мог.)
А в члены ЦК Жукова так и не вернули. (Говорили: Суслов против.)
Но Конев – приехал как-то. Повиниться.
Через труд душевный – а простил его.
Хорошо ли, плохо, – рукопись сдал издательству в обещанный срок. Ну, куда там до книги! Теперь это АПН создало группу консультантов – «для проверки фактов». И они, месяц за месяцем, вносили предложения, новые формулировки, 50 машинописных страниц замечаний.
Куда уж теперь дождаться выхода книги к 70-летию! Работа потянулась – и за, и за… Много пришлось убирать, переделывать. Характеристики Тухачевского, Уборевича, Якира, Блюхера – все убрать. Вот ещё новое: не сам ты пишешь, что на сердце, – а что пройдёт? пропустят или не пропустят? Что своевременно – а что несвоевременно? (Да и сам же ты соглашаешься: да, верно. Так.)
Раньше писал просто сам для себя, тихо, покойно. А теперь – уже так загорелось книгу увидеть в печати! И – уступал, и переделывал. И промытарились с этими редакторами два с половиной года – а книги всё нет как нет. Тут стало известно, что почему-то и Политуправление Армии и новоявленный маршал Гречко – против этих мемуаров. Но Брежнев пошёл навстречу, положил резолюцию: «создать авторитетную комиссию для контроля содержания».
Между тем на свой месяц декабрь (и родился, и под Москвой победил) поехал Георгий Констиныч в санаторий Архангельское с Галей. А там – ударил его тяжёлый инсульт.
Долго отходил. Поднялся – но ещё менее прежний. Сперва – вообще не мог ходить без посторонней помощи. Массажи да лечебная гимнастика стали занимать больше половины дня. Ещё и воспаление тройничного нерва.
И плохо с головой.
Как-то и обезразличела уже будущая книга. А всё-таки хотелось и дожить.
Тем летом – наши вошли в Чехословакию. И правильно сделали: нельзя было такой разгул оставлять.
Тревоги Родины и всегда волновали Жукова больше, чем свои.
А в военном смысле – первоклассно провели операцию. Хорошо-хорошо, школа наша сохраняется.
Кончился и третий год редактуры. И передали откровенно: Леонид Ильич пожелал, чтоб и он был упомянут в воспоминаниях.
Вот тебе так… И что ж о том политруке Брежневе вспомнить, если в военные годы с ним никогда не встречался, ни на том крохотном плацдармике под Новороссийском.
Но книгу надо спасать. Вставил две-три фразы.
После того Брежнев сам разрешил книгу.
И в декабре же опять, но в жуковские 72 года, её подписали к печати.
Радоваться? не радоваться?
В глубоком кресле осев, утонув в безсилие – сидел. И вспомнил – вспомнил бурные аплодисменты в Доме литераторов – всего три года назад? Как зал – вставал, вставал, как впечатывали ладонями его безсмертную славу.
Аплодисменты эти – были как настойчивый повтор тех генеральских закидов и надежд, сразу после XX съезда.
Защемило. Может быть, ещё тогда, ещё тогда – надо было решиться?
О‑ох, кажется – дурака‑а, дурака свалял?..
1994–1995
Молодняк
1
Шёл экзамен по сопромату.
Анатолий Павлович Воздвиженский, инженер и доцент мостостроительного факультета, видел, что студент Коноплёв сильно побурел, сопел, пропускал очередь идти к столу экзаменатора. Потом подошёл тяжёлым шагом и тихо попросил сменить ему вопросы. Анатолий Павлович посмотрел на его лицо, вспотевшее у низкого лба, безпомощный просительный взгляд светлых глаз – и сменил.
Но прошло ещё часа полтора, ответило ещё несколько, уже сидели готовились последние с курса четверо – и среди них Коноплёв, кажется ещё бурей – а всё не шёл.
И так досидел до последнего. Остались они в аудитории вдвоём.
– Ну что же, Коноплёв, дальше нельзя, – не сердито, но твёрдо сказал Воздвиженский. Уже понятно было, что этот – ни в зуб не знает ничего. На листе его были какие-то каракули, мало похожие на формулы, и рисунки, мало похожие на чертежи.
Широкоплечий Коноплёв встал, лицо потное. Не пошёл отвечать к доске, а – трудным переступом до ближайшего стола, опустился за ним и простодушно, простодушно:
– Анатолий Палыч, мозги пообломаются от такой тяготы.
– Так надо было заниматься систематически.
– Анатолий Палыч, какой систематически? Ведь это по кажному предмету в день наговорят, и кажный день. Поверьте, не гуляю, и ночи сижу – в башку не лезет. Кабы помене сообщали, полегонечку, а так – не берёт голова, не приспособлена.
Глаза его глядели честно, и голос искренний, – не врал он, на гуляку не похож.
– Вы с рабфака пришли?
– Ага.
– А на рабфаке сколько учились?
– Два года ускоренно.
– А на рабфак откуда?
– С «Красного Аксая». Лудильщиком я был.
Широкий крупный нос, и всё лицо с широкой костью, губы толстые.
Не в первый раз задумался Воздвиженский: зачем вот таких мучают? И лудил бы посуду дальше, на «Аксае».
– Сочувствую вам, но сделать ничего не могу. Должен ставить «неуд».
А Коноплёв – не принял довода, и не выдал из кармана зачётную книжку. Но обе кисти, как лапы, приложил к груди:
– Анатолий Палыч, мне это никак не возможно! Одно – что стипендию убавят. И по комсомолу прорабатывать будут. Да мне всё равно сопромата не взять ни в жисть. Да я и так всковырнутый, не в своём седле, – а куды я теперь?
Да, это было ясно.
Но ведь и у многих рабфаковцев тоже жизнь «всковырнутая». Что-то же думала власть, когда потянула их в ВУЗы. Наверно ж и такой вариант предусматривался. Администрация и открыто указывает: к рабфаковцам требования смягчать. Политика просвещения масс.
Смягчать – но не до такой же степени? Прошли сегодня и рабфаковцы, Воздвиженский и был к ним снисходителен. Но – не до абсурда же! Как же ставить «уд», если этот – не знает вообще ничего? Что ж остаётся от всего твоего преподавания, от всего смысла? Начни он инженерствовать – быстро же обнаружится, что сопромата он и не нюхал.
Сказал раз: «никак не могу». Сказал два.
А Коноплёв молил, чуть не слеза на глазу, трудная у такого неотёсы.
И подумал Анатолий Павлович: если политика властей такая настойчивая, и понимают же они, что делают, какую нелепость, – почему моя забота должна быть больше?
Высказал Коноплёву назидание. Посоветовал, как менять занятия; как читать вслух для лучшего усвоения; какими средствами восстанавливать мозговые силы.
Взял его зачётку. Глубоко вздохнул. Медленно вывел «уд» и расписался.
Коноплёв просиял, вскочил:
– Вовек вам не забуду, Анатолий Палыч! Другие предметы может и вытяну – а сопромат уж дюже скаженный.
Институт путей сообщения стоял за окраиной Ростова, домой Анатолию Павловичу ещё долго было ехать.
В трамвае хорошо было заметно, как попростел вид городской публики от прежнего. На Анатолии Павловиче костюм был и скромный, и далеко не новый, а всё-таки при белом воротничке и галстуке. А были в их институте и такие профессора, кто нарочито ходил в простой рубахе навыпуск, с пояском. А один, по весне, и в сандальях на босу ногу. И это никого уже не удивляло, а было – именно в цвет времени. Время – текло так, и когда нэпманские дамы разодевались – так это всех уже раздражало.
Домой поспел Анатолий Павлович как раз к обеденному часу. Жена его кипучая, солнышко Надя, была сейчас во Владикавказе у старшего сына, только что женатого, и тоже путейца. Кухарка приходила к Воздвиженским три раза в неделю, сегодня не её день. Но Лёлька оживлённо хлопотала, чтобы накормить отца. И квадратный их дубовый стол уже накрыла, с веткой сирени посередине. И к ежедневной непременной серебряной рюмочке несла с ледника графинчик водки. И разогрела, вот наливала, суп с клёцками.
В школе, в 8‑й группе, училась она прекрасно – по физике, химии, математике, выполняла черчение превосходно, и как раз бы ей в институт, где отец. Но ещё четыре года назад, постановлением 1922 года, положено было фильтровать поступающих, строго ограничивать приём лиц непролетарского происхождения, и абитуриенты без командировки от партии или комсомола должны были представлять свидетельства о политической благонадежности. (Сын успел поступить на год раньше.)
Не забывалась, лежала осадком в душе эта сегодняшняя натяжка в зачётке.
Расспрашивал Лёлю про школу. Вся их девятилетка («имени Зиновьева», но это стёрли с вывески) ещё была сотрясена недавним самоубийством: за несколько месяцев до окончания школы повесился ученик 9‑й группы Миша Деревянко. Похороны – скомкали, сразу начались по всем группам собрания, проработки, что это – плод буржуазного индивидуализма и бытового упадочничества: Деревянко – это ржавчина, от которой надо очищаться всем. А Лёля и её две подруги уверенно считали, что Мишу затравила школьная комсомольская ячейка.
Сегодня она с тревогой добавляла, что уже не слух, а несомненность: всеми обожаемого директора школы Малевича, старого гимназического учителя, как-то продержавшегося эти все годы и своей светлой строгостью ведшего всю школу в струне, – Малевича будут снимать.
Бегала Лёля к примусу за бефстрогановым, потом пили чай с пирожными.
Отец с нежностью смотрел на дочь. Она так гордо вскидывала голову со вьющимися каштановыми волосами, избежавшими моды короткой стрижки, так умно смотрела и, примарщивая лоб, суждения высказывала чётко.
Как часто у девушек, лицо её содержало прекрасную загадку о будущем. Но для родительского взгляда загадка была ещё щемительней: разглядеть в этом никому не открытом будущем – венец или ущерб стольких лет взроста её, воспитания, забот о ней.
– А всё-таки, всё-таки, Лёленька, не избежать тебе поступать в комсомол. Один год остался, нельзя тебе рисковать. Ведь не примут – и я в своём же институте не смогу помочь.
– Не хочу!! – тряхнула головой, волосы сбились. – Комсомол – это гадость.
Ещё вздохнул Анатолий Павлович.
– Ты знаешь, – мягко внушал, да, собственно, вполне верил и сам, – у новой молодёжи – у неё же есть, наверно, какая-то правда, которая нам недоступна. Не может её не быть.
Не заблуждались же три поколения интеллигенции, как мы будем приобщать народ к культуре, как развяжем народную энергию. Конечно, не всем по силам это поднятие, этот прыжок. Вот они измучиваются мозгами, шатаются душой – трудно развиваться вне потомственной традиции. А надо, надо помогать им выходить на высоту и терпеливо переносить их порой неуклюжие выходки.
– Но, согласись, и оптимизм же у них замечательный, и завидная сила веры. И в этом потоке – неизбежно тебе плыть, от него не отстать. А иначе ведь, доченька, можно и правда всю, как говорится, Эпоху пропустить. Ведь созидается – пусть нелепо, неумело, не сразу – а что-то грандиозное. Весь мир следит, затая дыхание, вся западная интеллигенция. В Европе ведь тоже не дураки.
Удачно свалив сопромат, Лёшка Коноплёв с охоткой подъединился к товарищам, шедшим в тот вечер в дом культуры Ленрайсовета. Собирали не только комсомольцев, но и желающий безпартийный молодняк: приезжий из Москвы читал лекцию «О задачах нашей молодёжи».
Зал был человек на шестьсот и набился битком, ещё и стояли. Много красного было: сзади сцены два распущенных, в наклон друг ко другу знамени, расшитых золотом; перед ними на стояке – большой, по грудь, Ленин бронзового цвета. И на шеях у девушек красные косынки, у кого и головные повязки из красной бязи; и пионерские красные галстуки – на пионервожатых, а некоторые привели с собой и по кучке старших пионеров, те и сидели возле своих вожаков.
Вот как: сплочённо, тесно дружим мы тут, молодые, хотя б и незнакомые: это – мы, тут – все наши, все мы заодно. Как говорят: строители Нового мира. И от этого у каждого – тройная сила.
Потом на передок помоста вышли три горниста, тоже с красными салфетными привесками к горнам. Стали в разрядку – и прогорнили сбор.
Как хлыстом, ещё взбодрили этими горнами! Что-то было затягивающее в таком торжественном слитии: красных знамён под углом, бронзового Ильича, посеребрённых горнов, резких звуков и гордой осанки горнистов. Обжигало строгим кличем – и строгим клятвенным обещанием.
Ушли горнисты таким же строевым шагом – и на сцену выкатился лектор – низенький, толстенький, с подвижными руками. И стал не по бумажке, а из головы быстро, уверенно, настойчиво говорить позадь своей стоячей трибунки.
Сперва о том, как великая полоса Революции и Гражданской войны дала молодёжи бурное содержание – но и отучила от будничного.
– Этот переход трудно дался молодняку. Эмоции специфического материала революции особенно больно бьют по переходному возрасту. Некоторым кажется: и веселей было бы, если бы снова началась настоящая революция: сразу ясно, что делать и куда идти. Скорей – нажать, взорвать, растрясти, а иначе не стоило и Октября устраивать? Вот – хоть бы в Китае поскорей революция, что она никак не разразится? Хорошо жить и бороться для Мировой Революции – а нас ерундой заставляют заниматься, теоремы по геометрии, при чём тут?..
Или по сопромату. Правда, куда бы легче застоялые ноги, руки, спину размять.
Но – нет, уговаривал лектор, и выходил из-за трибунки, и суетился пóперек сцены, сам своей речью шибко увлечённый.
– Надо правильно понять и освоить современный момент. Наша молодёжь – счастливейшая за всю историю человечества. Она занимает боевую, действенную позицию в жизни. Её черты – во-первых, безбожие, чувство полной свободы ото всего, что вненаучно. Это развязывает колоссальный фонд смелости и жизненной жадности, прежде пленённых боженькой. Во-вторых, её черта – авангардизм и планетаризм, опережать эпоху, на нас смотрят и друзья и враги.
И озирался кругленькой головой, как бы оглядывая этих друзей и особенно врагов со всех заморских далей.
– Это – смерть психологии «со своей колокольни», каждая деталь рассматривается нашим молодняком обязательно с мировой точки зрения. В‑третьих – безукоризненная классовость, необходимый, хотя и временный, отказ от «чувства человеческого вообще». Затем – оптимизм!
Подошёл к переднему обрезу помоста и, не боясь свалиться, переклонился, сколько мог, навстречу залу:
– Поймите! Вы – самая радостная в мире молодёжь! Какая у вас стойкость радостного тонуса!
Опять пробежался по сцене, но сеял речь без задержки:
– Потом у вас – жадность к знанию. И научная организация труда. И тяга к рационализации также и своих биологических процессов. И боевой порыв – и какой! И ещё – тяга к вожачеству. А от вашего органического классового братства – у вас коллективизм, и до того усвоенный, что коллектив вмешивается даже и в интимную жизнь своего сочлена. И это – закономерно!
Хоть лектор чудаковато держался – а никто и не думал смеяться. И друг с другом не шептались, слушали во все уши. Лектор – помогал молодым понять самих себя, это полезное дело. А он – и горячился, и поднимал то одну короткую руку, а то и две – призывно, для лучшего убеждения.
– Смотрите, и в женском молодняке, в осознании мощи творимого социализма… Женщина за короткий срок приобрела и лично-интимную свободу, половое освобождение. И она требует от мужчины пересмотра отношений, а то и сама сламывает мужскую косность рабовладельца, внося революционную свежесть и в половую мораль. Так и в области любви ищется и находится революционная равнодействующая: переключить биоэнергетический фонд на социально-творческие рельсы.
Кончил. А не устал, видно привычно. Пошёл за трибунку:
– Какие будут вопросы?
Стали задавать вопросы – прямо с места или записочками, ему туда подносили.
Вопросы пошли – больше о половом освобождении. Один – Коноплёву прямо брат: что это легко сказать – «в два года вырастать на десятилетие», но от такого темпа мозги рвутся.
А потом и пионеры осмелели и тоже задавали вопросы:
– Может ли пионерка надевать ленточку?
– А пудриться?
– А кто кого должен слушаться: хороший пионер плохого отца – или плохой отец хорошего пионера?..
2
Уже в Двадцать Восьмом году «Шахтинское дело», так близкое к Ростову, сильно напугало ростовское инженерство. Да стали исчезать и тут.
К этому не сразу люди привыкали. До революции арестованный продолжал жить за решёткой или в ссылке, сносился с семьёй, с друзьями, – а теперь? Провал в небытие…
А в минувшем Тридцатом, в сентябре, грозно прокатился приговор к расстрелу 48 человек – «вредителей в снабжении продуктами питания». Печатались «рабочие отклики»: «Вредители должны быть стёрты с лица земли!», на первой странице «Известий»: «Раздавить гадину!» (сапогом), и пролетариат требовал наградить ОГПУ орденом Ленина.
А в ноябре напечатали обвинительное заключение по «делу Промпартии» – и это уже прямо брало всё инженерство за горло. И опять в газетах накатывалось леденяще: «агенты французских интервентов и белоэмигрантов», «железной метлой очистимся от предателей!».
Беззащитно сжималось сердце. Но и высказать страх – было не каждому, а только кто знал друг друга хорошо, как Анатолий Павлович вот, лет десять, Фридриха Альбертовича.
В день открытия процесса Промпартии была в Ростове и четырёхчасовая демонстрация: требовали всех тех расстрелять! Гадко было невыносимо. (Воздвиженский сумел увернуться, не пошёл.)
День за днём – сжатая, тёмная грудь, и нарастает обречённость. Хотя: за что бы?.. Всё советское время работали воодушевлённо, находчиво, с верой – и только глупость и растяпство партийных директоров мешали на каждом шагу.
А не прошло двух месяцев от процесса – ночью за Воздвиженским пришли.
Дальше потянулся какой-то невмещаемый кошмарный бред – и на много ночей и дней. От раздевания наголо, отрезания всех пуговиц на одежде, прокалывания шилом ботинок – до каких-то подвальных помещений без всякого проветривания, с парким продышанным воздухом, без единого окна, но с бутылочно непроглядными рамками в потолке, никогда не день, в камере без кроватей, спали на полу, по цементу настланные и не согнанные воедино доски, все одурённые без сна от ночных допросов, кто избит до синяков, у кого кисти прожжены папиросными прижигами, одни в молчании, другие в полубезумных рассказах, – Воздвиженский ни разу никуда не вызван, ни разу никем не тронут, но уже и с косо сдвинутым сознанием, неспособный понять происходящее, хоть как-то связать его с прежней – ах, какой же невозвратимой! – жизнью. По нездоровью не был на германской войне, не тронули его и в Гражданскую, бурно перетекавшую через Ростов-Новочеркасск, четверть века размеренной умственной работы, а теперь вздрагивать при каждом открытии двери, дневном и ночном, – вот вызовут? Он не был, он не был готов выносить истязания!
Однако – не вызывали его. И удивлялись все в камере – в этом, как стало понятно, подземном складском помещении, а бутылочные просветы в потолках – это были куски тротуара главной улицы города, по которому наверху шли и шли безпечные пешеходы, ещё пока не обречённые сюда попасть, а через землю передавалась дрожь проходящих трамваев.
Не вызывали. Все удивлялись: новичков-то – и тягают от первого взятия.
Так может, и правда ошибка? Выпустят?
Но на какие-то сутки, счёт им сбился, – вызвали, «руки назад!», и угольноволосый надзиратель повёл, повёл ступеньками – на уровень земли? и выше, выше, на этажи, всё прищёлкивая языком, как неведомая птица.
Следователь в форме ГПУ сидел за столом в затенённом углу, его лицо плохо было видно, только – что молодой и мордатый. Молча показал на крохотный столик в другом углу, по диагонали. И Воздвиженский оказался на узком стуле, лицом к дальнему пасмурному окну, лампа не горела.
Ждал с замиранием. Следователь молча писал.
Потом строго:
– Расскажите о вашей вредительской деятельности.
Воздвиженский изумился ещё больше, чем испугался.
– Ничего подобного никогда не было, уверяю вас! – Хотел бы добавить разумное: как может инженер что-нибудь портить?
Но после Промпартии?..
– Нет, расскажите.
– Да ничего не было и быть не могло!
Следователь продолжал писать, всё так же не зажигая лампу. Потом, не вставая, твёрдым голосом:
– Вы повидали в камере? Ещё не всё видели. На цемент – можно и без досок. Или в сырую яму. Или – под лампу в тысячу свечей, ослепнете.
Воздвиженский еле подпирал голову руками. И – ведь всё сделают. И – как это выдержать?
Тут следователь зажёг свою настольную лампу, встал, зажёг и верхний свет и стал посреди комнаты, смотрел на подследственного.
Несмотря на чекистскую форму – очень-очень простое было у него лицо. Широкая кость, короткий толстый нос, губы крупные.
И – новым голосом:
– Анатолий Палыч, я прекрасно понимаю, что вы ничего не вредили. Но должны и вы понимать: отсюда – никто не выходит оправданный. Или пуля в затылок, или срок.
Не этим жестоким словам – изумился Воздвиженский доброжелательному голосу. Вперился в следовательское лицо – а что-то, что-то было в нём знакомое. Простодушное. Когда-то видел?
А следователь стоял так, освещённый, посреди комнаты. И молчал.
Видел, видел. А не мог вспомнить.
– Коноплёва не помните? – спросил тот.
Ах, Коноплёв! Верно, верно! – тот, что сопромата не знал. А потом исчез куда-то с факультета.
– Да, я не доучивался. Меня по комсомольской разнарядке взяли в ГПУ. Уже три года я тут.
И – что ж теперь?..
Поговорили немного. Совсем свободно, по-людски. Как в той жизни, до кошмара. И Коноплёв:
– Анатолий Палыч, у ГПУ ошибок не бывает. Просто так отсюда никто не выходит. И хоть я вам помочь хочу – а не знаю как. Думайте и вы. Что-то надо сочинить.
В подвал Воздвиженский вернулся с очнувшейся надеждой.
Но – и с кружением мрака в голове. Ничего он не мог сочинять.
Но и ехать в лагерь? На Соловки?
Поразило, согрело сочувствие Коноплёва. В этих стенах? на таком месте?..
Задумался об этих рабфаковцах-выдвиженцах. До сих пор замечалось иное: самонадеянный, грубый был над Воздвиженским и по его инженерной службе. И в школе, которую Лёлька кончала, вместо смененного тогда даровитого Малевича назначили тупого невежду.
А ведь задолго до революции и предчувствовали, пророчили поэты – этих будущих гуннов…
Ещё три дня в подуличном подвале, под стопами неведающих прохожих – и Коноплёв вызвал снова.
Только Воздвиженский ничего ещё не придумал – сочинить.
– А – надо! – внушал Коноплёв. – Деться вам некуда. Не вынуждайте меня, Анатоль Палыч, к мерам. Или чтоб следователя вам сменили, тогда вы пропали.
Пока перевёл в камеру получше – не такую сырую и спать на нарах. Дал табаку в камеру и разрешил передачу из дому.
Радость передачи – даже не в продуктах и не в чистом белье, радость, что домашние теперь знают: здесь! и жив. (Подпись на списке передачи отдают жене.)
И опять вызывал Коноплёв, опять уговаривал.
Но – как наплевать на свою двадцатилетнюю увлечённую, усердную работу? Просто – на самого себя, в душу себе?
А Коноплёв: без результата следствие вот-вот отдадут другому.
А ещё в один день сказал:
– Я придумал. И согласовал. Путь освобождения есть: вы должны подписать обязательство давать нам нужные сведения.
Воздвиженский откинулся:
– Как может…? Как… такое?! И – какие сведения я вам могу давать?
– А об настроениях в инженерной среде. Об некоторых ваших знакомых, вот например о Фридрихе Вернере. И ещё там есть на списке.
Воздвиженский стиснул голову:
– Но этого – я не могу!!
Коноплёв качал головой. Да просто – не верил:
– Значит – в лагеря? Имейте в виду: и дочку вашу с последнего курса выгонят как классово чуждую. И может быть – конфискация имущества, квартиры. Я вам – добро предлагаю.
Анатолий Павлович сидел, не чувствуя стула под собой и как потеряв зрение, не видя и Коноплёва.
Упал головой на руки на столик – и заплакал.
Через неделю его освободили.
1993
Настенька
1
Родители Настеньки умерли рано, и с пяти лет воспитывал её дедушка, к тому времени тоже вдовец, отец Филарет. В его доме, в селе Милостайки, девочка и жила до двенадцати лет, сквозь германскую войну и революцию. Дед и стал ей за отца, за родителей, его седовласая голова с проницательным, светлым, а к ней и нежным взглядом вступила в детство её как главный неизменный образ, – все остальные, и две тёти, уже потом. От деда усвоила она и первые молитвы, и наставления к поведению в жизни. С любовью ходила на церковные службы, и стояла на коленях, и в погожие утра засматривалась, как солнечные лучи бьют через оконца купола, а сквозь них с верхнего свода низзирал – со строгостью, но и с милостью – Всевышний. А в одиннадцать лет, на Николу вешнего, Настенька одна, через поля, за 25 вёрст, ходила пешком в монастырь. На исповедях изыскивала она, в чём бы повиниться, и жаловалась, что не найти ей тех грехов, – а отец Филарет, через наложенную епитрахиль, наговаривал:
– А ты, девочка, кайся и вперёд. Кайся – и вперёд, грехов ещё будет, бу-удет.
А время быстро менялось. У отца Филарета отняли 15 десятин церковной руги, дали 4 гектара по числу едоков, с двумя тётями. Но чтоб обрабатывали своими руками, а то и эту отнимут. А в школе на Настеньку стали коситься, и ученики кликали её «поповской внучкой». Но и школу в Милостайках вскоре вовсе закрыли. Учиться дальше – приходилось расстаться и с домом, и с дедом.
Переехала Настенька за 10 вёрст в Черенчицы, где они, четыре девочки, сняли квартиру. В той школе мальчики были обидчики: в узком коридоре становились с двух сторон и ни одной девочки не пропускали, не излапав. Настя круто вернулась во двор, наломала колючих веток акации, смело пошла и исхлестала мальчишек, кто тянулся. Больше её не трогали. Да была она рыжая, веснущатая и считалась некрасивая. (А если в книге какой читала про любовь, то волновалась смутно.)
А двум тётям её – тёте Ганне и тёте Фросе – не виделось никакого пути в жизни, как и вовсе поповским дочкам. Как раньше дядя Лёка купил себе справку, что он – сын крестьянина-бедняка, и скрылся далеко, – так теперь и тётя Фрося уехала в Полтаву, надеясь там переменить своё соцпроисхождение. А у тёти Ганны был жених, в Милостайках же, тут бы она и осталась, – да вдруг случайно узнала в городской больнице, что подруга её сделала аборт от её жениха. Тётя Ганна вернулась домой, как мёртвая, – и в неделю, со злости, вышла замуж за одного красноармейца-коммуниста из стоявших тогда в их доме на постое. Вышла – как? зарегистрировалась и уехала с ним в Харьков. А сокрушённый отец Филарет с амвона проклял дочь, что не венчалась. Остался он в доме вовсе один.
Прошла ещё зима, Настенька кончила семилетку. И что теперь дальше, куда же? Тётя Ганна между тем хорошо устроилась: заведующей детским домом под самым Харьковом, а с мужем рассорилась, разошлась, хотя он стал на большом посту. И позвала племянницу к себе. Провела Настенька последнее лето у дедушки. По завету его взяла бумажную иконку Спаса – «доставай и молись!»; скрыла в конверте, ещё в тетради: открыто там не придётся. И с осени уехала к тёте.
А та – уже набралась ума: «Теперь – куда тебе? На кирпичный завод? или уборщицей? Другого хода нет у тебя, как поступать в комсомол. Вот тут у меня и поступишь». Пока пристроила помощницей воспитательницы, возиться с ребятишками, – это Настеньке очень понравилось, да только место временное. Но уже надо было: всё правильное говорить детям, не ошибаться, и самой готовиться в комсомол. А ещё была у них комсомолка пионервожатая Пава, всегда носила с собой красный том Маркса-Энгельса, не расставалась. Но и хуже, мерзейшие книжки у неё были, и между ними роман какой-то о католическом монастыре в Канаде: как сперва девушек готовят к посвящению, а перед самым – заводят на ночь в келью, а там уже здоровенный монах – и ухватывает её в постель. А потом утешает: «Это тебе – для знания. Тело наше – всё равно погибнет, спасать надо не тело, а душу».
Этого быть не могло, это ложь! Или – за океаном? Но Пава твердила уверенно, будто знает, что и в русских монастырях – всё на лжи.
Как гадко было решаться на комсомол: и там вот тоже так будут насмехаться? и такие же Павы?
Но тётя Ганна настаивала и внушала: да пойми, нет тебе другого хода, кроме комсомола. А иначе – хоть вешайся.
Да, жизнь сходилась всё уже, всё неуклонней… В комсомол?
И однажды поздно вечером, когда никто не видел, Настя вынула иконку Христа, приникла к ней прощальным и раскаянным поцелуем. И порвала мелко-мелко, чтобы по обрывкам было не понять.
А 21 января была первая годовщина смерти Ленина. Над их детским домом шеф был – совнарком Украины, и на торжественный сбор пришёл сам Влас Чубарь. Сцена была в красном и чёрном, и перед большим портретом Ильича ребятишек, поступающих в пионеры, переименовывали из Мишек и Машек – в Кимов, Владленов, Марксин и Октябрин, ребятишки сияли от радости переменить имя, повторяли своё новое.
А Настя – Настя приняла комсомольскую клятву.
Ещё до конца весны она побыла при детском доме, но не было ей штатного места тут. И тётя Ганна схлопотала ей место избача – заведовать избой-читальней в селе Охочьем. И через районное село Тарановку – Настя, ещё не исполнилось ей шестнадцати, потряслась туда на телеге со своим малым узелком.
Свою избу-читальню она застала грязной комнатой, под одной крышей с сельсоветом. Подторкнула подол – стала пол мыть, и всё надо было вытереть, вымыть, повесить на стену портрет Ленина и зачем-то приданную к избе винтовку без затвора. (А тут как раз наехал предрайисполкома, высокий чёрно-жгучий Арандаренко – и даже ахнул, какую Настя чистоту навела, похвалил.) А ещё были в избе-читальне – брошюры и приходила газета «Беднота». Газетку почитать – захаживали разве два-три мужика (да и – как бы унести её на раскурку), а брошюр никто никогда не брал ни одной.
А – где же ей жить? Председатель сельсовета Роман Корзун сказал: «Тебе отдаляться опасно, подстрелить могут», – и поселил в реквизированном у дьякона полдоме, близко к сельсовету.
Настя и не сразу поняла, почему опасно: а потому что она теперь была – из самой заядлой советской власти. Тут подходил Иванов день, храмовый праздник в Охочьем, и ярмарка, и ждали много съезжих. И комсомольская их ячейка прорепетировала антирелигиозную пьесу и на праздник показывала её в большом сарае. Там и пелось:
Не целуй меня взасос,
Я не Богородица:
От меня Исус Христос
Никогда не родится.
Сжималось сердце – унижением, позором.
И что ещё? – в доме дьякона вся семья смотрела теперь на Настю враждебными глазами – а она не решалась им объяснить и открыться! – да не станет ли ещё и хуже? Она тихо обходила дом на своё крыльцо. Но тут Роман – он хоть и за тридцать лет, а был холостой или разведенный – заявил, что первую проходную комнату берёт себе, а Настя будет жить во второй.
Только между комнатами – полной двери не было, лишь занавеска.
Да Насте было не в опаску – Корзун уже старый, да и начальник, она шла к себе, ложилась и книжку читала при керосиновой лампе. Но через день он уже стал ворчать: «Не люблю этих сучек городских, каждая из себя целку строит». А вечер на третий, она опять лежала читала, – Корзун безшумно подступил к проёму, вдруг откинул занавеску и – бросился на неё. Сразу обе руки её подвернул, а чтоб не крикнула – рот залепил ей своим полыхающим ртом.
Не шевельнёшься. Да – оглушённая. И мокрый он от пота, противно. И – вот как это всё, значит?
А Роман увидел кровь – изумился: у комсомолки?! И прощенья просил.
А ей теперь – в тазике всё отстирать, чтоб дьяконова семья не видела.
Но ещё в ту же ночь он снова к ней прилакомился, и снова, и обцеловывал.
А Настя была как по голове ударенная, и совсем без сил.
И теперь каждый вечер не он к ней – а звал её, и она почему-то покорно шла. А он долго её не отпускал, в перерывах ещё выкуривая по папироске.
И в эти самые дни она услышала и захолонула: что по Охочьему гуляет сифилис.
А если – и он??
Но не смела спросить прямо.
И долго ли бы так тянулось? Корзун был завладный, ненасытный. И так однажды под утро, уже при свете, он спал, а она нет – и вдруг увидела, что в окно заглядывает плюгавый секретарь сельсовета, наверно пришёл срочно Корзуна вызывать – но уже увидел – и увидел, что она его видит, – и мерзко, грязно ухмыльнулся. И даже ещё постоял, посмотрел, тогда ушёл, не постучавши.
И эта бесовская усмешка секретаря – проколола, прорезала всё то оглушенье, одуренье, в котором Настя прожила эти недели. Не то, что будет теперь разбрёхивать по всему селу, – а от одной только этой усмешки позор!
Выерзнула, выерзнула – Роман так и не проснулся. Тихо собрала все свои вещички, такой же малый узелок, как и был, тихо вышла, ещё и спали в селе, – и ушла по дороге в район, в Тарановку.
Тихое, тёплое было утро. Выгоняли скот. Щёлкнет бич пастуха, а ещё не прогрохочет бричка, нигде не взнимется дорожная пыль, так и лежит бархатом под ногами. (Напомнило ей то утро, как она шла когда-то в монастырь.)
Она сама не знала: куда ж она идёт и зачем? Только – не могла остаться.
Знала она вот кого: незамужнюю Шуру, курьера райисполкома. Пришла к ней в каморку, плакала навсхлип и всё рассказала.
Та её приголубила. Придумала: прямо так и расскажет Арандаренке.
А тот – и не вызвал смотреть, он же помнил её. Велел отвести ей в исполкоме какой-то столик, какие-то бумаги и зарплату.
Но недолго она удивлялась его доброте. От исполкомовских узнала, что он – разбойник на баб. И вот какая у него манера: больничных ли медсестёр, или какую из молодых учительниц по одной сажает: летом – в рессорную повозку, зимой в сани – и кучер гонит его бешеных коней где-нибудь по степному безлюдью, а он их – на полной гонке распластывает. Так любит.
И Настя тоже недолго ждала своего череда. (А – как воспротивиться? и – куда дальше брести с узелком?) Смоляной подозвал её, притрепнул по плечу – кивнул идти с ним. И – поскакали! Ох, и кони же черти, и как не вывернут? Лютый чубатый кинул её наопрокидь, закалачила она руки за голову – и мимо чубатого только видела широкую спину кучера, ни разу он не обернулся, да небо в облачках.
А теми днями Корзун приезжал в Тарановку, умолял вернуться, обещал жениться. А у Насти появилось зло на него, и отказала с насмешкой. Тогда грозил, что кончит с собой. «Член РКП? Не кончишь». Тогда он подал официальную бумагу: требовал избачку назад в деревню, дезертирка! Из исполкома – отказ. Корзун даже сельский сход собрал и заставил их голосовать: вернуть избачку! Очень боялась Настя, что отдадут её назад в Охочее. (Счастье, что не заболела там.) Но Арандаренко отказал.
А велел Насте собраться в Харьков на двухмесячные курсы библиотекарей. И сам тоже поехал. И там забронировал ей комнату с койкой на несколько дней.
И – приходил. До сих пор она бывала безучастна, а теперь бередило что-то, стала предугадчива, и Арандаренко похвалил: «Подчалистая девка становишься. И глаза блестят, красивая».
Потом Арандаренко уехал в район, а курсы продолжались. Потом вернулась в Тарановку на должность библиотекаря. Ждала внимания от Арандаренки, но и не видела его ни разу, он как забыл о ней.
При комсомольском клубе действовал драмкружок, Настя стала туда ходить по вечерам. Ставили и «Доки сонце зiйде» и новейшую пьесу о классовой борьбе, как дети кулаков влюбляют в себя детей бедняков, чтобы «тихой сапой врасти в социализм». И был в их кружке Сашко Погуда – плечистый, стройный, светлые волосы вьются, и замечательно пел:
Я сьогоднi щось дуже сумую…
Он всё больше нравился Настеньке, просто по-настоящему, по-душевному. И наступила весна, её уже семнадцатая, Настенька охотно ходила с ним гулять – вдоль железной дороги и в поле. Он стал говорить, что женится на ней, не спрашивая родителей. И сошлись на любки. Забрели на кладбище – и тут на молодой апрельской траве, у самой церкви… – а что ей было ещё хранить и зачем? И – от первого раза зачала. И сказала Сашку, а он: «Откуда я знаю, с кем ты ещё таскалась?»
Плакала. Нарочно поднимала тяжести, передвигала тяжёлую мебель – ничего не помогло. А Сашко стал увиливать от встреч. Родители хотели женить его на дочери фельдшера, с хорошим приданым.
Хотела – в колодец броситься, подруга успела удержать. Это разгласилось. И ячейка заставила Сашка жениться. Расписались. (По тогдашней дразнилке: «гражданским браком – в сарае раком».) Его родители и видеть не хотели Настю в своём доме.
Сняли бедную квартиру. Сашко что зарабатывал – деньгами не делился, гулял. В сильный холод, в январе, Настя родила на русской печи, не могли её снять оттуда, чтобы в больницу. Девочка обожгла ножку о раскалённый кирпич, и остался шрам на всю жизнь.
А дочка – что ж, останется некрещёная? Да теперь – и где? Да разгласится – из комсомола выгонят, нечего было и начинать.
А Погуда – пуще гулял, её как забросил, не заботился о них с дочкой. Решилась – уйти от него. Развод был простой: заплатила 3 рубля, прислали из загса открытку: разведена. Комсомол помог ей получить библиотекарство на окраине Харькова, в Качановке – посёлке при скотобойне и кишечном заводе. Нашлась добрая бездетная пара – согласилась Юльку, уже оторванную от груди, принять к себе на полгода, а то год, а Настя навещала. Иначе бы и квартиры не найти, теперь сняла угол у одинокой вдовы.
Но закайки не надолго хватило. Пошло снова тёплое время. В их ячейке был Терёша Репко – тихий, ласковый, белолицый. Как-то после вечернего долгого собрания (в тот год все боролись с троцкистской оппозицией) пошёл её провожать: посёлок славился грабежами, и идти надо было мимо свалки-пустыря, где находили и убитых. Проводил раз, целовались, такой нежности Настенька ещё не знала. Стал провожать из библиотеки – и второй раз, и третий. Тянуло их друг ко другу сильно, а – негде, ко вдове не приведёшь, одна комната, и рано спать ложится. Но была ещё веранда застеклённая – и они тихо-тихо прокрадывались, и милошились прямо на полу.
Полюбила – долго его удерживать, придерживать. Наласкалась к нему. Хотела б замуж за него. Поздно осенью забеременела. И тут – вдруг ворвалась в библиотеку квартирная хозяйка Терёши, лет сорока: «Пришла на тебя посмотреть, какая такая!» Замерла Настя, а та поносила её громко. И только после узнала: она – кормит Терёшу, и за то он живёт с ней и не может от неё уйти.
Но как же он раньше не сказал?! Отчаяние, отчаяние взяло! Сделала аборт, ещё только месячный.
Жила – как в пустоте. И – Юльку же надо забирать.
А заметил её, и комнату ей устроил, – сам заведующий холодильником Кобытченко. И Юльку взяла к себе. И всю зиму он кормил хорошо. А беременность – в этот раз перепустила, пришлось в частную больницу ложиться, вынули трёхмесячного, доктор ругался, уже видно, что мальчик, выбросили в помойное ведро.
Кобытченку или сняли, или перевели, не стало его. А у Насти разыгралось воспаление. Узнала, что Погуда теперь в ЦК профсоюза, пошла просить путёвку в Крым. Обещал, но пока достал – уже и воспаление прошло. Всё равно уж, поехала, без Юльки.
Санаторий – в Георгиевском монастыре, близ Севастополя. После прошлогоднего большого крымского землетрясения – в этом году многие боялись ехать сюда, оттого просторно. И вот же: рядом, близко стоял матросский отряд. И некоторые женщины и девушки из санатория ходили туда к ним в гости, под кусты. И Настя не могла побороть постоянной разбережи. Стала она зовкая, и глаза непотупчивые. Нашёлся и для неё матрос, и ещё другой.
Вернулась в Качановку – заводской пожилой бухгалтер сказал ей: поедем в дальнюю командировку. И с Юлькой взял. В отдельном купе несколько дней туда ехали, несколько там, и ещё назад. И ласкал её на многие лады. Тут, в поезде, исполнилось ей девятнадцать, отпраздновали с вином. А после командировки – бухгалтер и не пришёл к ней ни разу, семья.
Как-то надо было становиться на ноги. Спасибо, завклубом послал её на подготовительные курсы к институту, под вид рабфака, но только на полгода. 30 рублей стипендии, на одну баланду и кулеш, уже всё дорожало. Общежитие было в огромной холодной церкви. Курсы начались без неё, и нары двухэтажные уже были разобраны. Чтоб не на цементном полу – спали с Юлькой на том столе, на который раньше клали плащаницу или ставили гробы с покойниками. Потом как мать с ребёнком перевели её в бездействующую ванную комнату другого общежития, без окна. Юльку отводила в детский сад с 7 утра до 7 вечера. Появился и тут у неё «приходящий» – Щербина, упитанный, сильный, очень тяжёлый. Он был женат и, говорил, хорошо жил с женой, но остервенело наваливался на Настю. А ей, и при голодной жизни, это было хорошо, не было у неё к тому устали. Щербина каждый раз ей что-нибудь оставлял – то фильдеперсовые чулки, то духи, то просто деньги. И что делать? Она принимала. После того ли тяжкого аборта – она уже не беременела.
А в сентябре следующего года Настю приняли в трёхлетний Институт Социального Воспитания. Перевели в нормальное общежитие, комната – на три матери, Юлька в детском саду.
В эту зиму вдруг тётя Ганна, исчезавшая надолго, опять объявилась в Харькове. Настя кинулась к ней. Оказалось: деда Филарета сослали в Соловки.
Так и ударило морозной дрожью. Увидела – лицо его внимательное, доброе, в седовласом окружьи, да даже ещё услышать могла его тёплый наставительный голос. Соловки?? – самое страшное слово после ГПУ.
И вот, боясь дать след – мы все оставили его. Предали.
А – чем бы помогли?
Нет, тётя Фрося из Полтавы, оказывается, переписывалась с ним, пока он был ещё в Милостайках, – так и обнаружилось, что она – поповская дочь, её выгнали из бухгалтерии и не допускают до хорошей работы. А через тётю Фросю – и тётю Ганну тоже просветили, и лишилась бы она всего – но был у неё знакомый из ГПУ, и он устроил ей поручение: держать в Харькове хорошую квартиру – и завлекать, кого ей укажут. А ей было хоть и за тридцать, но сохранилась милота, и одевалась теперь хорошо, и квартира хорошо обставлена, три комнаты и тёплая. (Тёплая! – это теперь не каждому такое счастье.)
Через несколько встреч тётя Ганна спросила: «Ты знаешь, что такое афинские ночи?» Настя не знала. «Надо – всем ходить раздетыми, а мужчины выбирают. Когда у меня будет не хватать женщины – я буду тебя звать, по телефону, ладно?»
Да уж ладно, конечно. Да даже охотно Настенька ходила, стала она любонеистовая. Тётя Ганна заказывала шить Насте то обтяжное платье, то всё прозрачное как кисея. Всё это было – забавно, безпечно. Кругом жизнь скудела, карточки, и на карточки мало что получишь – а тут полная чаша.
И так – прошло две зимы, и лето между ними, Юльке уже четыре года, пятый, а Настеньке – двадцать два. И тут, вдруг, тётю Ганну агенты куда-то «перекинули», и без следа. И всё этакое кончилось.
Но тем усердней стала Настя учиться в свой последний год, чтобы хорошие отметки. «Соцвос» – это обнимало все общие школы, и учили педагогике, и учили педологии. Выпускницы должны были нести в народное образование социалистическое мышление.
А над всей областью и над самим Харьковом – повис смертный голод. На карточку давали двести грамм хлеба. Голодные крестьяне пробирались в город через заставы, чтобы тут найти милостыню. И матери подкидывали умирающих детей. И на улицах, там и здесь, лежали умершие.
А от тёти Фроси пришло письмо, что отец Филарет – умер. (Прямо в письме нельзя, а ясно, что – там.)
А: уже как-то и – не больно??
Неужели?
Прошлое. Всё, всё – провалилось куда-то.
В январе Тридцать Второго студентов посылали на педагогическую практику. Но многие сельские школы вовсе опустели через коллективизацию и голод, не стало учеников. И когда подошло получать назначение – Настя попала в «детский городок имени Цюрупы», в бывшем имении генерала Брусилова. Дети были из Харькова, но тем более сюда легче было добраться окружным крестьянкам, они приводили своих изголодавших детей, а сами уходили домой умирать. (Да в иных сёлах было и людоедство.) Многие мальчики детдома от истощения были мокруны, не могли держать мочу. Кормили еле-еле, и дети отбивали друг у друга выданную еду или одежду. Городские, они, по незнанию, весной собирали не те травы, травились беленой. А заведовал городком Цюрупы – из военных, всегда во френче и галифе, строгий, подтянутый, и везде во всём требовал порядка. (У него была красивая жена, приезжала из города, – а он стал ходить и к Насте, чем-то она всех притягивала.)
В мае вернулись в Харьков на последние выпускные экзамены. А была у Насти сокурсница Эммочка, уже замужем и из богатеньких, могла б и в лучший институт попасть, а почему-то в этот. И в один майский день – Настя ничего не знала, потом разобралась – в Харьков приехал из Москвы в командировку герой Гражданской войны Виктор Николаевич Задорожный. Он откуда-то был с Эммой знаком, и послал ей записку, что хочет увидеться, «жду известия». А посыльный очень неловко передал при муже, пришлось читать записку вслух – но Эмма перевела в смех, что ищут её сокурсницу да не знают адреса, – и написала при муже, как и где найти Настю, – а потом уже и до ночи не могла от мужа выскочить, предупредить. Задорожный получил записку, удивился, – но сразу пришёл и вызвал Настю на бульвар, сели под душистой акацией.
Был Задорожный высокого роста, стройный, тоже во френче и галифе, а только без одной руки: в Гражданскую казаки отсекли ему одну по локоть. (Как будто знали, он любил про себя рассказывать: до революции, при забастовке, ожидая казачий налёт, они наложили борон зубьями кверху – и налетевшие казаки падали, ранились вместе с лошадьми.) С Семнадцатого года он был член партии, а сейчас учился в Промакадемии при ЦК.
И, едва овладаясь от неожиданности, ещё не поняв всех обстоятельств встречи, – Настя, в простенькой белой блузке в зеленоватую полоску, вдруг решила, что в её власти – не отпустить его.
А приспелось ему: полчаса поговорили – назначил ей этим же вечером прийти в гостиницу. И она конечно пошла, зная, что потом уж он её не бросит.
И правда, утром он заявил, что заберёт её в Москву. (А от Эммы на другой день отшутился, та бесилась на Настю.)
Ещё несколько дней он пробыл в Харькове, не сразу сказала ему про Юльку, но он выдержал и Юльку, берёт вместе. Оставались ей последние выпускные, а уже обещали послать её дальше в институт шевченковедства, – Виктор только смеялся: сам украинец, он украинский язык ставил ни во что.
Выехать в Москву, да и никуда, – было невозможно: не продавали никому никакого билета без бумаги с печатями и доказательством. Но Задорожный через месяц приехал со всеми нужными бумагами – и забрал их с Юлькой из проголодного, чуть не вымирающего города. Посчастило.
А в Москве, в одной из первых же витрин, Настя увидела белые пшеничные булки! – да по 10 копеек!! – мираж… Голова закружилась, затошнило. Это была – совсем другая страна.
Но ещё удивительней оказалось в общежитии Промакадемии: никаких «общежитейских» комнат с койками на четыре, шесть или десять человек. Из коридора каждая дверь вела в крохотную переднюю, а из неё две двери в две разные комнаты. В соседней – муж с женой, а Задорожный – один, и в большой, и вот теперь приехал с добычей. Юльке уже стояла маленькая кроватка.
В Промакадемии, сказал Виктор, учится и жена Сталина. И столовая при Академии хорошая. И – чистый, сытый детский садик.
А ещё невиданное было в комнате: маленький электрический прибор, который внутри захолаживал, и в нём можно было держать свежими – колбасу, ветчину, сливочное масло.
И – есть, когда захочешь!
2
Детство Настеньки прошло в Москве – той, старой, в переулке у Чистых Прудов. Ещё не началась германская война – она уже умела читать, а потом папа разрешил и самой брать книги с его полок. Это был цветник! – разнопёстрых корешков, и цветник писательских имён, стихов, поэм, рассказов, с каких-то лет добралась она и до романов. И Татьяна Ларина, и Лиза Калитина, и Василий Шибанов, и Герасим, и Антон-горемыка, и мальчишка Влас, везущий хворосту воз, – выступали перед ней все живыми, и тут рядом, во плоти она их видела, и слышала их голоса. Ещё она брала уроки немецкого у Мадам, вот уже читала и «Сказание о Нибелунгах», стихи Шиллера, страдания молодого Вертера – и то было тоже ярко, но всё же в отдалении, – а герои русских книг все рядышком, милые её друзья или противники. И в захвате этой второй жизни не заметила она и голодных лет Москвы.
Перед самой революцией Настенька поступила в гимназию, одну из лучших в Москве, – и эта гимназия каким-то чудом продержалась не только сквозь всю революцию, но ещё и несколько лет советских, так и называлась по-прежнему «гимназия», и преподаватели были все прежние, а среди них, по литературе, пепельно-седая Мария Феофановна. И она открывала всем, но Настеньке пришлось особенно глубоко, – как ещё по-новому смотреть на книги: не только жить с этими героями, но ещё и всё время с автором: а что – он чувствовал, когда писал? а как он относился к своим героям, и – властитель их жизни? или вовсе нет? – почему он распорядился так или этак, и какие слова и фразы при этом выбирал.
Настенька – влюбилась в Марию Феофановну, и замечталось ей – быть как она: когда станет взрослой – вот так же преподавать и объяснять детям русскую литературу, и чтоб они приохотились учить стихи наизусть, и читать в классе пьесы по ролям, а отрывки ставить и на школьной сцене на вечерах. (И Мария Феофановна тоже выделяла Настеньку вниманием и поддерживала её жар.) Ещё не случилось Настеньке полюбить какого-нибудь мальчика, но вот это всё литературное вместе – как же она любила! – это была цельная огромная жизнь, да поярче той, что текла в яви.
Надеялась она после школы поступить в Московский университет – в то, что осталось от прежнего историко-филологического факультета. И отец её, Дмитрий Иваныч, врач-эпидемиолог, сам большой любитель Чехова, поощрял её выбор.
Но тут случилась беда: приказом перевели его работать в Ростовскую область. И приходилось с Москвой расстаться, когда Настеньке, в шестнадцать лет, оставался ещё только один школьный год. (Правда, с того года и Марии Феофановне больше не дали преподавать, сочли идеологически устаревшей.)
Москва!.. Не могло быть города прекрасней Москвы, сложившейся не холодным планом архитектора, а струением живой жизни многих тысяч и за несколько веков. Её бульвары в два кольца, её шумные пёстрые улицы и её же кривенькие, загнутые переулки, с отдельной жизнью травянистых дворов как замкнутых миров, – а в небе разноголосо зазванивают колокола всех тонов и густот. И есть Кремль, и Румянцевская библиотека, и славный Университет, и Консерватория.
Правда, и в Ростове им досталась неплохая, а по-нынешнему и очень хорошая квартира – в бельэтаже, с большими окнами на тихую Пушкинскую улицу, тоже с бульваром посередине. А сам город оказался совсем чужой – не русский: и по разноплеменному населению и, особенно, по испорченному языку: и звуки речи искажённые, и ударения в словах не там. И в школе она ни с кем не сдружилась, в школе был тоже резкий и чужой воздух. А ещё и то противно, что именно тут пришлось ей вступить в комсомол: чтобы вернее попасть в ВУЗ. Картины Москвы посещали Настеньку во сне и наяву. Она готова была жить там в общежитии, только бы в Московский университет.
В ростовской квартире, как и в прежней московской, на стене собралось у Настеньки два десятка портретов русских писателей. Искала она от них подкрепиться той правдой, в которой выросла – и которая как-то затуманивалась, раздёргивалась от новой тормошной среды. Особенно раздирал ей сердце портрет умирающего в постели Некрасова. Его она остро любила за неизменную отзывную народную боль.
А тут – в угрожающее как бы сходство? – заболел отец, сильно простудился в ненастную осеннюю поездку по Дону, получил воспаление лёгких – а оно перешло в туберкулёз. Страшное одно только слово «туберкулёз» (страшные о нём плакаты в амбулаторных приёмных) – а сколько он уже унёс жизней! ведь и Чехова. Лекарств – никаких нет от него. Теперь менять климат, ещё куда-то ехать? – не по деньгам, не по силам. Проклятый город! губительный весь этот переезд сюда. И ледяные северо-восточные ветры через Ростов, даже и до апреля. И стало пронзительно больно смотреть в глаза отца: ведь он знает ещё лучше? даже – и готовится внутренне?
А как же – ехать в Московский университет? Ещё и: врачам запретили всякую частную практику – да отец уже и потерял жизненные силы. И пришлось поступать тут, в Ростове, на литфак же, но педагогического института (который вскоре стал называться «Индустриально-Педагогический»).
Однако – русская-то литература оставалась всё равно с Настенькой? А вот и нет. В литературе, которую теперь на лекциях разворачивали перед ней, – она что-то не узнавала прежнюю. За Пушкиным хотя и признавали, мимоходом, музыку стиха (а прозрачная ясность в ощущении мира и не упоминалась), но настоятельно указывали, что он выражал психоидеологию среднего дворянства в период начавшегося кризиса российского феодализма: оно нуждалось и в изображении благополучия крепостной усадьбы и проявляло боязнь крестьянской революции, что ярко сказалось в «Капитанской дочке».
Какая-то алгебра, не литература, – и куда же провалился сам Пушкин?
На их курсе были больше девушки, иные совсем не глупые. И можно было заметить, как вот эта и вот та – смущены узнать, что поэт, писатель творят, ведомые не свободным вдохновением, а – может быть, сами не сознавая, невольно, но и объективно, выполняют чей-то социальный заказ, – и тут надо не зевать, а видеть потаённое. Однако откровенно выражать друг другу своё несогласие с лекциями было или не принято в обиходе вузовок – или, скорее, небезопасно?
Но скука же какая! – как этим жить? И – где же те светлые лики?
Или про Островского теперь должна была зубрить Настенька, что и он тоже отражал процесс распада феодально-крепостнического строя и вытеснения его растущим промышленным капитализмом, причём идеологическое самоопределение отбросило его в лагерь реакционного славянофильства. И всё это тёмное царство наилучше пронизано лучом света Добролюбова.
Ну, про Добролюбова – это-то несомненно.
А юноши на их курсе были какие-то недотёпистые, как случайные на этом факультете. Но появился Шурка Ген – порывистый, находчивый, с напором энергии и обжигающей чернотой волос и выразительных глаз. Вот он был – тут на месте! и сразу стал их курсовой комсорг, естественный вожак, и выделялся в учёбе, а во внелекционные диспуты, теперь частые, – вносил бьющую струю литературы, до которой они ещё и не дошли по программе, – литературы нынешней, кипучей, с яростной борьбой её группировок, – да куда же деться от современности? (Да разве и нужно её избегать?) Оказывается, сколько групп за эти годы уже и отгорело и отмелькало – Кузница, Вагранка, Леф, Октябрь, – «эти все по нашу сторону литературных траншей».
– Но, – звенел его голос, – и наши антиподы по идеологии не дремлют: попутчики – это литераторы наших вчерашних врагов и завтрашних мертвецов, у них реакционное нутро, и они клеветнически искажают революцию, и тем опасней, чем талантливей они это делают. А литература не предмет наслаждения, но поле борьбы. Всю эту пильняковщину, ахматовщину, всех этих серапиончиков и скорпиончиков надо или заставить равняться на пролетарскую литературу или выметать железной метлой, примирения быть не может. Окопы наших литературных позиций не должны зарасти чертополохом! И мы, молодёжь, – все мы Октябревичи и Октябревны, – тоже должны помогать устанавливать единую коммунистическую линию в литературе. Сколько бы ни пугали нас меланхолические беллетристы, основной тон нашего молодняка – бодрость, а не уныние!
Шура всегда выступал до такой степени страстно, раскалённо – никто не мог с ним сравняться, сокурсницы немели перед ним. Он просто влёк за собой. Мало сказать, что эти диспуты были интересны – они соединяли с живой жизнью, неведомые новые токи вливались от них. Настенька была – из первых слушательниц Шурика, всё чаще расспрашивала его и отдельно.
И правда: нельзя же жить одной только прошлой литературой, надо прислушиваться и к сегодняшней. Льётся бодрый поток жизни – и надо быть в нём.
Откуда он всё так знал? когда он успел это всё впитать? Оказывается, ещё в последние школьные годы, времени не терял. Он ещё там прошёл сквозь жёлто-зелёно-малиновых футуристов, и через этот Леф («Леф или блеф?»), потом через комфут (коммунистический футуризм) и Литфронт, – всё это огненно перепустя через своё сердце – ещё за школьной партой стал убеждённым напостовцем. (Да журнал «На литературном посту» и в институтской же библиотеке вот рядом был, но никто так не вникал в него и не вдыхал жадной грудью…)
– Никаких «попутчиков», – отбрасывал Шурик, – вообще не может существовать! Или – наш союзник, или – враг! Скажите, чем они гордятся: тонкостью своих переживаний. Да всё решает совсем не сердце писателя, а мировоззрение. И мы ценим писателя не по тому, что и как он переживает, а по его роли в нашем пролетарском деле. Психологизм только мешает нашему победному продвижению, а так называемое перевоплощение в персонажа – притупляет класс. Да что говорить! – революция в литературе ещё, можно сказать, и не начиналась по-настоящему. После революции нужны не то что новые слова, но даже новые буквы! Даже прежние запятые и точки – становятся противны.
Ошеломительно это звучало! – голова кружилась. Но – как он увлекал этим пылом, этой убеждённостью неотклонимой.
А на лекциях – на лекциях всё текло по обстоятельным учебникам Когана и Фриче. Они писали сходно: Шекспир – поэт королей и господ, нужен ли он нам? И все эти Онегины и Болконские, безконечно чуждые нам классово?
Да, но как в те времена умели любить!
Однако и многолетнего спора с Коганом тоже не выдержать: не могло же это всё-всё быть построено на вздоре – были же тут и действительно исторические и социальные обоснования?
А на лице отца, от месяца к месяцу, кажется, глаза занимали всё больше места и всё больше значили. Сколько глубины – и страдания – и мудрости собиралось в них! И тем отзывчивее обрывалось внутри – а не сметь назвать вслух: что ведь это он переходит? перешёл через какую-то грань? Лицо его изжелтело, исхудало до последнего, и серые усы потеряли упругость, повисли прилепкой.
И как он кашлял страшно, подолгу, разрывая грудь не себе только, но и жене, и дочери. Ощущение горя – дома, в квартире – теперь никогда не покидало, всегда было – тут. Но приходила в институт – а там закруживало своё. К отцу – Настенька с детства была ближе, чем к матери, любила ему всегда всё рассказывать; и сейчас – всё, что захватывало её вне дома и было так ново и так смятенно.
Он – слушал. Не удивлялся – а только смотрел, смотрел на неё своими укрупневшими глазами, через которые, от месяца к месяцу всё явней, проступала неизбежность утраты – вот было главное выражение.
Гладил её по голове (он всегда теперь был в постели, при высоких подушках). Иногда, из утекающей силы дыхания и голоса, отвечал, что всякое познание – длительно, непрямолинейно, – и это, к чему дочь пришла сейчас, тоже пройдёт, и что будет она ещё пересматривать и по-новому, и по-новому, – а глубинам нет дна в человеческой жизни.
С Шуриком всё сближались – и, как знойный летний ветер в Ростове, ни от чего и никого другого не несло на Настеньку таким горячим дыханием Эпохи, как от него! Как он её чувствовал, с какой жизненной силой передавал! Его уже печатали и в краевой газете «Молот», он не пропускал выступать на институтских и курсовых собраниях, митингах, опять же литературных диспутах – и охотно делился мыслями с товарищами на переменах, а с Настенькой и больше того, начав провожать её домой. (Он был из хорошей семьи, сын крупного адвоката, и не проявлял грубого хамства к девушкам, как становилось принято.)
Теперь он признавал, что напостовцы ошиблись, во время партдискуссии став на сторону Троцкого, – но они и признали ошибку, и исправились! И ещё прежде «Шахтинского дела» смело заявили: «Мы гордимся званием литературных чекистов и что враги называют нас доносчиками!» Сейчас он весь был в борьбе против полонщины, против воронщины, литературной группы Перевал, договорившейся до неославянофильства, до кулацкого гуманизма, до «любви к человеку вообще», «красота общечеловечна». Наконец-то секция литературы Коммунистической Академии присудила, что воронщину надо ликвидировать. Но враги множились: одновременно пошла борьба против переверзевщины. Эти – хотя и правильно понимали, что личность автора, его биография и его литературные предшественники не имеют никакого значения в его творчестве и что система образов вытекает из системы производства, но перегибали, что каждый автор – писатель лишь своего класса, и пролетарский не может описывать буржуа. А это – уже был левый уклон.
После проводов – целовались, на полутёмном – а то и при полной луне – Пушкинском бульваре, – шагах в двадцати наискосок от окна, за которым лежал и исходил в кашле отец.
Но Шурик настаивал, и всё властнее: в их отношениях – идти до конца.
Останавливала его, умоляла. Уступала в чём могла – но есть же предел!
Хотя и замужество – разве существовало теперь? Его как бы и не было. Кто соглашался – шёл в загс, а многие и не шли, сходились-расходились и без него.
А Шурик требовал: или – или! Тогда разрыв.
Была ранена его неумолимостью. Плакала у него на груди и просила повременить.
Нет!!
Но в этом она ещё не готова была уступить.
И в один из таких мучительных вечеров он круто и демонстративно с ней порвал.
И потом на занятиях – равнодушно сторонился.
Как ныло сердце!
Любила его, восхищалась им. А – не могла…
Долго ли бы страдала? и к чему бы дошло? – но тут стал кончаться отец.
Эти уже считанные недели, перед холодящим расставанием, когда последняя нить, соединяющая ваши сознания и смыслы, – ускользает из бережных пальцев и вы с мамой остаётесь тут, а он – уже навеки…
После похорон – мать была верующая, но в четвертьмиллионном городе не осталось ни одного храма, ни священника, да и опасно! – вот когда пустота до крайнего охвата. Мать сморщилась, ослабела, потеряла всякую живость. Так быстро сложилось, что Настенька ощутила себя как бы старше и ответственней. Мама была ей – никакое уже не руководство.
А Шурик – как отрезал, ни шагу к прежним отношениям, железный характер.
В конце зимы выпускников распределяли – и теперь уже сама Настенька держалась получить место в Ростове, никуда не ехать. И удалось.
Последнее лето, волнуясь перед встречей с сорока головками, какие к ней попадут, – много занималась в библиотеке: Литературная Энциклопедия (стала выходить теперь), и методический журнал ГлавСоцвоса РСФСР, и журналы с критическими статьями, – Настенька словно навёрстывала, что раньше узнавала от Шурика, – да это, правда, везде обильно печаталось, находи только время да пиши конспекты.
А Шурик – Шурик уехал навсегда в Москву, дали место в какой-то редакции.
В ту оставленную прекрасную и уже навек покинутую Москву…
Но – и легче, что уехал.
В библиотеку можно было ходить по узкому Николаевскому переулку, ныряющему через когдатошний тут овраг, – а можно рядом, через городской сад. Он был разнообразен: и прямая центральная аллея, не теряющая высоты, и, по оба бока её, спуски в скверы с цветниками, фонтанами, а на холмах – с одной стороны раковина, где летом давали безплатные симфонические концерты, с другой – летний же ресторан, где вечерами играл эстрадный оркестрик, бередящая музыка.
У Настеньки было широковатое лицо, да и фигура тоже нехороша, но замечательно блестели глаза, и улыбка такая, что разбирала сердца, это ей говорили, да она и сама знала.
Ещё в институтские годы бывали вечеринки с ребятами с других факультетов, – и если доставали патефонные пластинки – танцевали фокстроты и танго (хоть и осуждённые, там, общественностью, а уж танцы – это наше!). Сейчас – с одной, другой подругой, оставшимися в Ростове, вечерами ходили в городской сад; знакомые молодые люди «разбивали» подружьи пары, вели по тёмным аллейкам каждый свою. (Вот-вот станешь учительницей – уже так не погуляешь.) Но удивительно: все до единого проявляли безчуткую грубость, никто не понимал медлительности развития чувства, скорохватное пресловутое «без черёмухи» стало теперь приёмом всех, убеждённо говорилось, что любовь – это «буржуазные штучки». А в одной новой пьесе персонаж выражался и так: «Я нуждаюсь в женщине, и неужели ты не можешь по-товарищески, по-комсомольски оказать мне эту услугу?»
Нет, Шурик был – не такой.
Но то – всё кончено.
А время – неслось. («Время, вперёд!» – такой и роман появился.) Разворачивалась и гремела Пятилетка в Четыре года. Ещё в Пединституте внушали, что советская литература – а значит, и учителя – не должны отставать от требований Реконструктивного Периода. Как раз в тот месяц, когда Настя приближалась к своим первым урокам, РАПП опубликовал решения – о показе в литературе героев и о призыве ударников строек в литературу, чтоб они сами становились писателями и так бы искусство не отставало от требований класса. А ещё же возникло понятие: что литературой нашего времени может быть только газета или агитплакат, а вовсе уже не роман.
Ну, слишком стремительно, не хватало дыханья: как – не роман? а – куда же романы?
Тебе идти к детям, а рекомендация Соцвоса: использование басен Крылова в стенах советской школы представляет собой несомненную педагогическую опасность.
Анастасия Дмитриевна получила три параллельных пятых группы – двенадцатилетних, и классное руководство в пятой «а».
Её первый урок! – но и для ребят же первый: во вторую ступень перешли из малышей, гордость! Первого сентября был солнечный радостный день. Кто-то из родителей принёс в класс цветы. Была и Анастасия Дмитриевна в светлом чесучёвом платьи, и девочки в белых платьицах, и многие мальчики в белых рубашках. И от этих мордашек, и от этих сияющих глаз – прохватывало ликование: наконец-то сбылась её мечта и она может повторить путь Марии Феофановны… (А ещё: в нынешний огрублённый век – добиться, чтобы вот из этих мальчиков росли благородные мужчины, не такие, как сегодня.) Теперь – много, много уроков подряд переливать бы в их головы всё то, что хранила сама из великой доброй литературы.
Но как бы не так! – прорыва к тому пока не виделось: вся учебная программа была жёстко расписана —
Грохают краны
У котлована, —
а на любой урок мог прийти проверяющий инспектор районо. Начинать надо было – с достраиваемого тогда Турксиба, чтоб учили наизусть, как по пустыне поезда пошли
…туда и сюда,
Пугая людей, стада,
Им не давая пройти
На караванном пути.
А дальше указывался – Магнитогорск, потом – Днепрострой и поэма Безыменского, где высмеивался обречённый профессор-самоубийца из уходящего класса. И ещё поэма об индусском мальчике, который прослышал о Ленине, светлом вожде всех угнетённых в мире, и добирался к нему в Москву пешком из Индии.
А тут – спустили лозунг «одемьянивания литературы»: пронизать её всю боевым духом Демьяна Бедного.
И Анастасия Дмитриевна, сама в растерянности, не видела возможности сопротивиться. Да и как взять на себя – отгораживать детишек от эпохи, в которой им жить?
Но хорошо, что – младшеклассники. Нынешняя острая пора минует – за годы учения ещё дойдёт и до заветной классики. Да Пушкина не совсем вычеркнули и сегодня:
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
Надежд и склонностей в душе питать не смея,
Здесь девы юные цветут
Для прихоти безчувственной злодея.
Читала в классе вслух, старалась передать детям эту боль поэта, но рядом с грохотящими кранами – строки плыли исчужа, как вдалеке.
Отдохновение приходило только на уроках собственно русского языка: прямодушный, незыблемый и вечный предмет. Но! – и его зыбили: чего только не лепили в новейшую орфографию! и так быстро меняли правила, что и сама за ними не поспеешь.
Однако и это всё производственно-пятилеточное Настенька преподавала с такою отданностью самому-то святому делу Литературы – что ребятишки любили её, обступали на переменах, смотрели благодарно. (Отражая её неизменно блистающие глаза.)
Между тем – в городе опустели магазины, закрылись все частные лавки. Сперва говорили «мясные затруднения», потом – «сахарные затруднения», а потом и вовсе ничего не стало и ввели продовольственные карточки. (Учителя считались «служащие» и за то получали 400 грамм, а слабеющая мама поступила на табачную фабрику, чтоб иметь «рабочую» карточку, 600 грамм.) Очень голодно стало жить, а на базар никакой зарплаты не хватит. Да и базары разгоняла милиция.
Скончалась и сама размеренная неделя, теперь натеснилась «непрерывка-пятидневка», члены семьи – выходные в разные дни, а общее воскресенье – упразднили… «Время – вперёд!» так покатило, что потеряло лицо и как бы само перестало быть.
А жизнь – всё ожесточалась. По карточкам стали давать хлеба один день двести грамм, другой триста, чередуясь. Всё время ощущение голода. А, по слухам, в деревнях края был и вовсе мор. Находили на улицах города – павших мёртвыми добравшихся оттуда. Сама Настенька на труп не наталкивалась, но однажды постучалась к ним кубанская крестьянка, измождённая до последнего, едва на ногах. Накормили её своею похлёбкой, а она, уже и не плача, рассказывала, что схоронила троих детишек и пошла через степь наудачу, спасаться. Вся Кубань оцеплена военными, ловят, кто бежит, и заворачивают назад домой. Женщина эта как-то проскользила ночью через оцепление, но и в поезд сесть нельзя: отличают – и ловят, около станций и в вагонах, и – назад, в обречённую черту, или в тюрьму.
И у себя ж её не оставишь?..
И ушла, заплетаясь ногами.
Мама сказала:
– Самой умереть хочется. Куда это всё идёт?
Настенька подбодряла:
– Прорвёмся и к светлому, мамочка! Ведь коммунизм – как и христианство, на той же основе построен, только другой путь.
А из канцелярских магазинов исчезли ученические тетради. Счастлив был, у кого сохранились от прежнего запаса, а «общая» тетрадь в 200 страниц да в клеёнчатом переплёте стала несравненным богатством. Теперь тетради – суженные по ширине и из грубой бумаги, на которой перо спотыкалось, – стали распределять через школы, выдавать ученику по две тетради на учебную четверть – и это на все предметы вкупе. И как-то надо было ребятам разделять эти скудные тетради между предметами, и писать помельче, где уж тут выработка почерка. Оставалась – доска, да больше учить на память. Иные родители доставали своим детям счётные бланки, табеля для кладовых, на оборотах и писали.
В ребячьем-то возрасте – всё, всё давалось легко. Они всё так же хохотали и бегали на переменах. Но тебе, через этот тягостный год, как идти самой и как вести ребятишек – до лучшей поры, сохранив их свежее восприятие Чистого и Прекрасного? Как научиться и черезо всю современную неприглядность – различать правоту и неизбежность Нового Времени? Настенька живо помнила энтузиазм Шурика. Она и по сегодня была заражена им: он – умел видеть! Да и сказал же поэт:
Вынесет всё – и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе…
И разве русская литература не продолжалась и сегодня, разве нынешнее народолюбие не переняло как раз и именно – святые заветы Некрасова, Белинского, Добролюбова, Чернышевского? Все эти холодные объяснения Когана-Фриче или жаркие монологи Шурика – они ведь не на воздух опирались?
Если вдуматься: тот добролюбовский луч света – он никогда и не прерывался! он – и в наше время проник, только уже в жгуче алом виде? Так надо и сегодня уметь его различать.
Но шла читать инструктивные материалы Соцвоса, особенно статьи Осипа Мартыновича Бескина, и сердце падало: что художник в своём творчестве не может положиться на интуицию, а обязан своё восприятие контролировать сознанием класса. И: что так называемая «душевность» есть замусоленная русопятская формула, она и лежала на Руси в основе кабальной патриархальности.
А душевности! – душевности больше всего и хотелось!..
В программу следующего года пошёл «железный фонд» советской литературы – «Разгром», «Бруски» о коллективизации, «Цемент» (ужасающий, потому что 13-летним детям предлагали свирепые сцены эротического обладания). Но вот в «Железном потоке», правда же, с замечательной лаконичностью передаются действия массы в целом, – такого в нашей литературе ещё не было? А в «Неделе» вызывал сочувствие Робейко, как, напрягая туберкулёзное горло, звал жителей вырубать монастырскую рощу, чтобы этими дровами довезти до крестьян семена на посев. (Только, значит, эти семена в прошлом году у них же отобрали начисто?)
А сорок пар ребятишкиных глаз устремлены на Анастасию Дмитриевну каждый день, и как не поддержать их веру? Да, ребята, жертвы неизбежны, – к жертвенности звала и вся русская литература. Вот и вредительство там и здесь – но невиданный индустриальный размах принесёт же нам всем и невиданное счастье. И растите, успеете в нём поучаствовать. Каждый эпизод, даже мрачный, рассматривайте, как это метко выражено:
Только тот наших дней не мельче,
Только тот на нашем пути,
Кто умеет за каждой мелочью
Революцию Мировую найти.
А тут – отменили и нынешние учебники: их признали неверными и не поспевающими за действительностью. Учебники стали печатать «рассыпные», то есть на современную тему и для использования только в это полугодие, а уже на следующий год они были устаревшие. Печатал в газете Горький статью «Гуманистам», разоблачал их и проклинал, – это тут же и включалось в очередной рассыпной учебник: «Вполне естественно, что рабоче-крестьянская власть бьёт своих врагов, как вошь».
Охватывал испуг, удушье, растерянность. Как это преподнести ребятам? и к чему?
Но Горький – великий писатель, тоже русский классик и всемирный авторитет, и разве твой жалкий умишко может с ним спорить? Да вот он же и пишет рядом о забывшихся, благополучных: «Чего же хочет этот класс дегенератов?.. – сытой, безцветной, разнузданной и безответственной жизни». Тут и вспомнишь: «От ликующих, праздно болтающих…» А разве Чехов не звал: каждый день будить молоточком заснувшую совесть?
Придумала так: литературный кружок. Записался из 6 «а» десяток самых отзывчивых, самых любимых – и вне уроков, вне программы, повела их Анастасия Дмитриевна по лучшему из XIX века. Но кружок не спрячешь от завуча (едкая женщина, преподаёт обществоведение). От той пошло в районо, приехала инструкторша из методкабинета, села, как жаба, на заседании кружка. И – подкосила всю свежесть и смысл, всё вдохновение, и голоса своего не узнать. А вывод жабы был: довольно пережёвывать классику! факт, что это отвлекает учеников от жизни.
Слово «факт» к этим годам стало из самых ходовых, оно звучало неопровержимо и убивало как выстрел. (А могла бы заключить и безпощадней: «Это – вылазка!»)
Ещё казались выходом – походы в драматический театр. Теперь от пятидневки перешли к шестидневке, и каждое число, делящееся на 6, было всеобщим выходным, наподобие прежнего воскресенья. И по этим выходным театр давал дневные дешёвые спектакли для школьников. Собирались дети, со своими педагогами, со всего города. Очарование темнеющих в зале огней, раздвижки занавеса, переходящие фигуры актёров под лучами прожекторов, их рельефный в гриме вид, звучные голоса, – как это захватывает сердце ребёнка, и тоже – яркий путь в литературу.
Правда, спектакли бывали планово-обязательные: «Любовь Яровая», как жена белого офицера застрелила мужа из идейности, и не раз Киршон – «Рельсы гудят», об инженерском вредительстве; «Хлеб», о злобном сопротивлении кулачества и воодушевлении беднячества. (Но ведь и отрицать классовую борьбу и её роль в истории – тоже невозможно.) А удалось сводить учеников на шиллеровскую «Коварство и любовь». И, подхватывая увлечение ребят, Анастасия Дмитриевна устроила, уже в 7 «а» группе, повторное чтение по ролям. И худенький отличник с распадающимися неулёжными волосами читал несвоим, запредельным в трагичности голосом, повторяя любимого актёра: «Луиза, любила ли ты маршала? Эта свеча не успеет догореть – ты будешь мертва…» (Тот же мальчик представлял класс и на школьном педагогическом совете как ученический депутат, был такой порядок.) Эта пьеса Шиллера считалась созвучной революционному времени, и за неё выговора не было. А надумали читать из Островского – надо было очень-очень выбирать.
Ростов-на-Дону объявили «городом сплошной грамотности» (хотя неграмотных ещё оставалось предостаточно). А в школах практиковался «бригадно-лабораторный метод»: преподаватель не вёл урока и не ставил индивидуальных оценок. Разбивались на бригады по 4–5 человек, для того разворачивались парты в разные стороны, в каждой бригаде кто-нибудь читал вполслуха из «рассыпного» учебника. Потом преподаватель спрашивал, кто один будет отвечать за всю бригаду. И если отвечал «удовлетворительно» или «весьма удовлетворительно», то «уд» или «вуд» ставили и каждому члену бригады.
Потом наступила учебная четверть, когда не пришли ни очередные рассыпные учебники, ни – обязательные программы. Без них растерялись и в гороно: может быть, какой-то поворот линии? И разрешили преподавать пока – кто что придумает, под свою ответственность.
И тогда их обществоведка-завучстала преподавать сразу и в 5‑й, и в 6‑й, и в 7‑й группе – куски из «Капитала». Анастасия же Дмитриевна могла теперь выбирать из русской классики? Но – как верно выбрать, не ошибиться? Достоевского – конечно нельзя, да им ещё и рано. Но и Лескова – нет, нельзя. Ни – Алексея Толстого, «Смерть Грозного», «Царь Фёдор». И из Пушкина ведь – не всё. И из Лермонтова – не всё. (А задают мальчики вопрос о Есенине – отвела и отвечать не стала, он строго запрещён.)
Да – и сама же отвыкла от такой свободы. И сама уже – не могла выражать, как чувствовала когда-то. Прежняя незыблемая цельность русской литературы оказалась будто надтреснутой – после всего, что Настенька за эти годы прочла, узнала, научилась видеть. Уже боязно было ей говорить об авторе, о книге, не дав нигде никакого классового обоснования. Листала Когана и находила, «с какими идеями это произведение кооперируется».
Да тем же временем выходили и новые номера советских журналов, и в газетах хвалили новые произведения. И терялось сердце: нельзя же дать подросткам отстать, ведь им – в этом мире жить, надо помогать им войти в него.
И она сама искала эти новые хвалимые стихи и рассказы – и несла их ученикам. Вот, ребята, предел самоотверженности ради общего дела:
Хочу позабыть своё имя и званье, —
На номер, на литер, на кличку сменять!
Это – не имело успеха. Молодые сердца – надо зажечь чем-то летучим, романтическим. А тогда:
Боевые лошади
Уносили нас!
На широкой площади
Убивали нас!
Но в крови горячечной
Подымались мы,
Но глаза незрячие
Открывали мы!
…Чтоб земля суровая
Кровью истекла,
Чтобы юность новая
Из костей взошла.
И – сияющие, вдохновлённые глазёнки учеников были Анастасии Дмитриевне лучшей наградой.
Наградой – за всю пока ещё неудавшуюся собственную жизнь.
1993; 1995
Абрикосовое варенье
1
…Нахожусь я в ошалелом рассудке, и если что не так напишу – вы всё ж дочитайте, пустого не будет. Мне сказали – вы знаменитый писатель. Из библиотеки дали книжку ваших статей. (Я школу кончил, у нас в селе.) Недосужно было мне всё читать, прочёл несколько. Вы пишете: фундамент счастья – наше коллективное сельское хозяйство, и у нас горемычный мужичок едет сейчас на своём велосипеде. Ещё пишете: героизм у нас становится жизненным явлением, цель и смысл жизни – труд в коммунистическом обществе. На это скажу вам, что вещество того героизма и того труда – слякотное, заквашено на нашей изнемоге. Не знаю, где вы всё это видели, вы и про заграницу много, как там плохо, и сколько раз вы замечали на себе завистливые взгляды: вот, мол, русский идёт. Так я вот тоже русский, зовут меня Федя, хотите Фёдор Иваныч, и я вам расскажу про себя.
От веку жили мы в селе Лебяжий Усад Курской губернии. Но положили отруб нашему понятию жизни: назвали нас кулаками за то, что крыша из оцинкованной жести, четыре лошади, три коровы и хороший сад при доме. А начинался сад с раскидистого абрикосового дерева – и туча на нём абрикосов каждый год. И я и младшие братья мои сколько по нему полазили, любили мы абрикосы больше всякого фрукта – и вперёд мне таких уже никогда не есть. На летней кухоньке во дворе варила мать по домашеству и варенье из тех абрикосов, и мы с братьями тут же пенками обслащивались. А когда раскулачники вымогали от нас, где чего у нас спрятано, то иначе, вот, мол, лучшее дерево срубим… И порубали его.
На телегах всю семью нашу и ещё несколько повезли в Белгород – и там загнали нас в отнятую церковь как в тюрьму, и свозили туда со многих сёл, на полу места не было лечь, а продукты кто какие из дому привёз, ничем не кормили. А эшелон на станцию подали к ночи, заварилась большая суматоха при посадке, конвой метался, фонари мелькали. И отец сказал: «Хоть ты бежи». И удалось мне в толпище скрыться. А мои односемьяне поехали в тайгу, в тупик жизни, и ничего о них больше не знаю.
Но и у меня началась жизнь перенылая: куда деваться-то? Назад в село нельзя, а город хоть немалый – а тебе места нет, куда в ём скроешься? кто в своём доме приютит, себе на беду? И хотя уже большой, нашёл я себе пребывалище средь безпризорников. У них свои укрытия были – в разрушенных домах, сараях, в сточных люках, милиция этими босомыжниками не занималась, как некуда было их подевать, всех на прокормёжку не возьмёшь. Были они все в лохмотьях, грязные, чумазые. Они и дворобродничали, просили подаяние. Но резвей – стайками, гурьбой побегут на базар, лотки опрокинут, торговок толкают, кто товара нахватает, кто дамскую сумочку срежет, кто и целую кошёлку из рук вырвет – и айда прочь. Или в столовую ворвутся, между столами бегают и в тарелки плюют. Кто не успел сберечь свою тарелку – иной перестаёт есть, а обтрепанцам только этого и надо, всё доедают. И на станции воровали, и у асфальтных котлов грелись. Только я середь них слишком здоровый, заметный, уже не ребёнок и не так обтрёпанный. Можно бы стать паханом, сидеть в убежище, а их посылать на добычу – да у меня сердце мягкое.
И скоро меня оперативная группа ГПУ выловила из шпаны, отделила, повела в тюрьму. Сперва я не выдавал им своё размышление, задержанец и задержанец, плетюхал разное, но потом дотомили меня тесным заточительством и мором, вижу – не отнетаться, врать – тоже уметь надо, признался: кулацкий сын. А уже додержали меня до зимы. Перерешили: не досылать меня за семьёй вослед – да и где он, след моей семьи разорённой? Да небось все бумаги уже перепутаны, – так: явиться в Дергачи под Харьковом и там предъявить местным властям справку об освобождении. И не спросили гепеушники, как я доеду без копейки денег, а только взяли подписку: чтó я испытал и слышал за эти месяцы в тюрьме ГПУ – не должон никому говорить ни слова, иначе посадят опять, без следствия и без суда.
Вышел я за ворота – ума не найду: куда ж моё горькое существование прилагается? Как ехать? или опять бежать куда подале? А из первого же проулка ко мне подступили две женщины, как стерегли там, старая и молодая: не из ГПУ ли я выпущен? Я ответил: да. А такого-то человека не видел? Говорю: в нашей камере не было, а ещё много других, набито. Тогда свекровь спросила, не хочу ли я есть. Я сказал: уже к голодной жизни приобык. Повели меня к себе. Подвальная сырая квартира. Свекровь шепнула невестке, та ушла, а эта стала варить для меня три картофелины. Я отказывался: «Они у вас, наверно, последние». Она: «Арестанту поесть – перворазное дело». И ещё поставила мне на стол бутылочку конопляного масла. Я – прощенья прошу, а сам – ем как волк голодный. Старая сказала: «Хотя живём мы бедно, но всё ж не в тюрьме, а покормить такого человека, как ты, – Бог велел. Может, кто когда где и нашего покормит». Тут вернулась молодая – и протягивает мне один рубль бумажкой и два рубля мелочью – на дорогу, а больше, мол, собрать не удалось. Я не хотел брать, а всё ж старая вдавила мне в карман.
Но на вокзале я увидел в буфете закуски – и всё туловище моё заныло. Лих только начать есть, не остановишься. И – проел я эти деньги, всё равно их на дорогу не хватало. Ночью втиснулся я в поезд без проверки билета, но через несколько станций контроль меня обнаружил. Вместо билета я показал контролёру справку о моём освобождении из ГПУ. Они переглянулись с кондуктором, кондуктор отвёл меня в свою клетушку. «Вши есть?» Я говорю: «У какого ж арестанта их нет?» Кондуктор велел мне лезть под лавку и сказать, на какой станции разбудить.
От Дергачей я остался без доброго впечатления, пожить мне там не выпало. Явился я в местный совет, меня зарегистрировали и сразу велели идти в военкомат, оставляя в недогляде, что возраст мой ещё не призывной. Врач осмотрел меня пóконец пальцев, и выдали мне картонную книжечку, а на ней марка серого цвета с надписью «т/о». Это значит – «тыловое ополчение». И послали меня в другой дом, а там сидел представитель от стройконторы при ХПЗ – Харьковском паровозостроительном заводе. Я ему сказал, что всю хорошую одёжку у нас забрали при раскулачивании. Был я в обносках: затёртый пиджак и брюки крестьянского изготовления, а на сапогах потрескались подошвы, скоро буду босой. Он ответил, что это не причина для избежания. «На тыловом фронте тебе выдадут одежду второго срока носки, и сапоги тоже».
Я ещё думал – перебывное дело, может докажу возраст, и на том мои страдания закроются. Но уже захопили меня в тугое пространство, никто ничего не слушал, а – слали. Под ХПЗ для тылового ополчения были построены бараки: стенки из двух слоёв досок, а меж ними древесные опилки. Где неплотно пристаёт доска или выпал из доски сучок – опилки высыпаются, и ветер ходит по бараку. Матрасы набиты древесной стружкой, и малая головная подушка, с соломой. В одном бараке – считается взвод т/о. В то место согнали четыре тысячи ополченцев, считался – полк. Не было ни единой бани, ни прачечной, и никакого не давали обмундирования, а сразу – строем на работу. ХПЗ ополченцы объясняли: «ходи пока здохнешь». Мы рыли котлованы для постройки трёх цехов, они зачем-то углублялись почти полностью в землю, и когда построены – то видны только их крыши. Землю таскали носилками по два человека и как живым конвейером на всю обширь: входим в котлован одна пара за другой в покачный затылок, и по дороге каждый копальщик кидает тебе лопату земли. Пока пройдёшь ряд копальщиков – набросают полные носилки, что и нести не в силах. А – втужались. Котлован копали круглые сутки, чтоб за ночь земля не могла замёрзнуть, иногда кому и продляли смену. И порядок военный: подъём, отбой, строиться на работу – играла труба по-военному. Столовая была на 600 человек, а обслуживала в первую очередь тысячу вольнонаёмных, потом 4000 т/о, и завтрак не с утра был, и обед пересовывался чуть не к вечеру. А и так: пригонят нашу партию на обед, а там ещё обедает другая партия, и перед столовой топчемся с ноги на ногу, иногда и во вьюгу, а всего только – за тёпленькой похлёбкой. А в барак с морозу вернёшься – тут вши оживляются, давим их. И не оставалось в нашей жизни уже никакой прилежности. Кто недовычный – и вовсе сваливается.
А кромь работы – ещё ж политруки все уши прогудили, не допускали нам терпеливого положения. То вечером, то в выходной приходят во взвод – и ну тебе накачивают в головы идеологический газ для сознательности, для понимания сущности производительного труда при Пятилетке в четыре года. А надо всеми политруками был – комиссар лагерного сбора Мамаев, значок-флажок «член ВЦИКа» и три шпалы в чёрных петлицах.
Среди ополченцев были и сыновья нэпманов – они приехали с большими чемоданами, тепло одетые, и получали из дому посылки. Были и простые уголовные, но по суду лишённые ещё и права голоса. Были и местные – их и домой отпускали на выходной. Но больше были – мы, сыновья кулаков, почти все оборванные, всё на себе износя, но начальство как не замечало того. В моём пиджаке и в верхней рубахе протёрлись дыры на локтях, брюк одно колено лопнуло, а на сапогах переда распались, так что видна была портянка, вот такая бедень. Я ноги обёртывал тряпками из рваных мешков, когда удавалось найти их на строительстве, а сверху – обматывал проволокой.
От такой замучливой жизни стал я болеть фурункулёзом, однако лагерный врач мазал йодом и велел идти на работу. Я стал слабеть и уже безразличен, что со мной будет, своё тело – безчулое, как чужое. Зарос, перестал бриться.
Вдруг одним вечером заиграла труба на общее построение. Выстроили всех на снежном поле за бараками. Тут появился комиссар с револьвером на боку, при нём политруков несколько и писарь с бумагой. Комиссар громким голосом грохотал своё разражение и внушал нам о происходящих условиях, и потому отныне никаким уклонщикам пощады не будет, вплоть до суда и расстрела. Потом стал обходить строй и тыкал иных, а писарь записывал, какой роты, взвода. Ткнул и меня: «и этого тоже». Писарь записал. На том строй распустили. А вечером пришёл в барак взводный: «Комиссар назначил тебя в выходной на работу как штрафника-симулянта. Не знаю, кем так было докладано. Я говорил в штабе, что – нет, но внимания ко мне не дошло, комиссара никто отменить не может. Ну, ты поработай завтра, а мы тебе тишком дадим выходной послезавтра».
А это был февраль. Ночью разгулялась сильная мятель, потом пошёл дождь, а наутро схватил мороз. Утром обмотал я ноги тряпками и пошёл. Нас, 11 человек, погнали на работу в лесной склад. Там был штабель тонких длинных слег, велели перенести его на другое место, метров за сорок. «Сделаете работу раньше – уйдёте в барак, не сделаете – будете и в ночь работать». Я – молчал, потому что мне было уже всё, всё равно. Но остальные – они были все нэпманские сынки, городские, и сыты, и одеты, – выставили, что раз выходной, то работать не будут. Взводный, не мой, пошёл доложить в штаб, а это далеко. И была одна только протоптанная в снежной целине дорожка, по которой он ушёл, по которой и жди грозы. А я был голодырый, меня морозный ветерок продувал пробористо. Я им: «Ребята, вы как хотите, я буду работать, иначе скоро замёрзну». Один шустрый подскочил ко мне: «Ты – провокатор, нарушаешь солидарность!» Я ему: «Давай поменяемся одёжкой, и я не стану работать». А другие: «Ничего, пусть поработает. Придёт взводный – и работа видна». И я взял кол, развернул верхний ряд смороженных слег, поделал из них «шлюзы» и стал скатывать слеги. Они были обледенелые и хорошо катились. Работал я – даже стало жарко.
Вдруг – с другой стороны слышу крик и крутой мат. Это – сзади, в обход, подошёл подкрадкой комиссар – так и прёт по целине, за ним – тот взводный и ещё из штаба. А ребята ждали их с протоптанной дорожки и прозевали.
Комиссар замотал обнажённым пистолетом и остробучился на них, разварганился: «Всех арестую! сволочи буржуйские! На гауптвахту! До трибунала!» И – повели их. А мне: «Почему так бедно выглядишь?» – «Раскулаченный я, гражданин комиссар». Чёрной кожаной перчаткой ткнул мне в голое колено: «Ты что, нательного белья не имеешь?» – «Имею, гражданин комиссар, но только одну пару. А прачечной нет, бельё грязное. Носить всё время – тело ноет, рубаха как из резины стала. Так я это бельё на день закапываю под бараком в снег для дезинфекции, а на ночь надеваю». – «А одеяло имеешь?» – «Нет, гражданин комиссар». – «Ну, три дня отдыха тебе даю».
И выдали мне одеяло, две пары нательного белья, ватные поношенные штаны, новые сапоги на деревянной несгибной подошве – трудно в них по скользкому месту.
Но – уже умучился я, и ещё фурункулёз. И через несколько дней упал на работе, в обмороке. Отямился в городской совбольнице. Здесь и пишу вам. Водил меня врач к начальнику в кабинет: «Этот человек так истощён, что, если ему не улучшить условия жизни – даю гарантию, он через две недели умрёт». А начальник сказал: «Вы знаете, для таких больных у нас места нет».
Но пока ещё не выписали. И вот – выявляю я вам своё положение, а кому мне писать? родных у меня нет, и никакого поддержу ни от кого, и нигде сам ничем не издобудешься. Я – невольник в предельных обстоятельствах, и настряла мне такая прожитьба до последней обиды. Может, вам недорого будет прислать мне посылку продуктовую? Смилосердствуйтесь…
2
Профессор киноведения Василий Киприанович был позван к знаменитому Писателю на консультацию о формах и приёмах киносценария: Писатель задумывал, видно, что-то в этом жанре и хотел перенять готовый опыт. Приглашение такое было лестно, и профессор ехал в солнечный день в подмосковной электричке в отличном расположении. Он хорошо знал и какими новинками киносценарного дела несомненно поразит Писателя, и интересно было посмотреть благоустроенную, даже и круглогодичную дачу. (Сам он мечтал хоть бы о летней и только небольшой, но ещё не зарабатывал столько и каждое лето вынужден был спасать семью от московского зноя в какой-нибудь съёмный домик, даже и за 130 вёрст, как в Тарусу, по общему голодному времени везя туда чемоданами и корзинами – сахар, чай, печенье, копчёную колбасу и корейку из Елисеева.)
В глубине-то души Василий Киприанович не уважал этого Писателя: талантлив он был богато, у него была весомая плотяная фраза – но и какой же циник! Сверх его романов, повестей, полутора десятка пьес, впрочем слабых (ещё и вздорных водевилей вроде омоложения покинутых старух), – сколько ещё управлялся он писать газетных статей, и в каждой же ложь. А на публичных его выступлениях, тоже нередких, поражала лихость импровизации, с которою Писатель красочно, складно плёл требуемую пропаганду, но на свой ярко индивидуальный лад. Можно представить, что и статьи он так писал: ему звонили из ЦК – и через полчаса он диктовал по телефону страстную статью: открытое ли письмо американским рабочим – что за ложь плетут про СССР, будто у нас принудительный труд на добыче леса? или львиным рыком: «Освободите наших чёрных товарищей!» (восемь американских негров, присуждённых к смертной казни за убийства). Или грезил: будем выращивать абрикосы в Ленинграде под открытым небом и абиссинскую пшеницу на болотах Карелии. Его всегда выпускали в Европу, он писал о Берлине и Париже разные мерзости, но всегда с убедительными деталями, а свой въезд в индустриальный Лондон уверенно назвал «Орфей в аду». (Мечтал бы Василий Киприанович получить на недельку командировку в один из этих адов.) Мог напечатать статью: «Я призываю к ненависти!» И часто отвечал на вопросы газет с явно же неискренней прибеднённостью: богатство литературных тем он охватывает, только овладев марксистским познанием истории, это для него живая вода. Или так: мы, писатели, уже сейчас знаем меньше, чем верхний слой рабочей интеллигенции. Но и, напротив: до сих пор – только вредительство мешало нашей литературе достичь мировых результатов, а американские романисты – просто карманники старой культуры.
Однако трезво рассудить: кто сегодня не мерзавец? На том держится вся идеология и всё искусство. Какие-то сходные типовые выражения были и в лекциях Василия Киприановича, а куда денешься? И особенно, особенно, если у тебя есть хоть пятнышко в биографии. У Писателя было даже заливистое чёрное пятно, всем известное: в Гражданскую войну он промахнулся, эмигрировал и публиковал там антисоветчину, но вовремя спохватился и потом энергично зарабатывал себе право вернуться в СССР. А у Василия Киприаныча почти затёртый факт, а всё же пятно: происхождение с Дона. В анкетах он это маскировал, хотя никак никогда не был связан ни с какими белогвардейцами, и даже искренний либерал (и отец его, в царское время, тоже либерал, хотя судья); но пугает само слово: «Дон». – Так что политически можно было Писателя понять. Но – не эстетически: столь талантливый человек – как мог громыхать такой кувалдой? И с таким воодушевлением слога, будто его несла буря искренности.
Дача Писателя была обнесена высоким деревянным заплотом, окрашенным в тёмно-зелёную краску, неброскую среди зелени, а поверх и дом, в глубине участка, не был виден. Василий Киприаныч позвонил у калитки. Спустя время открыл сторож – картинный, старорежимного вида, с великолепной раздвоенной седоватой бородой – где теперь такого возьмёшь? – и крепкий старик. Он был предупреждён, повёл песчаной дорожкой мимо цветочных клумб, росли тут и розы – красные, белые, жёлтые. А чуть отступя – густая роща бронзовоствольных сосен с высоко взнесенными кронами. В глубине – и чёрные ели, под ними садовая скамья.
Смоляной хвойный воздух. Абсолютная тишина. Да, так можно жить! (А говорят, и в Царском Селе содержит затейливый старинный особняк.)
Со второго этажа в прихожую спустился и сам Писатель, очень доброжелательный, и от первых же слов и жестов – радушный, именно по-русски размашисто радушный, и не деланно. Он не был ещё толст, но весьма приплотнён, широкая фигура, к ней и лицо крупное и крупные уши. В петлице его пиджака был значок члена ЦИКа.
Этот человек, переступя свои 50 лет, с пышным юбилеем, видно было, уже насытился успехами и славой и держался с баристой простотой. Повёл к себе наверх в просторный светлый кабинет, крупные белые плиты кафельной печи, наверно много тепла даёт, уютно здесь зимой, и смотреть на снежный лес. Большой дубовый письменный стол, без нагромождения книг-бумаг, мощный чернильный прибор (в виде Кремля, видимо из юбилейных подарков), а на выдвижной доске – открытая пишущая машинка с заложенным листом. (Объяснил: всегда сочиняет – прямо на машинку, без предварительной рукописи. Странно, что при массивной фигуре у него оказался тенор.)
Сели в креслах у круглого столика. Через остеклённую широкую дверь видна была открытая веранда. Писатель курил трубку, душистый высокий сорт. Его гладкие светлые волосы ещё не были седы, чуть присеребривали на теменах, но далеко назад, до макушки, широкая лысина. Брови немного придавливали глаза, а низы щёк и подбородок – уже расплывчаты, начинали свисать.
Поговорили очень мило и содержательно. Писатель ничего не записывал, а хорошо схватывал и вопросы задавал к месту и толково.
Василий Киприаныч рассказал о разных типах написания сценария: и скупо конспективном, дающем полную свободу режиссёру; и эмоциональном, главная цель которого – только заразить режиссёра и оператора настроением; и манера подробно видовая, когда сценарист предопределяет и сами экранные изображения и даже способ, панорамный или монтажно-стыковой, перехода от одного изображения к другому. Видно, что Писатель хорошо это всё перенял, а особенно понравилась ему мысль, что сценарий постоянно должен быть увязан с жестом.
– Да! – страстно подхватил. – Это чуть ли не главное. Я считаю, что вообще и в каждой фразе присутствует жест, даже иногда и в отдельных словах. Человек постоянно жестикулирует, если не физически, то всегда психически. И всякая социальная среда требует от нас прежде всего – жеста.
Было уже к пяти вечера, и Писатель пригласил профессора вниз, к чаю. Спустились на первый этаж, прошли гостиную – там стояла антикварная мебель, резной диван, кресла, фигурная рама зеркала, висели в копиях серовская «Девочка с персиками», пейзаж Моне с розовым парусом; и такая же, как наверху, большая белокафельная печь, тут, видно, топили, не жалея дров.
За углом от столовой – Писатель завёл, не преминул простосердечно похвастаться замечательной новинкой: электрическим холодильным аппаратом, привезенным из Парижа.
А тут – зная ли время, когда посидеть-поболтать? – к Писателю заглянул и сосед его по даче Ефим Мартынович. Рядом с породистым крупнофигурным Писателем – экий низкорослый, едва не гном, а держался со значительностью никак не меньшей, чем у хозяина дома.
Был он лет сорока, помоложе и Василия Киприаныча, – но как преуспел! Имя его грозно гремело в советской литературе, правда только до последнего времени, не сегодня: боевой марксистский критик, известный сокрушительно разгромными статьями по одним писателям и победоносно похвальными по другим. И во всех случаях он требовал боевых классовых выводов – и добивался их. Он и повсюду: преподавал в Институте Красной Профессуры, заведовал отделом художественной литературы в ГИЗе (то есть от него-то именно и зависело, каких писателей печатать, а каких – нет), и он же – директор издательства «Искусство», и ещё одновременно редактор двух журналов по творчеству, – да просто бразды литературной телеги все у него, опасно иметь его врагом. Он же и в РАППе, это он возглавил разгром и группы Воронского, и школы Переверзева; а после недавнего роспуска РАППа – молниеносно схватился за «консолидацию коммунистических сил на литературном фронте». И всё, всё это производил так успешно, что вот приобрёл и хорошую дачу рядом, наверно не хуже этой.
Василий Киприаныч, конечно о нём наслышанный, видел его в первый раз. Неинтеллигентное лицо, глаза проворные, волосы с рыжинкой. Встретишь такого в обществе, хоть и в хорошем костюме, не догадаешься, что он служитель Муз, а скорей – удачливый зав. промтоварной базой, ну в лучшем случае – бухгалтер треста. Однако: обходиться с ним, как с наточенной бритвой. Пути не пересекались, а вперёд не знаешь, и Василию Киприанычу полезно, что критик застал его у Писателя, да при благорасположении хозяина.
Жены Писателя не было дома. Но на веранде первого этажа, в сторону тёплого склонённого солнца, уже был сервирован чай, пожилой прислугой с простонародным лицом. И они сели в удобные плетёные кресла. На столе был нарезанный к маслу и сыру белый пуховый хлеб, в вазочках – два сорта рассыпных печений и два варенья – вишнёвое и абрикосовое.
Ветра не было. Шапковидные кроны сосен – наверху, наверху, над изгибисто вытянутыми бронзовыми стволами, и даже каждая иглинка на тех ветках была неподвижна. И всё так же – шума ниоткуда.
Милая смоляная тишина, покой насыщали эту полную отъединённость от мира.
Попивали свежий чай густо-кирпичного цвета из стаканов в изрезных подстаканниках. А разговор, естественно, зашёл на темы литературные.
– Да‑а, – вздохнул Писатель, сознавая и своё же несовершенство. – Кáк мы должны писать! Как мы могуче должны писать! Мы окружены всенародным почётом, к нам – внимание партии, правительства и высокое внимание самого товарища Сталина…
Этот последний фрагмент годился, кажется, не для чайного стола? Нет, теперь входило в моду и в частных компаниях так говорить. А Писатель, это всем ясно, в каком-то личном фаворе у Сталина. Не говоря о тесных отношениях с Горьким.
– …Создавать искусство мирового значения – вот задача современного писателя. От нашей литературы мир ждёт образцов – архитектонических.
И руки его, не сильные, даже припухлые, но ещё не ревматически свободные и в кистях и в пальцах, показывали, что и на такой размах он готов. (Не мог же он быть голоден? – а бутерброды заглатывал чуть не зараз, и один за другим. Рассказывали: он импровизировал целые лекции – о кулебяке, о стерляди…)
Ну, уж в такую-то тему Критик никак не мог не вступить!
– Да, от нас ждут монументального реализма. Это совершенно новый вид и жанр. Эпопея безклассового общества, литература положительного героя.
А чёрт его знает, заколебался Василий Киприаныч. Как оно ни топорно звучит – а может быть, оно и есть настоящее? Как ни дико оно слышится, но ведь и к прежней литературе правда уже никогда не повернуть. Действительно, распахнулась совершенно новая Эпоха, и это, вероятно, уже необратимо.
На этой веранде, за этим столом, под тихим тёплым светом, играющим в цветах варений, – вполне выглядело так, что это всё установилось на века. А отстающая общая жизнь будет к тому подтягиваться, под него шлифоваться. Сюда – не властна была протянуться никакая жестокость жизни, никакие стуки-грюки Пятилетки, впрочем уже и законченной в 4 года и 3 месяца.
Да и разве есть что-нибудь плохое в порыве творить в искусстве эпические формы?
– Да вот, трагедия Анны Карениной, – щедрым жестом отпускал Писатель, – сегодня уже пустое место, на этом не выедешь: колесо паровоза не может разрешить противоречия между любовной страстью и общественным порицанием.
А страж общественного порицания – что-то не был так уверен и непреклонен, каким изливался из прежних статей. Да и не было у него этой убеждающей размашистой манеры, как у Писателя. Он отстаивал, ну, совсем уж несомненное: «Как закалялась сталь» – вот вершина новой литературы, вот новая эпоха.
А видно: Писателю этот критик вовсе не был приятен, только что вот: сосед, и – не прямо же в лицо.
Против «Стали» он не заспорил, однако и повернул, что не всякая новизна указывает нам путь вперёд. Вот РАПП – уж до чего представлялся новизной, а – не оказался рупором широких масс, и отгорожен от них стеной догматизма.
Ах, попал – да кажется и целил! – в незаживающую уязвимость. Критика поёжило как гриб от близкого огня. Ах, как бы взгневался он ещё год назад! А тут – только отползая, своим поскрипывающим голосом:
– Но РАПП дал много ценного нашей пролетарской культуре. Он дал ей несгибаемый стержень.
– Никак нет! И нисколько! – наотмашь отметал Писатель, чуть что не хохоча от наступившей теперь перемены. – Не зря же вот высказывается подозрение, что в руководство РАППа прокрались и вредители.
Да‑с. Вот как‑с…
– И они искали ловкий путь, как опорочить нашу литературу. Меня, например, позорили, что я реакционен и буржуазен, и даже ничтожен в таланте. А критик…
Он сделал паузу, несколько выпучив глаза в сторону Критика и, казалось, занося удар? Да нет, хватало ему юмора, он повернул даже со вдохновением:
– …Критик – должен быть другом писателя. Когда пишешь – важно знать, что такой друг у тебя есть. Не тот Робеспьер в Конвенте искусств, который проскрипционным взором проникает в тайные извилины писательского мозга для одной лишь классовой дефиниции, а ты пиши хоть пером, хоть помелом, – ему всё равно.
Про Робеспьера – это было уже и в лоб. Да, Эпоха омерзительно переломилась, и этот Писатель из подозрительного попутчика каким-то образом оказался в более верной колее. Какая-то загадочная независимость оказалась у него.
И, похлопав безресничными веками, Ефим Мартынович ещё приёжился. Да разве же он – не друг? Да он и пришёл-то расспросить о нынешней работе, о творческих планах Писателя. Впрочем, Писатель, по восхитительной широте своей натуры, уже и не помнил зла. Открыл, что ныне перерабатывает вторую часть своей трилогии о Гражданской войне:
– У меня там недостаточно показана организующая роль партии. Надо создать и добавить характер мужественного и дисциплинированного большевика. Что поделаешь с сердцем? Да, я люблю и Россию. Из-за этого я не сразу всё понял, не сразу смирился с Октябрьской революцией, это была жестокая ошибка. И тяжёлые годы там, за границей.
А говорил это всё – легко, вибрирующим тенором и с покоряющей широкодушной искренностью, – и тем осязаемей проявлялась сила его прочного стояния в центре советской литературы. (Да ведь и Горький – тоже жестоко ошибся и тоже эмигрировал.)
– И кто смеет говорить о несвободе наших писателей? Да у меня, когда я пишу, – вольный размах кольцовского косаря, раззудись рука!
И – верилось. Это шло от души. Да, симпатяга он был.
И лысина его маститой головы сверкала честно, внушительно.
Только никак не досматривалось, что верхний слой рабочей интеллигенции он считает осведомлённее себя.
– Но в литературе выдумка иногда бывает выше правды. Персонажи могут говорить и то, чего они не сказали, – и это будет ещё новоявленнее, чем голая правда, – это будет праздник искусства! Я, когда пишу, – постигаю своим воображением читателя – и рельефно вижу, в чём именно нуждается он.
Разговорился – и почти только к Василию Киприанычу, с симпатией:
– Язык произведения – это просто всё! Если бы Лев Толстой мыслил так ясно, как товарищ Сталин, – он не путался бы в длинных фразах. Как стать ближе к языку народа? Даже у Тургенева – перелицованный французский, а символисты так и прямо тянут к французскому строю речи. Я, признаюсь, в Девятьсот Семнадцатом году – тогда ещё в богеме, с дерзновенной причёской, а сам робок, – пережил литературный кризис. Вижу, что, собственно, не владею русским языком. Не чувствую, какой именно способ выражения каждой фразы выбрать. И знаете, что вывело меня на дорогу? Изучение судебных актов Семнадцатого века и раньше. При допросах и пытках обвиняемых дьяки точно и сжато записывали их речь. Пока того хлестали кнутом, растягивали на дыбе или жгли горящим веником – из груди пытаемого вырывалась самая оголённая, нутряная речь. И вот это – дымящаяся новизна! Это – язык, на котором русские говорят уже тысячу лет, но никто из писателей не использовал. Вот, – переливал он из чайной ложки над малым стеклянным блюдечком густую влагу абрикосового варенья, – вот такая прозрачная янтарность, такой неожиданный цвет и свет должны быть и в литературном языке.
Да ведь в хрустальной вазе и каждый абрикосовый плод лежал как сгущённое солнце. У вишнёвого варенья был тоже свой загадочный цвет, неуловимо отличный от тёмно-бордового, – а не то, не сравнить с абрикосовым.
– Да вот иногда и из современной читательской глуби выплывет письмо с первозданным языком. Недавно было у меня от одного строителя харьковского завода, – какое своевольное, а вместе с тем покоряющее сочетание и управление слов! Завидно и писателю! «Не выдавал им своё размышление»… «нашёл причину для избежания»… Или: «в нашей жизни не осталось никакой прилежности»… А? Каково? Только ухо, не забитое книжностью, может такое подсказать. Да какая и лексика, пальчики оближешь: «нашёл себе пребывалище», «втужались в работу», «поддержу нет», «стал совсем безчулый»… Такого не придумаешь, хоть проглоти перо, как сказал Некрасов. А подаёт человек подобные речевые повороты – надо их подхватывать, подхватывать…
– Вы – отвечаете таким? – спросил Василий Киприанович.
– Да что ж отвечать, не в ответе дело. Дело – в языковой находке.
1994
Всё равно
1
В их запасном полку ужин давали в шесть вечера, хотя отбой был только в десять: кто-то правильно рассчитал, что до сна уже не так хочется есть, а там – и переспят.
Хоть отбой был в десять, но по ноябрьским тёмным вечерам уже и никакой политработы не хватало, и свет в казармах тусклый, так солдатам не мешали заваливаться и раньше, для того и вечернюю поверку делали тоже раньше.
Командир роты лейтенант Позущан, подтянутый в струну не столько военной службой, – через училище их пропустили наскоро, – сколько внутренним сознанием своего долга и нынешнего страшного момента для Советского Союза, он горько глотал радиосводки о боях под Сталинградом, как видно мы едва-едва удерживали, и даже хотел, чтоб их полк отправили именно туда, – лейтенант не находил себе покоя в эти тупые вечера. И даже заснуть не мог. И сегодня, уже часу в двенадцатом, вдруг да пошёл проверить ротные помещения.
В комнатах первого и второго взвода все спали, горели слабые синие маскировочные лампочки. И печки стояли уже тёмные, остывшие (комнаты отапливались жестяными, с трубами-времянками, выведенными в окно: старое амосовское отопление в этом здании давно не действовало).
А в третьем взводе в печке не только ещё горело, но пятеро красноармейцев, в тёмных своих телогрейках и ватных брюках, сидели вкруг неё, прямо на полу задами.
И при входе лейтенанта – вздрогнули. Вскочили.
Но лейтенант сперва не придал значения, отпустил сидеть, а обругал их негромко, других не будить: почему не спят? и где это они дровишек достали?
Рядовой Харлашин сразу ответил:
– Щепы подсобрали, таащ лейтенант. Когда на стрельбище ходили.
Ну, так.
– А почему не спите? Сил много? Надо к фронту беречь.
Потянули-помычали, ничего ясного.
Да – их дело, в конце концов. Какие-нибудь бабьи истории друг дружке рассказывают.
И уже поворачивался уйти, но что-то заподозрил. Так поздно? (И его никак не ожидали же.) И в печке – огонь-то не сильный, не слишком пригреешься.
– Одерков, открой дверцу.
Одерков у дверцы же и сидел, а как не понял: какую дверцу?
– Одерков, ну!
Да тут, разглядел лейтенант, сидел и младший сержант Тимонов, командир их отделения.
Замерли солдаты. Никто не шевелился.
– Что это? Открой, я сказал.
Поднял Одерков руку, как свинцовую. Взялся за щеколдочку, с тяжким трудом её вверх потянул.
Ну, вот и до конца.
И так же тяжко – дверку на себя, на себя.
Внутри печки, среди накалённых углей, стоял закопченный круглый солдатский котелок.
И – даже через тяжёлый дух сушимых по комнате портянок – потянуло парным запахом.
– Что это вы варите? – всё так же негромко, взвод не будить, но очень строго спросил лейтенант Позущан.
И – ясно стало пятерым, что – не отвяжется, не миновать отвечать.
И Тимонов – встал. Нетвёрдо. Руки сводя как по швам, а коробятся. На шаг ближе к лейтенанту, чтоб ещё тише:
– Простите, таащ лейтенант. Дежурили сегодня на кухне. Немножко сырой картошки себе взяли.
Да! – только сейчас и сообразил Позущан: с сегодня на завтра их батальон – дежурный по полку, и, значит, он и не помнил, распорядился старшина их роты послать на кухонные работы команду. Вот он и послал…
Не в глазах потемнело у лейтенанта – в груди. Муть какая-то поднялась. Грязь.
И – не прямой бранью, но больным голосом он всё так же негромко выстонал бойцам, они уже все стояли:
– Да – вы – что?? Да вы понимаете, что вы делаете? Немцы – уже в Сталинграде. Страна – задыхается. Каждое зерно на учёте! А – вы?
Таким безпамятным, безсовестным, несознательным – что ещё можно было втолкнуть в дремучие головы?
– Тимонов, вынь котелок.
Тут и варежка была. Тимонов взял за раскалённую дужку и, стараясь не зацепить углей, приподнял – и осторожно вынул.
Низ чёрного котелка ещё был в огненных точках пепла.
Они гасли. Тимонов держал.
А четверо – ждали разгрома.
– Да за такие дела! – судят! – сказал лейтенант. – И очень легко и просто. Только передать ваши фамилии в Политотдел.
Тут – что-то ещё шевельнулось неприятное. А вот что: именно Тимонов как-то приходил к лейтенанту с просьбой: нельзя ли от полка послать письмо в его колхоз в Казахстан в поддержку семьи, тягали их семью за что-то, Позущан не запомнил – за что, а только ясно было, что – не помочь, в штабе полка такой бумажки не подпишут.
И сейчас это странно соединилось: то ли Тимонов стал ещё виноватей, то ли, наоборот, меньше.
Картошки варились в мундирах. Было их, на вид, десятка два некрупных.
И пахли раздражающе.
– Пойди слей воду в раковину и принеси сюда, быстро.
Тимонов пошёл, только не быстро.
При недостаточном свете лейтенант осмотрел лица своих молчащих бойцов. Выражения их были скорбные, сложные. Поджатые губы. Глаза опущенные, или в сторону. Но так, чтобы прямо прочесть раскаяние у кого, – нет.
Что делается! что делается!
– Да если мы будем воровать государственное добро – разве мы выиграем войну? Вы только подумайте!
Тупо непроницаемы.
А ведь с ними и поедем. Побеждать. Или нести поражение.
Вернулся Тимонов с котелком. Ещё и не скажешь, все ли картошки на месте.
Недоваренные.
– Завтра с комиссаром разберёмся, – сказал лейтенант тем четверым. – Ложись. – А Тимонову: – Пойдём со мной.
В коридоре велел:
– Разбуди старшину, отдай под его ответственность.
А сам долго не мог заснуть: и случай – ужасный, и – именно в его роте! а он чуть не пропустил. И может быть, уже раньше бывало? Течёт беззаконие, воровство – а он и не подозревал, случайно узнал.
Утром пристально допрашивал старшину Гуськова. Тот – клялся, что ничего не знал. И что – близко и подобного до сих пор в роте не бывало.
Но, всматриваясь в сметливое лицо Гуськова с маленькими подвижными глазами, Позущан впервые подумал: вот то, что ему в Гуськове нравилось – его хозяйственная сообразительность, предусмотрительность и быстрая сладка любых трудных дел, что так облегчало жизнь командира роты, – а не была ли это ещё и плутоватость?
Рано утром, ещё до завтрака, лейтенант пошёл к батальонному комиссару Фатьянову. Это был – кристальный человек, необыкновенно симпатичный, прямодушный, с крупными чистыми глазами. Замечательно он вёл политбеседы с бойцами – не задолбленно, не механической глоткой.
Штабу их батальона было отведено две комнатки в маленьком домике, через широкий плац, где ставили общий строй запасного полка, когда надо, а то – маршировали.
Промозглое было ноябрьское пасмурное утро, с моросью. (А каково там сегодня под Сталинградом? Утренняя сводка ничего ясного не донесла.)
В первой комнате сидели два немолодых писаря, при входе лейтенанта не шевельнулись. Комиссар здесь? – кивнули на вторую комнату.
Постучал. Приоткрыл.
– Разрешите войти? – чётко махнул к виску (это у него теперь стало хорошо получаться). – Разрешите обратиться, таащ майор?
Майор Фатьянов сидел за столиком комбата, но сбоку. Комбата не было. А за вторым столом, побольше, угруженным бумагами, у окна – сидел и тихий, мягкий капитан Краегорский, начальник штаба. Майор был без шинели, но в фуражке, а капитан – по-комнатному, открыты аккуратно подстриженные чуть сивоватые волосы его, прилегшие к голове.
– Что скажешь, лейтенант? – как всегда, и доброжелательно, и чуть-чуть насмешливо загодя спросил майор, откинутый на спинку стула.
Позущан с волнением доложил ему всё. Картошки унесено с кухни килограмма два, по карманам. И есть подозрение, что это могло случаться и в другие дежурства по кухне. И возможно, – в других ротах тоже. Случай – прямо подсудный, но и нельзя на такое решиться. (Не только жалко их, дураков, неразумно же и, едучи на фронт, самому прореживать строй роты.) Но – какие меры принять? как наказать? Сделать случай – гласным по роте? по батальону? негласным?
Широкие ясные глаза майора сузились. Остро смотрел на лейтенанта. Обдумывал.
Или не обдумывал?
Очень не сразу ответил. Сперва вздохнул. За затылок взялся – и чуть сдвинулась его фуражка, козырьком ко лбу. Ещё вздохнул.
– Случай – примерный, – сказал с великой строгостью.
И помолчал.
Созревала в нём мера? кара?
– Ты вот, лейтенант, летом сорок первого с нами не отступал. Не видел, какие склады жгли. И под то – сколько воровали все. И в городах, и в самой армии. Ка-кая растащиловка шла, матушки!
– Да, я того не видел, таащ майор. Но и по училищу знаю: воруют. И интенданты, и на кухне, и до старшин. Мы, курсанты, всегда были как собаки голодные, и обворованные. Так тем более же с этим надо бороться! Если все будут воровать – мы же сами своей армии ноги подогнём.
Майор чуть зевнул.
– Да-а‑а. Ты правильно смотришь. И воспитывай так бойцов, а то политрук твоей роты слабый.
Лейтенант стоял, несколько обезкураженный. Он ожидал от комиссара твёрдого и немедленного решения – а теперь расплывалось. И – разве такое сам же комиссар говорил в политбеседах?
Тут сильно распахнулась дверь – и с поспешностью вошёл старшина батальона в новенькой телогрейке. А в левой руке он нёс за дужку точно такой же круглый солдатский котелок, без крышки, только совсем чистенький, зелёно-оливковый.
– Товарищ комиссар! – взмахнул он правой к шапке-ушанке, – проба! Извольте отведать.
Прoбу и должен был снимать комиссар части, дежурной по полку. Но тут проба была – свыше полкотелка пшённой каши, прямо на четверых, и сильно умасленной, не виданной в полковой столовой.
– Да-а‑а, – ещё раз потянул комиссар, снял фуражку, положил на стол. Открылись его вьющиеся закольцованные светло-русые волосы, придающие ему всегда расположительную приятность.
Старшина бережно поставил котелок на незанятый угол стола. И рядом выложил три деревянных ложки, ещё свежерасписных.
– Подсаживайся, капитан, – пригласил комиссар начальника штаба. И Краегорский вместе со своим стулом стал переходить.
Старшина откозырял, ушёл.
От котелка поднимался парок и дивный запах.
– Комбата нет, садись и ты с нами, лейтенант, – добродушно пригласил комиссар, и светлые глаза его искрились как бы насмешкой. Не над лейтенантом Позущаном, нет…
Нет!!
– Спа-сибо, – с трудом выдавил Позущан. Горло его сжало, как перекрыло.
И – руку к козырьку, с небывалой горечью:
– Разрешите идти?
А майор Фатьянов смотрел светло, одобрительно, дружески, понимающе.
– Жизнь идёт как идёт, – сказал тихо. – Её так просто не повернёшь, всё равно. Человеческую природу не изменишь и при социализме.
Прищурился лукаво:
– А картошку – ты им отдай доварить. Что ж ей пропадать.
Лейтенант ещё раз козырнул чётко, повернулся через левое плечо – и толкнул дверь.
2
А ведь ещё и до войны, не поверить, от устья Ангары до устья Илима – баржи с солью таскали бурлаки: бечевой, местами брали лошадей на подмогу, на каких плёсах ждали попутного ветра. Ничего, за сезон три ходки делали.
Потом наладили на Ангаре чин чином и малое пароходство, и Анатолий после техникума 12 лет ещё водил до Енисея разные судёнышки. А в 74‑м, как начали перегораживать под Богучанами, – так не стало ни пароходства, и ни ГЭСа, ни беса. А сверху ещё раньше поставили Братскую и Усть-Илимскую плотины, и только на остатних четырёх сотнях реки, – а живой, не умершей, только двести вёрст, до Кежмы, – уже никакой не Толик, самому пятьдесят, ещё водит что приходится.
Как и сейчас. Он же и капитан, он же и рулевой, в сильно истёртом синем кительке сидел за рулём в рубке, вёл катер-водомёт – и вёз там, в нижнем салоне, гостей. А душой избаливал, как за себя самого, за это последнее русло реки в её истинных, не испоганенных ещё берегах: уговорим, не уговорим? удастся, не удастся?
Боковое стёклышко было отодвинуто, и тянуло сюда родным речным дыханием.
Вон на Лене сохранилось ещё всё – и бакенá, и створы, там только рейсы нагоняй, чтобы квартиру получить. А здесь за последние 20 лет и бакенов не стало, хоть гарантийная глубина всего 60 сантиметров. Ведёшь – по памяти, по соображению, по меткому глазу: каждую суводь видишь заблаговремя, где она крутит. Идёшь – и читаешь реку: все пятнадцать, до Кежмы, каменистых шиверóв, с перепадами малыми. Да ведь и никакой прибережный холм, скалу, утёсик, мысок, устье ручья друг с другом не спутаешь, это только стороннему глазу они все на одно лицо, как овцы в стаде или как лоси.
А лоси-то и медведи перестали Ангару переплывать: из-за Илимской ГЭС сильно похолодала вода. На Лене – она куда теплей.
Только свою Ангару – любил капитан, как жену, на другую не променять.
Над знатной рекой медленно разгорался солнечный день, и выравнивались плоски света по поверхности.
Протянулось белооблачное веретено далеко за правым берегом. Но – растает оно.
В июне – ангарская вода всегда тихая. А с середины августа северяк погонит крупную волну. В августе и Саяны растапливаются, катит половодье.
Узкая низкая дверца с внутренней лестнички открылась. В неё протиснулся моторист Хрипкин: голова как бомба, и туло как бомба. Сел на боковой прискамеек. А третьему в рубке и сесть бы негде, загораживай спиной дверку.
– Ну, что там делается, Семён?
Семён хоть и увалень лохматый, чёрный, лицо распорно литое, а глаза быстрые, смекалистые:
– Кому теперь, Анатоль Дмитрич, дело до дела? Валентина Филипповна едва приступилась, а Сцепура уже выпивку подтаскивает, с утра пораньше. Да и господин министр, я думаю, на закуску покашивается.
Капитан стал забирать к правому берегу, с голым покатым всклоном вдаль.
Не всегда было тут голо. Тут – сосновая тайга была, э‑эх! Сюда кинули лагерь лесоповальный. Шло не как зона затопления, а как вторая очередь, ценный лес. И всё начисто взяли. А после сосны – сосна уже не вырастет, жди осину. Сосна не тонет, так её сплавом отправили.
– Вся здешняя сосна, – вздохнул, – у Богучан затолпилась без толку. А в других местах – какую лиственницу валили! какую берёзу! Да только они – тонут, а транспорта не было. Так и поселе лежат-гниют. – Помолчал. – Полежи вот так.
– Это когда ж было? – нетерпеливым своим говорком Хрипкин.
– Да десять лет назад. И семь назад.
– Уже в перестройку?
– И в неё. Везли и везли этапы. По всему теченью тут, до Богучан, раскидали 27 лагерей.
А ещё сколько крепкого лесу и сейчас стоит выше, по холмам.
Переходил к левому: правее видел мырь, рябящую на мелком месте, на камнях.
По теченью – не взбуривает воду нос.
А в воде – голубизну ещё не вовсе вывели.
Ровными вздрогами отдавалась и в рубку работа мотора.
– Спросил бы он меня, – примерял Хрипкин, – я б ему натолкал.
Капитан подумал. Не оборачиваясь:
– Ну, хоть и поди подживи, только не испорть. А то ты у нас…
– Да не верю я уже ни в какое начальство, ни старое, ни новое.
Капитан обернулся, никак не согласный, хоть и мягко:
– Нет, не скажи, с новым говорить можно.
Моторист ещё посидел, поглазел на воду.
Потопал по лесенке вниз.
И вышел в перёд салона. К нему лицом – сидели в привинченных кожаных креслах несколько. Рядом с министром, добротным здоровяком в летнем светлом костюме, – Валентина Филипповна. Она держала на коленях бумаги, но говорила не глядя в них, не умолкая, горячо. Позади сидели двое из свиты: один – спортивно плечистый, бык; другой – с большим открытым блокнотом. А через проход – районный Здешнев да из Иркутска какой-то сухой в чёрном костюме.
А ещё задей, за креслами, – привинченный же стол покрыт уже белой скатертью, и на него два прислужника в белых фартуках подносили, расставляли тарелки, бутылки, стеклянное – и толстяк Сцепура, седоватая стрижка наголо, в пёстро-расписной американской футболке под расстёгнутым пиджаком, распоряжался тихо, но быстроподвижно, уверенно показывал руками.
Моторист с охотой бы постоял-послушал, да рылом он не вышел тут присутствовать. И ещё охотней – сказанул бы, да не встрянешь.
И – медленно, увалисто, по ступенькам, пошёл дальше вниз, в машинное.
А Валентина Филипповна была – председатель районного комитета по охране окружающей среды и рациональному природопользованию. И хотя она была ещё совсем молода, а никто её Валей не называл. Открытое у неё было лицо, прямой взгляд безо всякой женской ужимки, и чеканила она высочайшему залётному гостю:
– Богучанскую ГЭС стали строить даже на два года раньше, чем был готов проект, так торопились. Но сегодня и проект её давно морально устарел, потому что строят её уже двадцать лет. И даже при том промежуточном уровне, до которого плотина доведена сейчас, – гибнет весь вывод осетровых. И десятками тысяч гибнут ондатры. И ближе к плотине – вода цветёт, Ангару заболачивает.
Министр слушал мало сказать внимательно, – сочувственно. Головой покачивал, как верить не хотел. Раз-другой дал знак референту, худому, с вытянутым умным лицом, – и тот спешил записывать.
Говорила с таким жаром, пальцы к низу горла, как о собственной судьбе.
– А теперь, если исполнить последнее распоряжение правительства, завершить станцию поднятием плотины до верхней заданной отметки, – затопится ещё полтора миллиона квадратных километров. И залежи торфа больше одиннадцати миллионов кубометров. И месторождение магнезитовых руд, несколько сот миллионов тонн…
– И руды! – министр через плечо секретарю.
Он был лет средних, природно-сочный, бодрый. А галстук, по новой какой-то манере – приспущен, и верхняя пуговка ворота расстегнута. И нога за ногу, даже в покачке иногда.
За широкими чистыми стёклами салонных окон, по обе стороны – близко, чуть ниже, неслась голубовато-серая речная вода, а поодаль – миновались то холмистые, то луговые берега.
Мотор водомёта не мешал разговаривать.
Валентина Филипповна, сама-то химик-технолог, с Лесотехнической академией за спиной и стажем в цеху, не перебивалась и не уставала – с растущей надеждой – толковать высокому гостю, какие уже беды нагромождены раньше, в очистных сооружениях Братска, Усть-Илимска и Байкальского комбината, как неразумным порядком химической очистки губятся результаты очистки же биологической.
В министре чувствовалась спокойная, прочно достигнутая уверенность. Такой, если возьмётся, – неужели не добьётся?
…А ещё: в поспешности вырубленная древесина, а теперь топляк, подаёт Ангаре гниение со дна, фенол, скипидар, – и вот когда-то сказочно чистая Ангара уже сейчас на переходе из 5‑го в 6‑й, худший, класс экологической опасности. Но если бы остановить достройку Богучанской ГЭС – то ещё можно спасти хоть двести километров проточной Ангары, и в ней будет происходить самоочистка. А иначе – кончена и вся Ангара, будет и тут стоячая…
Валентина Филипповна и за недолгую службу повидала начальников безгранично спокойных, хотя бы дело сыпалось у них на глазах. Их целая школа была такая, и размером все крупные, по какому-то иному разбору, чем мы. Но этот – не такой. Не такой. Да к тому же и так высоко стоит! и если скажет… И что вид у него моложавый и как бы весёлый – тоже почему-то подбодряло.
Оборотистый Сцепура, уже всё там уладив позади, на столе, подошёл и, ослабляя возможное утомление гостя, пригласил если не вовсе прерваться, то продолжить беседу за столом. (Покосился раз, другой: и что эта активистка тут путается, всё разбивает?)
Но министр отклонил неподкупно, он хотел выслушать ещё и другие голоса.
Тот, сухощавый, в чёрном костюме, представитель губернатора, всё время молчал, а посматривал как-то саркастически.
Тогда засуетился вмешаться глава администрации этого обширного речного района – Иван Иваныч Здешнев. Он и на администратора не дотягивал, у него было простое курносое лицо, пиджачок не парадный и разной окраски с брюками. Но, заставляя себя помнить важность и своего же поста, и всей нынешней стычки бед, и перед каким сановным гостем:
– Вы, конечно, понимаете, что я, как мэр этих мест, испытываю большой прессинг от населения. Мы все тут становимся заложниками Богучанской ГЭС, будет она или не будет. Если будет, то житьё наше худо поприкончится.
И доглядчиво проверил по лицу министра, не слишком ли дерзко выразился, через край?
Но глаза того полны были делового значения, понимания. Нет, нисколько не проявился гнев.
А секретарь за спиной и писал же всё в блокнот.
Иван Иваныч понимал, что есть мера допустимым доводам и нельзя спорить слишком горячо. А всё-таки…
– Вот, Старый Кеуль выселяли из зоны затопления… Так не гораздо хорошо получилось. Селу – триста лет. Не идут – и всё. Тогда стали им избы сжигать – так они отбивались вилами и топорами. Ладно, кладбище ихнее там оставили пока. А их переселили-таки в Новый Кеуль. А он – на плывуне оказался: подвалы строить нельзя.
Нет, начальник и тут не рассердился. Да он – понимающий человек. Так Иван Иваныч – ещё случай, у него их много:
– А в деревне Кáта – речушка Ката как раз напротив Ёдормы, куда мы едем, – одна старуха так и не дала ломать избу: «Убивайте тут, на месте!» Оставили её… И вот ловит налимов по зиме, штабелюет их в сарае. И возят ей хлеб вертолётом, в обмен на налимов.
Но, поняв, что заговорился, уж слишком выложился:
– Соблаговолите, простите меня. Но имидж мэра не позволяет мне и смолчать…
На самом деле приезжий начальник был не министр, а только зам, но – министра весьма и весьма возвышенного. Приехал-то он сюда по делам приватизации – неуклюжего, громадного Леспромкомбината, который надо было непременно и срочно разгосударить – срочно, потому что у приватизации есть не только многие друзья, но и немалые противники. Такое чудовище – не укупишь, и никто на себя не возьмёт; выход нашёлся в том, чтобы разделить его на 42 предприятия. Это уже всё было проведено за предыдущие месяцы, замминистра приезжал только закончить оформление поскорей. И провёл удачно, знал, что порадует наверху. – А в эти дни всё уговаривали его прокатиться по Ангаре, да и как, правда, не прокатиться? И сегодня, в последний уже день здесь, – вот поехали на катере. Но откуда взялась эта женщина, кто её сюда провёл? И до чего горячо шпарит! – не замужем она, что ли? Никакой этой проблемы нижней электростанции до сих пор и не ведал, – а теперь вот…?
А катер всё шёл, до Ёдормы ещё не доехали – и Сцепура всем напором уговорил компанию пересесть к столу. Он радушно хлопотал, весел был, как от большого праздника, хотя день тёк самый будний. С шампанского начнём?
Хлопнули пробки двух бутылок, попенилось в стаканах. Валентина Филипповна сперва и пересесть не хотела к столу, долго строго отказывалась.
Круглоголового толстячка Сцепуру, напористого, хотя уже за пятьдесят, находчивого на язык, – кто не знал в Усть-Илиме ещё отначала, двадцать лет назад, электриком, когда висели над Ангарой на тросах и монтировали? Сюда комплектовали тогда лучших со всего Союза, и он попал. А потом стал учиться заочно на юриста, выдвинули его в прокуратуру, потом вернули на комбинат. Тут стал управлять то бытом, то кадром, то даже 1‑м отделом, он и подписывал разрешение, кому из Усть-Илима можно назад в Россию уехать, выдвигался даже заместителем директора Лесокомплекса. А как всё пошло на перетряску – стал всего лишь директор гостиницы, вот от него тут и экипировка, и вот подливал, и вот угощал, а подсобники на подхвате.
Но, прежде чем развеселились, всё молчавший представитель губернатора успел сумрачно досказать заезжему начальству ещё кой-какое, а от него уж зависит, как наверху доложить. Столько в Иркутской области понастроили электростанций, что до пятидесяти процентов мощности энергосистемы уже три года простаивает: планировали, что её потребят алюминиевые заводы, но их ещё и двадцать лет не построят. И если доканчивать Богучанскую, то куда электричество с неё гнать? только разве в Китай, но высоковольтная через тайгу по пол-Сибири дороже обойдётся, чем само окончание Богучан.
Министр был изумлён. И поверить бы нельзя – да лицо ж докладывает вполне официальное. Ситуация – ещё осложнялась.
– Да, конечно, – отозвался басовито, веско. – Конечно, эти разумные доводы должны быть учтены.
Тогда представитель губернатора ещё объяснил, что всё это закончание подзуживают красноярские власти: они там, в Богучанах, населили 25 тысяч людей в запас, а работы им нет.
Поднялась бровь министра. «Подзуживают»? – никак не государственный термин, но – бывает, бывает, человеческое…
Возвышенности отступили сперва по правому берегу, теперь и по левому.
Что за ширь!
Мужчины тронули уже и водку.
Чуть порозовели щёки министра.
Он посматривал в правые окна, посматривал в левые. Произнёс задумчиво:
– А ведь про Ангару где-то, кажется, у Пушкина есть.
Но никто не подсказал.
Тем временем катер приставал к левому берегу.
И все-все покинули стол, пошли на землю ноги разминать.
И застенчивый капитан спустился из рубки. И моторист выпер из машинного. А подсобники Сцепуры с белыми передниками заметались, заметались устраивать на берегу, у самой воды, – костёр для шашлыка и уху варить из готовой привезенной рыбы.
Чередом поднимались по прибрежному ямистому взгорку.
…А там – вдоль реки шла деревенская улица в один порядок, за ней в глуби – ещё другой, покороче. А по улице – дорога?.. – да уж никакая телега по ней не проедет, сломится ось в этих ямах и на колдобинах засохшей грязи.
Да и – некуда ехать ей, ни в какую сторону.
И прогуляться, размяться – тоже некуда, лишь ноги ломать.
Теперь, без мотора, тишь стояла черезо всю Ангару, на два берега, и дальше, за несколько вёрст. Только комары позвенивали, когда близ уха.
Дома так и стояли рядком, нерушенные. В одном – даже наличники свежекрашены, голубые, и перед домом – в этой же голубой краске борты опрокинутой плоскодонки. А по избяному ряду – ни двери́, ни окнá распахнутых. На одном доме вывеска: «Товары повседневного спроса»; дверной болт заржавел, а вывеска ещё нет.
Безлюдье. Ни курица не проклюнет, не прокрадётся кошка. Только трава растёт себе, горя не зная. Да безмятежно зеленеют деревья в палисадниках.
Была‑а жизнь…
Однако вот – и нагромоздка толстенных чурок, свеженапиленных, дровяного размера под колку. Живут и сегодня.
Тепло стало, разогрелся день.
Вдруг – кукушка. Через Ангару, это с какой же дали? и слышно как.
Ну, ширь. Ну, покой…
Стояли все молча.
Но Здешнев зычно закричал:
– За-бо-лот-нов! Ники-ифорыч! Заболотнов!
Пока объяснил начальству: деревня Ёдорма, 22 двора, была в ней раньше и больница, и школа четырёхклассная, очищена под затопление. Тут – и конец Иркутской области, дальше – Красноярский край. А Заболотнов, 63 года и со старухой больной, никуда не пошёл: тут, мол, мои батюшка с матушкой похоронены, не уйду. Ну, пока его оставили. И вот по новому времени, без колхоза, взялся фермерствовать. По ту сторону Ангары это не берег, два острова, за ними ещё протока. На скалистом островке держит недойный молодняк, на обильном кормовом – дойный скот. Молоко – по реке увозят, катером. Жена уже никуда, так на рассвете он через реку гребёт и сам доит. И пашенка у него тут.
– И всё один?
– Нет, и два сына с ним, вон один и наличники покрасил. А невестки в Новом Кеуле, на лето приедут, семерых внуков привезут. Да вон он.
Уже и шёл откуда-то, с долгим в руке ременчатым поводом наотвис. В холщовых штанах, в дешёвой разрисованной трикотажке, а в кепке чёрной, ворсистой, полумеховой – так себе, невзрачный мужичок, корявенький, но походкой твёрдой. Уже издали всю кучку оглядел, понял, что начальство.
Подошёл.
– Здоровы будете! – голос не стариковский.
Безбородый, и бритьё не запущено. Лицо и шея коричневые, крупная бородавка на щеке.
Один Иван Иваныч ему руку протянул, пожал.
– Ну, расскажи, Никифорыч, сколько голов у тебя?
– Да‑к выращивал триста. А теперь, коли сдатый скот не верстать, – семьдесят осталóсь. И лошадей два десятка.
Поверить бы нельзя, как он это всё ворочает.
– И как же ты справляешься?
– Да‑к справлялся б и пуще, да изгальство от спекулянтов. Райкоопы разломились, мясокомбинат обманыва’т, молкомбинат обманыва’т. Надо купца доброго искать, а где его? И двигателéй не добыть.
Иван Иваныч спрашивал-то Никифорыча, а поглядывал на начальника.
– А хлеб откуда берёшь?
– Да я, быва’т, с гектара 30 центнеров сниму, после пара, буде с нас. Сами и мелем, сами и печём.
– А сыновья твои где?
– А – на островах.
– Двое?
– Было трое. Один утонул. В шестнадцать лет. – Вздохнул. – Лодка перевернулась. – Вздохнул. Глаза его, и без того некрупные, смежились. – Бог дал, Бог и взял.
Замолчал – и все перемолчали из вежливости.
А Никифорыч – как не было их тут никого наехавших, как не стал видеть никого, онезрячел, – самому себе и закончил, тихо, себя уговаривая:
– Бога – люблю.
И стало всем – неудобно, неловко. Опять же молчали.
А вот подковыливала и старуха его, в тёмной юбке, бурой тёплой кофте. Несла, не споткнуться, глиняный жбанчик и две кружки. Поставила на широкую колоду.
Поклонилась:
– Вот, молочка парного, может отведаете?
Валентина Филипповна:
– И ещё как, мамаша. Спасибо.
Налила и стала пить, даже глаза закрывая:
– В городе теперь этого не попьёшь.
Ко второй кружке никто не тянулся – и из заднего ряда вышел тихий капитан, с невинным лицом.
Однако переглянулся с Валентиной Филипповной заговорщицки.
Налил молча, стал пить.
А Иван Иваныч нашёлся, как дальше:
– А скажи, Василий Никифорыч: как ты теперь новую жизнь рассматриваешь?
Тот – уже в живые глаза:
– Да как, в правильную сторону повернулась. Отца мово не кулачили, но в 75 лет подчинили бригадиру-мальчишке. И говорил отец: я – хозяин! – а под сопляка подогнули? От огорченья и помер.
Но Заболотнов пока там отвечал, а сам уже смекнул, что – и не к нему эти гости, не его расспрашивать. А тогда – и ясно, по какому делу. Сам и встрял:
– Такой весёлый люд у нас был, работная деревушка. И по всем берегам – ровень, какие пашни. Жиловóе место. Рожь стояла по два метра высоты. И на кажном островке – зелене’т. Покосы, посевы. Картошка у нас растёт – сам-тринадцать. А теперь – все всё бросили. Безнадёга. Спину горбишь, а не зна’шь, чего будя.
Да начальник – видно, прислушливый, всё и понимает, кивает. Да чего тут не понять? Такую благодать – и взабрось, под стоячую мелкую воду? А ответил с осторожкою:
– У правительства есть свои соображения. Отсюда не видно.
Заболотнов не сробел:
– А чего Москва? Был я раз и в Москве. Небо там – низкое. И люди – в стаде.
Так и стояли кучкой на случайном неровном месте, кто выше, кто ниже, и подле двух ям. А снизу, от берега, где уже стряпали уху и шашлык, тянуло пахучим дымком.
Заболотнов ещё размыслил:
– Каково русло определёно – реке ли, человеку – и быть должно. Оно.
А грязный дыбоватый моторист вдруг вышел иззади, обошёл других и сдерзил, глядя в министра:
– А мы – какое слово имеем?
Начальник готовно вертнул отзывчивой головой:
– Конечно имеете. У нас демократия теперь. Да на то и избирательная кампания.
Литого моториста комары совсем, видать, не брали – из-за его ли запаха? да и Никифорыча – по-свойски облетали.
– А без кампании? Медведь корову задерёт – он свежее мясо прямо не ест: полежать ему даёт, чтобы с душком.
Министр не понял, повёл бровями:
– Вы – по какому вопросу?
Лохматый моторист, и сам дороден, – развязно упёрся взглядом в такого ж дородного, только ростом повыше, министра с аккуратно уложенными волосами:
– Да вопросов у нас – выше той ржи, что тут росла. Хотите – про Леспромкомбинат, зачем его на сорок предприятий разорвали? Теперь – и все остановились. На одного рáба – три прораба, и все без работы. А кому нужно – тот себе миллионы нахапал. И – не в рублях. Воруют по-крупному, не то что мы, – и умеют прикрыться, их не ловят.
Робкий капитан – с укоризной на моториста, да тот не видел. Так и боялся, что взъерихорится, бешеный, испортит. Уже налаживается, и приступчив начальник, – так и говори с ним поласковей. И не про всё же сразу, в одну охапку.
От губ министра – две уверенные волевые складки. А в голосе впервые – броня:
– Без прямых доказательств – не имеете права так заявлять.
А Хрипкин – и ничуть не смутясь:
– Да заявляй не заявляй, нас никто не услышит. Теперь вот: осталась от Ангары лишь одна серединка, так и её догноить? Кто бы голову имел – от этой реки можно электричество вырабатывать на простом крученьи колёс, безо всяких плотин. А их – уже забор наставили. И теперь – ещё добивать? А вода для рыбы и так не прогревается.
Валентина Филипповна впилась в лицо министра. Нет, он не безучастен, его зацепило? Не мог же не пронять его обречённый распах этой гордой реки, вот на этом плёсе? Что-то он чувствует?
Наверняка чувствовал начальник укусы комаров, потому что прихлопывал по ним, – но и то рука не дёргалась нервно, а как будто была уверена, что настигнет и раздавит.
А этому чумазому задире? Всего не объяснишь, и почему именно ему?
Да комары уже донимали и других – а тут как тут расторопный Сцепура доложил тихо: готово, мол. Но – и комары, и чтоб лишних не звать – перейдём в салон?
Стали спускаться к берегу.
Никифорыч как стоял, так и стоял, расставив ноги. Не шевелясь. И не дивясь.
Здешнев успел ему:
– Может, старик, чего и добьёмся.
А моторист – капитану, на тропинке, в салон их не звали:
– Этот ездун? Не‑е, Анатоль Дмитрич, знать их породу надо. Ничего они не отменят, всё равно.
А печальный капитан – надеялся!
Валентина Филипповна шла неуверенно, опустив голову, да и каблук не подвернуть.
А уже на берегу начальник подравнялся с ней – и, негромко, с сочувствием:
– Не горюйте, все ваши аргументы зафиксированы. Будут учтены.
Вскинула голову на министра счастливо:
– Спасибо!
Развернулся катер и пошёл против течения.
Опять потянулись вдали, потом стали сближаться береговые высотки. Дальше и скала угловатая.
У мужчин в салоне под водочку уха бойко пошла.
И громче всех козырял Сцепура:
– Да‑а! Я был, как говорится, руководитель с перспективой. А вот – подломили теперь.
Кого не разберёт водка под уху и шашлык? Смягчилось, раскраснело, ещё помолодело и лицо министра. Да просто, при высоком положении, держаться надо с достоинством. Ну, а уж тут – все мы люди, и горяченькое.
– Служебных неприятностей, – гремел Сцепура, – досталось мне выше моего возраста! Но я хвост не поджимаю. И мне обидно слышать, как теперь говорят: то всё – было не нужно, ошибочный путь. Кáк ошибочный? А все наши победы? А хоть наши Братск и Усть-Илимск?!
В конце концов, получилась хорошая речная прогулка. А вечером на самолёт, и в Москву. Там, через пару дней, – загранкомандировка. А эти возражения, сомнения – конечно, они все со смыслом. Но – вдруг вспомнил, вспомнил, сказала эта женщина: «последнее распоряжение правительства»?..
– А когда оно? – спросил у иркутского.
– Три месяца назад. В подтверждение прежнего.
Э‑э-э, так и не кидаться же на верхи, доказывать – только сам себя подобьёшь.
Что ж, он не знает обстановку в сферах? если решение принято, да ещё раз и подтверждено, – всё равно не изменить его никому. Всё пойдёт, как начертано.
1993; 1995
На изломах
1
Кто в тот год не голодал? Хоть отец и был начальник цеха, но не брал ничего никогда сверх, и никого к тому не допускал. А в семье – мать, бабушка, сестра, и Димка на 17‑м году – есть-то как хочется!! Днём у станка, ночью с товарищем с лодки рыбу ловили.
А цех у отца какой? – снаряды для «катюш». На харьковском Серпе-Молоте доработались – прервать нельзя! – до того, что город уже горел, чуть к немцам не попали, уезжали под бомбёжкой – и закинулись до Волги.
Война? как будто катила она к концу, фронты уходили – но что там дальше будет? А ещё сяжок – и призыв. И уже узнав складность своего характера и ума – на весну этого, 44-го, сдал Дмитрий экстерном сверх 9‑го и за 10‑й класс, да «с отличием». И с сентября можно ринуться в институт. А куда? Добились с другом до такой справочной брошюрки: «ВУЗы Москвы». Ох, много названий, ещё больше – факультетов, отделений, специальностей, – а что за ними скрывается? чёрт не разберёт. И – как бы решали? и – как бы решились? – но в Энергетическом, шоссе Энтузиастов, прочли: «трёхразовое питание»! И это – всё перевесило. (А по себе сам намечал: юридический? исторический?) Ну, такая в ногах легколётность – покатили!
И – приняли. Общежитие в Лефортове. Только трёхразовое – как считалось? Щи – это уже раз, уполовник пюре из гниловатой картошки – это уже два… А хлеба – 550 плохого. Значит: днём учись, уж там как, вечерами-ночами – грузчиками. Заплатят папиросами – иди на рынок, меняй «Дукат» на картошку. (Ну, отец помогал.)
А год Двадцать Шестой – уже весь заметали в армию. А год Двадцать Седьмой – качался, туда ли, сюда. Но – удержался. Да кончилась война, оттого.
Война и кончилась – она и не кончилась. Объявил Сталин: теперь – восстанавливать! И пошла жизнь по тем же военным рельсам, только без похоронок, а: и год, и два, и три – восстанавливать! значит – и работать, и жить, и питаться, как если б война продолжалась. Уже был на 4‑м курсе, отложил себе 400 рублей – новые брюки купить, а тут – громыхнул слух: будет реформа! И – кинулись люди в сберкассы, сразу две очереди, одни сдают, другие берут, не угадаешь, как надо. И Митя Емцов – не угадал, прогорели и брюки. Но сразу и выигрыш: ни стипендии, ни зарплаты не разделили на 10, и карточек – больше нет. И на январскую стипендию накупали ржаного хлеба – в обжор, да ещё и чай с сахаром. А директор их института – была солидная, властная женщина, жена Маленкова, нахлопотала ещё и повышенных стипендий, получил и Емцов. Так он – креп.
Да креп не только от питания, и не только в учёбе. (Отбирали на атомную энергетику и на автоматику-управление авиационные – выбрал второе, ещё долго не догадываясь, что иначе б заперся на годы и годы как в тюрьме.) Креп он – и на общественной, комсомольской работе.
Это приходит незаметно и не по замыслу: чего мы стóим – мы узнаём только с годами и по тому, как окружающие воспринимают нас («нерядовой»). Все замечают, что ты по природе динамичен, что ты подаёшь самые быстрые предложения, как с чем быть коллективу; что твои мнения одерживают верх над другими. Так – садись в президиум собрания! Сделаешь доклад? Отчего бы нет? И слова в речи легко сцепливаются. Кого там поддержать, кого разоблачать? И ребята аплодируют. И за тебя голосуют. И так это гладко, само из себя: комсомольский вожак; с 3‑го курса – секретарь факультетский; с 5‑го – заместитель общеинститутского. (Но для этого уже надо быть кандидатом партии. Однако распоряжение ЦК: с 48-го года прекратить приём в партию – то есть за войну слишком много напринимали. А вот – «в виде исключения принять товарища Емцова»? На партийном собрании сидят же и фронтовики, зароптали: почему – его? почему – исключение (для щенка)? Зал – против. Но встаёт директорша, представительная, уверенная – да чья жена? кто этого не знает? – и веско опускает в зал: «На то – есть соображения». И – всё. Проголосовали и фронтовики.)
А вскоре – ты ещё не кончил института, уж никакого тебе «распределения» – взяли в московский горком комсомола – замзавотделом студенческой молодёжи. (А что там в институт осталось доезживать – зачем на трамвае? позвонил в горком – и едешь на «победе»; вызываешь второй раз – и из института, уже на квартиру, не в общежитие, опять на «победе».)
Да, взветрили тебя пыхом-духом – но перед ребятами нисколько не стеснительно, потому что в том нет никакой кривины: ты ничего не добивался, не хитрил, а вот – вынесло, само. И ещё в том, что комсомольское дело – честное, верное, даже священное! (Первый раз вошёл в горком комсомола – ну, как верующий в церковь, с замираньем.) И что это – бьющая живая струя нашей ослепительной общей жизни: после такой всемирной победы – и как вливаются в страну восстановительные токи! и как гремят отовсюду успехи грандиозных строек! и ты – этого часть, и направляешь своё студенческое поколение – туда, в эти замыслы и в эти свершения.
И с гордостью написал отцу (тот и остался так, на своём цехе, и на Волге, уже в Харьков не возвращали их). Отец может взвесить, что значит выбиться своими силами. Сам сын кузнеца – а поднялся в инженеры. И жену взял из полтавской дворянской семьи, искавшей защитного крыла в ранние Двадцатые. (А потом сильно сердился, когда та с матерью разговаривала по-французски.) В 1935 он перенёс злополучие ареста по клевете (семью сейчас же стеснили, шредеровский рояль стал в подвале на боку) – но через полгода оправдали, – и дивность этого освобождения ещё больше укрепила пролетарскую веру отца в добротность нашего строя, его отродную преданность ленинскому пути.
Да только вот в горкоме комсомола что-то стало меняться? Не все тут благоговели, войдя. А у кого и в идейном горении сказывалась недохватка – наигранность проступает, не спрячешь. Да и правда, своим интересам чуть отдайся – утягивают с силой. А кто-то кого-то подсиживает, занять пост повыше. Вдруг – второго секретаря горкома застали в кабинете на диване с секретаршей. Ну, и оргвыводы…
Гори не гори, а вдвигаются в нашу жизнь ещё и факты. Вот – Факт: начиная с замзавотделом и вверх, ежемесячно вдвигается в пальцы тебе – длинноватый конверт болотного цвета, всегда одинаковый. И называется он – пакет. А внутри – ещё раз твоя месячная зарплата, но уже точная, без вычетов, налогов, займов. И солжёшь ты, если станешь уверять, что тебе это не-приятно, не-нужно, не-приемлемо. Оно как-то именно – приемлемо, деньги-то всегда пригодятся к чему-то.
Женился на сокурснице – но и медового месяца нет: ведь в горкоме надо дежурить до двух-трёх часов ночи, как и вся служебно-партийная Москва не спит по воле и привычке Сталина. На этой «победе» приехал в четвёртом часу домой – ну как жену будить? Ей в 6 часов вставать, чтоб ехать на электричке на работу.
А дела и обязанности – расширялись в размахе. И учреждали Международный союз студентов (там общался с самим Шелепиным), и включали его во всеобщую борьбу за мир, ну тут и подсобная работа – писать речи для крупного начальства, вроде: «Не допустим, чтоб ясное небо родины снова застлали клубы войны!» Какая работа скрытая, какая нескрытая, – а был на виду, и голову носил высоко.
И тут – приехал к нему в отпуск отец. Пожил неделю. Послушал сына, присмотрелся. Но не выразил той отцовской гордости, как Дмитрий ждал. Хуже. Вздохнул и сказал: «Эх, в погонялы ты подался. А надо бы – самому ворочать, на производстве. Дело – это только производство».
Дмитрий был уязвлен, обижен. Он чувствовал себя – в постоянном полёте, а если земли касался, то ходил – тузом. И вдруг – погоняла?
Да отец и читал только «За индустриализацию». И жил – «для счастья народного», как повторял не раз.
Сын отверг – как ворчливость отцовскую. Но текли недели – и что-то стало внутри – сверлить, подавливать. Отцовское осуждение – оно, оказывается, гирей на сердце ложится. От кого бы другого – отмахнулся легко. А тут?..
А не прав ли отец: какое «дело»? И сам видишь: трёп да трёп, да подсидки, да интриги, да пьянки. Оглянуться на сотрудников – ведь королобые они. И чиновники. А если есть у тебя способности – куда на большее? (Только – на что именно? Ещё непонятно.)
Но – уже нелегко расстаться и с пакетами, и с «победой».
Точило в нём, точило. А решиться нелегко.
Вдруг – как-то с маху, необдумчиво, – накидал заявление об уходе. И подал.
Но – какое такое заявление? Как это член партии может писать заявление? Против воли Партии? Так это – неустойчивый элемент в нашей среде! И – такую подняли баламутину, и такую задали Емцову прокатку, и так отмордовали на партсобрании – сидел варёным раком, и только признавал и признавал свою вину.
Да может и к лучшему. Карьера выправилась опять. (И вот такие поручения-загадки: в одном институте студенты создали, якобы в шутку, «Общество защиты гадов и пресмыкающихся». А если посмотреть проницательно? – ведь это политическое подрывное дело.)
А тут – крупная перетруска в Москве: на пленуме МК-МГК партии её привычного первого секретаря Попова – такого прочного, импозантного, неколебимого – вдруг свалили. (Интрига была – Мехлиса, его врага, а решение – Сталина, прочистить тех, кто в войну зажирел, а в обвинениях не поскупились: почему асфальтную дорогу за город провёл как раз до дома своей любовницы, и не дальше?) Вместо Попова назначили Хрущёва.
А тут подкатил день комсомольского празднества. Комсомольский актив принимали в Георгиевском зале, банкет. Живой и щедрый Хрущёв, с круглой, как обритой, головой, пообещал: «Старайтесь! старайтесь – и все будете в секретарях ЦК!»
И вдруг какой-то бес повернул язык – Емцов безоглядчиво выскочил:
– Никита Сергеич! А можно вопрос?
– Можно.
– Вот два года, как кончил я институт, а диплом мой лежит в тумбочке. Люди на производстве – разве не нужны? Готов идти, куда пошлёт партия.
(А звучало-то как! – в Георгиевском зале. Сам своей отвагой полюбовался.)
Хрущёв, недолго думая, боднул подвижной лысой головой:
– Товарищ Сизов, я думаю – просьбу можно рассмотреть?
«Рассмотреть»! – из руководящих уст – это уже приказ! (Не ожидал такой крутой безповоротности! Поспешил, выскочил?..)
Сизов вызвал на собеседование. Расположительно: «Да зачем же ты так? Сказал бы нам. Да мы б тебя ещё в ЦК продвинули». Ну уж, упущено. «И куда ж ты хочешь?» – «В авиационную технику». – «ВИАМ? ЦАГИ?» – «Да нет, на прямое производство!»
А пошло через министерскую аппаратную – и назначили на периферию. Правда, выбрал город, откуда и приехал, где родители. Замысловатые, замаскированные у нас названия: «Агрегатный завод» – пойди разбери, что за этим скрывается? А за этим – и авиационное электрооборудование, автопилоты, дозировка топлива, но туда же и ширпотребский заказ: наладить производство бытовых холодильников, позор нам с таким разрывом отставать от Европы!
По славе, что «сам Хрущёв его направил», – довольно быстро стал начальником цеха. (А от горкомовской зарплаты с пакетом – падение сразу в 5 раз, ой-ой! уже ощутимы даже 30 рублей «хлебной надбавки».) Только цеху его как раз – выпуск холодильников! Вот стоит английский образец, всего только задача: точно скопировать. Но, чёрт его знает, скопировали в точности, а секреты какие-то не ухватили: в контуре то трубка какая засоряется, то от холода своего же и замерзает начисто. Покупатели – возвращают с жалобами и проклятьями, «не холодит!», магазины – с рекламациями.
Но облегчало работу, что и в эти годы, начало 50‑х, ещё сохранялась на заводе безпрекословная дисциплина, как если б война и сегодня шла, – даже на их «пьяном заводе», как в городе звали (на промывку аппаратуры отпускали им много спирту).
Смерть Сталина – сотрясла! Не то чтобы считали Его безсмертным, но казалось: он – Явление вечное, и не может перестать быть. Люди рыдали. Плакал старый отец. (Мать – нет.) Плакали Дмитрий с женой.
И все понимали, что потеряли Величайшего Человека. Но нет, и тогда ещё Дмитрий не понимал до конца, какого Великого, – надо было ещё годам и годам пройти, чтоб осознать, как от него получила вся страна Разгон в Будущее. Отойдёт вот это ощущение как бы всё продолженной войны – а Разгон останется, и только им мы совершим невозможное.
Был Емцов, конечно, не рядовой, не рядовой. Нерядового ума, энергии. На заводе не столько уж требовались институтские знания, сколько живо справляться с оборудованием и с людьми. Дома опять почти не бывал. А ведь уже и сын родился, – а когда воспитывать? времени ни чутельки. Но главный урок жизни он получил от директора Борунова.
Директоров сменилось несколько, держались по году, по полтора. Последнего, и с ним главного инженера, сняли «за выпуск некачественной продукции»: нагрянули комиссии от безжалостного Госконтроля, от прокуратуры, завод остановили, допросы по кабинетам, все в жути. И вот тут новым директором вступил Борунов – рослый самодородный красавец, лет сорока. Не улыбкой, нет, но чем-то светилось на его лице уверенное превосходство: что он знает, как исправить любое положение.
И – да, поразительно! За две-три недели и весь завод и цех холодильников стали – другими. Люди как будто попали в мощное электромагнитное поле: их всех как повернуло в одну сторону, и они все смотрели туда, и понимали – одинаково. Про нового директора передавали басенные эпизоды, подробности. (Тут Емцов был неделю в отгуле, уезжал на зимнюю рыбалку, не явился по вызову, а когда явился, секретарша Борунова: «Сказал: больше в вас не нуждается». И три дня не допускал до лица своего!) Вдруг объявил в январе: «С 1 февраля завод будет работать ритмично!» И на демонстрационных досках за каждый день каждому цеху стали рисовать или красный столбик (выполнил план), или синий (провалил). И такой пошёл порядок, что при синих столбиках и жизни нет никому в цеху. Значит, цепляйся, когтись! Вот как будто пошли холодильники? а из гальванического цеха не успевают доставить решётчатые полки к ним. Мелочь, тьфу! – а сдать без них нельзя. Начальник гальванического умоляет: «Ты подпишись, что сегодня принял, а я тебе завтра утром доставлю». И другой раз, и третий, – а нехватка всё дальше. Емцов отказался, и тому поставили синий. На следующей планёрке Борунов: «Емцов – вон отсюда!» Емцов даже руки вскинул просительно: ведь прав же! Нет, как перед скалой. Подсёкся.
Приглядывался на планёрках: чем Борунов берёт? ведь не криком, не кулаком. А: уверен он, что – выше любого своего подчинённого. Интеллектуально. Скоростью перехвата мысли. Остроумием. Разящей меткостью приговора. (Но все эти качества – Емцов находил и в себе!) С Боруновым – невозможно было спорить. Невозможно – не выполнить.
А вот возможно: обогнать в догадке – и предложить своё? Вот стали приходить перебивчиво и срывали весь план реле из Курска. Додумчиво – к Борунову: «Дайте мне самолёт! денег! Лечу с бригадой монтажников в Курск?» Просиял директор, сразу дал. На курском заводе Емцов и свою бригаду посадил регулировать релешки, и тамошнее совещание и митинг собрал. Сколько б нам ни обошлось! – а пошли одни красные столбики.
Недолго директором пробыл и Борунов. Только – не сняли его, а возвысили в секретари обкома.
Но за эту недолгую школу Емцов внутренне сильно вырос и усвоил: тут – не лично в Борунове дело, а Борунов (или всякий другой, или ты) идёт на гребне великого сталинского Разгона, которого хватит нам ещё на полвека-век. Вот единственное Правило: никогда не надо выслушивать ничьих объяснений (сомлеешь в объяснениях, скиснешь, и дело погубишь). А только: или дело сделано – или не сделано. Тогда берегись!
И людям – деваться некуда!! Выполнение – безпрекословное! А вся система – высокоуправляема.
И вскоре был уже главным технологом завода, ещё прежде своих 30 лет. А чуть за 30 – главным инженером.
Вот задача Партии: наладить выпуск магнетронов – мощных генераторов сверхвысокочастотных колебаний, они пойдут в противовоздушную оборону, в локаторы. Образцы? получи́те: вот – немецкий, вот американский. Копируй сколько хочешь, но с магнетроном задача похитрей, чем с холодильником: а как отводить тепло? а как снимать мощность? И мало просто генерировать высокую частоту – нет, надо в самом узком диапазоне, иначе не распознать целей. (На всё то сидели теоретические группы в конструкторских бюро.)
Шли годы – оборонный комплекс, раскиданный по стране, но связанный безотказными каналами поставок, решал одну за другой задачи, ещё недавно, казалось, невыполнимые. Уже передавали слова Хрущёва (крёстного отца…): «Да мы теперь ракеты делаем как сосиски на конвейере». Но чтоб эти ракеты летали по точнейшему курсу – вот задача с гироскопами: для быстроты запуска ракеты они постоянно включены – но оттого изнашиваются, и когда появился в технике лазер – домозговали до лазерного гироскопа, без трущихся частей и чья готовность мгновенна. И Емцов, уже привыкнув не застывать, всегда двигаться без понуждения, самому искать новые направления, – предложил приехавшему на завод министру и зав. оборонным отделом ЦК: поручите лазерную аппаратуру нам! (Шаг был – отчаянный! но понесло его, как камикадзе.)
Принято. И сразу вослед – в свои 33 года! – стал директором завода.
Было это в апреле 1960. А на 1 мая – сшибли нашей ракетой самолёт Пауэрса.
Но – как? Через несколько дней было крупное совещание у Устинова – тогда уже зампредсовмина, зам. Хрущёва по обороне, но ещё всеми боками за своё прежнее министерство оборонной промышленности. (И молодой свежий директор первый раз попал на такую верхоту.) А от министерства обороны пришли во главе с Байдуковым, и тот с захрипом, тяжеловесно выкладывал обвинения, что военно-промышленный комплекс проваливает советскую оборону.
Эти растреклятые американские У‑2 (насмешливое совпадение названия с нашими низковысотными фанерными «кукурузниками») летали на высотах, недостижимых для наших истребителей, ещё и путая локаторы созданием фальшивых мишеней, бросали металлические ленты, наша система не различала уверенно характер целей, и сама наводка ещё была неточна, – зелен виноград сбивать эти самолёты.
И сейчас – Пауэрс безпрепятственно миновал наши системы противовоздушной обороны, пролетел даже прямо над зенитным полигоном Капустин Яр на Нижней Волге, из Ирана пересек половину СССР, по нему лупили – а сбить не могли. (Вместо него – сбили свой один.) И только на Урале в него улупили, по сути, случайно. (А Пауэрс предпочёл плен обещанному по контракту самоубийству иглой. Потом и книгу воспоминаний издал, деньги получил.) Тогда весь случай подали публично так, что Хрущёв сперва, из милосердия, не хотел сбивать. Но сами-то знали: куда годны?
Видно было, как Устинову тяжело, неприятно, – Емцов сидел совсем неподалеку, но не за главным столом, а в пристеночном стульном ряду. Устинов, с подёргиванием своего долговатого лица, явно искал, чем оправдаться, кому для этого слово дать, чтобы находчивые аргументы привёл?
И тут – Емцова внезапно взнесло, как когда-то перед Хрущёвым, или когда взялся выпускать лазерные гироскопы, – сразу и страх и безстрашие, как в воздухе бы летел без крыльев – вот взмоешь или разобьёшься? – поднял руку просить слово, вверх и с наклоном к Устинову! (А внутри: ой, хоть бы не дал! На таких высоких совещаниях – опасней, чем на поле боя, чем на минном: чуть неосторожное выражение или малый перелом голоса уже могут тебя погубить. Впрочем, свои инженеры убедили его, что решение – уже близко.)
Устинов видел руку, однако сухопарому выскочке не рисковал давать: чего ляпнет, по молодости? Выступали один генерал, другой генерал, один директор, другой директор. И теперь уж каждый раз Емцов поднимал (хотя внутренне – ещё робел). Устинов посмотрел ему пытливо в глаза – и тут Емцов ощутил, как в глазах его зажглось – и пошло уверенным сигналом к Устинову. И Устинов явно понял, принял сигнал. И – дал слово.
Емцов вскочил пружинно и заговорил энергично. Подталкивал его и тот опыт с гальваническим цехом: да, иногда надо признать сделанным – ещё и не сделанное! и с Курском: провал потом наверстаем, а красный столбик – должен стоять непременно! И хотя он знал, что Селекция движущихся целей всё не налаживалась, – но она должна наладиться! должна – по закону великого Разгона!
И самонадеянно тряхнув головой – заверил генералитет, звонко:
– Проблема селекции высоколетящих целей – у нас уже решена. В короткие сроки она будет уже в практике.
Застыли, даже рты приоткрыли.
И на этом бы остановиться? Нет, ещё не полная победа. Теперь – очень озабоченно, но и надменно:
– По-настоящему мы уже заняты другой проблемой, и она стоит для всех: создать систему обнаружения низколетящих целей. Американцы то и дело снижают высоты…
Сотряс Совещание! В перерыве Устинов усмехнулся наградно: «Ну, не посрамил ВПК». А ещё один видный генерал схватил Емцова под руку (Емцов не успел рассчитать – почему он? потом узнал – тот терял значение, хотел укрепиться) и повёл его в какую-то чуть не маршальскую группу: «Вот, мы…»
Так-то так, приятно, но и страшно: а если не получится? Да, могло б и не получиться… Могло бы, eсли бы не Разгон! Ещё летом пришлось ему повторить и на другом совещании (шефы ВПК горели), что будто идёт как надо, – а всё ещё не было сделано!
Да тут не то что карьеру сломят – посадят…
Но у него был опыт Борунова: оказаться быстрей и проницательней своих подчинённых, не отдать им инициативы (а всё умное – тотчас подхватывать). Действовать на подчинённых психологически: синие столбики не могут появиться ни по каким причинам! Он уже ощущал себя – лютым производственником и озарённым директором. То и дело ночью к нему домой машина: «конвейер остановился!» или там что, – и он несётся на завод. (Уже и о нём рассказывают басенные эпизоды.) И он поверил в творимость чудес. Казалось бы, по естественным законам природы, – такой процесс нельзя заказать вперёд, такое сооружение может и не держаться, но есть и психологический закон: «Вытянем во что бы то ни стало!!»
И – вытянули. За 4‑й квартал того же года завод получил знамя ЦК и Совета Министров, директор – Героя Социалистического Труда.
А дальше – взлёт, и взлёт, и взлёт. (Да по глазам и повадкам любой заводской девушки – а много ль мы шагаем, не задевая в себе этих струн? – ощущал непреклонную свою победность. Да ведь у него и дворянская кровь текла – видна в окате головы и как держал её.) Завод его, шифрованно переименованный в «Тезар», – теперь воздвигался в новых и новых корпусах, набирал новые тысячи рабочих. Он выпускал – СВЧ-генераторы, сердца локаторов и сложные системы питания к ним, а кто-то другой – волноводы к антеннам, а кто-то ещё – вычислительные комплексы для локаторов. (Посылаемые на поиск сигналы должны быть переменной частоты, чтобы противник не успевал к ним привыкнуть и защититься.) Строилась первая противоракетная оборона. Уже был создан «московский зонтик»: по 140 устройств на каждую из четырёх сторон света (через Северный полюс особенно ждали) с обнаружением летящих ракет за тысячу километров – и устройства эти в три пояса: внутренние потом добирают то, что пропустили внешние. И – тысяча целей обрабатываются одновременно, – а дальше электронно-вычислительными машинами распределяются по стрелебным комплексам: кому по какой цели стрелять. (И тут мы, в этом зонтике, – обогнали американцев!!)
Дальше пришла пора разделяющихся головок – поспевали мы за американцами и в головках. И по возвратным локаторным сигналам научились различать головки боевые от показных беззарядных.
И – сыпались на Емцова награды. И счёт потерял он этим высоким совещаниям, куда летал, и высоким кабинетам, куда, как говорится, чуть не любую дверь открывал ногой (не любую, конечно). Даже входил в комиссии по редактированию постановлений ЦК. И сколько этих физиономий с обвислыми щеками и подбородками, почти без мимики лица и глаз, а губы открывающих лишь чуть, по неизбежной необходимости произносить фразы, – сколько их, навстречу Дмитрию Анисимовичу, нехотя меняли своё отродно неприязненное выражение. (Чужой был им этот оборонный директор – слишком молодой, худой, подвижный, с воодушевлёнными блистающими глазами и аристократическим лбом.) А Дмитрий Фёдорович Устинов – просто полюбил Емцова.
(Но – и надломился хребет карьеры: близкий друг Емцова, учёный-электронщик, посвящённый во множество наших секретов, поехал в Европу на конференцию – и не возвратился! – взбунтовался против Системы! И – Емцов закрепился невыездным – на два десятка лет! А могло бы и сильно хуже, и свергли бы вовсе. И вот как понять тебе этот непредупреждённый внезапный поворот друга? Понять его – вообще нельзя, потерял голову. Не ради западных же благ, и тут ему хватало. Свободы? – но в чём таком ему не хватало свободы? А лично – предательство? Да что – «лично»! Из-за беглеца пришлось по всей системе противоракетной обороны менять все коды, номера, названия…)
А за эти 20 лет – «Тезар» всё разрастался. Заводоуправление – мраморный дворец. Но и новые цеха – загляденье, роскошные здания. Строили – денег не жалели. Это был уже не завод – а пять заводов вместе, в одном каменном обносе, и три Особых конструкторских бюро (ещё секретнее самих заводов). И 18 тысяч рабочих и служащих. И вот в одном и том же директорском кресле (перенеся его несменно и в новое здание) просидел Емцов – скоро четверть века. Сохраняя всё ту же сухость фигуры, лёгкость походки и быстрый умный взгляд. Волосы – выпадали, а остаток на теменах не проседел. Распоряжался – только повелительно, и умел осадить любого. Было ему за пятьдесят.
В таком возрасте уже не жена приносит тебе второго сына. Но сам сын ещё насколько гордостней, и горячей, и сгусток надежд, и обещанье продолжить тебя насколько дальше в годы! Ты – вместе с ним как будто ступаешь первыми ножками! Старший сын уж давно сам по себе, и не так пошёл, – но вот этот, через двадцать лет от первого, пойдёт каково! И сколько же дальнего смысла он добавляет в твою жизнь.
А Тезар всеми фундаментами только врастал и врастал в приволжскую землю, ещё прихватывая и прихватывая расширенным забором соседние жиловые и луговые гектары, – но продукцией своей, но назначением и делом своим всё более впитывался в нашу оборону как всесоюзный гигант. С ним – и его безупустительный директор, не уставая застолблять всё новые направления поисков и производства. (А всё так же – невыездной: ему верило ЦК, ещё бы не верило! – а осторожность Спецуправления тоже не лишняя?..)
Да, оборона советская – и нападение же! – стояли всё так же несокрушимы и действенны. Но уму, знающему тоже и подробности секретных донесений из-за океана, притом уму живому, – с начала 80‑х годов, от Рейгана, стало проясняться, что мы в гонке – уже не те, приотстаём. Этого нельзя было допустить, нельзя было дать себе остановиться! – но вот эти развислые в креслах, с мёртвыми глазами, нахлобученными бровями, прищурые, слушающие вполуха, неприязненные ко всякому, кто ниже их по должности, – как их протронуть? можно ли что довести до их мертвеющего сознания? (К старости не тот уже стал и Устинов.)
И вдруг – появился, проявился – Гор-ба-чёв! От первого же пленума ЦК – разбудил надежды. Оживём! Рядом с ним – и Лигачёв, и он дал Емцову даже выступить на Политбюро! А в Дмитрии Анисимовиче, ещё с затонувшей косыгинской реформы, – теплилось понимание, как уже тогда, в 65‑м, приходило нам время перестраивать экономику – но трусливо, расслабленно, равнодушно упустили всё. А тогда – тогда промышленники чувствовали себя в боевой форме, и поверили в лозунг: теперь планировать – по-новому! стимулировать труд – по-новому! И Емцов – не одного себя выражал, когда горячо взялся читать доклады партийным аудиториям, даже в высшей партийной школе: что такое новая экономическая система и как она спасёт страну. Слушали – удивлялись. Тогда пригласил его и местный университет на курс лекций: «Основы экономической политики социализма» – и Емцов принял вызов, пошёл. А сам для себя уже тогда был погружён и в любовь к запрещённой кибернетике, зачитывался Эшби, – включил в свой курс и элементы кибернетики, какие успел перенять. Удивлялся и сам: ко всему, ко всему подходить с системных позиций! – а?.. (От благодарного университета получил кандидатское звание.)
Но потом – весь надув реформы выдохся как проколотый. И охолодел – на 20 лет. Ну, ничего, как-то жили. Наш век доживём и без реформы?
Нет, вот она! Горбачёв! Уже охладелая вера снова стала набирать накал. По старым, но обновлённым тезисам – пошёл Дмитрий Анисимович в университет читать лекции о современной системе управления промышленностью (однако уже без былой примеси кибернетики, разве угонишься за ней 20 лет?)
Но – Горбачёв? – о чём вы говорите? Этот близорукий несуразец – что он делал? Какие разрушительные спускал приказы, ляп за ляпом? Вводятся Советы Трудовых Коллективов! – и этот СТК рассматривает и либо одобряет, либо не одобряет план, спущенный министерством!? Да я вас поймаю на слове: какая кухарка у себя на кухне такое допустит? – не то что директор могучего прославленного комбината! Нет, слушайте, ещё лучше: так называемый «трудовой коллектив» отныне будет выбирать директора! Да моя деятельность наполовину проходит вообще вне завода: все поставки, внешние связи, верховные органы, валютные закупки – и кто в трудовом коллективе, и какая шушваль может об этом всём судить? Бредятина! И ещё какая-то газетёнка, да притом литературная, открывает рубрику: «Если бы директором был я…» Шлите пожелания… Бывало в нашей жизни и раньше? У вас, может быть, и прекрасная память. Но у меня есть свойство обобщать. Так вот: это – конец!
Но какой ни конец – а всё живое должно жить. (А у тебя же – второй сын, растёт. Это – какая музыка в душе? Теперь-то и жить! И – сколько ещё жить!)
Так – и хлюпались, пять лет «перестройки». Находили решения «методом тыка», как говорят экспериментаторы. И уже – сами, по дальности от тех, кто верхоправит, без каждого поклона в Москву. К концу 80‑х годов все связи между предприятиями в СССР настолько распались, что уже нельзя было надеяться ни на какого поставщика. И монстр Тезар искал, как изготовить для себя побольше самим.
Но ещё и тогда – не знали настоящего горя. А вот когда узнали – когда разогнали Партию. Да! я – первый не любил этих вислобровых на самом верху, не смотрите на мои ордена, не считайте мои золотые звёздочки или сколько раз я выступал в прежнем ЦК, – рассматривайте, что я скромный человек, просто профессор кибернетики. Так. Но – партия была наш Рычаг. Наша Опора! А её – вышибли.
И кинулись в великую Реформу, как старый рыбак сказал у проруби: нáбалмошь.
А до Тезара дошло так. Ровно через три недели после мозговитого начала реформы, позднеянварским пасмурным днём, подали Емцову телеграмму из министерства обороны: «Отгрузку продукции, шифр такой, шифр такой, остановить отсутствием финансов».
Один в своём большом кабинете, но в издавнем кресле, – сидел Дмитрий Анисимович над телеграммой – и ощутил мурашки в волосах.
Как будто злой дух, демон, над самой головой низко-близко пролетел.
Или как будто великий красавец-мост через реку шире Волги – рухнул в минуту, только бетонный дымок ещё оседал.
Сорок один год, от Георгиевского зала, Емцов был производственник. Тридцать два года, от Пауэрса, – директор Тезара. А эта телеграмма вестила: всему конец…
Если у министерства обороны уже через 3 недели от старта «реформы» нет финансов на такое – то их уже и не будет. И мудрый человек обязан видеть всё насквозь – и до последней задней стенки. Это действительно всему конец. И самое неразумное – защитно барахтаться, слать умолительные телеграммы, обманывать самого себя, оттягивать развязку. Да, сказано только «прекратить отгрузку», не сказано «прекратить производство», и в цехах и в складах ещё есть места, можно изготовлять и дальше.
Нет. Обрезать – сразу. Не длить агонию.
Он – час так просидел? не зажигал света, и вот уже полные сумерки в кабинете.
Зажёг настольную лампу. Вызвал трёх ведущих. И скомандовал отрешённо, мёртво, как уже не о своём: по шифру такому, шифру такому – немедленно прекратить выдачу материалов цехам.
А значит, Великий Разгон – кончен.
В те недели из ста военных директоров девяносто пять ринулись в Москву доказывать: «Мы потеряем технологию! Дайте госзаказ, а мы пока будем работать на склад!» И боялись одного: только б не выключили из казённого снабжения, «только б меня не отбросили в приватизацию». Разрушительное это слово пугало, как морское чудовище.
А Дмитрию Анисимовичу стало ясно как при температуре Абсолютного Ноля, минус 273: Электроника наша – кончилась. Высокие технологии погибнут безвозвратно, ибо не смогут сохраниться отрасли или заводы по отдельности: всегда до нужного комплекта будет чего-то не хватать. Система будет деградировать вся целиком, никак иначе. Наша высокая военная техника начнёт рушиться, рушиться – а потом никто её не восстановит и за десятки лет.
А ведь реформа Гайдара – Ельцина – Чубайса – гениально верна! Без горбачёвской половинчатости: надо разрушить всё – и всё – и всё – до конца! И только когда-нибудь потом, уже не нами, Карфаген будет восстановлен, и уже совсем не по нашему ладу.
Но когда этой заметавшейся компашке казённо-сплочённых директоров Емцов заявил: «А я – иду на приватизацию!» – «Да ты белены объелся! – взгневались оборонщики. – Да как это можно в нашем деле даже вообразить: приватизация? Да пока мы живы – никакой приватизации!»
– Д‑да? – усмехался Емцов со своей неизречённой уверенностью, хоть и горькой. – Хорошо, давайте рассуждать, я вас сейчас разгромлю. Если я вас правильно понял: у нас зато, например, продолжает расти металлургия? Гоним дешёвые стали, а спецстали загублены? У вас прекрасная память на прошлое. Но надо его забывать. Ни штаба ВПК, ни штата ВПК – больше не будет. И из продукции нынешнего уровня мы уже скоро ничего никогда не повторим.
Да среди всех дурацких лозунгов – «перестройки», «ускорения», «социалистического рынка», потом «реформы» (неизвестно по какой программе) – был один проницающе разумный, если его не упустить. К директорам заводов обратились: «Становитесь хозяевами производства!»
Верно! Схвачено! Вот оно, заложено тут.
Но если ты номинально «хозяин производства» – почему же не стать им реально?
Однако стать хозяином – как это?
По неизведанному пути – первому всегда трудней. Но – и выигрыш времени, вот, для переконструкции Тезара.
Правда, нашлось ещё сколько-то подобных – «партия экономической свободы». Вступил к ним. Но: болтовня одна или политической власти хотят. Нет, не через политику решается.
Сперва Емцов поверил в содействие западных инвесторов. В гости на Тезар услужливо и доверчиво принимал приезжающих западных банкиров, широко по-русски их угощал. Очень вежливые, улыбчивые, хорошо ели икру, – а ни цента не предложили в содействие.
Но от государства – тем более одни шиши. Надо торопиться.
При теперешнем свободном выезде – поехал в Америку сам. Встречали очень хорошо – как «прогрессивного предпринимателя». И встречи, и консультации, и деловые завтраки-обеды. А вложений – и тут ни гроша не дали. Но давали, но дали всё один и тот же верный совет: такого монстра, как ваш Тезар, никто инвестировать не будет, на нём можно только проиграть. Вам надо разгромоздить его на много отдельных предприятий – и пусть каждое выбивается своими силами.
С полтавского детства хорошо помнил Гоголя: «Я тебя породил – я тебя и убью».
В Совете Министров – суета, вертея, каждый добивается, друг друга отталкивают. Так втиснулся Емцов с вице-премьером в самолёт, и пока на конференцию летели – получил резолюцию на приватизацию Тезара и дробление его.
Да, если живое тело разрубить на части – они будут корчиться в поисках друг друга. А иного выхода нам не оставлено.
И вот теперь будет мой принцип: никаких нам ваших дутых госзаказов! – платите вперёд, тогда и заказ. Деньги раньше товара – не принято? А нам выхода не оставили: денежки – вперёд! Оборонную часть Тезара довёл до 5 процентов – до запчастей для противоракетной обороны, крохи. Раздробил Тезар на шестьдесят дочерних фирм, но надо всем и всеми – ты остаёшься генеральный директор. В их уставных фондах – что-то от прежнего Тезара, а на остальное – ищите богатых держателей, сами ищите. У каждой ячейки – свой самостоятельный интерес выжить, вот и корчитесь. Все шесть десятков – юридически равноправны, а генеральный директорат своё имеет, это по-новому называется «холдинг», держание.
Принцип для всех: отныне нам всё равно, на чём зарабатывать деньги! Высокую частоту на обработку гречки? Хорошо. А печи СВЧ, каких у нас не видано, в домашний быт? Гоните! Кто-то налаживает видеомагнитофоны? Великолепно. Пластмассовые оконные рамы, детские игрушки. А кто ничего не наладил, и нечем зарплату платить? Значит, не плати́те. Значит, увольняйте рабочих.
Загудел весь город: «Радиоэлектронный завод перешёл на выпуск граблей!» (Недалеко от истины.) А кто знал о деле побольше – инженеры-электронщики или оборонные директора по всей стране: «Емцов разваливает империю Тезар!» Ещё не уволенные рабочие, но второй-третий месяц без зарплаты, и уже уволенные кипели неутишимым гневом. Толпились, кричали у заводоуправления, проклинали директора. Емцов назначил – идти в клуб, на собрание.
И – такой же и в старости тонкий, гибкий, как тростничок, с ясным взглядом и лицом – вышел под бурю. И ощущал в себе ту залихватскую дерзостную находчивость, которая уже несколько раз в жизни так пригодилась ему. Знал, как сейчас их ошеломит.
Зал – рычал. Емцов вскинул тонкую руку с длинными пальцами, как учительскую указку и, сколько ещё оставалось звонкости в голосе:
– А кто виноват? Сегодняшний Верховный Совет – кто выбирал? Директора? или трудящиеся? За кого вы голосовали? Выбирали вы – директоров, организаторов, хозяйственников, тех, кто знает дело?! Нет!! Вы кинулись выбирать новообъявленных демократов, да всё больше преподавателей марксизма-ленинизма, экономики, кабинетных доцентов и журналистов… Хасбулатова, Бурбулиса, Гайдара, Чубайса, да я вам тридцать таких назову, – кто выбирал?! Вот теперь – берите свои красные знамёна – и топайте к этим педагогам, ищите справедливости! А я – предусмотрительно спасаю вас! Я оставляю вас безработными, да, – но запомните: в 92‑м году, а не позже! Вы, с Тезара, ещё успеете найти работу или приладиться к новому. А кто потопает со знамёнами за зарплатой – вот тот и останется с носом.
Легко перестраивать жизненный путь, взгляды, замыслы – молодому. Но – в 65 лет?
И ты – уверен, что прав. А в горле – жёлчь ото всего обвала.
Надо иметь неутерянную, выдающуюся гибкость ума: сразу перемениться ото всего и изо всего, в чём ты прожил жизнь. Как будто всё то была трын-трава, а ты вот бодро зашагал по-новому.
И спотыкаешься же на каждом шагу. И печи СВЧ и видеомагнитофоны – лучше и дешевле тезаровских – хлынули из Японии. Значит, нечего и барахтаться, надо и эту самодеятельность прикрывать. (И ещё – увольнять, увольнять. Да и сами инженеры, служащие, рабочие уходили, не ожидая увольнения, – и кто уходил? Сперва самый талантливый слой, потом второй сорт. Осталась серая масса и балласт, из былых 18 тысяч – только 6.)
Год прошёл – и четвёртая часть осколков Тезара обанкротились, лопнули, распущены. А кто-то – вывернулся, находил прибыли. Надо всматриваться, искать никем не проложенные, не предусмотренные, не увиденные пути, да саму землю рыть – и под землёй искать, а хоть и в космосе. Вот мелькнула новинка: переносные, подручные телефонные аппараты, работающие через спутники, – подхватываем! строим для них базовые станции, коммутаторы и продаём абонентные номера, вот и прибыль! Да простые газовые счётчики, каких и у Газпрома нет, а всем нужны, – прибыль!
Да господа-товарищи, нам ничего не надо стесняться, нам подходит любая торговля! – хоть и граблями, хоть и шляпами, хоть и сдавать в аренду любые наши роскошные помещения, – наши дворцы и наши детские садики – хоть под магазин скандинавской мебели! хоть под супермаркет! под казино или под прямой бардак! (Только быт – и продавать, а старые цеха – кто у нас купит? А что – и государство, отказавшееся от нас, ещё и заберёт – за долги, за энергопитание.)
Но самая плодоносная идея была – создать свой банк, в сращении с успешными осколками Тезара. По своей-то поворотливости и не упустили короткую пору, когда банки открывались гроздьями, – а опоздавший пусть потом ногти грызёт. Банк – это нервное сплетение всего живого и творящего! И, сами не ожидали: через три года банк при Тезаре получил американскую премию «Факел Бирмингема». (В том штатном Бирмингеме когда-то началось возрождение в Великий Кризис, оттуда и премия.)
Те оборонные директора, которые и год и два всё ждали государственных заказов или производили в долг, – теперь жалко барахтались, как лягушки на песке. А Емцов – не только всё успел вовремя, но даже нисколько не расслабился от излома, но даже расхаживал по прежним своим территориям по виду ещё властней и гордей, чем прежде, знаменитым тогда красным директором. Проходя казино, иногда и морщился: «этим импотентам, недоросткам ещё сам заплатил бы, чтоб не слышать их музыки». Он опять был – победитель, хоть и спрятал в дальний ящик стола свои прежние ордена и золотые звёздочки Героя. Гибкость ума и нестареющий деловой азарт – и ты никогда не пропадёшь! Говорил:
– У меня такая идея, что делать деньги – оказалось интересное занятие. Никак не меньше, чем отбивать пульс ВПК или, скажем, соображать в кибернетике.
А сынок подрастает – пусть-ка поучится за границей.
2
В доме по улице Карла Маркса № 15 произошло покушение на банкира. Это был взрыв во входном тамбуре дома, но сам банкир остался жив и тут же уехал, с женой, на автомобиле.
В областное Управление по Борьбе с Организованной Преступностью сигнал о происшествии поступил поздно вечером. Дежурный лейтенант должен бы тотчас ехать на расследование, но, даже прихватив двух автоматчиков, ночью можно попасть в положение опасное: где один взрыв, там хоть и второй, и третий. Поэтому лейтенант подождал до рассвета – февральского, не раннего, – тогда и поехали.
Дом оказался кооперативный, самими жильцами были устроены внешняя стальная дверь и за ней тамбур. На двери и сейчас сохранился примагниченный остов одной из двух разорвавшихся мин. Внутренняя деревянная дверь была прорвана взрывом на уровне человеческой груди, и весь тамбур вкруговую иссечен осколками, усыпавшими пол: по предупреждению лейтенанта домовая служба ничего за ночь не тронула, а вечерние возвратные жильцы проходили с великой опаской. Лейтенант произвёл все замеры, составил описание случая. Самого банкира (по фамилии Толковянов, ещё молодой человек) в доме не оказалось. Из его квартиры – стандартной, двухкомнатной, что удивило лейтенанта, – никто на звонки не отозвался: они с женой так и не вернулись после взрыва, а двухлетний ребёнок, объясняли тут, наверно у бабушки.
На том закончив пока расследование, лейтенант спешно вернулся к себе в Управление, чтоб успеть до утреннего прихода на работу майора и других сотрудников. Успел. Но майор почему-то всё не шёл – а в 10 часов приехал сам подполковник Косаргин. Лейтенант рискнул пойти доложить прямо ему.
Подполковник был сорока лет, сейчас в гражданском костюме, но с явной военной выправкой, подтянут. Он 15 лет прослужил в Органах, ушёл оттуда года полтора назад. И уже с год был вот здесь.
Лейтенант всё доложил, показал и схематический рисунок. Один раз Косаргин поднял бровь, тоже усумнясь насчёт скромной квартиры.
– Что прикажете, Всеволод Валерьяныч?
Лицо Косаргина было худощавое, энергичное, и выраженье его всегда – готовность к немедленному делу.
– Как Толковянова зовут, вы узнали?
– Да. Алексей Иваныч.
– А сколько ему лет?
– Двадцать восемь.
По гладкому лбу Косаргина пролегла косоватая складка – раздумья? вспоминанья?
– Я, пожалуй, займусь этим сам. Звоните в банк, найдите Толковянова.
Лейтенант готовно повернулся, облегчённый, что ночное промедление не поставлено ему в вину, пошёл исполнять.
А Косаргин так и сидел. Его профессиональная память отлично держала: Алексея Толковянова привелось ему допрашивать в Восемьдесят Девятом, когда были волнения здешних университетских и столкновение с ними, через улицу напротив, курсантов пограничной школы: взялись курсанты, одними кулаками, поставить студентов на место. О Толковянове были данные, что он если не вожак студенческий, то из главных затейщиков. Тогда – допрос направлялся строго: вы не слишком очаровывайтесь «гласностью» и какие мерзости дозволяют теперь печатать в газетах-журналах; ещё перехватите чуть-чуть – и таких, как вы, будем сажать, да в такой лагерёк, что там и подохнете.
Тогда… Тогда – Косаргин ещё не мог бы вообразить, как оно всё покатится. И куда закатится. Да с какой быстротой и развалом! – дрогнули и сами Органы внутри себя, и самые умные и самые деятельные из чекистов стали – по отдельности – чего-то нового себе искать, и даже уходить. И – куда? Да в новые эти коммерческие компании, правления, чуть ли не и в те же банкиры, возбуждая естественную досаду у оставшихся и отставших… А вот – и студент подался туда, и без промаха успел, не то что ты? Этого кругообращения рассудок не мог охватить.
Но тем более нынешнее дело хотелось доследовать, даже для себя самого.
Толковянов оказался на месте, в банке, – и уже ждал к себе гостей из Управления.
И Косаргин поехал. На тихой улице оставил шофёра у нового семиэтажного, густо остеклённого здания банка с мудрёным названием, как это теперь выдумывают, пошёл внутрь. На втором этаже располагался и зал для клиентов, по западной манере неостеклённый барьер. А, ещё от вахтёра, определили пришедшего сразу, несмотря на его штатскую одежду, – и вот ещё некий молодой человек встречал, и сразу повёл к председателю правления банка. Тот – и сам вышел навстречу, на комнату раньше.
Да! От того допроса скоро шесть лет, но Косаргин узнал с первого взгляда: он. Такой же высокий, и что-то простоватое в лице, как приодетый деревенский пастушок. Но не в костюме, как естественно бы возглавителю банка, а в небрежно-просторном оливковом свитере, правда с выложенным воротничком рубашки, посветлей, того же тона. На пальце – узкое золотое кольцо, как теперь носят обручальные.
А пришедшего – не заметно, чтоб узнал.
Вошли в директорский кабинет. Тут была смесь мебели: и современная, толстющие низкие кожаные кресла около журнального столика, но и несколько старомодных, или поддельных под старину, стульев – жёстких, с высокими прямыми фигурными спинками, в обстав стола под зелёным сукном. А на стене – старинные же часы с бронзовым маятником и с мягким вкрадчивым боем, как раз пробили.
Косаргин отказался от кресла, с тонким портфеликом сел к зелёному сукну, банкир – за свой письменный стол, поперёк зелёному.
Хорошо собой владел: на лице не было страха, ошеломления от пережитого, а строгое внимание. Не упустил и в это утро побриться. Продолговатость лица ещё выявлялась продолговатыми же, высокими прилегающими ушами.
Косаргин назвал лишь – откуда он, не фамилию, – Толковянов не попросил удостоверения, и вот только в этом проявилось его рассеяние или растерянность.
Обстоятельства? Было так. Стальную дверь отпер – и вступил войти, а жена – сзади, следом. Вдруг подумал: ещё одну сумку у неё перенять, и – это секунда? полсекунды? – шагнул назад, когда уже должен быть в тамбуре, стальная дверь снова почти прикрылась – и внутри раздался взрыв. Кто послал сигнал – поспешил на эти полсекунды, счёл, что жертва как раз будет в тамбуре.
Улыбнулся кривовато, как бы извиняясь.
Простоватость его лицу придавал и самый простой начёс волос набок, по-мальчишески.
– И какие у вас предположения? Кто заказал убийство? Кто – взорвал?
Толковянов посмотрел глаза в глаза. Внимательно. Раздумчиво. Взвешивая.
И тут – узнал! – Косаргин враз понял по выражению.
Но сам – не пошёл навстречу, не напомнил.
И тот – ничего не назвал.
А – ещё задумался.
И, складывая раздвинутые вкруговую пять пальцев с пятью, как полушария, складывая – и как бы с усилием разрывая, складывая – и разрывая, ответил:
– Я не уверен, что ваше ведомство может эффективно в чём-то помочь.
Алёша не представлял, не предчувствовал, что на него будет покушение, и даже вот-вот.
А между тем, вступая на изломанный путь в этом потёмочном мире, – надо было и давно ждать, и всегда ждать.
Кто заказал – Алёша подозревал, хотя не доказать ничем: головка фирмы «Элломас». Отношения с ними были в неустойчивом состоянии, требовали большой оглядчивости, и сейчас Алёша, кажется, понимал, где и в чём промахнулся. Бывает, одна неосторожная фраза – а выводы из неё потекли против тебя. Кто взялся за финансовое дело – тому никогда нельзя дать волю чувству, сорваться.
А кто исполнял – того ещё трудней найти? И вовсе не догадаться. Хотя только через того и можно начать разматывать.
Если ещё браться за этот розыск? А может быть перетерпеть?
И откуда вселяется в нас такое неотчётливое, непонятное движение: почему не перенял вторую сумку у Тани раньше, а вот именно в эти полмгновения?
А могли – и вдвоём успеть войти в ловушку…
Распорядок же дня у Алёши так регулярен, что ничего не стоило убийце и подгадать момент.
Но почему так сложно? не из пистолета просто, в упор?
А наверно, был замысел повести следы по-ложному: не здесь, в областном городе, но в Б*, откуда Алёша когда-то и приехал учиться в здешний университет, – в Б* недавно было два убийства, и оба так: взрыв мины дистанционным сигналом. Неплохо рассчитали.
Но кого убедишь, что с Б* – ни счётов, ни расчётов никаких нет, только нежные воспоминания детства и юности.
Нежные – это не только колодец в сохранившемся провинциальном дворе; ещё не вытоптанная травка кой-где по двору; целый квартал одноэтажных домиков с резьбой на посеревших издряхлевших фронтонах, и мальчишки этого квартала. (С ними чего только не вытворяли: расклеивали по городу листовку «Бей попов!» и смекали, как бы им взорвать последнюю в Б* церковь. А повеяло, не будет ли с нами воевать Китай, – так если дойдет до Урала, то здесь, в Приволжьи, по лесам будем создавать группы партизан.) И школа же – до чего интересное приютище от первого порога и с первого дня. А спустя пять лет – физика! а ещё спустя – химия! – что за дивные предметы, до сих пор не развиденные, не угаданные тобой в окружающем мире, а они всё время с тобой тут и были. По химии – замечательная учительница, да какая красавица! Химию учили все с воодушевлением, а Алёша и обогнал: с 9‑го класса погнал вперёд и шире программы – и углублял своих же десятиклассников. Но – физика? Учитель был совсем никудышний, вялый, он просто не понимал о своём предмете, какое переливчатое вещество ему досталось в небéрежные руки. А уж опытов – совсем не умел ставить, всё готовил за него Алёша. И поперву, пройдя ещё до уроков за таинственную перегородку физического кабинета, он там бродил и грезил – среди этих вертимых кругов, искророждающих стержней из бока тёмной закрытой катушки, пришкаленных воронёных стрелок за стёклами приборов, стеклянных мензурок и трубок с насечками, всех видов пружин… Какое-то невидимое струение шло через это всё, и уже никакое кино со скачущими всадниками, пожалуй, не стояло рядом с этим завораживающим миром.
Но скоро, чуть постарше, огляделся Алёша, что всё это устарело, детскость: ворожебный поток физики нёсся куда быстрее, и не здесь. Старшие надоумили его читать журналы – «Наука и жизнь», «Знание – сила», «Природа», – стал он бегать в городскую библиотеку и зачитываться там. Что делалось в мире! что делалось или было уже на пороге: электронно-вычислительные машины, миллионы операций в секунду, – без человека управляющие большими заводскими процессами! электронно-вычислительные, самопроизводящие подобных себе! они же – в радионавигации! перевод тепла в электричество без механических устройств! солнечные батареи! бурное развитие квантовой электроники, лазеры! ви́дение и съёмка в полной темноте!! Как будто все отрасли физики, подобно гончим, одноминутно сорвались с привязей и кинулись по всем направлениям вперегон. Молекулярные часы. «Пограничные науки», физико-химический синтез веществ с заранее заданными свойствами. Вот-вот, на пороге – управляемый термоядерный синтез. Биотоки. Бионика: технические устройства, копирующие биологические системы. А в астрономии: теория Большого Взрыва! – Вселенная отнюдь не вечна: она создана – враз? И Чёрные Дыры, безследно и безвозвратно поглощающие материю – в ничто??
А Алёшка – терял время в малокровности школьного кабинета, учил какую-то старь по параграфам!
Весь мыслящий мир нёсся, летел, кружился, преобразовывался в таком бешеном движении – нельзя было больше, нельзя было дальше задерживаться в отсталом городе Б*, хоть и в нём теперь есть заводы. Ну не успеют же открыть, изобрести всё, всё до барьера, до рубежа, что-то же и на алёшину долю останется?
С отличным аттестатом ринулся сюда, в университет, на физфак, и все первые два курса жадно засматривался по ждущим его направлениям. Надо будет захватывать – больше чем одно направление, – и потому что жгуче интересно, и потому что чем множественней они – тем шире будет дальше выбор для удачи.
И эти два года – счастливейшие в его жизни! – Алёша учился с неистовостью и старался узнавать и услеживать, сколько только удавалось.
Да ещё и такое уверенное билось в груди: за что бы, за что бы я ни взялся, любое дело, каким займусь, – во всём будет успех! (Успевал быть и в активистах комсомола, не отдыхал никогда, а заглатывался делами. Даже восставил из полного хлама совсем уже выкинутую кем-то автомашину, «судорогу», аккумулятор каждый вечер тащил на третий этаж общежития заряжать, утром – вниз, ребята смеялись-издевались, но и сами же просили: подвези, опаздываем!)
И вдруг после двух курсов, в Восемьдесят Шестом, – да когда только-только стронулись общественные надежды! – как отрубили жизнь: взяли в армию на два года.
Или уж раньше бы? или по окончании? – но почему как раз посередине??
Перегороженный вдох.
И, может быть, – невосстановимый.
Армия – и всегда не сахар, а тут был – самый разгул «дедовщины». А от «дедов» жалости не жди. Но в те годы и Алёша был не худ, как сейчас, а тяжёл и плотен, удар немалый, себя отстоял.
В армии взяли его на радиосвязь. Ещё и там пытался читать книги по физике. Да где уж… Покинул…
Потом стал почитывать газеты, смотреть телевизор – надо же и готовиться к жизни, которая так круговертно изменилась за два его армейских года. Кипели какие-то неформалы, какая-то общественная самодеятельность, невиданное что-то!
Вернулся из армии на третий курс университета – своего? а уже и не своего. Тот? а уже и не тот. (Хотя понимал, что среди множества наплодившихся теперь дутых вузов, вузов, да хоть и НИИ, – их Университет ещё держал традиционную свою высоту.) Как будто армия вынула из души стержень живой – жажду к науке. Получал всё так же пятёрки, пятёрки, а утерял вот что: постоянное ощущение красоты в науке, когда даже прознобь берёт. Осталась уже не красота, а только возможность практического применения. Или более выгодного самоустройства, как и во всём нашем быте теперь?
А тут же бурлили в студенчестве эти разрешённые теперь самочинные общества, движения, и многих утягивало в них – потянуло и Алёшу: если можно искать для людей Справедливость – то как остаться в стороне? – это же с детства сидит в тебе святой мечтой: не жить же только для себя, но – для всех! А все структуры кругом – отяжелевшая рухлядь и так и просятся дробить их молодым размахом. И – собрания, союзы! одних разрешают, других нет, протесты, с лозунгами на улицу, теперь это можно, но тоже когда как. Много кипения на это ушло, и до драки с соседними курсантами, потом и допросы в ГБ. (Раньше – дали бы срок тут же, без звука.)
Да жизнь разнообразно потекла многими потоками. Вот появился закон, разрешено создавать кооперативы. Только открыть кооператив, получить разрешение – нельзя без мохнатой лапы. А тут – как раз те студенческие волнения, когда Толковянова таскали в ГБ, – и в университет приехал первый секретарь обкома. Разрешил задавать вопросы – Толковянов и потянулся: университет ремонтируется неэкономно, с перерасходом и пропажей средств; разрешите студенческий кооператив – мы отремонтируем лучше и дешевле. И – разрешили! Кидко бросились ребята. Первая хозяйственная смётка, и работа от души, и реальный доход, – но уже катила по стране обратная волна: душить кооперативы все вообще! И – задушили.
Да это и не кооператив – на голом месте, без начальных денег. «Кооператив» удавался тем, кто им прикрывал уже готовые, только скрытые деньги. А тут – хоть наладили хитрые замки к металлическим дверям, или дверные звонки с разными мелодиями, или даже антенны-тарелки, ловить через спутники, – так и берут их, но и не берут, не доверяют «советским» товарам, ищут, ждут заграничных.
Тем временем – унылые накатывали сведения от уцелевших прежних алёшиных однокурсников, теперь кончавших. Выпуск престижного физфака – это всегда был уверенный шаг хоть в уголочек нашей триумфальной науки, под величественные своды её мысли, в отдельную державу ведущих научно-исследовательских институтов. Но вот ребята искали, примерялись – и поникали: что-то случилось в Большой Науке, из неё как выпустили дух (прежде того – поджали все финансы). А ещё в большем обомлении – аспиранты. Вакантных мест? стало даже больше? – а потому что учёные оттуда уходили, уезжали. Что-то огромное рухнуло, произошёл обвал и загородил дороги, и отнимал дыхание. Пустели коридоры институтов, в лабораториях углы затягивались паутиной, на столах наслаивалась пыль.
В это нельзя было поверить?.. Это был обрыв всей жизни! Оскорбление! – за что??
Алёша, понеся надлом ещё от армейских лет, – теперь был лучше подготовлен перенести хоть и этот.
Да, видно, придётся жить как-то по-новому.
А уже началась эра «купи-продай» – неслыханные «фирмы»! фирмы! угадывали, как торгануть государственным же, но в рамках ещё неопытных законов, и сразу крупно нажиться. А от этой эры – как отстать? да и жить же на что, да и квартиру надо купить, чтоб жениться (на Тане, с 5‑го курса литфака).
Пытался Алёша прибиться к одной фирме, к другой, – на обочине их, на подхвате, – и какое же ощущение отвратной пустоты, некделья. И отдать свою жизнь в такую пустомолку, «гонять воздух», ни на что творческое уже не надеясь, – невозможно?..
Однако по нынешнему времени – невозможно иначе. И только изумляться можно было, как иные партийные чины – прежде недоступные, каменноподобные на страже «народной собственности», – вдруг перелицевались в оборотистых, поспешных, усмотрительных, где можно поживиться, и хватать, хапать взахлёб.
А ещё эти биржи, биржи отовсюду, как грибы? Первыми посещениями их Алёша был оглушён до очумления, неразборно гудела голова: брокеры, маклеры, азартные скупщики и продавцы ваучеров, бумаг, валюты, мигающие табло, быстросменчивые надписи, – и все куда-то кидаются (и ещё каждый бережёт свой портфелик-дипломат – не пойдут ли потом по пятам за удачником и пришьют?) – да как вообще можно так жить?
А привыкать – придётся. Компания их сколотилась из трёх мысловатых друзей – ещё одного физика и ещё математика. Все – почти ровесники, сходны мысли, надежды, понятия жизни. Идей было много, но идеи – не деньги. Вот, видели, зарождаются коммерческие банки, иногда и мелкие. Ну совсем непривычное, чужеродное дело – однако отчаянно перспективное и гибкое: при прежнем жёстком государственном кредитовании никакому развитию не состояться. А мелкому банку – стать на ноги трудно, его шатает от каждого ветерка в экономике или политике. Да раньше: надо иметь немалые деньги – уплатить взятку за лицензию на открытие банка. А открывшись – надо иметь начальный капитал. К счастью, нашёлся, по-теперешнему, «спонсор», помог стартовать, имея-то цели свои. Назвались сразу раскатно: «Транс-Континентальный банк». А ютились сперва в двух подвальных комнатах – и удивлённым первым клиентам объясняли: «Да это – временно, у нас в главном доме сейчас ремонт».
И вышло б дальше что? – но встретился Алёше старый его однокурсник Рашид, который потом университет бросил, но и в армии не был. Когда-то дружили. Теперь сошлись, выпили раз, выпили два – и Рашид сам вошёл в «Транс-Континентальный», а за ним стояли его земляки, – здесь, в этом городе, спаянные по землячеству, крепче обычного; землячество их освоило и в области сильные финансовые позиции, и уже впереплёт с областной администрацией, тоже искавшей новые пути. И в короткое время отгрохали семиэтажное здание, пять верхних этажей сдали в аренду, а банк поместился в двух нижних.
У Рашида были крепкие связи, у Алёши светлая голова, они дополняли друг друга, и зажили в ладу, все четверо, а доли – разные. Ступал Толковянов по неведомой почве, как первый космонавт по Луне. Но домозговался и тут: как чисто и быстро применить клиринг при распаде советских торговых связей – чтоб они продолжали служить. Ну, а главное, конечно, был шанс – с постоянно прыгавшей валютой, и при правильном предчувствии это давало потрясающие прибыли. И тут тоже – оказался Алёша успешно угадчив.
А успех как покатит – то только держись, волна взносит и взносит. (Что-то надо было знакомым плести: кто тебе так помог?..)
А на душе – гадко. Видно же, что вмазываешься в одно, другое, третье не вовсе чистое, а то и нечистое дело. А без этого не продвинуться. И ты же не один, член четвёрки, дело общее. Но может быть – до некоторого рубежа, а потом удастся, став на ощутимых деньгах, эту грязь с себя стряхнуть, и дальше бы – только честно? получить и проявить свободу действий? Если бы удалось – начал бы тогда делать и добрые дела: первое – школьному образованию помочь; может быть, где когда поддержать бастующих рабочих, чтоб своего добились, или, наоборот, поддержать полезный заводик, чтоб не развалился, вот сушку овощей сверхвысокими частотами? Живём не одним днём, где-то пожертвуем, а где-то выиграем.
Только вряд ли когда вырваться из этих втягивающих прокрутов. По делам уже и таких грязнохватов коснулся – озноб от них.
С Таней – обсуждали не раз. Она – и советчица, и бывает вперёд твоих мыслей, и поперёк им. Ей – ещё больше хотелось, чтобы – чисто. Но и она понимала, как это невозможно, как это невылазно. И не бросить же теперь всё чистоплюйски и – что? кануть в нищету?
А потом ещё – отношения с властями. Проигрывая вкруговую везде и во всём, государственный аппарат сохранял только цепкость душить немыслимыми, несуразными, нигде в мире не применёнными налогами, и сдавливал правилами, разбухающей документацией, – сам толкал всех в единственном направлении: обходить закон и обманывать. Так и пошли, на косых, не быть же редкими дураками. (Хотя и тут как бы хорошо: уже бы став сильно на ноги – платить государству честно: ведь в нём живём и через него живём. Но и от государства бы ждать не грабежа.)
И вот – взрыв.
Обсуждали с ребятами советно, но решать-то Алёше.
Если уж начали убивать – то и продолжат? И – кроме собственных пистолетов, ну автоматчика в банковском коридоре, – никто не прикроет, не защитит. И меньше всего – Борцы с Преступностью?.. Вон, в Элломасе – там, знал Толковянов, состоит клин не только собственно коммерсантов, но – и от этих Борцов, и от прямых криминалов, – это всё теперь переплелось неразрывно и сородственно.
А мы, в своём кругу, уж наверняка ли от них начисто убереглись?
Надёжно защититься? – только если Алёше немедленно и прямо укостылять за границу. И деньги на то – есть.
Такого – и ждали все. Весь город, кто знал, – такого и ждал, никто бы не удивился.
Но – бросить уже трёхлетнюю свою структуру? Тотчас разнесётся слух о бегстве главного банкира, вкладчики кинутся расхватывать вклады – и разлетелось всё предприятие в безпомощные дребезги. Сила банка – это сумма привлечённых средств.
Выдалось у них с Таней несколько тяжёлых вечеров.
Говорили. Молчали.
Так – и сынишку взрывом угробят?
Ещё молчали.
Вдруг Таня сказала, как будто некстати:
– Моя бабушка говорила: иглы служат, пока уши, а люди – пока души.
А кажется, тут всё и было. Да ещё же: за границей, если не ставить на разбой и на контрабанду – то и не развернуться. Русские учёные? – пожалуй, там нужны. Да не мы, нéдоросли.
Внешне жизнь течёт как текла. Никому не видимая борьба в душе, никому не внятное решение: остаюсь, как ни в чём не бывало!
Между тем домовый кооператив постановил: Толковянов должен за свой счёт починить обе входные двери и отремонтировать тамбур. Поскольку всё – из-за него…
Вот это – обидело: людям всего-то и дела? И – для кого же тогда стараться?
В эти самые недели – одного за другим убивали и в Москве, и – видных. Кого – пулями, кого взрывом.
Каждый день и ждёшь. Ещё б не жутко.
Стал носить бронежилет, ездить с автоматчиком.
А теперь же появилась и такая мода: «Награда тому, кто укажет…» Попробовать?
И дал объявление в газетах: кто укажет причастных к покушению – 10 тысяч долларов.
Не надеялся, просто так. Но, удивительно: уже через день подкинуто письмо: укажу! За 11 тысяч.
Удивила – малость этой разницы. Казалась насмешкой или провокацией.
Но предложена дневная встреча – в центре города, в людном сквере.
Да не тебе ж самому! – компаньон Витя, школьный друг, он и взялся пойти. (Ещё один – следить за встречей со стороны.)
И обошлось – без подвоха. Тот – готов назвать. Но нет, не 11 тысяч, а 25.
А вот это – было уже правдоподобно. Хотя Витя высмеял: нет, только 12 с половиной. Назвать заказчиков, назвать исполнителя. И фотографии принести. (Это – понадёжней.)
Тот – замялся. Замялся. Подумал – согласился.
Пока, за начало сведений – задаток. Заказчик служит в фирме Элломас. Исполнителя – не знаю. Заказчика – назову.
Расплатились.
Так Алёша и подозревал: Элломас! Но ведь кто-то постарше, из директоров.
А – дальше теперь? На совете дружков единодушно решили: дальше без Органов ничего не сделаем.
Не этично?
А по отношению к кому?
И Толковянов – позвонил Косаргину.
Да, в этом молодом человеке что-то было. Нынешняя встреча с ним отпечатлилась в Косаргине. Так вот пойди угадай: был какой-то диссидентствующий долговязый студент, которого заслать бы подальше, куда-нибудь в Якутию, да и с концами. А вот – какой семиэтажный стеклянный отгрохал и какими делами ворочает, к нему хозяйственники льнут за поддержкой, помоги прореху в бюджете закрыть до срока. В это новое смурное проклятое время он ввинтился, как будто в нём и рождён.
А тебе, потому ли, что уже за сорок лет, и привык к порядку, – ох, не извернёшься легко, не втиснешься.
Органы!! Чтó виделось вечней и неколебнее их! Что было в позднем СССР динамичней, зорче, находчивей? В андроповские годы сколько же хлынуло сюда отборных с высшим образованием! Сам Всеволод Валерьянович кончил лишь юридический, но рядом с ним там трудились и физики же, и математики, и психологи: попасть работать в КГБ было и зримым личным преимуществом, и интересом, и ощущением, что ты реально влияешь на ход страны. Это были смышлёнейшие мальчики при уже стареющих, костенеющих ветеранах. (Зато и сколько же опыта у тех.)
И вдруг всё это здание – стройней и красивей московских высотных – не рухнуло, нет, но как-то стало дырявиться, проскваживаться – недоумениями, сомнениями и даже утечкой дрогнувших, кто по собственному желанию, кто по сокращению штатов, кто в правление Союза Ветеранов. А кто – и в ту же коммерцию. Этих – понимали сперва как изменников Делу, а потом – завидовали им как ловкачам, удачникам, да нельзя ли успеть за ними?
Если б такое чудо – чтоб Органам вернулась прежняя Сила. Значение.
Но может ли такое случиться? Упущены моменты.
А – куда всё, всё покатится? Не хватает ума предвидеть.
Косаргин презирал этих беглецов, запретил себе им подражать. Но щели – открывались всё шире, в прежнем прочнейшем здании продувало насквозь всё невозвратней. И главное – упало самосознание, потерялась Высшая Задача. И – не в бегство, нет, но как выбор всё-таки преимущественной позиции в вихрях нового сумасшедшего времени – Косаргин перешёл на борьбу с организованной преступностью. (Совсем уж не отозваться на зов времени? что же, остаться деревянеть чуркой, где, может быть, никогда уже и никому не понадобишься?)
Так вот, этот мальчик. Удивило в нём, что не просил помощи. По старой обиде? Или собирался бежать, скрыться? – тоже вроде нет.
Впрочем, отклонил помощь не надолго. Через малые дни позвал.
А штат Косаргина – формально, вяло, но следствие открыл само собой. Теперь Косаргин опять поехал сам. Опять в тот кабинет. Только на зелёном сукне застал три-четыре разбросанных увеличенных копии стодолларовых бумажек, обтянутых плёнкой, – шутейные подставки?
И опять подтвердилось приятное впечатление недавней встречи с Толковяновым: какое-то простодушное деревенское лицеочертание его, а взгляд прямо в глаза, внимательный, с нахмуркой, но безо всяких метаний. И всё время тихий, ровный голос – не повысится, не разгорячится. И это – не поза, без усилия над собой, не состроено, – в обычае у него так? Каждый день могло повториться покушение – а страха не выдавал ничем.
Обсудили операцию захвата. Пара переодетых бойцов пошла в тот сквер, близ следующей встречи, – неужели тот так потерял осторожность, ничего не предусмотрел? По сигналу толковяновского друга – легко взяли.
Да, так замутился, растерялся, никакой подстраховки не имел. Ещё того неожиданней: сам-то он и оказался убийца, дальше – сам себя выдал!
Случай обнаружился – ничтожный, анекдотический. И опять-таки физик! – в цвет закруженного этого Времени. И – полный неудачник, уже два уголовных срока отсидел, оба раза выпустили прежде досидки. Жалкий-жалкий у него вид был, мзгляк. Всё ему – не удавалось, погряз в долгах, жена проклинала – и она же принесла от шурина, брата своего, предложение: убить, за 10 тысяч долларов, но – чтобы методом взрыва, обязательно. От безденежья, от жениной грызни задыхался – и взялся, 5 тысяч вперёд, в задаток. И вот – неудача. А разозлённые заказчики – как неосмотрительно связались с размазнёй, так и мелочно потребовали с него: за неудачу вернуть не взятые пять, а вдвое – десять. А тут – объявление, как и получить десять. Одурённой головой сляпал: одиннадцать, потом очнулся – двадцать пять. Вот – и фотографию шурина принёс.
Молодчики Косаргина кинулись за шурином – а уж нет его, начисто исчез. След остался, не сотрёшь: в Элломасе он и служил, но не на видном месте. А звено выпало – и ничего не докажешь. Остался в руках живой преступник, его показания, фотография ближайшего заказчика, предположения потерпевшего да соображения следствия. В таком виде и передали в суд.
Пока там текло – Толковянов дважды приезжал в Управление, опять встречались. У Косаргина было профессиональное ощущение, что всё-таки попали на жилу, и она могла бы даже и далеко повести.
Далеко?.. Уже Косаргин наталкивался: далеко – силы сверху не пустят.
Говорили по делу – стали говорить и помимо дела. Потерявши в жизни свою уверенную твёрдую поступь, Косаргин потянулся понять этого успешливого молодого – а через то, может быть, в чём-то перенаправиться и самому? Нет уверенности, что и сейчас не зеваешь, не упускаешь какого-то выбора.
– А не выпьем? – вдруг предложил молодому человеку, да уже и протягивая руку к шкафчику в стене.
Тот повёл головой. Согласился.
Завязался разговор между ними на прямовщину. Как в их городе переслоились скрытые силы с тяжёлой валютой, и выскочки-грязнохваты, и прямые бандиты, – и как, и вообще ли можно когда в будущем это всё искоренить? И возможно ли у нас честное предпринимательство, когда именно и только его давит государство.
Тогда – и о самом государстве. А тогда, перелилось по сообщённым сосудам, – почему и не о самих Органах? – какие они суть сегодня и какими же им быть дальше? Для себя одних только? Или всё-таки, может, и для России?
У Толковянова в разговоре была манера: на опёртых локтях составлять изо всех десяти пальцев какие-то живые фигуры, с лёгкими перемещениями их, – как бы строил конструкцию? – помогал себе найти решение? не без напряжённости у бровей и лба. Потом переводил смышлёные, но спокойные глаза на собеседника. Ему – интересен был этот разговор, видно.
За все эти дни не проявилось в нём выражения гонимости, торопливости, испуга.
И как-то незаметно перешло, что Всеволод Валерьянович этому недавнему щенку стал сообщать свои заботы вовсе не служебные, а умозрительные: что же делать? ведь разворуют Россию до конца? и какие миллиарды уходят! (Наверно, смешновато звучало это от чуть не главного в их области Борца с Организованной Преступностью.)
А Толковянов всё это знал, но оценивал спокойно: что утекающие из России деньги всё равно через несколько лет, в следующие десятилетия, сами же к нам и вернутся, и будут вертеть наши же российские колёса.
Как это? вырубленные леса – не вернутся. И выгребанное из недр – не вернётся.
– И наворованное – останется у воров? – искренно возмущался Косаргин. Он дрожно ненавидел теперь этих хапуг. (А всокрыте – и завидовал им?..)
– Хоть и у них, – размыслял Толковянов. – А вернётся, и войдёт в нашу валовую сумму. Да, конечно, сегодняшних криминалов уже не избыть. Но всё это перестирается в одном корыте, вместе и с иностранными инвестициями.
Нет! Такого благополучного выхода – Косаргин не мог принять никаким сердцем.
А Толковянов пытался успокаивать и дальше:
– И мозги многие-многие, хоть и не самые лучшие, тоже вернутся, не все они там пристроятся.
А видно было, как он заножён, что, вот, бегут, бегут искать на тёплой стороне. А у нас стипендия аспирантов стала теперь – 10 долларов.
А что на улицах? Эти раскормленные морды в мерседесах встретятся на перекрестке и запрут всё движение: им поговорить на-до! А милиционер трусливо уходит в сторону. Как – такое видеть кадровому?
Над рюмками, когда они всё больше друг друга понимали, Косаргин обмолвился даже так:
– Алексей Иваныч. Но вот вам, человеку с научно-техническим образованием… как вам кажется: что же в этой распроклятой обстановке делать нам? Ну, вот… нам… – пояснял он, не находя решимости выговорить то слово, те буквы, а имея в виду своих прежних застрявших сослуживцев. И даже – вообще?..
Толковянов не дал себе улыбнуться и с большой рассудительностью стал искать варианты разумного поведения.
Домой Косаргин ехал мимо известного памятника Борцам Революции – заострённо вскинутой скалы, из корпуса которой веером выдвигались три головы – рабочего, солдата и крестьянина. Этот памятник, от какого-то уличного острослова, во всём городе называли «Змей-Горыныч». (И правда, что-то похожее.)
И усмехнулся: как же умеют меняться времена!
Да, самые невообразимые пути: вот – Косаргин. В ихней конторе по Борьбе сидят с автоматами бритоголовые мордени, – но это не всё же их лицо? Совсем не глуп Косаргин и, кажется, у своего прежнего подопечного готов чему-то и поднаумиться? Да кто умней – не может не понимать, что одно само устройство – ничего не решает: займи ты хоть самую лучшую каюту – а если корабль тонет всё равно?
Да только: могут ли они меняться? Вспомнить его на допросах. Однако и не думать об общем деле России – никак нельзя, и нынешним гебистам тоже. Не всё – о себе. Хотя вот те фирмачи из Элломаса – у них ума только и хватает, что если б ещё и во власть пролезть, тогда их капиталы быстро учетверятся.
…Так прожили, от покушения, два месяца – и благополучно. И вкладчики верили в их «Транс-Континентальный», не забирали вкладов, даже увеличивали. Приезжали из районов сельхозобработчики – и те шли к ним сюда, а не в государственный, и не в финансовое управление.
А вот что: в конце апреля, оказывается, попадала Пасха. И Таня всхлопоталась, чего раньше не было, печь куличи и красить яйца.
– Нет, – взмолился Алёша, – только не крась, пожалуйста, не могу этих красных в руки брать. Куличи ладно – только не вздумай их святить, не буду есть.
– Да почему уж так? – кольчая прядка свесилась ей на лоб. – А бабушка всегда святила, и красила. Что ж это, не наша вера?
«Наша вера»? Они не говорили так раньше, но как будто и так, – а какая ж другая?
Ну да, может быть религия и способна вывести человека из мрачного состояния, однако при чём тут свячёные куличи?
Таня к нему – щека к щеке:
– А ты не понимаешь, что мы были обречены? Что нас спасла какая-то Высшая Сила? И вот эти месяцы бережёт – Она же?
Да, можно сказать – и так. Но есть – и теория вероятностей. И виртуальные варианты любого опыта.
Впрочем – был же и Большой Взрыв.
Есть – и Чёрные Дыры.
И – непостижимая предусмотрительность молекул ДНК.
А ещё через несколько дней был суд над убийцей. И даже Косаргин изумился: при полном сознании преступника в покушении да и всех вещественных доказательствах – осудили его не за попытку убийства, а за «незаконное хранение оружия», 4 года лагерей, и не строгого режима.
Значит, хорошо подмазано.
Вот тут Толковянов сильно встревожился.
Попросил Косаргина получить из дела, в копии, – фотографию шурина.
А она-то – вот как раз она – пропала из судебного дела безследно. Хотя числилась в описи…
На суде имена главных директоров-заказчиков не назывались, они могли и не знать, что Толковянов знает. Но вот столкнулся с одним из них на улице – в насмешку около университета, шёл посидеть на научной конференции, иногда потягивало туда, – еле заставил себя только взглядом скользнуть, а не выразить.
Бежать за границу? – конечно было спасением и жены, и сына, и себя. Но Алёша – не мог бежать.
Таню берёг, как хрупкое стекло. А бежать – не мог.
Сам себе удивлялся: каждый день ходишь в этом тяжком бронежилете, мелькает свой дежурный автоматчик, появилась и вторая квартира, для манёвра… Кого теперь не убивают? Кредиторов – по одному поводу, должников – по другому. И заморочена голова вкладами, инвестициями, отчислениями, подсчётами баланса, налогами, поддержкой предприятий, – но во всей этой напряжённой замороченности, даже на измоте сил, сохранялся внутри, в груди, – неуничтожимый стерженёк: хоть по случаю, по чьему-то пересказу, по прогляженной научной статье, а следить: что в физике? Достиг слух об успешных опытах группы наших ребят: радиоактивным облучением повышают октановое число бензина. Это колоссально! – уменьшится мировая потребность в нефти. Арабы узнали – тут же кинулись: закупить изобретение и задушить его. От наших – никакой поддержки, им – всё спустя рукава, лишь бы свои карманы набить. И ребята – продали.
А всё-таки – наши, русские придумали! Нет, не умерла ещё ни русская наука, ни русское умельство.
«Погоди! – говорил он мысленно кому-то. Кому-то? сильно расплывался образ, но был ненавистен и гадок. – А мы ещё поднимемся!»
Однако – нет, проглядывалось так, что не банкир Толковянов будет русскую науку поднимать. Прочертили «валютный коридор» – не стало тех бешеных игр и прибылей. Государство допустило банкам наплодиться – но вовсе не думало их поддерживать. Напротив, надвигался регламент – на достаточность капитала, на устойчивость, на ликвидность. И стали слабые банки агонизировать. Ну, пока ещё держал рынок ценных бумаг, сколько-то обезпеченный государством. Или у кого были важные именитые клиенты – да не подслужлив был Толковянов к этим оборотням из номенклатуры, слегка тебе кивающим изволительно. И самое больное: в этом, кажется, тупике – начался разлад, потом и раскол с друзьями-компаньонами. Куда отлетел их недавний энтузиазм, когда они росли на дрожжах своего успеха, в дружных беседах весело ставили пивные кружки на эти стодолларовые игровые подставки? Теперь один, и другой разногласили: нет, не так искать накоплений; нет, не так расходовать. Рашид первый, затем и другой потребовали отделить свою долю, а она и была главной. Деньги соединили их – деньги и разъединили.
Эти ссоры расстраивают – хуже упадка дел. Темно на душе.
Где касается денег – нет предела ни страстям, ни мести.
Вокруг Алёши поредел кружок близких. Вся финансовая ситуация стала – тьма, и не знаешь, где обнажится яма под ногами, или откуда высунется в тебя остриё. Шёл наугад: купил одно здание городского рынка; завёл два своих магазина; завёл десяток обменных валютных лавочек. А оборотных средств – не хватало, нужен ещё кредит. Где его взять? Пошёл просить у Емцова, тот покровительствовал Алёше: надо же смену растить.
Но покровительствовал всегда с весёлой развязностью:
– А, молокосос пришёл? Ну, как твои дела сосунковые?
Под семьдесят ему уже было – а всё тот же жизнелюбец, и женщин глазами не пропускал, и такой же подвижный фигурой и умом. И как он мог всё перенести? Ведь с каких высот свалился – а, по сути, кто теперь?
Никакой тупиковости Дмитрий Анисимович не видел: приняли путь – и пойдём, не робей! В стенку упрёмся? – ещё иначе повернём.
– Увязаешь? Тебя подкрепить? Ну, можно.
Но если тебе – ещё нет тридцати? И могут тебя прикончить? И отпадают друзья? И – сколько ещё нужно извилин мозговых на этот переменчивый лабиринт? И – вообще ли выбьешься?
И так – пожалел-пожалел-пожалел свою обнадёжную молодость, два первых курса физфака до армии. А может быть – надо было тогда устоять, не сворачивать? не соблазниться? Далеко-далеко виделся свет, и слабел.
А ведь фосфоресцировал.
1996
Желябугские выселки
1
Четвёртый день, как мы вдвинулись в прорыв на Неручи. Прошлые сутки моя центральная стояла в трубе под железнодорожным полотном, там крепкая кладка, хороша от бомбёжки. Ещё и крестьянских баб с детворой там набилось до нас, да два десятка откуда-то взявшихся цыганок и цыган угнездились, – странно было после нашего двухмесячного стоянья в гражданском безлюдьи. А этой ночью в 3 часа дали моей батарее отбой: продвинуться. Пока свернули все посты – уже и свет. И, ещё до самолётного времени, перекатили в Желябугские Выселки.
Это называется – перекатили. Звукобатарее полагается по штату шесть специально оборудованных автобусов, у нас же – драные трёхтонка и полуторка. Они везут только боевое и хозяйственное, да при том нескольких сопроводителей, остальная батарея нагоняет пешим ходом. Её ведёт обычно лейтенант Овсянников, командир линейного взвода, а командир измерительно-вычислительного Ботнев, как и я, – гоним, в кабинах, выбирать центральную станцию.
Это – захватный момент: весь боевой порядок определяется выбором центральной станции. Чем мгновеннее выбрать её – тем быстрей и безопасней развернёмся. Но и выбрать – безошибочно, она – сердце батареи; осколок в сердце – и всей батареи как нет. Вкопать и брезентом перекрыть – в поле ржаном и так бывало, но это – с горя и накоротке.
Я четвёртые сутки обожжён и взбаламучен, не улегается. Всё, всё – радостно. Наше общее большое движение, и рядом с Курской дугой, – великанские шаги.
И какое острое чувство к здешним местам и здешним названиям! Ещё и не бывав здесь – сколько раз мы уже тут были, сколько целей пристреливали из-за Неручи, как выедали из карты глазами, впечатывали в сетчатку – каждую тут рощицу, овражек, перехолмок, ручеёк Берёзовец, деревню Сетуху (стояли в ней позавчера), Благодатное (сейчас минуем слева, уже не увидим), и Желябугу, и вот Желябугские Выселки. И в каждой деревеньке заранее знали расположенье домов.
Так, правильно: Выселки на пологом склоне к ручейку Паниковец. И мы – уже тут, докачались по ухабистому съезду с проезжей дороги. Пока самолётов нет – стали открыто. И – ребятам в кузова:
– Дугин! Петрыкин! Кропачёв! Разбегайся, ищи, может где подвал.
И – прыгают горохом на землю, разбежались искать. В Выселках уже кой-кто есть: там, здесь грузовики, вкопанные передами, наклоном, в аппарели. Миномёты (уезжают вперёд). Дивизионные пушки – правее, на той стороне лощинки. А я пока – по карте, по карте: куда пускать посты. Перед нами на запад – Моховое, оно крупное; у немцев до него ещё на той неделе доходили и поезда, разгружались. Моховое – будут держать, тут, наверно, постоим.
Приблизительно намечаю посты. (Точно выберет только Овсянников.) Они по фронту должны занимать километров пять (по уставу даже и до семи, но мы устав давно поправили, никогда шесть постов не разворачиваем, лишнее, а по нужде-спешке так и четыре; сейчас – пять). А впереди постов нужно найти место нашему наблюдателю – посту-предупредителю. Он должен стоять так (частенько в окопах пехоты), чтобы каждый звук от противника слышал раньше любого из крайних постов и – по выбору своему, тут искусство, – решал, на какой звук нажать кнопку, запустить станцию, – а на какой не нажимать.
– Нашё-о-ол! – кричит на подбеге кто же? наш «сын полка», 14-летний Митька Петрыкин, подобранный от начисто разорённого войной Новосиля – когда-то уездного, сейчас холмового белокаменного немого стража у слияния Неручи с Зушей. – Таащ старш… лет… по-о-огреб! Хороший!
Мы с Ботневым быстро шагаем туда. Как строят здесь – не под домом, а отдельно, с кирпичным обвершьем, дальше дюжина ступенек вниз. Но погреб не прохладный, душный: надышали за ночь-другую-третью ночлежники – хозяева ли, соседи – прячутся тут и вещей же натащили. Зато арочный кирпичный свод – лучше некуда.
Так нам странно и так радостно видеть живых русских крестьян, около домов – огороды живые, а в поле – хлеба. По советскую сторону фронта все жители, из недоверия, высланы на глубину километров двадцать, третий год ни живой души, ни посева, все поля заросли дикими травами, как в половецкие века.
(Но ту – обезпложенную, обезлюженную – ещё щемливее любишь. Приходит отчётливо: вот за это-то Среднерусье не жалко и умереть. Особенно – после болот Северо-Западного.)
А по немецкую сторону едва мы шагнули и видим: живут!
В погребе смотрят на нас с опаской. Нет, не выгоняем, свои:
– Придётся, друзья, придётся потесниться вам поглубже. А спереди – мы тут займём.
Бабы – мужиков нет, старик древний, ребятня – мягко охают: куды подвигаться? Но лица все такие родные. И рады, что не гоним вовсе.
– Да щас вам ребята мешки-корзины туда перекинут повыше, один на один. Давай, ребята!
Как ни теснись, а места надо порядочно: и для самого прибора и для четырёх малых столиков складных. Но, кажется, поместимся.
Выбрать место центральной – это был первый подгоняющий вихрь. Теперь второй: скорей спускать станцию в подвал. На это с нами и силы приехали: Дугин и Блохин, два сменных оператора на центральном приборе, и ещё из вычислительного взвода.
Пошёл наверх.
С востока обещательная розовость уже поднялась до вершины неба. И так выявились, до тех пор не видные, редкие перистые облачка.
Но – обещательно же возникает и самолётный гул. Как надоели, проклятые, до чего пригнетают.
А – нет. Нет-нет! Наши летят!
С этой весны – наши всё чаще в небе. И мы распрямляемся. В обороне стояли – ночами, в далёкий бомбовый налёт, с груженым гудом всё чаще плыли большими группами наши дальние бомбардировщики. (И что мы так рады? ведь это – по нашим же русским городам.) Когда по Орлу – то и видели мы за шесть десятков вёрст: пересечённые прожекторные лучи, серебряные разрывы зениток, красные ракеты и молненные вспышки от бомбовых взрывов. А недавно узнали мы и торжествующие волны низкого возврата с ближней операции – «илов», штурмовиков, – и «ура» кричали им под крылья, это – прямая нам помощь тут, рядом.
Пролетают наши в высоте. Рассчитано точно, чтоб немцев заслепило: как раз выплывает край солнца.
Вычислительный взвод – слаженно работает, привыкли. Осторожно сняли из кузова центральный прибор, понесли вниз. И – столики за ним, и всё измерительно-чертёжное. А линейщики снаружи у подвала штабелюют проводные катушки с бирками постов: подключаться будем – тут, все линии потянем – отсюда. А старшина Корнев, распорядительный хозяин, выбрал для кухни местечко – пониже в кустах, не слишком прикрыто, но одаль от изб: по избяному порядку вполне пройдутся сверху пулемётами. И около ж кустов указал шоферам рыть аппарели для машин – и сам, здоровяк, им помогает: главно – хоть сколько-то принизить моторы в землю. Всё б это нам успеть поскорей.
Хожу, нервничаю, курю. Безсмысленно разворачиваю планшетку и снова, снова смотрю карту, хоть почти на память знаю.
Солнце взошло на полную. Облачка тают.
По склону от нас поднимается одна улица Выселок – уже и на ней нарыто свежих густо-чёрных воронок. А за малым овражком направо – плоская вторая улица. Там – батарейка семидесяти-шести развёрнута. Избы – как неживые: кто по погребам, кто в перелески подался. Ни одного дыма.
Ну же, ну же, Овсянников, да не столько же тут ходу.
А ведь идут! – открытой вереницей поднимаются из котловинки. И без бинокля чую, что – наши. Бодро идут, Овсянников ход задаёт. И вот сейчас, приблизятся, будет третий вихрь: каждый звукопост разберёт свою аппаратуру, катушки, свои вещмешки, свой сухой паёк – и за эти считанные минуты Овсянников должен по карте, уже на свою прикидку, уточнить места звукопостов; смеряя силы команд, назначить, кому первый, второй… пятый, и каждому начальнику звукопоста промахнуть отсюда по местности направление, как ему вести, чтоб не сбиться, азимут. А предупредителю – ещё особо. И вот эти десять-пятнадцать минут, пока вся батарея сгущена, – самые опасные. Рассредоточимся, не все шестьдесят в кучке, – будет легче.
Подходят наши, подходят – а дальше как по писаному, заученное. Посты хватко собираются на развёртывание.
С Овсянниковым садимся на поваленный ствол – поточней прикинуть места постов.
Кто-то перебранивается из-за катушек, чужую хорошую утащил, оставил с чиненым проводом.
Лица у всех – невыспатые, примученные. Пилотки на головах сбиты у кого как. Но движенья быстры, всех держит это сознание: мы – не просто в какой-то безымянной местной операции, мы – в Большом Наступлении! Это много сил добавляет.
Линейные привязали концы – и потянули двухпроводные линии.
А от немцев уже летит – благородно хлюпающий крупный снаряд – через головы наши – и ба-бах! Наверно по Сетухе, при большой дороге.
И – первая сегодня «рама», двухфюзеляжный разведчик «фокке-вульф», высоко, устойчиво завис, погуживает, высматривает, по кому стрелять. Наши зенитки не отзываются, да в «раму» почти безполезно бить, всегда уклонится.
И – ещё туда, на Сетуху, несколько тяжёлых пролетело.
Пока утро прохладное – нам бы и засекать. Не вовремя нас передвинули.
На каждом звукопосту – 4–5 человек, а нести – тяжело и много, от одного аккумулятора плечо отсохнет; катушек бывает нужно по восемь, а то и больше десятка; звукоприёмник – не тяжёлый, но трудноохватный куб, и ещё береги его пуще уха, повредишь большую мембрану, а то – осколком просечёт? Ещё трансформатор, телефон, другая мелочь. И автомат, у кого карабин, сапёрные лопатки – всё и тащи. (Противогазов уже давно не носим, все в кузова сбросили.)
Коренастый Бурлов повёл своих на первый, левый; компас у него на руке, как часы, он азимут всегда сверяет, точно идёт. У него в команде – и долговязый, всегда невозмутимый, всепереносный сибиряк Ермолаев, – на крайние посты Овсянников подбирает самых крепких. И Шмаков, как бы полуштрафник: в противотанковой не выдержал прямого боя, сбежал куда глаза, попал на наш порядок. А у нас тоже от дезертиров недостача, комиссар махнул, сказал: «Бери его!» И – верно служит.
Сметливый Шухов (в ефрейторы мы его повысили, вместо сержанта раненого) повёл своих на второй. – Угрюмый чёрный Волков – на пятый, правый, северный, тоже дальний. – А средним звукопостам линия будет покороче, катушек меньше, у них и людей по четверо.
С конопатым хмурым Емельяновым советуемся и по карте (когда бывает лишний экземпляр, то – и для него): предупредитель – работа тонкая, почти офицерская, а по штату ему так и ходить старшим сержантом и всегда попереди всех. На каждый нужный звук выстрела ему надо не упустить и полсекунды, и на слух определить калибр. (Потом, кто поближе к разрыву, ещё подправит.)
Оживился передний край – миномётная толчея с обеих сторон. Из наших Выселок семидесяти-шестёрки уже и палят – а мы ещё когда будем готовы. А спрос – не терпит.
У Овсянникова – ноги зудят обогнать крайний пост: важен не только последний выбор ямки для звукоприёмника (а солдаты выбирают, где им легче устроиться, да ближе к воде) – но и ближайшее окружение чтоб не экранировало. (Был случай: шёл дождь, так в сарай занесли, а мы удивляемся, что за чёрт: все записи нерезкие?) И – пошагал догонять Бурлова.
Сзади – ещё одна группка пешая к нам. По полосатым шестам, по треножникам видно – топографы. Вот вы – давайте скорей! эт-то нам надо!
Группку привёл командир взвода лейтенант Куклин, милейший мальчишок, и лицо мальчишеское, и рост. Мой Ботнев, не намного взрослей, выговаривает ему:
– Вы что долго спите? Без вас наши координаты на глазок, кому годятся?
И правда: нас проверяют придирчиво, и все промахи в целях, в пристрелке – на нашу голову. А кто пошагает проверять топографов? – такого не бывало. Ошибутся они в привязке – и будем все цели ставить не там.
Присел я с Куклиным показать ему, где будут посты. Прошу:
– Юрочка, нет, не торопись. Но сделайте сперва три ближних поста, хоть для первой засечки. И сразу гони нам цифры.
Говорит: видели на ходу наш 3‑й огневой дивизион, сюда близко перекатывает, ещё не стали.
Куклин повёл свою цепочку к первому ясному ориентиру, от него пойдёт на шуховский. (Ориентир – он с карты снимается, это тоже неточно. А тригонометрической сети в перекатных боях всегда недохватит.)
Не скажешь, у кого на войне работа хуже. Топографы вроде не воюют – а ходить им с теодолитами, с нивелирами, ленты тянуть по полям – прямо, как ворона летает: не спрашивай, где разминировано, где нет, и в любой момент под обстрел попадёшь.
А – уже нашли нас бригадные связисты. И тянут кабель на центральную, катушечники их поднимаются к нам от запруженного ручья.
Да кто – нашли? Не от огневых дивизионов, с которыми работать, те сами в переходе. Тянут – от штаба бригады, конечно, – и вот-вот оттуда начнут требовать целей.
Да только б и засекать нам с утра, пока воздух не разогрелся. Уже и долбачат немцы: вот один орудийный выстрел, там – налёт, снарядов с десяток, – так мы ещё не развёрнуты. А дневная работа будет сегодня плохая: станет зной, уже видно, и создастся тепловая инверсия: верхние воздушные слои разредятся от нагрева, и звуковые сигналы будут не загибаться вниз, к земле, а уходить вверх. Да это и на простой слух: снаряды, вот, падают, а сами выстрелы всё слабее слышны. Для звукометристов золотое время – сырость, туман, и всегда – ночь напролёт. Тогда записи исключительно чёткие, и цели – звонкие ли пушечные, глухие гаубичные – тут же и пойманы.
Но начальство никак этого закона не усвоит. Были б с умом – передвигали б нас днями, а не ночами.
Мы, инструментальный разведдивизион – отдельная часть, но всегда оперативно подчиняют нас тяжёлой артиллерии, сейчас вот – пушечной бригаде. Сегодня нам будет парко: сразу два их дивизиона обслуживать: 2‑й – правей, к Желябуге, 3‑й – левей, к Шишкову.
У Ботнева в погребе уже втеснились: включили, проверили. Большой камертон позуживает в постоянном дрожании лапок. Чуть подрагивают стрелки на приборах. Все шесть капиллярных стеклянных пёрышек, охваченные колечками электромагнитов, готовы подать чернильную запись на ленту. У прибора сейчас – худощавый, поворотливый Дугин. (Он – руковитый: каждую свободную минуту что-нибудь мастерит – кому наборный мундштук, кому портсигар, а мне придумал: из звукометрической ленты шить аккуратные блокноты, для военного дневника.)
Сбок прибора на прискамейке уткнулся телефонист, разбитной Енько. На каждом ухе висит у него по трубке, схвачены шнурком через макушку. В одну трубку – предупредитель, в другую – все звукопосты сразу, все друг друга слышат, и когда сильно загалдят – центральный их осаживает, но и сам же до всех вестей падок: где там что происходит, у кого ведро осколком перевернуло.
А сразу за прибором – столик дешифровщика. За ним вплотную, еле сесть, столик снятия отсчётов. А к другой стене – столик вычислителя и планшет на наклонных козлах. В подвальном сумраке – три 12-вольтовых лампочки, одна свисла над ватманом, расчерченным поквадратно. Готовы.
Федя Ботнев в военном деле не лих, не дерзок – да ему, по измерительно-вычислительному взводу, и не надо. А – придирчиво аккуратен, зорок к деталям, как раз к месту. (Да даже к каждой соседней части, к технике их любознателен, при случае ходит приглядывается. Кончил он индустриальный техникум.) Любит и сам стать за планшеты, прогнать засекающие директрисы.
Но весь ход каждого поиска зависит от дешифровщика. У нас – Липский, инженер-технолог, продвинули мы и его в сержанты. Когда в работе не спешка – его единственного в батарее зову по имени-отчеству. (С высшим образованием у меня в батарее и ещё есть – Пугач, юрист. Очень убедительный юрист, всегда лазейку найдёт, как ему полегче. Не во всякий наряд его и пошлёшь: то «помогает политруку», то «боевой листок выпускает».)
В глубине погреба бормочут глухо:
– Ну, стуковня! Ну, громовня…
– Да как бы мне пойтить глянуть: брадено у меня чего аль не брадено? Один таз малированный остался, чего стóит.
– Всего имения, Арефьевна, не заберёшь. Утютюкают напрямь – смотри и избы не нáйдешь.
– Ну, дай Бог обóйдится.
А снаружи – разгорается, уже в светло-жёлтом тоне, солнечный, знойный день. И те крохотные облачка растянуло, чистое-чистое небо. Ну, будет сегодня сверху.
У Исакова в кустах кухня уже курится.
Шофера усильно кончают вкопку своих машин, помогают им по свободному бойцу. Ляхов – высокий, флегматичный, никогда и виду не подаст, что устал, не устал. А маленький толстенький Пашанин, нижегородец, разделся до пояса, и всё равно мохнатая грудь и спина потные, лоб отирает запястьем. Имел он неосторожность рассказать в батарее о горе своём: как бросила его любимая жена, актриса оперетты, – и стал он общий предмет сочувствия, однако и посмеиваются.
Ещё ж у меня Кочегаров околачивается, политрук батареи, а в напряжённый момент, когда все в разгоне, – ну не к чему его пристроить, и работать не заставишь. Сам-то был на гражданке шофёр, да только – райкома партии, и теперь взять лопату на помощь Пашанину – не догадается.
Первый звонок – с третьего поста, ближнего: дотянули, подключились, вкапываемся. На них и аппарат сразу проверили: хлопайте там (перед мембраной). Так. И выстрелы пишет. Порядок.
Но когда над одним постом пролетит самолёт – то уж, с захватом, испортит запись трёх постов.
От погреба расходящиеся веером линии – вкапывают линейные, каждый свою. На полсотню метров, чтобы в сгущеньи ногами не путаться – и чтоб хоть тут-то оберечь от осколков.
А уж – летят!! Летит шестёрка «хеншелей». Сперва высоко, потом снижают круг левее нас. Хлоп, хлоп по ним зенитки. Мимо. Отбомбились, ушли.
Наши тут несколько квадратных километров вдоль передовой густо уставлены: миномётами лёгкими и тяжёлыми, пушками сорокапятками и семидесяти-шести, гаубицами ста-семи, всякими машинами полуврытыми, замаскированными – бей хоть и по площади, не ошибёшься.
Меж тем в погребе ещё три места надо найти – для телефониста бригадного и от двух дивизионов. От поваленной липы отмахнули наши пилой – без двуручной пилы не ездим – три чурбачка, откатили их туда, вниз.
Ляхов – ввёл свой приопустевший ЗИС в аппарель.
И пашанинский ГАЗ спустили. Ну, теперь полегче.
Со второго поста Шухов докладывает, чуть пришепячивая: дошли!
И их проверили. Порядок.
Доходят-то они все приблизительно, и ещё любят сдвинуться, себе поудобней. Но пока Овсянников не проверит – копать им, может, и зря.
Из погреба крик:
– Таащ комбат, вызывают!
Ломай быстро ноги по кирпичным ступенькам.
Так и есть, бригада: сорок второй, ждём целей!
Отбиваюсь: да дайте ж развернуться, привязаться, вы – люди?
А – доспать бы, клонит. Смотрю на ребят в погребе – и они бы.
– Ну, пока нет работы – клади головы на столы!
И приглашать не надо – тут же кладут. Это последний льготный получасик.
Солнце поднимается – жары набирает.
Подключился и четвёртый пост, и предупредитель. На трёх постах уже можно грубо прикидывать – хоть из какого квадрата бьёт.
От начала работы у центральной дежурят двое линейных: бежать по линии, какую перебьют – сращивать. А от каждого поста – бегут навстречу, так что на один перебив два человека, никогда не знаешь, ближе куда. Починка линий – всего и опасней: ты открыт и в рост, как ни гнись, а при налёте – шлёпайся к земле. Когда огневого налёта в зримости нет – дежурный линейный и сам бежит, дело знает. А при горючей крайности – кто-то должен решить и послать. Если Овсянников здесь – то он, а нет – так я. Но по смыслу работы – и без офицеров, сержант от центрального прибора сам гонит, он отвечает: не хватит звукопостов, не засечём – может быть больше урона. А каждый такой гон может стоить линейному жизни, уже потеряли мы так Климанского. А как раз когда порывы, когда снаряды летят – тогда-то и засечка нужна.
Сейчас – Андреяшин вот дежурит. Сел на землю, спиной об кирпичную арку. Проворный смуглёныш, невысокий, уши маленькие. Только-только взятый, с 25-го года. Я прохожу – вскочил.
– Сиди, не навстаёшься!
Но, уже вставши, сверкает тёмными просящими глазами:
– Таащ старштенант! А вы меня в Орле часа на три отпустите?
Он – из Орла. Рос безпризорником, а какой старательный в деле. Хоть безсемейный, а есть же и ему в Орле кого повидать, поискать.
– Ещё, Ваня, до Орла добраться. Погоди.
– А – когда дойдём? Я – нагоню, нагоню вас, не сомневайтесь!
– Отпущу, ладно. Да может – и надольше. Неужели ж мы в Орле не постоим?
– И бурловский! – из погреба кричат навстречу мне.
Крайний левый! Теперь мы – в комплекте.
Дугин руки потирает:
– О то розвага! Ве-се-ло!
Отдаётся ему из глубины:
– Хорошая у вас весельба.
Ну, теперь не пропадём, засекаем. Привязку бы. (До привязки посты на планшете поставлены пока грубо, как наметили их по карте.)
На передовой – толчёный гуд перестрельной свалки. Но – всплесками. И если артиллерийский выстрел попадает в промежуток – то мы его берём.
У Исакова – каша готова. Побежала посменно центральная с котелками.
А в воздухе – зачастили, закрылили и наши, и немцы – но наших больше! Схватки не видно, те и другие клюют по передовым. Там – большая стычка, и по земле взрывы отдаются, вот и засекай.
Емельянов с предупредителя:
– Пока сидим с пехотой, своего не отрыли, не дают. И покрывать нечем. Пташинского – как не поцарапало? – пуля погон сорвала.
Пташинский, его сменщик на предупредителе, – ясный юноша, светлоокий, очень отчётливый в бою.
Всё-таки две цели мы пока нащупали, уже и пятью постами, – 415‑ю и 416‑ю. Наша задача – координаты; калибр – это уж по ушному навыку, да и по дальности можно догадаться.
Из бригады донимают:
– Вот сейчас по Архангельскому – (это там со штабом рядом) – какая стреляла?
– От Золотарёва-третьего, 415‑я.
– Давайте координаты!
– Без привязки – пока неточно…
Отвечают матом.
Дошагал Овсянников с постов, километров десять круганул. Пошли с ним хватнуть горячего. Сели на лежачую липу.
Простодушного Овсянникова, да с его владимирским говорком, – люблю братски. Курсы при училище проходили вместе, но сдружились, когда в одну батарею попали. На Северо-Западном, в последний час перед ледоходом на Ловати, он сильно выручил батарею, переправил без облома. Или тот хутор Гримовский нас скрестил – весь выжженный, одни печные трубы стоят, и немцами с колокольни насквозь просматривается. Центральная вот так же в погребке, а мы с ним сидим на земле, ноги в щель, между нами – котелок общий. Так пока этот суп с тушёнкой дохлебали – трижды в щель спрыгивали от обстрела, а котелок наверху оставался. Вылезем – и опять ложками таскаем.
Тут-то, за нашим склоном, Желябугские Выселки немцу прямо не видны, только с воздуха. Кручу махорочную цыгарку, а Виктор и вообще не курит. Рассказывает, как и где посты поправил. Кого, по пути идучи, видел, где какие части стоят. В Моховом у немцев виден сильный пожар, что-то наши подожгли.
– Натя-агивают. Будем дальше толкать, не задержимся.
Не докурил я, как слева, от главной сюда дороги, – колыхаются к нам, переваливаются на ухабинках – много их! Да это – «катюши»!
Восемь машин полнозаряженных, дивизион, они иначе не ездят. Сюда, сюда. Не наугад – высмотрел им кто-то площадку заранее. И становятся все восьмеро в ряд, и жерла – поднимаются на немцев. От нас – двадцать метров, в такой близи и мы их в стрельбе не видели. Но знаем: точно сзади стоять нельзя, вбок подались. И своим – рукой отмахиваю, предупреждаю, все вылезли лупиться.
Залп! Начинается с крайней – но быстро переходит по строю, по строю, и ещё первая не кончила – стреляет и восьмая! Да «стреляют» – не то слово. Непрерывный, змееподобный! – нет, горынычеподобный оглушающий шип. Назад от каждой – огненные косые столбы, уходят в землю, выжигая нацело, что растёт, и воздух, и почву, – а вперёд и вверх полетели десятками ещё тут, вблизи, зримые мины – а дальше их не различишь, пока огненными опахалами не разольются по немецким окопам. Ах, силища! Ах, чудища! (В погребе от «катюшиного» шипа бабы замерли насмерть.)
А крайняя машина едва отстрелялась – поворачивает на отъезд. И вторая. И третья… И все восемь уехали так же стремительно, как появились, и только ещё видим, как переколыхиваются по ухабам дороги их освобождённые наводящие рельсы.
– Ну, щас сюда по нам жарнёт! – кто-то из наших.
Да и не жарнёт. Знают же немцы, что «катюши» мигом уезжают.
Идём с Овсянниковым досиживать на липе.
Чуть передых – мысли лезут пошире.
– Да! – мечтаю. – Вот рванём ещё, рванём – и какая ж пружина отдаст в Европе, сжатая, а? После такой войны не может не быть революции, а?.. это прямо из Ленина. И война так называемая отечественная – да превратится в войну революционную?
Овсянников смотрит мирно. Помалкивает. С тех пор как он нашёл у немцев бензинный порошок, – уже не верит, как пишут в газетах, что немцы вот-вот без горючего остановятся. А безпокой у него – о предупредителе:
– Им там – головы не высунуть, не то что кипятку. – Окает: – Плохо им там. Посмотримте по карте: на сколько я могу перенести их вбок? назад? Я их быстро перетяну, даже без отключки.
Померили циркулем. Метров на триста – четыреста можно.
Пошёл – шагастый, неутомимый.
А Митька Петрыкин, вижу, ладит, как бы ему в пруду искупаться. Зовёт свободных вычислителей, те щели роют.
А вот и притянули к нам: справа – от 2‑го дивизиона, слева – от 3‑го. Вкапывают свою подводку и они. Наша центральная станция, по проводам, – как важный штаб, во все стороны лучами. В погреб втиснулись теперь и они все трое, на чурбачки, а телефоны уж на коленях.
И сразу – меня к телефону. Из 3‑го, комбат 8‑й Толочков. Нравится он мне здорово. Ростом невысок, отчаянный, и работе отдаётся сноровисто, всё забывает. Хорошо с ним стрелять.
– Цели, цели давай! Скучаю.
– Ну подожди, скоро будут. Ждём привязки. Вот 418‑ю щупаем.
Без звуковой разведки – артиллерийскую цель и найдёшь редко: только в притёмке, по вспышке, прямым наблюдением – и если позиция орудия открытая.
И из 2‑го дивизиона – сразу же мне трубку. По голосу слышу – сам комдив, майор Боев.
– Саша, у нас серьёзная работа сегодня, не подведи.
– Сейчас продиктуем несколько, но пока без привязки.
– Всё равно давай. А вот что: вечерком приходи ко мне в домик.
В штаб дивизиона, значит.
– А что?
– Там увидишь.
Я было наружу – а сюда по ступенькам Юра Куклин почти бегом. И суёт мне лист – со всеми нашими координатами.
– Если постоите – ещё уточним.
– Спасибо, ладно. – И сразу передаю планшетисту Накапкину.
Он тут же набирает измерителем с точностью до метра по металлической косо разлинованной угломерной линейке – и на планшете с крупной голубой километровой сеткой откладывает икс и игрек для каждого звукопоста, исправляет прежние временные.
Теперь – заново соединяет точки постов прямыми, заново перпендикуляры к ним, а от них заново – ведёт лучи на цели. Начиная с 415‑й все цели теперь пошли на новую откладку.
По ленте центрального прибора для каждого звукоприёмника течёт своя чернильная прямая. Там, на посту, колыханье мембраны отдаётся здесь, на ленте, вздрогами записи. По разнице соответственных вздрогов у соседних приёмников и рассчитывается направленье луча на планшете. И в идеальных условиях, как ночью и в холодную сырость, эти три-четыре луча все сходятся в одну точку: то и есть – место вражеского орудия, диктуй его на наши огневые!
Но когда много звуковых помех, да ещё эта, от зноя, отгибающая звук инверсия, – то всё звуковое колебание расплывчато, искажено или слабо выражено, момент вздрога нечёткий, откуда считать? А не так угадаешь отсчёты – не так пойдут и лучи на планшете. И желанной точки – нету, растянулась в длинный треугольник. Ищи-свищи.
Кажется, так и сейчас. Ботнев нависает над Накапкиным, хмурится.
С Ботневым – тоже у нас немало за плечами. Шли, как обычно, на двух машинах. К назначенному месту не проехать иначе как по этому просёлку на Белоусово. Но стоп: воткнут у дороги шестик с надписью: «Возможны мины». Да блекло и написано как-то. А на боковые дороги переезжать – далеко отводят, даже прочь. Э‑э-эх, была не была, русский авось. На полуторке Пашанина – рву вперёд! Ногами давишь в пол – как бы удержать, чтоб мина не взметнулась, глазами сверлишь дорогу вперёд: вот не под этой кочкой? вот не в этой разрыхлёнке? Прокатили метров триста – слышим сзади взрыв. Остановились, выскочили, противотанковая пешему не опасна, смотрим назад: у ляховской машины сорвало правое колесо, крыло, но остальное цело, и Ляхов, и в кузове бойцы, – только Ботнев, с его стороны взорвалось, – тоже цел, но куда-то бежит, бежит по холмику вверх. И там очнулся в одичалом непонимании, полуконтуженный. (Но первая машина и дальше прошла, достигла места; остальное, что надо, донесли на руках.)
Не-ет, треугольник порядочный. Где-то, где-то там 415‑я, а не даётся. А она явно – ста-пятидесяти, и не одиночное орудие. И – дальше надо ловить, но и из записей, взятых, суметь же высосать. Утыкаюсь в ленты 415‑й.
По размытым началам – отсчётов не взять, но искать какой другой – пичок, изгиб? – и взять отсчёты по ним?
На местных тут, в подвале, мы даже не смотрим, иногда прикрикнем, чтоб не галдели. А вот мальчишка, лет десяти, опять к ступенькам пробирается.
– Ты куда?
– Смотреть. – Лицо решительное.
– А огневой налёт знаешь такой? Не успеешь оглянуться – осколком тебя продырявит. В каком ты классе?
– Ни в каком, – втянул воздух носом.
– А почему?
Война – нечего и объяснять, пустой вопрос. Но мальчик хмуро объясняет:
– Когда немцы пришли – я все свои учебники в землю закопал. – Отчаянное лицо. – И не хочу при них учиться.
И видно: как ненавидит их.
– И все два года так?
Шморгнул:
– Теперь выкопаю.
Чуть отвернулись от него – а он по полу, на четвереньках, под столиком вычислителя пролез – и выскочил в свою деревню.
Меня – к телефону. Помощник начальника штаба бригады нетерпеливо:
– Какая цель от Золотарёва бьёт, дайте цель!
Да я же её и ищу, дайте подумать. Мне бы легче – ткнуть иглой в планшет, они десяток снарядов сбросят и успокоятся. А при новом обстреле сказать – это, мол, новая цель. Но не буду ж я так.
Который раз объясняю ему про помехи, про самолёты, про инверсию. Потерпите, работаем.
А меня – к другому телефону. Из 3‑го дивизиона, начальник штаба. Тот же вопрос и с тем же нетерпением.
Этого, капитана Лавриненку, я хорошо узнал. Хитрый хохол. Один раз зовёт пристреливать: кладём первый снаряд, корректируйте. – Сообщаю им разрыв: теперь надо левей двести метров и дальше полтораста. – Кладём второй, засекайте. – Нету разрыва. – Как может быть нету? мы выстрелили. – Ах, вон что: записали мы разрыв, но на полкилометра правей. Куда ж это? Вы там пьяные, что ли? – Ворчит: да, тут ошиблись немножко, ну засекайте дальше. – И с одного же раза не поверил. Другой раз скрытно дал связь и к 1‑й звукобатарее, моя 2‑я, и обеим сепаратно: засекайте пристрелку! И – опять же сошлось у двух батарей. Теперь-то верит. Но вот теребит: когда ж координаты?
Да, кладёт тяжёлая, ста-пятидесяти, разрывы левее нас, между штабом бригады и штабом 3‑го – она и есть, наверно, 415‑я, но такой бой гудит, и по переднему краю и от двух артиллерий, – не возьмёшь: при каждой засечке цель на планшете ускользает куда-то, треугольник расплывается по-новому.
То и дело предупредитель запускает ленту. Одной неудачной сброшенной ленты ворох покрыл Дугину все ноги по колена. Уже большую катушку сменили.
А надо – кому-то поспать в черёд. Федя, иди в избу, поспи. А я пока буду здесь, догрызать 415‑ю.
Енько с двумя трубками на голове, а балагур. Доглядел: там, глубже, какая ж девушка прелестная сидит.
– А тебя, красуля, как звать?
Кудряшки светлые с одного боку на лоб. И живоглазка:
– Искитея.
– Это почему ж такое?
Старуха с ней рядом:
– Какое батюшка дал. А мы её – Искоркой.
– И сколько ж тебе?
– Двадцать, – с задором.
– И не замужем??
– Война‑а, – старуха отклоняет за молодую. – Какое замужество.
Енько – чуть из трубки не пропустил, одну с уха отцепляет мне:
– Лейтенант Овсянников.
Сообщает Виктор с предупредителя. Ползком пришлось. Перетащил их назад немного. Тут два камня изрядных, за ними траншейку роем. Но всё равно горячее место.
– А вообще?
– А вообще: справа на Подмаслово наши танки два раза ходили. Вклинились, но пока стоят. По ним сильно лупят.
– Ну ладно, хватит с тебя. Возвращайся да отдохни. Ещё ночь какая будет.
– Нет, ещё с ними побуду.
Всё-таки других целей мал-помалу набирается. Прямо чтобы в точку – ни одной. Но по каким треугольник небольшой – колем в его центр тяжести и диктуем координаты обоим дивизионам. А 415‑ю – каждый раз по-новому разносит, не даётся.
А эта Искорка – тоже непоседа, пробирается на выход. Платье в поясе узко перехвачено, а выше, ниже – в полноте.
– Ты – куда?
– А посмотреть, чего там у нас разобрáто. Всё хозяйство порушат.
– Да кто ж это?
– Ну да! И ваши кур лáвят, – глазами стреляет.
– А где ваша изба?
Лёгкой рукой взмахнула, как в танце:
– А по этому порядку крайняя, к лозинам.
– Так это далеко, – удерживаю за локоть.
– А чего ж делать?
– Ну, берегись. Если подлетает – сразу наземь грохайся. Ещё приду – проверю, цела ты там?
Порх, порх, вертляночка, по ступенькам – убежала.
Изводим ленту. Слитный гул в небе, наших и ваших. Ах, рычат, извизгивают, на воздушных изворотах, кому достанется. И ещё друг по другу из пулемётов.
Сверху, от входа, истошно:
– Где ваш комбат?
И наш дежурный линейный – сюда, в лестницу:
– Товарищ старший лейтенант! Вас спрашивают.
Поднимаюсь.
Стоит по-штабному чистенький сержант, автомат с плеча дулом вниз, а проворный, и впопыхах:
– Таащ стартенан! Вас – комбриг вызывает! Срочно!
– Где? Куда?
– Срочно! Бежимте, доведу!
И что ж? Бежим. Вприпуск. Пистолет шлёпает по бедру, придерживаю.
Через все ухабы отводка просёлочной к Выселкам. Во-он «виллис»-козёл стоит на открытой дороге. Подъехать не мог? Или он это мне впроучку? Бежим.
Подбегаем. Сидит жгуче-чёрный полковник Айруметов.
Докладываюсь, рука к виску.
Испепеляя меня чёрным взором:
– Командир батареи! За такую работу отправлю в штрафной батальон!!
Так и обжёг. За что?.. А и – отправит, у нас это быстро.
Руки по швам, бормочу про атмосферную инверсию. (Да никогда им не принять! – и зачем им что понимать?) А на постороннюю стрельбу вздорно и ссылаться: боевой работе – и никогда не миновать всех шумов.
Слегка отпустил от грозности и усмехнулся:
– А бриться – надо, старший лейтенант, даже и в бою.
Ещё б чего сказал? Но откуда ни возьмись – вывернулись поверх леска два одномоторных «юнкерса». И как им не увидеть одинокий «виллис» на дороге, а значит – начальство? Да! Закрутил, пошёл на пикировку!
А тот связной – уже в «козле» сзади. А зоркий шофёр, не дожидаясь комбригова решения, – раз-во-рот! раз-во-рот!
Так и не договорил полковник.
А первый «юнкерс» – уже в пике. И, всегда у него: передние колёса – как когти, на тебя выпущенные, бомбу – как из клюва каплю выранивает. (А потом, выходя из пике, – как спину изогнёт, аж дрожит от восторга.)
Отпущен? – бегу и я к себе. И – хлоп в углубинку.
Позади – взр-р-ыв! Оглушение!
Высунулся, изогнулся: «виллис» у‑дул! у‑драпал, во взмёте дорожной пыли!
Но – второй? Второй «юнкерс» – продолжил начатый круг – и прямо же на меня? Да ведь смекает: у «виллиса» стоял – тоже не рядовой? Или с досады, в отместку?
Думать некогда, бежать поздно – и смотреть кверху сил нет. Хлопнулся опять в углубину, лицом в землю, – чем бы голову прикрыть? хоть кистями рук. Неужели ж – вот здесь?.. вот так случайно и глупо?
Гр-р-ро-охот! И – гарь! Гарью – сильно! И – землёй присыпало.
Цел?? Они таки часто промахиваются. Шум в голове страшный, дурная голова.
Бежать! бежать, спотыкаясь по чёртовым этим ухабинам. Да ещё – на подъём.
Как бы и Выселки не разбомбили, а у нас тут все линии веером. Да и погреб ли выдержит?
Нет, отвязались «юнкерсы»: там, наверху, своя разыгрывается жизнь, гоняются друг за другом, небу становится не до земли.
А от слитного такого гула – и вовсе ничего не запишешь. Иди в штрафбат.
Соседняя батарея семидесяти-шести – снимается из Выселок, перетягивают её вперёд, пожарче.
Ох и гудит же в голове. Голова – как распухла, налилась. Да и сама же собой: ото всего напряженья этих дней, оттого что в сутках не 24 часа, а 240.
Но сверх всех безсонниц и растёт в тебе какое-то сверхсильное настроение, шагающее через самого себя, – и даже легкоподвижное, крылатое состояние.
– Михаил Лонгиныч, отдайте мне все ленты по 415‑й, я сам буду искать, а вы – остальные.
Послал Митьку принести мне мой складной столик, ещё есть, сверхштатный. Поставил его близ погреба, в тенёчек под ракитой.
– Табуретку найди из какой избы.
Притащил мигом.
Сижу, разбираюсь в лентах. Думаю.
Уставный приём: снимать отсчёты по началу первого вздрога каждого звукопоста. Но когда начала размыты, не исправишь, – научились мы по-разному. Можно сравнивать пики колебаний – первый максимум, второй максимум. Или, напротив, минимум. Или вообще искать по всем пяти колебаниям однохарактерные места, изгибы малые – и снимать отсчёты по этим местам.
Делаю так, делаю этак, – а Митька таскает ленты в погреб, на обработку. Когда треугольник в пересечениях уменьшается – Накапкин зовёт меня смотреть планшет.
Между тем 2‑й дивизион требует от нас корректировки. Близко справа стали ухать пушки 4‑й и 5‑й батареи.
Мы, сколько разбираем, выделяем их разрывы из других шумов и диктуем координаты. Они доворачивают – мы опять проверяем.
С 5‑й батареей Мягкова всё ж умудрились пристрелять и покрыть 421‑ю. Звонит с наблюдательного, доволен, говорит: замолчала.
И – какая ж благодарность к прилежному вычислительному взводу.
Белые мягкие руки Липского – на ленте, разложенной вдоль стола. Левой придерживает её, правой, с отточенным карандашом, как пикой, метит, метит, куда правильно уколоть, где вертикальной тончайшей палочкой отметить начало вздрога. (А бывает – и фальшивое. Бывает – и полминуты думать некогда, а от этого зависит лучший-худший ход дела.)
Сосредоточенный, с чуть пригорбленными плечами, Ушатов прокатывает визир по линейке Чуднова, снимает отсчёт до тысячных долей.
Вычислитель Фенюшкин по таблицам вносит поправки на ветер, на температуру, на влажность (сами ж и измеряем близ станции) – и поправленные цифры передаёт планшетисту.
Планшетист (сменил Накапкина чуткий Кончиц), почти не дыша, эти цифры нащупывает измерителем по рифлёным скосам угломера. И – откладывает угол отсчёта от перпендикуляра каждой базы постов. Сейчас погонит прямые – и увидим, как сойдётся.
И от совестливой точности каждого из них – зависит судьба немецкой пушки или наших кого-то под обстрелом.
(А Накапкин, сменясь, пристроился писать, от приборных чернил, фронтовую самозаклейную «секретку» со страшной боевой сценой, как красноармейцы разят врага, – то ли домой письмо, то ли девочке своей.)
А наши звукопосты пока все целы. Около Волкова была бомбёжка, но пережили, вот уже и вкопаны. Два-три порыва было на линиях, всё срастили.
У сухой погоды своё достоинство: провода наши, в матерчатой одёжке, не мокнут. Резина у нас слабая, в сырость – то заземление, то замыкание. А прозванивать линии под стрельбой – ещё хуже морока. Немцы этой беды не знают: у них краснопластмассовый литой футляр изоляции. Трофейный провод – у нас на вес золота.
Между тем зовёт меня Кончиц: моя 415‑я даёт неплохое пересечение, близко к точке. Решаюсь. Звоню Толочкову:
– Вася! Вот тебе 415‑я. Не пристреливай её, лучше этого не поправим, дай по ней налётик сразу, пугани!
Эт-то по-русски! Толочков шлёт огневой налёт, двадцать снарядов сразу, по пять из каждой пушки.
Ну, как теперь? Будем следить.
Тут – сильно, бурно затолкло на нашем склоне. Смотрю: где верхние избы нашей улицы и раскидистые вётлы группкой, куда Искитея побежала, – побочь их, по тому же хребтику – рядком два десятка чёрных фонтанных взмётов, кучно кладут! Ста-пяти, наверно. Кто-то там у нас сидит? – нащупали их или сверху высмотрели.
Хотя в небе – наши чаще. Вот от этого спину прямит.
В погреб сошёл, говорят: трясенье было изрядное. А то уж средь баб разговор: чего зря сидим? идти добро спасать. Теперь уткнулись.
Но – опять, опять нутряное трясение земли – это, знать, ещё ближе, чем тот хребтик.
Дугин нервно, отчаянно орёт наверх:
– Второй перебило!.. И третий!! И четвёртый!!
Значит, тут – близко, где линии расходятся. А с постов – все три погонят линейных зря, не знают же.
Меня ж хватает сзади, тянет бригадный телефонист. Почти в ужасе:
– Вас с самого высокого хозяйства требуют!
Ого! Выше бригады – это штаб артиллерии армии. Перенимаю трубку:
– Сорок второй у телефона.
Слышно их неважно, сильно издали, а голос грозный:
– Наши танки остановлены в квадрате 74–41!
Левой рукой судорожно распахиваю планшетку на колене, ищу глазами: ну да, у Подмаслова.
– …От Козинки бьёт фугасными, стопятидесятимиллиметровыми… Почему не даёте?
Что я могу сказать? Выше прясла и козёл не скачет. Стараемся! (Опять объяснять про инверсию? уж в верхнем-то штабе учёном должны понимать.)
Отвечаю, плету как могу.
Близко к нам опять – разрыв! разрыв!
И сверху крик:
– Андрея-а-а-шина!!
А в трубку (левое ухо затыкаю, чтоб лучше слышать):
– Так вот, сорок второй. Мы продвинемся и пошлём комиссию проверить немецкие огневые. И если окажутся не там – будете отвечать уголовно. У меня всё.
У кого – «у меня»? Не назвался. Ну, не сам же командующий артиллерией? Однако в горле пересохло.
За это время – тут большая суматоха, кричат, вниз-вверх бегут.
Отдал трубку, поправляю распахнутую обвислую планшетку, не могу понять: так – что тут?
Енько и Дугин в один голос:
– Андреяшина ранило!
Бегу по ступенькам. Вижу: по склону уже побежали наверх Комяга и Лундышев, с плащ-палаткой. И за ними, как прихрамывая, не шибко охотно, санинструктор Чернейкин, с сумкой.
А там, метров сто пятьдесят, – да, лежит. Не движется.
А сейчас туда – повторный налёт? и этих трёх прихватит.
Кричу:
– Пашанина ищите! Готовить машину!
Счёт на секунды: ну, не ударьте! не ударьте! Нет, пока не бьют, не повторяют.
Дугин, не по уставу, выскочил от прибора, косоватое лицо, руки развёл:
– Таащ стартенант! Тильки два крайних поста осталось, ничого нэ можем!
Добежали. Склонились там, над Андреяшиным.
Ну не ударь! Ну только не сейчас!
В руках Чернейкина забелело. Бинтует. Лундышев ему помогает, а Комяга расстилает палатку по земле.
Ме-едленно текут секунды.
Пашанин прибежал заспанный, щетина чёрная небритая.
– Выводи машину. На выезд.
А там – втроём перекладывают на палатку.
Двое понесли сюда.
А Чернейкин, сзади, ещё что-то несёт. Сильно в стороне держит, чтоб не измазаться.
Да – не ногу ли несёт отдельно?..
От колена нога, в ботинке, обмотка оборванная расхлестнулась.
Несут, тяжко ступая.
К ним в подмогу бегут Галкин, Кропачёв.
И Митька за ними: тянет паренька глянуть близко на кровь.
И – тутошний малец за ним же, неуёма.
Про Галкина мне кто-то:
– Да он чуть замешкался. И он бы там был, его линия – тоже.
А Андреяшин, значит, сам вырвался, птицей.
Вот – и отлучился в Орле… Посетил…
Без ноги молодому жить. И отца-матери нет…
Подносят, слышно, как стонет:
– Ребята, поправьте мне ногу правую…
Ту самую.
Обинтовка с ватой еле держит кровь на культе. Чернейкин ещё прикладывает бинта.
Лундышев: – Он и ещё ранен. Вон – пятна на боку, на груди.
Осколками.
Вот и отлучился…
Лицо смуглёныша ещё куда темней, чем всегда.
– Ребята, – просит, – ногу поправьте…
Оторванную…
Неровное, мягкое, больное – трудно и поднять ровно. И в кузов трудно.
Капает кровь – на землю, на откинутый задний борт.
– Да и… – киваю на ногу, – её возьмите! Кто знает, врачам понадобится.
Взяли.
– Теперь, Пашанин: и скоро, и мягко!
По тем ухабам как раз.
Да Пашанин деликатный, он повезёт – как себя самого раненного.
И двое в кузове с Андреяшиным.
Закрыли борт – покатила машина.
Хоть и выживет? – ушёл от нас.
А к Орлу его – прямо и идём, прямёхонько в лоб.
Хмуро расходились.
Да, вспомнил: уголовно отвечать.
А Дугина – служба томит:
– Таащ старштенант! Так трэба сращивать? Як будэмо?
И линейные – сидят на старте, готовые. Со страхом. Тот же и Галкин, по случайности уцелевший.
А там – по нашим танкам бьют.
Кого беречь? Там – беречь? Здесь – беречь?
– По-до-ждите, – цежу. – Маленько ещё подождём.
И – как чувствовал! Выстрелы почти не слышны, и от шума, и от зноя, – а всей толчеёй! – полтора десятка стопятимиллиметровых – опять же сюда! где Андреяшина пристигло, и ещё поближе – чёрные взмёты на склоне!
Одну избу – в дым. С другой – крышу срезало.
– Не говорите им там, в подвале.
Вот так бы и накрыли, когда тело брали.
Митька – снизу, от Дугина, ко мне с посланием:
– И предупредитель перебило! – так кричит, будто рад.
Так и тем более, извременим.
Как дедушка мой говорил: «Та хай им грэць!» Одно к одному.
За всю армию – не мне отвечать. Да и командующий не ответит. А на мне – вот эти шестьдесят голов. Как Овсянников говорит: «Надо нам людей берегти, ой берегти».
Ещё сождём.
Курю безсмысленно, только ещё дурней на душе.
И – какое-то отупение переполняющее, мозг как будто сошёл с рельсов, самого простого не сообразишь.
Прошло минут двадцать, больше налёта нет. Теперь послал Галкина и Кропачёва – чинить. Раз перебиты все сразу – так тут и порывы, при станции, на виду. На боках у них по телефону – прозванивать, проверять.
А к телефонам нижним – меня опять звали.
Комбатам соседним объяснил: посты перебиты.
Толочков считает: 415‑ю подавили, не проявляется.
А налёта – так больше и нет. Починили. Где и кровь Андреяшина.
Вернулись. Ну, молодцы ребята.
Только звуки немецких орудий – всё те ж нечёткие. Шпарит солнце – сил нет. Облака кучевые появились, но – не стянутся они.
Ботнев сменил меня на центральной.
Вернулся Овсянников. Умучился до поту, гимнастёрка в тёмных мокрых пятнах. Про Андреяшина уже по проводу знал. На возврате и он попал под налёт. Перележал на ровнинке, ничем не загородишься. Предупредителю, хоть и за камнями теперь, – тяжело, головы не высунешь.
И у самого – пилотку потную снял – голова взвихрена, клоки неулёжные, дыбятся. А порядливо так рассказывает обо всём, с володимирским своим оканьем.
– Иди, Витя, поспи.
Пошёл.
А текут часы – и ото всего стука, грюка, от ералаша, дёрганий твоё сверхсильное напряжение начинает погружаться в тупость. Какой-то нагар души, распухшая голова – и от безсонницы, и от взрыва не прошло, голову клонит, глаза воспалены. Как будто отдельные части мозга и души – разорвались, сдвинулись и никак не станут на место.
А к ночи надо голову особенно свежую. Теперь пошёл спать и я, в избу. На кровати – грязное лоскутное одеяло, и подушка не чище. И мухи.
Положил голову – и нет меня. Вмертвь.
Долго спал? Солнце перешло сильно на другой бок. Спадает.
Ходом – к станции.
А тут – Пашанин с котелком, после обеда.
Вернулись?
Он – соболезным, траурным голосом, как сам виноват:
– В медсанбате сразу и умер. Изрешеченный весь.
Вот – так.
Так.
Спускаюсь к прибору, о работе узнать.
Все наши – угнетены. Уже другая смена за всеми столами.
И бабы не галдят: покойник в доме.
– На 415‑ю нет похожей?
Кончиц от планшета: – Нету такой.
За это время, оказывается, наши дважды крупно бомбили немецкий передний край, и особенно – Моховое. А я ничего не слышал.
И порывы были там-сям, бегали чинить.
А Овсянников где?
На правые посты ушёл.
Неутомный.
Что-то и дёргать нас перестали.
Но отупенье – не проходит. Вот так бы не трогали ещё чуть, в себе уравновеситься. И до темноты.
И обедать не стал, совсем есть не хочется.
А от Боева звонили, напоминали: в двадцать ноль-ноль ждёт сорок второго.
Вот ещё… Да тут километр с малым, можно и сходить.
Да уже скоро и седьмой час…
Как-то и стрельба вся вялая стала. Все сморились.
Не продвигаемся.
И самолётов ни наших, ни их.
Сел под дерево, может запишу что в дневник? От вчерашних цыган – не добавил ни строчки.
А мысли не движутся, завязли. И – сил нет карандашом водить.
За эти четыре дня? Не приспособлен человек столько вместить. В какой день что было? Перемешалось.
Вернулся Овсянников, рядышком на траву опустился.
Помолчали.
Об Андреяшине.
Молчим.
– А когда Романюк себе палец подстрелил, это в какой день было?
– Дурак, думал его так легко спишут. Теперь трибунал.
– Колесниченко хитрей, ещё до наступления загодя сбежал.
– И пока с концами.
Пошли вниз к ручью, обмылись до пояса.
Ну, к вечеру. Солнце заваливает за наши верхние избы, за гребень, скоро и за немцев. Наших всех наблюдателей сейчас слепит.
Полвосьмого. Часа через полтора уже начнётся работа настоящая.
А что – полвосьмого? Что-то я должен был в восемь? Ах, Боев звал. Пойти, не пойти? Не начальник он мне, но сосед хороший.
– Ну, Ботнев, дежурь пока. Я – на часок.
А голова ещё дурноватая.
Дорога простая: идти по их проводу. (Только на пересеченьях проводов не сбиться.)
Перенырнул лощинку, на ту возвышенную ровную улицу. В ней – домов с десяток, и уцелели, все снаряды обминули её. И по вечеру, понадеясь, там и здесь мелькают жители, справляют хозяйственные дела, у кого ж и животина есть.
А дальше – хлебное польце, картофельное. И склон опять – и в кустах стоит боевская дивизионная штабная машина, ЗИС, с самодельно обшитым, крытым кузовом. Видно, прикатил сюда травной целиной, без дороги.
У машины – комбат Мягков и комиссар дивизиона, стоят курят.
– А комдив здесь?
– Здесь.
– Что это он меня?
– А поднимайся, увидишь.
Да и им пора. По приставной лесенке влезаем внутрь, через невысокую фанерную дверцу.
С делового серединного стола, привинченного, сняты планшет, карты, бумаги, всё это где-то по углам. А по столу простелены два полотенца вышитых – под вид скатерти, и стоит белая бутыль неформенная, раскрыты консервы – американские колбасные и наши рыбные, хлеб нарезан, печенье на тарелке. И – стаканы, кружки разномастные.
У Боева на груди слева – два «Красных Знамени», редко такое встретишь, справа – «Отечественная», «Красная Звезда», а медалек разных он не носит. Голова у него какая-то некруглая, как бы чуть стёсанная по бокам, отчего ещё добавляется твёрдости к подбородку и лбу. И – охватистое сильное пожатие, радостно такую и пожать.
– Пришёл, Саша? Хорошо. Тебя ждали.
– А что за праздник? Орла ещё не взяли.
– Да понимаешь, день рождения, тридцать без одного. А этот один – ещё как пройдёт, нельзя откладывать.
Комбат 4‑й Прощенков и ростом пониже, и не похож на Боева, а и похож: такая ж неотгибная крепость и в подбородочной кости и в плечах. Мужлатый. И – простота.
Да – кто у нас тут душой не прост? До войны протирался я не средь таких. Спасибо войне, узнал – и принят ими.
А Мягков – совсем иной, ласковый. При Боеве – как сынок.
Тут все фамилии – как влеплены, бывает же.
А комбат 6‑й – за всех остался на наблюдательном.
И душа моя грузнеет устойчиво: тут. Хорошо, что пришёл.
К боковым бортам привинчены две скамьи. На них и спят, а сейчас как раз вшестером садимся – ещё начальник штаба, капитан.
Пилоток не снимая.
Пыльные мы все, кто и от пота не высох.
Боев меня по имени, а я его – «таащ майор», хотя моложе его только на четыре года. Но через эту армейщину не могу переступить, да и не хочу.
– Таащ майор! Если тосты не расписаны – можно мне?
Не когда шёл сюда, а вот – при пожатьях, при этом неожиданном застольи на перекладных, и правда, кто куда дойдёт, где будет через год, вот и Андреяшин мечтал, – рассвободилось что-то во мне от целого дня одурения. Никакие мы с Боевым не близкие – а друзья ведь! все мы тут – в содружестве.
– Павел Афанасьевич! Два года войны – счастлив я встречать таких, как вы! Да таких – и не каждый день встретишь.
Я с восхищением смотрю на его постоянную выпрямку и в его лицо: откуда такая самозабывчивая железность, когда сама жизнь будто недорога? Когда всякую минуту вся хватка его – боецкая.
– И как вам такая фамилия выпала? – лучше не припечатаешь. Вы – как будто вжились в войну. Вы – как будто счастье в ней открыли. И ещё сегодня, вот, вижу, как вы по той колокольне били…
Рядом с тем хутором, где мы с Овсянниковым из-за колокольни голов поднять не могли, так и вижу: под тем же прострелом зажгли, догадальщики, ловкачи, рядок дымовых шашек. Заколыхалась сплошная серая завеса, но ненадолго же! – выехал Боев сам с одной пушкой на прямую наводку. Оборотистый расчёт, надо ж успеть: из походного положения – в боевое, зарядили, – успеть развидеть верхушку колокольни в первом же рассее, и бах! перезарядили, и второй раз – бах! Сшиб! И – скорей, скорей опять в походное, трактор цеплять – и уехали. И немцы грянули налётом по тому месту – а опоздали. И – прикончился их наблюдательный.
– …Для вас война – само бытие, будто вы вне боёв и не существуете. Так – дожить вам насквозь черезо всю…
Боев с удивлением слушает, как сам бы о себе того не знал.
Встали. Бряк-бряк стеклянно-железным, чем попало.
И – все занялись, подзажглись.
А водка после такого дня – о‑о-ой, берегись!
Какие яркие, мохнатые дни! И – куда всё несётся?
Большое наступление! Да за всю войну у нас таких – на одной руке пересчитать. Крылатое чувство. Доверху мы переполнены, уже через край. А нам – ещё подливают.
И опять встаём-чокаемся, конечно же – за Победу!
Мягков: – Когда война кончится – то сердце закатывается, представить.
Ну и потекла беседа вразнобой, вперебив.
Боев: – Затронули нас, пусть пожалеют. Дадим жару.
Начальник штаба: – Нажарим им пятки.
Комиссар: – Эренбург пишет: немцы с ужасом думают, что ожидает их зимой. Пусть подумают, что ожидает их в августе.
Все с азартом, а – без ненависти, то – газетное.
– Попробуешь с немцами по-немецки, а они переходят на русский. Здорово изучили за два года.
– А вот: поймут ли нас, когда мы вернёмся? Или нас уже никто не поймёт?
– Но и представить, сколько ещё России у них. Чудовищно.
– Почему Второго Фронта не открывают, сволочи?
– Потому что – шкуры, за наш счёт отсиживаются.
– Ну всё ж таки в Италии наступают.
Комиссар: – Капиталистическая Америка не хочет быстрого конца войны, прекратятся их барыши.
Я ему вперекос:
– Но что-то и мы слишком отклоняемся. От интернационализма.
Он: – Почему? Роспуск 3‑го Интернационала – это совершенно правильно.
– Ну, разве как маскировка, тактический ход. – И отклоняю: – Не-нет! Мне больше нельзя, у меня сейчас самая работа начнётся.
Прощенков рассказывает сегодняшний случай из стрельбы. Считает, что 423‑ю сокрушил: от того места – ни выстрела больше.
– А может, она откочевала?
Да, вот ещё про кочующие орудия. Как у немцев – не знаем, а нашему иному прикажут кочевать с орудием – так он, дурья голова, по лени с одного места бьёт и бьёт, пока его не расколпачут.
Да мало ли глупостей? А как стреляют наобум, чтобы только расходом снарядов отчитаться?
Бывает…
Прощенков: – К вечеру хорошо вкопались. Хоть бы эту ночь не передвигали.
Через оконца кузова уже мало света, зажгли аккумуляторную лампочку под потолком.
– А славная у нас штабная халабуда? – озирается Боев. – Как бы её, старуху, в Германию дотянуть?
Стали перебирать, кто и сам не дотянул. Одного. Второго. Третьего. А четвёртого засудили в штрафбат, там и убили.
Бывал я в компаниях поразвитей – а чище сердцем не бывало. Хорошо мне с ними.
– Да-а‑а, и ещё друг друга как вспомним…
Явственно раздался гнусный хрип шестиствольного миномёта.
Завыли мины – и в частобой шести разрывов, в толкотню.
– Ну, спасибо, братцы, и простите. Мне пора.
И правда, снаружи уже сумерки. До темноты дойти, не сбиться.
Линии наши все целы.
Емельянов с предупредителя: – Вот теперь вкопаемся, как надо. Правда, немец ракеты часто бросает.
Они и нам, в Выселки, отсвечивают то красным, то бело-золотистым, долгие.
Шестиствольный записали, но не так чётко, миномёты всегда трудно записывать. А вот пушка была, наверно семидесяти-пяти, одиночный выстрел, цель 428, – сразу хорошо взяли, в точечку.
Прибор – в порядке, все стрелки в норме. И ленты новый рулон заправлен. И чернила подлиты в желобочки под капилляры. И смена – выспалась, бодрая. Три маловольтных лампочки освещают всю нашу переднюю часть погреба. Белеют бумаги, посверкивает блестящий металл.
Двое дежурных линейных с телефонами на ремнях, с запасными мотками кабеля, фонариками, кусачками, изоляционной лентой – тоже тут. Вот кому ночью горькая доля: по одному концу придёшь к разрыву, а найдёшь ли второй, оторванный?
А в глуби погреба – темнота, дети спят, бабы тоже располагаются, лиц не видно. Но слышу по голосу – там батарейный мой политрук. Где примостился – не вижу, а разъясняет певуче, смачно:
– …Да, товарищи, вот и церковь разрешили. Против Бога советская власть ничего не имеет. Теперь дайте только родину освободить.
Недоверчивый голос: – Неуж и до Берлина дотараните?
– А как же? И там всё побьём. И – что немец у нас разрушил, всё восстановим. И засверкает наша страна – лучше прежнего. После войны хоро-ошая жизнь начнётся, товарищи колхозники, какой мы ещё и не видели.
Пошла лента. Это – предупредитель услышал.
А вот и посты: пишут.
И до нас донеслось: закатистый выстрел. Ну, сейчас поработаем!
2
И вот через 52 года, в мае 1995, пригласили меня в Орёл на празднование 50-летия Победы. Так посчастливилось нам с Витей Овсянниковым, теперь подполковником в отставке, снова пройти и проехать по путям тогдашнего наступления: от Неручи, от Новосиля, от нашей высоты 259,0 – и до Орла.
А в Новосиле, совершенно теперь неузнаваемом от того пустынно каменного на обстреливаемой горе, посетили мы и бывшего «сына полка» Дмитрия Фёдоровича Петрыкина – вышел к нам в фетровой шляпе, и фотографировались мы со всей его семьёй, детьми и внуками.
Подземный наш городок на высоте 259,0 – весь теперь запахан, без следов, и не подступишься. А вблизи – лесистый овражек, где была наша кухня, хозяйство, и где убило невезучего Дворецкого (даже не за кашей пришёл, а к санинструктору, с болячкой) – маленьким-маленьким осколочком, но в самое сердце. Тот двухлопастный овражек и лесок очень сохранились – по форме, да и по виду: ежегодная пахота не дала древесной поросли вырваться наружу из овражка.
Но что стало с урочищем Крутой Верх! Был он – версты на три длины, метров на пятьдесят глубины – слегка извилистый, как уверенная в себе река, – и так проходящий по местности, что как раз и давал нам просторный, удобный и от наземных наблюдателей вовсе скрытый подъезд к самой передовой. Так что пешее, конное, тележное движение шло тут и весь день не прячась, а ночами – и грузовики со снарядами, снабжением, а к утру уходили в тыл или врывались носами в откосы оврага, прикрывались зелёными ветками, сетками. Зев Урочища, ещё завернув, выходил прямо к Неручи – тут и был подготовлен, накопился прорыв нашей 63‑й армии, к 12 июля 1943.
Но как же Крутой Верх изменился за полвека! Где та крутизна? где та глубина? да и та цепкая твёрдость одерневших склонов и дна? Обмелел, оплыл, кажется и полысел, и жёстких контуров нет – не прежнее грозное ущелье. А – он! он, родной! Но уж, конечно, ни следа прежних аппарелей, землянок.
А за Неручью, на подъёме, шла тогда немецкая укреплённая полоса – да каково укреплённая! какие непробивные доты, сколько натыкано отдельно врытых бронеколпаков. И это, незабываемое: разминированный проход, тотчас после прорыва. Десятки и десятки убитых, наших и тех, наши больше ничком, как лежали, ползли, немцы больше вопрокидь, как защищались или поднялись убегать, – в позах, искажённых ужасом, обезображенные лица, полуоторванные головы; немецкий пулемётчик в траншее, убитый прямо за пулемётом, так и держится. И местами – там, здесь – ещё груды, груды обожжённого металла: танки, самоходки – с красным опалением, как опаляется живое.
И блиндажи у них не по-нашему, помнишь? Уж как глубоки! И где-то там, под десятью накатами, – окошечко, а за ним – цветочки посажены, и для того пейзажа вырыт туда ещё и узкий колодец. А в блиндажах – какой-то запах неприятный, как псиный, – оказывается, порошок от насекомых. И – яркие глянцевые цветные журналы раскиданы, каких не бывало у советских, а в журналах – где про доблесть и честь, а где – красавицы. Чужой невиданный мир.
А как, чтоб на день единственный задержать наступление на Орёл, бросили на нас – от зари и до заката – сразу две воздушных армии? Этого не забыть. Ни на минуты не оставалось небо чистым от немецких самолётов: едва уходила одна стайка, отбомбясь, – тем же курсом, на тот же круг, уже загуживала другая. И видим: на участках соседей – то же самое. Непрерывная самолётная мельница – и так весь день насквозь. А где наши? – в тот день ни одного. От волны до волны едва успеваешь лишь чуть перебежать, где там разворачиваться. Всё же я рыскал по Сафонову, куда бы станцию уткнуть. Перемежился в хилой землянке – а там трое связистов только-только открыли коробку американской колбасы, делят и ссорятся. Тоска! Убежал дальше. Через десяток минут возвращаюсь – той землянки уже нет, прямое попадание.
Но то – днями позже. А пока – в таком же джипе-козлике, в каком тогда наезжал на меня комбриг (конструкция за полвека не сильно изменилась), везут нас в Желябугские Выселки. В таком же джипе, но с твёрдой крышей, едут глава районной администрации и глава местной – долг гостеприимства.
Да ни на чём другом в Выселки, наверное бы, и не проехать. Дорога – из одних рытвин, хорошо, что закаменевшие, давно не было дождя. Не едем, а переваливаемся всей машиной с бока на бок, за поручни уцепясь.
Да! вот и склон, так и стоящий в памяти, он-то не изменился. Да наверху, на гребне, и вётлы же стоят, как стояли. И там – избы три около них. А сюда, книзу, уличный порядок сильно прорежен: какие избы – ещё война убрала, какие – время долгое, новые не построились. Улица – уже не улица, избяными островками, и не дорога: средняя полоса её заросла травой, остались от колей – как две тропинки рядом.
А направо за лощиной, повыше, вторая улица – тянется сходно с прежней. Но и на ней что-то не видно жизни.
На открытом месте склона, сбочь и от дороги, стоит разбитая телега, на какой уже не поездишь: три колеса, одна оглобля набок свёрнута, ящик разбит. И колёса обрастают молодой травой.
А центральная станция наша? Вот – тут бы должна быть, тут.
Но – нет кирпичного надземного свода, да и остатков ямы не видно. Все кирпичи забрали куда? а яму засыпали?
Машину мы покинули, администраторы в своей остались, не мешают нам вспоминать.
А внизу – вон, пруд, отметливое место.
Спустились к пруду.
Берег залядел резучей, широколистой травой.
И – чья-то исхудалая лошадь одиноко бродит, без уздечки, как вовсе без хозяина. И кажется: печальная.
Отдельно стоит решётчатый скелет из жердей – под шалаш? И покосился.
Застоялая, как годами недвижимая вода. От соседней яркой майской зелени она кажется синей себя. На воде – бездвижная хворостяная ветка, присыпь листьев – значит, прошлогодних? таких новых ещё нет. Никто тут не купается.
Через ручей – лава из горбыля. И торчат четыре-пять копыльев, руками перехватываться.
А вот – ландыши. Никому не нужные, не замечаемые.
Срываем по кисточке.
Медленно-медленно поднимаемся опять по склону, теперь – дальше, наверх. Мимо той телеги.
Мимо Андреяшина…
Три избы кряду. Одна – белёная, почище. Две других – из таких уже старых, серых брёвен, чем стоят? Изсеревшие корявые дранковые крыши. Можно и за сараюшки принять.
Откуда-то тявкает собачка слабым голосом. Не на нас.
Несколько кур прошло чередой, ищут подкормиться.
Людей – никого.
За теми избами – опять пустырь. На нём отдельно – даже и не сарайчик, наспех собран: стенки обложены неровными кусками шифера, покрыт листом жести – а уже покошен, и подпёрт двумя бревёшками. Не поймёшь: для чего, кому такой?
А в небе – какая тишь. Тут, может, и не пролетают никогда, забыт и звук самолётный. И снарядный.
А тогда – гремело-то…
На длинной верёвке привязана к колу – корова, пасётся. Испугалась, метнулась вбок от нас.
Подымаемся к самым верхним избам.
А тут, между двумя смежными берёзами, – перекладина прибита, как скамейка, ещё и посредине подпорка-столбик. И на той скамеечке мирно сидят две старухи – каждая к своей берёзе притулясь, и у каждой – по кривоватой палке, ошкуренной. У обеих на головах – тёплые платки, и одеты в тёплое тёмное.
Сидят они хоть и под деревьями, а на берёзах листочки ещё мелкие, так сквозь редкую зелень – обе в свету, в тепле.
У левой, что в тёмно-сером платке, а сама в бушлате, – на ногах никакая не обувь, а самоделка из войлока или какого тряпья. По сухому, значит. А обглаженного посоха своего верхний конец обхватила всеми пальцами двух рук и таково держит у щеки.
У обеих старух такие лица заборозделые, врезаны и запали подбородки от щёк, углубились и глаза, как в подъямки, – ни по чему не разобрать, видят они нас или нет. Так и не шевельнулись. Вторая, в цветном платке, тоже посох свой обхватила и так упёрла под подбородок.
– Здравствуйте, бабушки, – бодро заявляем в два голоса.
Нет, не слепые, видели нас на подходе. Не меняя рукоположений, отзываются – мол, здравствуйте.
– Вы тут – давнишние жители?
В тёмном платке отвечает:
– Да сколько живы – всё тут.
– А во время войны, когда наши пришли?
– Ту-та.
– А с какого вы года, мамаша?
Старуха подумала:
– На’б, осьмсыт пятый мне.
– А вы, мамаша?
На той второй платок сильно-сильно излинял: есть блекло-синее поле, есть блекло-розовое. А надет на ней не бушлат, но из чёрного вытертого-перевытертого плюша как бы пальтишко. На ногах – не тряпки, ботинки высокие.
Отняла посошок от подбородка и отпустила мерно:
– С двадцать третьего.
Да неужели? – я чуть не вслух. А говорим: «бабушки, мамаша» – на себя-то забываем глядеть, вроде всё молодые. Исправляюсь:
– Так я на пять лет старше вас.
А лицо её в солнце, и щёки чуть розовеют, нагрелись. В солнце, а не жмурится, оттого ли что глаза внутрь ушли и веки набрякшие.
– Что-то ты поличьем не похож, – шевелит она губами. – Мы и в семьдесят не ходим, а полозиим.
От разговора нижние зубы её приоткрываются – а их-то и нет, два жёлтых отдельных торчат.
– Да я тоже кой-чего повидал, – говорю.
А вроде – и виноват перед ней.
Губы её, с розовинкой сейчас и они, добро улыбаются:
– Ну, дай тебе Господь ещё подальше пожить.
– А как вас зовут?
С пришепётом:
– Искитея.
И сердце во мне – упало:
– А по отчеству?
Хотя при чём тут отчество. Та – и была на пять лет моложе.
– Афанасьевна.
Волнуюсь:
– А ведь мы вас – освобождали. Я вас даже помню. Вот там, внизу, погреб был, вы прятались.
А глаза её – уже в старческом туманце:
– Много вас тут проходило.
Я теряюсь. Странно хочется передать ей что-то же радостное от того времени, хотя что там радостное? только что молодость. Безсмысленно повторяю:
– Помню вас, Искитея Афанасьевна, помню.
Изборождённое лицо её – в солнышке, в разговоре старчески тёплое. И голос:
– А я – и чего надо забываю.
Воздохнула.
В тёмном платке – та погорше:
– А мы – никому не нужны. Нам бы вот – хлебушка прикупить.
Тишина. Чирикают птички в берёзах. Доброе мягкое солнце.
Искитея, из-под набрякших век, остатком ослабевших глаз – досматривает меня, отчётливо или в мути:
– А вы что к нам пожаловали? Что ль, с каким возвестием?
Та, другая:
– Може, наше прожитбище разберёте?
Мы с Витей переглядываемся. А – что в наших силах?
– Да нет, мы проездом. На старые места посмотреть приехали.
– А тут – и начальство ваше. Может, оно…
В тёмном – подсобралась:
– Идé?
– Да тут где-то.
Невдали звонко пропел петух. Петушье пенье, что б вокруг ни творись, – всегда сочно, радостно, обещает жизнь.
Ну, а нам… нам что ж?.. Дальше?
Попрощались – пошли выше, через хребтик.
А сердце – ноет.
– Осталась наша деревня на голях, – окает Витя. – Как и была всю дорогу.
– Да, сейчас для людей не больше добьёшься, чем когда и раньше.
Во все стороны открытое место. Вот и Моховое близко. Да и ближе него теперь позастроено.
А поправей, ко второй улице, – с пяток овец пасётся. Без никого.
Присели на бугорочек. Смотрим туда, вперёд.
– Во-он там предупредитель наш был. Как он уцелел тот день?
– Но ночью потом – здорово засекали. И давили много.
– А утром – опять нас сорвали.
– Суетилось начальство. Здесь бы – больше сделали, зачем к Подмаслову совали?
– В Подмаслово не поедем?
– Да нет, наверно. Времени не остаётся.
Сидим, солнышко с левого плеча греет.
– Помогать им – по одной не вытянешь. Весь распорядок в стране надо чистить.
А – кому? Таких людей – не видно.
Давно не стало их в России.
Давно.
Сидим.
– А какой же я дурак был, Витя. Помнишь – про мировую революцию?.. Ты-то деревню знал. С основы.
Витя – скромный. Его хоть перехвали – не занесётся. И через какие строгости жизнь его ни протаскивала – а он всё тот же, с терпеливой улыбкой.
– Вот там, поправей, отмечали тогда день рождения Боева. Говорил: доживу ли до тридцать – не знаю. А до тридцати одного не дожил.
– Да, прусская ночка – была, – вспоминает Овсянников. – И какое ж безлюдье мёртвое, откуда бы наступленью взяться? Я черезо всё озеро перешёл – и до конца ж никого, ничего. И тут – Шмакова убило.
– Как мы из того Дитрихсдорфа ноги вытянули? Бог помог.
Овсянников – теперь уже с усмешкой:
– А от Адлига, через овраг, по снегу – бегом, кувырком…
Смотрим: слева, в объезд Выселок, по бездороги, – сюда два наших джипа переваливаются.
Забезпокоились, куда мы делись.
Оба администратора – в белых рубашках и при галстуках. Местный – куда попроще, и куртка на нём поверх костюма дождевая. На районном – галстук голубой, хороший серый костюм в редкую полоску – и ничего сверху. Лицо же – широкое, сильно скуластое, с хмурким выражением. Волосы – смоляно-чёрные, жёсткие, густы-перегусты, и с чёрным же блеском на солнце.
Говорим: – Забросили их тут.
Районный: – А что от нас зависит? Пенсии платим. Электричество им подаём. У кого и телевизоры.
А местный – это то, что прежде был «сельсовет», – видно, из здешних поднялся, до сих пор в нём деревенское есть. Долговатый лицом, длинноухий, волосы светлые, а брови рыжие. Добавляет:
– Есть и коровы у кого. И курочки. И огород у каждой. По силам.
Садимся в джипы и – администраторы впереди – едем по грудкой дороге через саму деревню, по нашему склону вниз.
Но что это? Четыре бабы тут как тут, пришли и стали поперёк дороги заплотом. И деда – с собой привели, для подпоры, – щуплого, в кепочке.
И с разных сторон – ещё три старухи с палочками доковыливают. Одна – сильно на ногу улегает.
И – ни души помоложе.
Значит, про начальство прознали. И стягиваются.
Ехать – нет пути. Остановились.
Чуть повыше андреяшинского места, шагов на двадцать.
Местный вылез:
– Что? Давно больших начальников не видели?
Перегородили – не проедешь. Уже шесть старух кряду. Не пропустим.
Вылезает и районный. И мы с Витей.
Платки у баб – серые, бурые, один светло-капустный. У какой – к самым глазам надвинут, у какой – лоб открыт, и тогда видно всё шевеленье морщинной кожи. На плечо позади остальных – дородная, крупная баба в красно-буром платке, стойко стала, недвижно.
А дед – позади всех.
И – взялись старухи наперебив:
– Что ж без хлебушка мы?
– Надо ж хлебушка привозить!
– Живём одна-проединая кажная…
– Этак ненáдалеко нас хватит…
Сельсоветский смущён, да при районном же всё:
– Так. Сперва Андоскин вам возил, от лавки.
В серо-сиреневом платке, безрукавке-душегрейке, из-под неё – кофта голубая яркая:
– Так платили ему мало. Как хлеб подорожал, он – за эту цену возить не буду. Целый день у вас стоять, мол, охотности нет. И бросил.
Сельсоветский: – Правильно.
Голубая кофта: – Нет, неправильно!
Мотнул головой парень:
– Я говорю, что – так было, да. А теперь, на отрезок времени, должен вам хлеб возить – Николай. За молоком практически приезжает – и хлеб привозить.
– Так он тоже завсяко-просто не возит. Сперва молоко сдай – а на той раз хлеб привезу.
В тёмно-сером – наша прежняя, знакомая. Напряглась доглядеть, доуслышать: чего же скажут? выйдет ли решенье какое?
В светло-буром:
– А кто молоко не сдаёт, тому как? Просишь: Коля, привези буханочку! А он: у меня зарплата – одна. У меня уже набрáто, кому привезти.
В серо-клетчатом, с живостью:
– Мы, выселковские, вдокон пришли. Житьеца не стало, йисть нечего.
В капустном, маленькая:
– Конечно, к нам езду нету…
Сельсоветскому – край оправдываться, скорей:
– А я у него всегда интересуюсь: Николай, ты возишь? Говорит – вожу.
Голубая кофта и подхватилась, залоскотала:
– А вы – у нас поинтересовались? Когда-нибудь приехали сюда? Вы, председатель сельсовета, – хоть бы распронаединственный раз… С давних давён никого не было.
И поварчивают другие:
– Повередилось не до возможности…
– О нас и вспомятухи нет…
А бритый дед во втором ряду стоит молча, малосмысленно. То жевал, а то – раздвинул губы, и так со ртом открытым.
Овсянников голову свою лысеющую опустил. Болит его деревенская душа.
– Минуточку, – спешит сельсовет, – а почему вы прямо сразу не сказали, как он возить не стал?
В капустном: – Не посумеем мы сказать.
Искитея: – Опасаемся.
Тут – вступил районный, сильным голосом:
– А я вам говорю: надо говорить. Вот боимся мы сказать Николаю, вот боимся Михал Михалычу, боимся сказать мне, а чего бояться?
Голубая кофта: – Да я б не побоялась, приехала. Да уж я – никуды, ехать. И дед мой тем боле никуды.
А в красно-буром как оперлась на палку левым локтем, согнула, к плечу кулак приложила, глаза совсем закрытые: «Не видать бы мне вас никого…»
– А я к вам вот разве не приехал? Я спрашивал Михал Михалыча: хлеб возят? Возят, каждый день. Почему же вы не говорили?
В серо-клетчатом, рукой рубя:
– Вот теперь молчанку нашу взорвало!
– Уж как измогаем, сами не знаем.
У нашей той, в тёмно-сером платке, руки причернённые, в кожу въелось навек, и чёрные ободки вкруг ногтей, – руки сплелись на верху палки, так и стоит. Морщины, морщины – десятками, откуда стольким место на лице? Теперь – потухла, уставилась куда-то мимо, так и застыла.
Районный уже решил:
– Давайте договоримся так. Теперь целую неделю к вам будет ездить Михал Михалыч…
– Да кажедён – по что? Хоть через день ба…
– Да хлебушка хоть раз бы в три дни…
– Я не говорю, чтоб каждый день возил хлеб. Но в течение недели, вот до праздника Победы, 50 лет, каждый день будет приезжать и проверять, как вы обезпечены.
(Только успевай записывать…)
– …Мы его избрали здесь, голосовали за него в сельскую администрацию, так пусть он выполняет свой долг как глава местного самоуправления. Пусть хотя бы хлебом обезпечивает. Мы не говорим, чтоб он домá строил, дома – конечно уже нельзя сделать по нашей жизни.
– Дома-а‑а… Где-е‑е…
– …А вода – у вас есть. Да вот – хлеб. Чтоб самое необходимое. Он обязан это сделать.
Стоном:
– Да хлебушек бы был – мы бы жили, не крякнули…
– Вся надея и осталась…
– А ржаной хлеб – он убористый…
Оправился и сельсоветский:
– Давайте договоримся так. Не только у вас будет хлеб, но каждую неделю автолавка будет приезжать.
Поразились бабы:
– Ещё и автолавка на неделе? Ну-у‑у!..
Тут в серо-клетчатом не зевает:
– А вот и такая есть надоба. Давняя. Пока фронт воевал – мы тут, иные, и на фронт поработать успели…
Искитея: – От августа сорок третьего, как фронт прошёл…
А серо-клетчатая – как помоложе других: веки не набрякшие, глаза открытые, серые, живые. Сыпет бойко, да только зуб в нижнем ряду мелькает единственный:
– Я, например, чуть не три года отработала на военном заводе. Город Муром, Владимирской области. Мы, значит, на кого работали? И праздников не знали, без выходных, без отпусков. Нам тогда что говорили? Ваш труд – будет наша победа, быстрей покончится война и упокоится страна. А почему ж вы нас забыли, которые трудились, а? Теперь даже пенсии меньше какой другой старухи получаем…
Районный пригладил чуб свой смоляной:
– Да, впервые в этом году вспомнили тех, которые работали в тылу. Вот я почти каждый день теперь вручаю юбилейные медали своим матерям. Они – до слёз… Каждый день получают юбилейную медаль и плачут. Говорят, наконец-то нас вспомнили, потому что весь фронт вынесли на своих плечах. Вручную пахали, сеяли, последние носки отдавали солдатам. А если вы действительно трудились – согласно Указа вам нужно или документы найти, что вы трудились, или надо хотя бы двух свидетелей…
– Да вот нас тут двое и есть. Мы друг другу свидетели.
– Ещё третью нужно.
– В Подмаслове есть.
– Если вы до 45-го года работали в тылу больше шести месяцев и найдёте документ или свидетельские показания – мы вам обязательно вручим медаль. И согласно медали получите льготы, которые положены.
А сельсоветский-то, оказывается, законы лучше знает. И – к районному, остережённо:
– К сожалению, я вас перебью. Значит, если только будет какая поправка, – а то сейчас в Указе свидетельские показания не берутся во внимание. И если в трудовой книжке нет отметки, то юбилейной медали не дают. Вот о чём мы подымали всегда…
Районный хмурится, слегка смущён:
– По-моему, поправки должны быть.
Серо-клетчатая – с новым напором:
– Как так?? Мы – военкоматом были мобилизованы и как военные девушки считались. Которы наши девушки уходили с работы – тех военный трибунал судил. Понимаете, какие мы были?
Искитея только кивает, кивает: – Да, да.
Сельсоветский: – Тогда надо делать запрос через военкомат.
Районный: – Да. Составим списки, официально сделаем запрос, пусть поднимают документы сорок третьего года. Такие вопросы очень многие возникают.
Вижу – Овсянникова аж перекосило: слушал-слушал, совсем голову повесил и одной кистью держится за неё безнадёжно.
А в капустном, маленькая, выступила, пока ей перебоя нет:
– А у меня вот есть медаль за военные годы. Конечно, у меня её нет, но документ на неё есть, справный. И – льготы у меня какие, за свет половину плачу. Конечно, неведь какие ещё мне могут быть положены. Поехала в правление, отвечают: колхоз у нас бедный, нету вам. И даже зярно моё осталось неполучённое, председатель машины зярна не пригнал для пенсионеров.
– Льготы? Теперь – всё заложено в районном бюджете. И через районный бюджет обязательно оплотим, кому чего отпускать за пятьдесят процентов. Но, конечно, я не могу каждый день у вас бывать…
– Это мы понимаем… – сразу в три улыбки.
И тут решилась Искитея. И тем старчески-мягким, ненастойчивым голосом, как говорила со мной под берёзой:
– А вот мой муж был и участник войны. И инвалид. И льготы были. А как умер он – за всё плачу безо льготы.
Подполковник Овсянников встрепенулся возмущённо. И, сильно окая:
– Должны быть! Все льготы, которые даны были вашему мужу, и если вы не вышли замуж за другого…
Искитее – самой дивно, губы в слабой улыбке:
– Да где‑е…
– …то все эти льготы сохраняются за вами! И неважно, когда он умер.
– А – восьмой год его нет…
– Ну, – встрепенулся районный, посмотрел на часы. – Вопросы, которые касаются вас, наших ветеранов, наших матерей, – я буду лично решать. Если не смогу я – тогда будем выходить на область. А Москвы – мы не затронем, не должны.
1998
Солженицын Александр И
Два рассказа
Александр Солженицын
Два рассказа
Рассказ публикуется с сохранением авторской орфографии и пунктуации.
КУРСИВ и ударЕния авторские
* ЭГО *
1
Павел Васильевич Эктов ещё и раньше, чем к своим тридцати годам, ещё до германской войны, устоялся в осознании и смысле быть последовательным, если даже не прирождённым, сельским кооператором — и никак не замахиваться на великие и сотрясательные цели. Чтобы в этой линии удержаться — ему пришлось поучаствовать и в резких общественных спорах и выстоять против соблазна и упрёков от революционных демократов: что быть «культурным работником» на поприще «малых дел» — это ничтожно, это не только вредная растрата сил на мелкие бесполезные работы, но это — измена всему человечеству ради немногих ближайших людей, это — плоская дешёвая благотворительность, не имеющая перспективы завершения. Раз, мол, существует путь универсального спасения человечества, раз есть верный ключ к идеалу народного счастья, — то чего стоит по сравнению с ним мелкая личная помощь человека человеку, простое облегчение горестей текущего дня?
И многие культурные работники устыживались от этих упрёков и уязвлённо пытались оправдаться, что их работа «тоже полезна» для всемирного устроения человечества. Но Эктов всё более укреплялся в том, что не требует никакого оправдания повседневная помощь крестьянину в его текущих насущных нуждах, облегчение народной нужды в любой реальной форме — не то что в отвлекающей проповеди сельских батюшек и твердилке церковно-приходских школ. А вот сельская кредитная кооперация может оказаться путём куда поверней всемирного перескока к окончательному счастью.
Все виды кооперации Эктов знал и даже убеждённо их любил. Побывавши в Сибири, он изумился тамошней маслодельческой кооперации, накормившей, без всяких крупных заводов, всю Европу пахучим и объядЕнным сливочным маслом. Но у себя в Тамбовской губернии он ряд лет был энергичным деятелем ссудо-сберегательной кооперации — и продолжал в войну. (Одновременно участвуя в системе Земгора, впрочем брезгуя её острой политичностью, а то и личным укрывательством от фронта.) Вёл кооперацию и во весь революционный Семнадцатый год, — и только в январе Восемнадцатого, накануне уже явно неизбежной конфискации всех кооперативных касс, — настоял, чтобы его кредитное общество тайно роздало вкладчикам их вклады.
За то — непременно бы Эктова ПОСАДИЛИ, если б точно разобрались, но у подвижных большевиков были руки наразрыв. Вызвали Эктова один раз в Казанский монастырь, где расположилась Чрезвычайка, но одним беглым допросом и обошлось, увернулся. Да хватало у них забот покрупней. На главной площади близ того же монастыря как-то собрали они сразу пять возрастов призывников — тут выскочил сбоку лихой всадник чубатый на серой лошади, заорал: «Товарищи! А что Ленин обещал? Что больше никогда воевать не будем! так ступайте по домам! Только-только отвоевали, а теперь опять на войну гонят? А-рас-сходись по домам!!» И — как полыхнуло по этим парням в серо-чёрной крестьянской одёжке: от того окрика — по сыпали, посыпали вразбежку, кто сразу за город, к лескам, в дезертиры, кто по городу заметался и мятежничал — и уже власти сами бежали. Через день вернулись с конницей Киквидзе.
Годы гражданской войны Эктов прожил в душевной потерянности: за жестоким междоусобным уничтожением соотечественников и под железной подошвой большевицкой диктатуры — потерялся смысл жизни и всей России и своей собственной. Ничего и близко сходного никогда на Руси не бывало. Человеческая жизнь вообще потеряла своё разумное привычное течение, деятельность разумных существ, — но, при большевиках, затаилась, исказилась в тайных, обходных или хитро-изобретательных ручейках. Однако, убеждённому демократу Эктову никак не казалась выходом и победа бы белых, и возврат казацких нагаек. И когда в августе Девятнадцатого конница Мамонтова на два дня врывалась и в Тамбов, — за эти двое суток, хоть и сбежала ЧК из Казанского монастыря, а не ощутил он душевного освобождения или удовлетворения. (Да, впрочем, и видно было, что это всего лишь короткий наскок.) Да вся тамбовская интеллигенция считала режим большевиков вовсе недолговечным: ну год-два-три и свалятся, и Россия вернётся к теперь уже демократической жизни. А в крайностях большевиков проявлялась не только же злая воля их или недомыслие, но и наслоенные трудности трёхлетней внешней войны и сразу же вослед гражданской.
Тамбов, окружённый хлебородной губернией, не знал в эти годы полного голода, но стыла зимами опасная нужда и требовала от людей отдавать все силы ума и души — бытовой изворотливости. И крестьянский раздольный мир вокруг Тамбова стал разрушаться безжалостно вгоняемыми клиньями сперва заградотрядов (отбиравших у крестьян зерно и продукты просто при перевозе по дорогам), продотрядов и отрядов по ловле дезертиров. Вход такого отряда в замершую от страха деревню всегда означал неминуемые расстрелы хоть нескольких крестьян, хоть одного-двух, в науку всей деревне. (Могли и с крыльца волостного правления запустить из пулемёта боевыми патронами очередь наугад.) А всегда и у всех отрядов начинался большой грабёж. Продотряд располагался в деревне постоем и прежде всего требовал кормить самого себя: «Давай барана! давай гусей! яиц, масла, молока, хлеба!» (А потом и — полотенца, простыни, сапоги.) Но и этим ещё рады были бы крестьяне отделаться, да только, отгуляв в деревне день два, продотрядники сгоняли понурый обоз из тех же крестьян с их зерном, мясом, маслом, мёдом, холстами — навывоз, в дар пролетарской власти, никогда не поделившейся с крестьянами ни солью, ни мылом, ни железом. (В иной сельский магазин вдруг присылали шёлковые дамские чулки или лайковые перчатки, или керосиновые лампы без горелок и без керосина.) И так подгребали зерно по амбарам подряд — нередко не оставляли мужикам ни на едево, ни на семена. «Чёрными» звали их крестьяне — то ли от чёрта, то ль оттого, что нерусских было много. Надо всей Тамбовской губернией гремел неистовый губпродкомиссар Гольдин, не считавший человеческих жизней, не меривший людского горя и бабьих слёз, страшный и для своих продотрядников. Не многим мягче его был и борисоглебский уездный продкомиссар Альперович. (Достойными кличками власть окрещала и сама себя: ещё существовал и НАЧПОГУБ Вейднер — даже Эктов долго не мог вникнуть, что это страшное слово значило: начальник политического отдела губернии.)
Отначала крестьяне поверить не могли: что ж это такое вершится? Солдаты, вернувшиеся с германского фронта, из запасных полков и из плена (там их сильно обделывали большевицкой пропагандой), приезжали в свои деревни с вестью, что теперь-то и наступит крестьянская власть, революция сделата ради крестьян: крестьяне и есть главные хозяева на земле. А это что ж: городские насылают басурманов и обидят трудовое крестьянство? Свой хлеб не сеяли — на наше добро позарились? А Ленин говорил: кто не пахал, не сеял — тот пусть и не ест!
Читать дальше
- 162
- 0
- 0
Скачать книгу в формате:
- fb2
- rtf
- txt
- epub
Аннотация
Александр Солженицын
Два рассказа
Рассказ публикуется с сохранением авторской орфографии и пунктуации.
КУРСИВ и ударЕния авторские
* ЭГО *
1
Павел Васильевич Эктов ещё и раньше, чем к своим тридцати годам, ещё до германской войны, устоялся в осознании и смысле быть последовательным, если даже не прирождённым, сельским кооператором — и никак не замахиваться на великие и сотрясательные цели. Чтобы в этой линии удержаться — ему пришлось поучаствовать и в резких общественных спорах и выстоять против соблазна и упрёков от революционных демократов: что быть «культурным работником» на поприще «малых дел» — это ничтожно, это не только вредная растрата сил на мелкие бесполезные работы, но это — измена всему человечеству ради немногих ближайших людей, это — плоская дешёвая благотворительность, не имеющая перспективы завершения. Раз, мол, существует путь универсального спасения человечества, раз есть верный ключ к идеалу народного с…
ЕЩЕ
Популярные книги
-
- Читаю
- В архив
- 68157
- 247
- 13
Аннотация:
Юра возвращается в пионерский лагерь своей юности спустя двадцать лет. В руинах прошлого он надеет…
Блок — 20 стр.
-
- Читаю
- В архив
- 76912
- 37
- 8
Аннотация:
Метод ненасильственного общения (ННО) реально улучшает жизнь тысяч людей. Он применим и в супруж…
Фрагмент — 15 стр.
-
- Читаю
- В архив
- 53578
- 46
- 9
Аннотация:
Думала ли Рая, затевая уборку дома, что ударится головой и очнётся в ином мире? А там она, свобо…
Блок — 17 стр.
-
- Читаю
- В архив
- 70332
- 133
- 45
Аннотация:
Все было как в бреду: и подъехавшая скорая помощь, врачи которой буквально силой вырвали у меня из …
Блок — 28 стр.
Дорогой ценитель литературы, погрузившись в уютное кресло и укутавшись теплым шерстяным пледом книга «Два рассказа» Солженицын Александр Исаевич поможет тебе приятно скоротать время. Существенную роль в успешном, красочном и динамичном окружающем мире сыграли умело подобранные зрительные образы. В ходе истории наблюдается заметное внутреннее изменение главного героя, от импульсивности и эмоциональности в сторону взвешенности и рассудительности. Юмор подан не в случайных мелочах и не всегда на поверхности, а вызван внутренним эфирным ощущением и подчинен всему строю. Удачно выбранное время событий помогло автору углубиться в проблематику и поднять ряд жизненно важных вопросов над которыми стоит задуматься. Запутанный сюжет, динамически развивающиеся события и неожиданная развязка, оставят гамму положительных впечатлений от прочитанной книги. Кто способен читать между строк, может уловить, что важное в своем непосредственном проявлении становится собственной противоположностью. На развязку возложена огромная миссия и она не разочаровывает, а наоборот дает возможность для дальнейших размышлений. Просматривается актуальная во все времена идея превосходства добра над злом, света над тьмой с очевидной победой первого и поражением второго. Один из немногих примеров того, как умело подобранное место украшает, дополняет и насыщает цветами и красками все произведение. Что ни говори, а все-таки есть некая изюминка, которая выделяет данный masterpiece среди множества подобного рода и жанра. «Два рассказа» Солженицын Александр Исаевич читать бесплатно онлайн можно неограниченное количество раз, здесь есть и философия, и история, и психология, и трагедия, и юмор…
Новинки
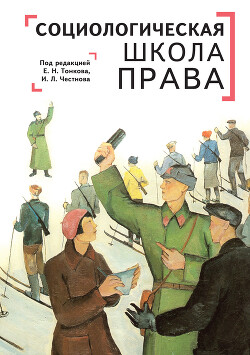
- 0
- 0
- 0
Аннотация:
В коллективной монографии представлены исследования участников международной научной конференции …
Фрагмент — 0 стр.
В коллективной монографии представлены исследования участников международной научной конференции …
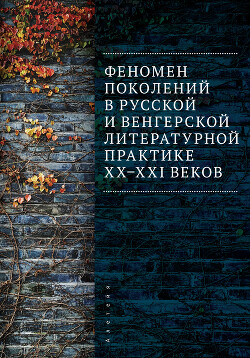
- 0
- 0
- 0
Аннотация:
В монографии представлен опыт многоаспектного изучения литературных практик русской и венгерской …
Фрагмент — 12 стр.
В монографии представлен опыт многоаспектного изучения литературных практик русской и венгерской …
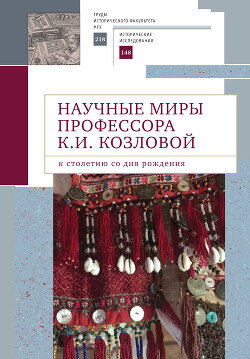
- 1
- 0
- 0
Аннотация:
Коллективная монография посвящена столетию профессора, видного этнолога К. И. Козловой, более пят…
Фрагмент — 7 стр.
Коллективная монография посвящена столетию профессора, видного этнолога К. И. Козловой, более пят…
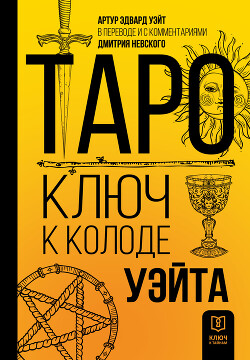
- 4
- 0
- 0
Аннотация:
Дмитрий Невский – практикующий мистик, маг, занимающийся научной и просветительской деятельностью…
Фрагмент — 4 стр.
Дмитрий Невский – практикующий мистик, маг, занимающийся научной и просветительской деятельностью…
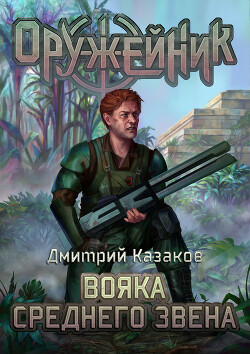
- 5
- 0
- 0
Аннотация:
И вновь продолжается бой.
Операция не помогла дочери Егора, и он вынужден снова отправиться в м…
Фрагмент — 16 стр.
И вновь продолжается бой.
Операция не помогла дочери Егора, и он вынужден снова отправиться в м…
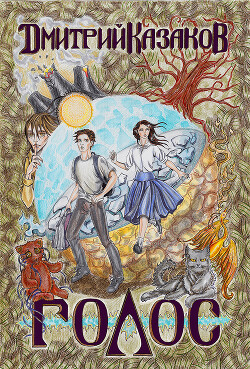
- 2
- 0
- 0
Аннотация:
Егор – обычный школьник из провинции…
Но однажды он слышит Голос, звучащий вроде бы с самого не…
Фрагмент — 8 стр.
Егор – обычный школьник из провинции…
Но однажды он слышит Голос, звучащий вроде бы с самого не…
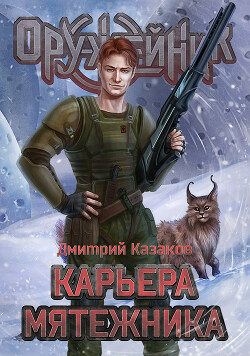
- 3
- 0
- 0
Аннотация:
Те, против кого я сражался, те, с кем вместе я сражался – все против меня!
Меня жаждут прикончи…
Фрагмент — 15 стр.
Те, против кого я сражался, те, с кем вместе я сражался – все против меня!
Меня жаждут прикончи…