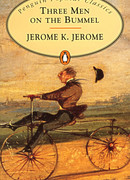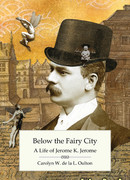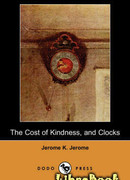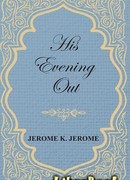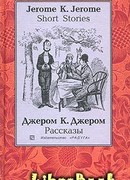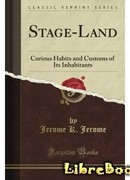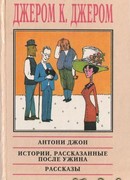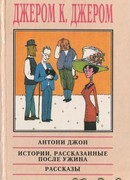Джером К. Джером / K. McK.
Джеро́м Кла́пка Джеро́м (Jerome Klapka Jerome, родился 2 мая 1859, Уолсолл, графство Стаффордшир ) — английский писатель-юморист, постоянный сотрудник сатирического журнала «Панч», редактировал журналы «Лентяй» (Idler) и «Сегодня» (To-day).
Джером был четвёртым ребенком в семье Джерома Клэпа (Jerome Clapp), который позднее сменил имя на Джером Клэп Джером (Jerome Clapp Jerome). Отец Джерома был торговцем скобяными изделиями, а также проповедником без духовного сана. Помимо Джерома в семье было ещё трое детей: дочери Паулина и Бландина и сын Милтон, умерший в младенчестве. Джером, как и его отец, был зарегистрирован по имени Джером Клэп Джером. Второе имя, Клапка, появилось позднее (в честь венгерского эмигранта генерала Дьёрдя Клапки). Семья Джеромов обеднела после неудачных инвестиций в местную горнодобывающую промышленность. Частые визиты кредиторов в дом Джеромов были позднее ярко описаны им в автобиографической книге «Моя жизнь и эпоха» (My Life and Times).
Актерская деятельность и первые литературные труды
В 1877 году, под влиянием своей сестры Бландины, увлеченной театром, Джером решает попытать себя в актерском ремесле под сценическим псевдонимом Гарольд Кричтон. Он поступил в театральную труппу, пытавшуюся ставить низкобюджетные пьесы; часто постановки осуществлялись за счет самих актеров, которые самостоятельно оплачивали пошив сценических костюмов и изготовление реквизита. Позднее Джером с юмором описывал эти времена и свое полное безденежье в новелле «На сцене и за сценой» (On the Stage — and Off). Через три года безуспешных попыток пробиться, 21-летний Джером решает оставить актерскую профессию и поискать новое занятие. Он пробовал быть журналистом, писал эссе, сатирические рассказы, но в публикации большинства из них ему было отказано. В последующие несколько лет он был учителем, упаковщиком, секретарем адвоката. И, наконец, в 1885 году к нему пришел успех после публикации юмористической новеллы «На сцене и за сценой», которая «открыла двери» для последующих пьес и эссе Джерома. «Праздные мысли лентяя», сборник юмористических эссе, был опубликован в 1886. 21 июня 1888 года Джером женился на Джорджине Элизабет Генриетте Стенли Мэрисс. Медовый месяц пара провела на Темзе, на небольшой лодке, что, как считается, в значительной степени повлияло на создание последующего и наиболее важного произведения Джерома — повести «Трое в лодке, не считая собаки».
Джером принялся за создание повести сразу после возвращения пары из медового месяца. Прототипами персонажей стали друзья Джерома Джордж Уингрэйв (Джордж) и Карл Хеншель (Гаррис). В новелле описана череда комичных ситуаций, в которые попадают друзья, а все события тесно переплетены с историей Темзы и её окрестностей. Книга была напечатана в 1889 году, имела оглушительный успех, и переиздается до сих пор. Популярность книги была настолько велика, что количество зарегистрированных на Темзе лодок возросло на пятьдесят процентов в последующий после публикации год, что в свою очередь сделало реку достопримечательностью для туристов. За первые двадцать лет было продано более миллиона экземпляров книги по всему миру. Также, книга легла в основу многочисленных кино- и телефильмов, радиопостановок, пьес, мюзикла.
Редактировать описание
Пока ничего нет, Обсудить
Джером Клапка Джером Автор, всего 43
Романы
Трое в лодке, не считая собаки
Three Men in a Boat (To Say Nothing of the Dog)
юмор
путешествия
приключения
Искрометный роман от классика мировой литературы Джером. К. Джерома, несомненно вызовет у вас безудержный смех и прилив хорошего настроения даже в самый непогожий день. Вот и герои нашего рассказа — Джордж, Джей и Гаррис, устав от лондонской непогоды и диагностировав у себя посредством медицинской энциклопедии все мыслимые и немыслимые недуги, решили поправить здоровье и получить заряд бодрости вдали от суеты большого города. И не придумали ничего лучше, чем прогулка вниз по Темзе, в составе, собственно их троих и маленькой собачки Монморенси. Тут и начинает череда курьезных и веселых приключений трех джентльменов в одной лодке, не считая собаки. (с)Kamitake для Librebook.ru Экранизации Трое…
20
Online
Заметки к ненаписанному роману
Novel Notes
юмор
социальный
психологический
английская классика
Английский юмор для русского читателя неразрывно связан с именем Джерома Клапки Джерома, замечательного писателя, покорившего весь мир своими романами и рассказами. Приключения незадачливых, добродушных англичан, путешествующих по Темзе, о которых Джером написал в своих знаменитых романах «Трое в лодке, не считая собаки» и «Трое на четырех колесах», переведены на многие языки и неоднократно экранизированы. Между этими романами Джером создал небольшой шедевр — книгу о том, как компания друзей (в которых узнаются все же неподражаемые герои из знаменитой дилогии), собравшись в уютной гостиной, решила написать самый лучший роман на свете. Удалось ли почтенным джентльменам воплотить свой замысел в…
Трое за границей
Three Men on the Bummel
юмор
путешествия
ирония
приключения
В этой повести читатель снова встретится с героями, полюбившимися им по повести «Трое в лодке, не считая собаки». Джей, Джордж и Гаррис отправились в путешествие на велосипедах по немецкому Шварцвальду. Немцы, сохранившие мораль кайзеровской германии в начинающуюся индустриальную эпоху, не менее комичны, чем жители туманного Альбиона, с их викторианскими пережитками. Точные наблюдения и добрая ирония над стереотипами немецкого национального характера не устарели и на сегодняшний день. Кроме того, много комичных ситуаций создает столкновение островного и материкового менталитетов. Ну и масса шуток о тех самых велосипедах, на которых осуществляется путешествие. (с) MrsGonzo для LibreBook
15
Online
Энтони Джон
Anthony John
юмор
«Энтони Джон» (Anthony John, 1923) — последний роман Джерома К. Джерома. Перевод 1926 года под ред. Г. Дюперрона. В тихом английском городке Мидлсбро родился и жил Энтони Джон Стронгсарм — спокойный и умный мальчик, любимый сын хороших родителей, многообещающий юноша, удачливый бизнесмен, любимый и любящий мужчина, отец семейства, всю жизнь мечтавший победить окружающую его бедность… © Dm-c
18
Online
Повести, рассказы
Партнер по танцам
юмор
фантастика
Жил в маленьком городке чудесный старик Николас Гейбел. Мастерил он механические игрушки. В городе верили, что старик Гейбел может создать человека, способного делать всё, что вы пожелаете. И ему удалось однажды смастерить человека, который натворил-таки дел!
1
Online
Online
Кот Дика Данкермана
Dick Dunkerman’s cat
мистика
ирония
психологический
Джером Клапка Джером получил всемирное признание после публикации своего самого веселого романа «Трое в лодке, не считая собаки». Рассказ «Кот Дика Данкермана» — история совсем иного рода. Мистическая история, но не зловещая, а очень добрая и положительная. Основная идея рассказа из глубокого чувства собственного достоинства, присущего каждому человеку. Главный герой рассказа – большой черный кот по кличке Пирамид с чудесными изумрудными глазами. Этот удивительный кот ищет прибежище в разных домах, хозяева которых приобретают известность, славу или деньги. В течение короткого времени они становятся счастливыми, богатыми и знаменитыми. Но за это благополучие придется заплатить определенную цену.…
1
Online
Сюрприз мистера Милберри
The Surprise of Mr. Milberry
юмор
ирония
После рассуждений о том, выполняют ли сардинки свое назначение как закуска, Генри переключился на довольно скользкую тему. Он утверждал, что на самом деле, женщины не в состоянии различать младенцев трехмесячного возраста. В подтверждение столь спорного мнения он поведал собеседнику занимательную историю. Однако это была лишь затравка для другой истории, еще более удивительной и абсурдной. История молодого мистера Миллбери удивит и рассмешит даже самого серьезного и чопорного джентльмена. А нелепая ситуация, в которую он попал, столь же хрестоматийная, как и история всем известного дядюшки Поджера. (с) MrsGonzo для LibreBook
1
Online
Дух маркизы Эплфорд
The Ghost of the Marchioness of Appleford
юмор
Кажется, что перед нами история Золушки. Рыжик, как все ее называют, обыкновенная бродяжка. Но с помощью своего друга Кильки — продавца газет — она получает новую биографию, становится актрисой и, наконец, выходит замуж за маркиза. Хэппи энд? Вроде бы. Но почему же она несчастлива? Да и Килька не выглядит веселым. А тут еще новое известие. Маркиза Эплфорд утонула в озере. Неужели все кончится так? © Элейн Произведение входит в сборник «Наблюдения Генри» (1901)
1
Online
Чего стоит оказать любезность
The Cost of Kindness
юмор
реализм
Когда из вашего городка уезжает нелюбимый всеми пастор, разве трудно напоследок сказать ему несколько добрых слов? Но что если он окажется настроен немного серьёзней чем вы рассчитывали… © rinamagistr Входит в: — сборник «Жилец с третьего этажа», 1907 г.
1
Online
Миссис Корнер расплачивается
Mrs. Korner Sins Her Mercies
юмор
реализм
Миссис Корнер — обычная английская леди, полгода назад она стала женой. Ее супруг, как ей кажется, не соответствует стандартному образу английского джентльмена, и она изо всех сил старается его переделать. Беда в том, что свои представления она почерпнула из посредственных пьес и бульварных романов — и за это ей придется расплатиться. © Евгений Борисов Входит в: — антологию «Английская новелла», 1961 г. — сборник «Жилец с третьего этажа», 1907 г.
1
Online
Если бы у нас сохранились хвосты!
юмор
Как хорошо бы было, расти у нас хвост, «…который вилял бы, когда мы довольны, или вытягивался в струнку, когда мы сердимся». По хвосту легко можно проверить, говорит ли человек правду или лукавит.
1
Online
Вечерняя прогулка джентльмена
His Evening Out
юмор
ирония
Вечерняя прогулка джентльмена – юмористический рассказ о том, как влюбленный мужчина может помолодеть на 15 лет. Мораль сей истории такова: на вечерней прогулке мужчине следует быть осторожным, дабы ненароком не влюбиться в свою кухарку, решившую в этот вечер принарядиться и прогуляться в парке. Ведь в лице прелестной незнакомки, явно из благородной семьи, вы можете не узнать существо в фартуке и наколке, работающую у вас на кухне. Навряд ли сложилось бы счастье героев, таких разных и с сословными различиями, если бы не вмешательство мистера Эндрюса, которому так подошли бы крылышки, крохотный лук и стрелы! (с) Leylek для Librebook.ru
1
Online
Улица глухой стены
The Street of the Blank Wall
Произведение входит в: — сборник «Мальвина Британская» (1916) — антологию «Тайны старой Англии» (1994)
1
Online
Лайковые перчатки
The Fawn Gloves
юмор
Главный герой рассказа «Лайковые перчатки» навсегда запомнил эту девушку именно такой, какой увидел ее впервые на скамейке в парке: небольшое миленькое личико, коричневые ботинки и маленькие руки, спрятанные в золотисто-коричневых лайковых перчатках. Раньше дорога домой была просто скучной прогулкой, иногда он сворачивал в парк, но там почти никогда никого не было, отчего становилось еще тоскливее. Теперь же, когда он увидел там незнакомку, дорога домой стала всегда проходить через парк.
1
Online
Пьесы
Online
Мисс Гоббс
Комедию «Мисс Гоббс» (1900) ставились многими театрами Англии и Америки. Ее очень хорошо принимали зрители. Она шла, между прочим, и на русской сцене. Перевод М. и Е. Пермяк.
5
Online
Прочее
Online
Человек, который не верил в счастье
юмор
Неувядающее остроумие великого английского юмориста Джерома К.Джерома (1859–1927) доставит немало радостных, светлых минут и современному читателю.В настоящее издание вошли рассказы из сборников разных лет.
1
Online
Мир сцены
Stage-Land
юмор
Юмористическое эссе о типах сценических героев.
1
Online
Наброски для романа
Novel Notes
юмор
В данной книге представлены четыре главы из «Набросок для романа» (Novel Notes, 1893) Джерома К. Джерома в переводе И. Красногорской и В. Маянц.
4
Online
Online
Веселые картинки
юмор
Рассказы из сборника «Веселые картинки» 1901 года, в современной орфографии.
11
Online
Пол Келвер
Paul Kelver
Сентиментальный по преимуществу роман «Пол Келвер» — первая из вещей Джерома, встреченная критикой благосклонно. Сам Джером считал роман своим шедевром. Многие считали книгу автобиографической. Жизнь Джерома, добившегося немыслимой популярности как бы без малейших усилий, кажется сказкой о любимчике фортуны, но это очень обманчивое впечатление. На страницах «Пола Келвера» рассказано о суровом детстве, о лишениях и невзгодах. Страсть к мелодраматизму, увы, заметная во всем, что Джером писал, обращаясь к «серьезным» жанрам, очень чувствуется и в этом романе. Но фактографически он достаточно достоверен. И понятно, почему так сумрачны многие его главы.
22
Online
Разговоры за чайным столом
юмор
«Разговоры за чайным столом» (Tea-Table Talk, 1903) — эссе Джерома К. Джерома. Перевод Л. А. Мурахиной-Аксеновой 1912 года в современной орфографии.
1
Online
Online
Online
Online
Ангел, автор и другие
юмор
«Ангел, автор и другие» (The Angel and the Author — and Others, 1908) — сборник эссе Джерома К. Джерома. Перевод Л. А. Мурахиной-Аксеновой 1912 года в современной орфографии.
19
Online
Цивилизация и безработица
юмор
Эссе «Цивилизация и безработица» (Civilization and the Unemployed) из книги «Ангел, автор и другие» (The Angel and the Author — and Others, 1908).
1
Online
Слишком много открыток
юмор
Эссе «Слишком много открыток» (Too Much Postcard) из книги «Ангел, автор и другие» (The Angel and the Author — and Others, 1908).
1
Online
Философия и демон
юмор
Эссе «Философия и демон» (Philosophy and the Daemon) из книги «Ангел, автор и другие» (The Angel And The Author, And Others) 1908 года.
1
Online
Сборники
Сборник
Праздные мысли лентяя
The Idle Thoughts of an Idle Fellow
юмор
философский
ирония
Блестящему юмористу, Джерому Клапке Джерому, «повезло» жить в переломные времена. От Викторианской эпохи Великобритания переходила к империалистическому периоду своего развития. И если промышленность и другие материальные сферы совершали этот переход с огромной скоростью, то область морали практически застряла в викторианских временах, что порождало много нелепостей, как комического, так и трагического свойства. Творчество Джерома великолепно отражает именно эту сторону английской жизни. Его иронично-насмешливый взгляд выявлял карикатурность быта и гротескность царивших нравов. Его эссе, скетчи, памфлеты составили комично-курьезную хронику того времени. И если современники не всегда узнавали…
15
Online
Сборник
Дневник одного паломничества и другие рассказы
юмор
путешествия
приключения
Содержание сборника: Дневник одного паломничества How to Go to Bed in Germany At Ober-Ammergau See England First Вечнозеленые деревья / Мое знакомство с бульдогами / О бульдогах / Вечнозеленые Часы Чайники Трогательная история Новая утопия Мечты
13
Online
Сборник
Истории, рассказанные после ужина
Told After Supper
юмор
ирония
«Истории, рассказанные после ужина» (Told After Supper, 1891) — пародия Джерома К. Джерома на святочные (рождественские) рассказы. Английские приведения обожают сочельник. К этой дате они всегда готовятся показаться хозяевам, а лучше гостям дома. Да и хозяева с гостями тоже хороши, любят в сочельник побаловать друг друга историями о приведениях. Неудивительно, что огромное количество встреч человека с приведениями происходит в это время. © perftoran Содержание сборника: Как рассказывались эти истории / При каких обстоятельствах мы начали свои рассказы Рассказ Тедди Биффлса (Джонсон и Эмилия, или Преданный дух) История, рассказанная доктором (Загадочная мельница, или Развалины счастья) / (Мельница…
9
Online
Сборник
Джон Ингерфилд и другие рассказы
John Ingerfield and Other Stories
юмор
Содержание сборника: 1. To the Gentle Reader; also to the Gentle Critic 2. Памяти Джона Ингерфилда и жены его Анны. Повесть из жизни старого Лондона в двух главах 3. The Woman of the Saeter 4. Variety Patter 5. Silhouettes 6. Аренда «Скрещенных ключей»
2
Online
Сборник
Наброски синим, зелёным и серым
Sketches in Lavender, Blue and Green
юмор
Сборнику в качестве эпиграфа предпослана народная песенка о лаванде — растении с листьями и стеблями зеленовато-голубоватого оттенка и с сине-сиреневыми цветами. Буквальный перевод названия: «Эскизы в цвете лаванды, в голубом и зеленом». Содержание сборника: Реджинальд Блэк Графиня Н. Разочарованный Билли Кирилл Херджон История Чарльза и Майценвэ Портрет женщины / Портрет дамы Человек, который хотел руководить / Человек, который заботился обо всех / Человек, который старался всем помогать / «Всеобщий благодетель» Безвольный человек Сила привычки Рассеянный человек / Рассеянный; Кое-что о рассеянности и забывчивости Очаровательная женщина / Женщина, способная очаровывать Дух Уайбли / Дух Уайблея…
18
Online
Сборник
Еще праздные мысли
The Second Thoughts of an Idle Fellow
юмор
«Вторая книжка праздных мыслей праздного человека» (The Second Thoughts of an Idle Fellow, 1898) — второй сборник «праздных» эссе Джерома К. Джерома. Перевод Л. А. Мурахиной-Аксеновой 1912 года в современной орфографии. Сборник юмористических эссе. Содержание сборника: Об искусстве решаться / Об искусстве принятия решений (1898) О неудобствах неполучения того, что надо /О том, как вредно не получать желаемое (1898) Об особенном значении вещей, которые мы намеревались сделать / О великой ценности того, что мы намеревались сделать / Об особой ценности того, что мы намерены сделать (1898) О варке и употреблении любовного зелья (1898) О радостях и выгодах рабства (1898) О заботах, о женщинах и о…
11
Online
Сборник
Томми и К°
Tommy and Co
юмор
Рассказы, которые входят в число лучших произведений величайшего юмориста Англии — Джерома К. Джерома. Потрясающе забавные приключения английских леди, джентльменов и, что немаловажно, их слуг, собак, кошек, а также призраков — столь же эксцентричных и оригинальных, как и их хозяева. Озорная апология викторианской Британии — страны. Где следует неизменно держать себя в руках (или в лапках) и даже в самой нелепой ситуации сохранять невозмутимость. Джером К. Джером — писатель, которого будут читать с наслаждением всегда. И не в последнюю очередь это относится именно к его прелестным рассказам!..
8
Online
Сборник
Третья книжка праздных мыслей праздного человека
философский
юмор
«Третья книжка праздных мыслей праздного человека» (Idle Ideas in 1905) — третий сборник «праздных» эссе Джерома К. Джерома, большая часть которых — под другими заглавиями и в изменённом порядке очерёдности — выходила также в сборнике «Американские жёны и другие». Содержание сборника: Так ли мы интересны, как думаем о себе? / Так ли мы интересны, как думаем? (1904) Должны ли женщины быть красивыми не только наружно, но и внутренне / Должны ли женщины быть красивыми? (1904) Жизнь — великая тайна / Когда лучше всего веселиться? (1904) Не слишком ли долго мы лежим в постели? / Не слишком ли подолгу мы залеживаемся в постели? (1904) Следует ли женатому человеку играть в гольф? /Следует ли женатым…
18
Online
Антологии
Сборник
Назад в будущее
фантастика
перемещение во времени
Истории о путешествиях во времени.
Сборник
Послание из тьмы
мистика
ужасы
Такими мы их еще не видели! Разве кто-нибудь ожидал услышать страшную сказку на ночь от Стефана Цвейга или Герберта Уэллса? А, открыв очередной роман Джека Лондона, испугаться – последнее, что приходит в голову. Но эти и другие авторы доказали свою многогранность и разноплановость вошедшими в сборник рассказами и повестями. Погрузитесь в мир мистики и страха, на двери которого выцарапано: «Послание из тьмы»! (с) ЛитРес
Сборник
«Потерянная комната» и другие истории о привидениях
готика
ужасы
Призраки, духи, фантомы — вечные скитальцы, не находящие упокоения: они повергают обывателей в трепет, толкают на безрассудные поступки, заставляют поверить в реальность таинственного и сверхъестественного. На пирушку с привидениями в потерянную комнату одержимого дома явились Ч.Диккенс, Дж.Ш.Ле Фаню, Дж.К.Джером, М.Р.Джеймс и многие другие, а с ними уютно леденящие душу гости.
13
Online
|
Страницы автора на других языках и псевдонимы: |
Джером Клапка Джером
|
Об авторе:
Дьердя Клапки, венгерский генерал, жившийв эмиграции в городке Уолсоле, что в графстве Стаффордшир. Именно в его семье 2 мая 1859 года и родился будущий юморист.
Отец Джерома занимался и строительством домов, и добычей угля, и продажей скобяных изделий, но дела у него шли из рук вон плохо.
Когда Джерому пошел второй год, отец его окончательно разорился, и вся семья переехала в Лондон. Они поселились в Ист-Энде — районе рабочих и бедноты. Несмотря на материальные затруднения, мальчика определили в классическую школу.
В 1871 году отец умер. Сводить концы с концами Джеромам стало намного труднее. Спустя два года четырнадцатилетний мальчик вынужден был бросить школу, и давний друг семьи устроил его клерком в железнодорожную компанию. В 1875 году не стало и матери. Джером-младший с сестрами оказались круглыми сиротами, и теперь могли рассчитывать только на самих себя. Кем только ему не довелось поработать в последующие годы — и школьным учителем, и подручным стряпчего, и репортером, и актером.
Выступая на сцене в составе различных театральных трупп, молодой Джером исколесил за три года почти всю страну. Он многое повидал, и все это запечатлелось в его уникальной памяти. Именно в те годы он познакомился, а потом и подружился с большим оригиналом — Джорджем Уингрейвом. Ему было суждено стать прототипом Джорджа — пожалуй, самого забавного персонажа повести «Трое в одной лодке». Джером не раз путешествовал с ним и еще с одним приятелем на лодке по Темзе. Возможно, эти прогулки и вдохновили писателя на создание прославленного комического шедевра.
Впечатления, накопленные Джеромом за годы работы актером, нашли отражение в его первой книге «На сцене и за кулисами» — сборнике юмористических рассказов о театральной жизни. Он был опубликован в 1885 году и очень хорошо принят читателями. Окрыленный успехом, Джером пишет в 1886 году «Праздные мысли лентяя» — веселые эссе о всякой всячине. Эта книга имела большой успех, ее, по словам самого Джерома, «расхватывали, как горячие пирожки». Джером Джером решает сделать писательство своей основной профессией.
В 1888 году он встретил женщину, которую полюбил настолько сильно, что решил жениться на ней, хотя до тех пор не представлял себя в роли женатого человека. Годом позже он поселился в Челси, фешенебельном районе в западной части Лондона. В новом доме из окон его круглого рабочего кабинета открывался чудесный вид на реку Темзу и отдаленные холмы за городом. Именно там Джером К. Джером и написал свое самое знаменитое произведение — «Трое в одной лодке, не считая собаки».
Интересно отметить, что книга эта вовсе не задумывалась как юмористическая.
В 1892 году Джером вместе с друзьями начали издавать ежемесячный иллюстрированный журнал «Лентяй». Благодаря своей занимательности «Лентяй» быстро стал одним из самых популярных периодических изданий Англии. В журнале печатались такие известные авторы, как Роберт Стивенсон, Марк Твен, Брет Гарт.
Редактирование журналов отнимало у Джерома все рабочее и свободное время. За пять с лишним лет он не написал практически ничего, а лишь вычитывал и правил тонны чужих рукописей. В конце 1897 года из-за финансовых и других осложнений он оставил редакторство и снова стал писателем. В том же году выходит его новый сборник «Наброски лиловым, голубым и зеленым». Рассказы действительно написаны во всем диапазоне «цветовых» оттенков — от очень смешных до чуть ли не трагических историй.
Джером любил бывать за границей и в некоторых странах оставался подолгу. Больше всего он прожил в Германии, о которой потом много писал. Трижды Джером выступал с публичным чтением своих сочинений в Америке. Человек он был любознательный и всегда с охотой откликался на приглашение посетить места, где еще не бывал. В феврале 1899 года писатель посетил Россию. Россия произвела на писателя огромное впечатление. Шесть лет спустя вышла его книга очерков «Праздные мысли в 1905 году», одну из глав которой Джером посвятил России. В 1906 году эта глава вышла в русском переводе под названием «Люди будущего».
В 1900 году Джером написал продолжение «Троих в одной лодке», назвав свою новую повесть «Трое на четырех колесах». Ее герои — те же, что и в первой книге, только теперь они путешествуют не по Темзе, а по Германии, и не в лодке, а на велосипедах. После этого Джером создал еще немало произведений — пьес, романов, очерков, книг воспоминаний.
В 1914 году началась первая мировая война. Джером, несмотря на свои 55 лет, отправился добровольцем на фронт, во Францию, где доставлял с поля боя раненых на санитарной машине.
Последние годы жизни писатель провел в графстве Букингемшир на своей ферме, имевшей необычное название — «Монаший уголок». И в пожилом возрасте он сохранял тот вкус к жизни, который свойствен молодым людям. Умер Джером 14 июня 1927 года.
В наше время, как и сто лет назад, Джером Клапка Джером не в почете у критиков. Откройте любую энциклопедию, и вы найдете маленькую снисходительную статейку о сентиментальном писателе-юмористе средней руки. А вот просто читатели Джерома любили и любят. Видимо, потому, что писал он о повседневной жизни обычных людей, но умел находить в ней столько смешного и светлого, что каждый понимал: мир не хорош и не плох — все дело в том, как ты к нему относишься.
- Написанные книги (116)
- Комментарии книг (43)
- Последние оценки (207)
- Архив книг
| Название книги | Оценка | Cтатус | Дата добавления | Жанр | Стр./Год/Язык | Серия | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 (1) | 05.02.2009, 00:00 |
1233792000 | Зарубежная классика, Зарубежный юмор, …, … | 5/-/RU | |||
|
|
0 (0) | 11.05.2013, 12:54 |
1368273277 | Зарубежная классика, Зарубежный юмор, …, … | 5/-/RU | |||
|
|
0 (0) | 11.05.2013, 12:07 |
1368270425 | Зарубежная классика, Зарубежный юмор, …, … | 7/2011/RU | |||
|
|
3 (1) | 24.04.2017, 13:43 |
1493037780 | Классическая проза, Классическая проза | 129/1961/RU | Английская новелла | ||
|
|
0 (0) | 12.09.2022, 11:30 |
1662978602 | Изучение языков | 11/-/RU | |||
|
|
0 (0) | 11.05.2013, 12:09 |
1368270588 | Детская проза | 2/1957/RU | Джон Ингерфильд и другие рассказы | ||
|
|
0 (0) | 05.04.2014, 00:00 |
1396652445 | Эссе, очерк, этюд, набросок | 14/2011/RU | |||
|
|
0 (0) | 21.12.2014, 08:37 |
1419151053 | Юмористическая проза | 13/2014/RU | |||
|
|
0 (0) | 11.05.2013, 12:13 |
1368270818 | Юмористическая проза | 23/1994/RU | |||
|
|
10 (1) | 04.12.2010, 10:37 |
1291459027 | Юмористическая проза | 6/1995/RU | |||
|
|
7 (1) | 11.05.2013, 12:15 |
1368270911 | Юмористическая проза | 6/2010/RU | Дневник одного паломничества #2 | ||
|
|
0 (0) | 21.03.2016, 13:08 |
1458565733 | Классическая проза, Юмористическая проза, … | 3/1912/RU | Разговоры | ||
|
|
0 (0) | 11.05.2013, 12:24 |
1368271457 | Юмористическая проза | 11/2010/RU | Праздные мысли в 1898 г. | ||
|
|
8.75 (4) | 04.12.2010, 06:23 |
1291443824 | Научная фантастика, Юмористическая фантастика | 69/1968/RU | Зарубежная фантастика (изд-во Мир) | ||
|
|
10 (1) | 11.05.2013, 12:26 |
1368271566 | Юмористическая проза, Путешествия и география | 34/2010/RU | Дневник одного паломничества #1 | ||
|
|
9.6 (5) | 22.02.2009, 00:00 |
1235260800 | Зарубежная классика, Зарубежный юмор, …, … | 1/2017/RU | |||
|
|
10 (1) | 22.02.2009, 00:00 |
1235260800 | Проза прочее | 4/-/RU | |||
|
|
10 (1) | 11.06.2015, 08:22 |
1434007372 | Зарубежная классика, Зарубежный юмор, …, … | 24/2012/RU | |||
|
|
0 (0) | 09.02.2015, 13:20 |
1423488044 | Зарубежная классика, Классическая литература | 17/2014/RU | Зарубежная классика | ||
|
|
0 (0) | 21.03.2016, 13:11 |
1458565893 | Классическая проза, Юмористическая проза, … | 2/-/RU | Разговоры | ||
|
|
0 (0) | 11.05.2013, 12:28 |
1368271682 | Классическая проза | 4/1957/RU | |||
|
|
0 (0) | 22.02.2009, 00:00 |
1235260800 | Проза прочее | 6/-/RU | |||
|
|
0 (0) | 08.08.2012, 08:13 |
1344410003 | Классическая проза | 5/1983/RU | |||
|
|
9.5 (2) | 22.02.2009, 00:00 |
1235260800 | Проза прочее | 1/-/RU | |||
|
|
10 (1) | 01.03.2009, 00:00 |
1235865600 | Проза прочее | 3/-/RU | |||
|
|
8.25 (4) | 26.10.2015, 00:32 |
1445819527 | Классические детективы | 28/2015/RU | Сокровища мирового детектива | ||
|
|
0 (0) | 11.05.2013, 12:30 |
1368271840 | Классическая проза | 2/1993/RU | Наброски в трёх цветах | ||
|
|
0 (0) | 21.03.2016, 13:13 |
1458566002 | Классическая проза, Юмористическая проза, … | 3/-/RU | Разговоры | ||
|
|
0 (0) | 23.03.2016, 22:32 |
1458772322 | Рассказ, Сентиментальная проза, … | 4/2011/RU | Наблюдения Генри #4 | ||
|
|
9.4 (4) | 04.12.2010, 10:37 |
1291459046 | Юмористическая проза | 35/-/RU | |||
|
|
0 (0) | 04.11.2014, 11:15 |
1415099702 | Юмористическая проза | 11/-/RU | |||
|
|
10 (1) | 11.05.2013, 12:33 |
1368271996 | Классическая проза | 3/1993/RU | Наброски в трёх цветах | ||
|
|
9 (1) | 28.08.2013, 09:50 |
1377679840 | Зарубежная классика, Зарубежный юмор, …, … | 9/2013/RU | |||
|
|
0 (0) | 21.12.2015, 13:46 |
1450705617 | Изучение языков, Юмористическая литература | 27/-/RU | |||
|
|
0 (0) | 20.10.2017, 16:30 |
1508513402 | Изучение языков, Зарубежная классика, … | 2/-/RU | |||
|
|
9.75 (8) | 05.04.2014, 00:03 |
1396652604 | Прочие любовные романы, Сентиментальная проза | 3/2011/RU | |||
|
|
9.5 (2) | 22.02.2009, 00:00 |
1235260800 | Проза прочее | 3/-/RU | |||
|
|
0 (0) | 22.02.2009, 00:00 |
1235260800 | Проза прочее | 18/-/RU | |||
|
|
0 (0) | 21.03.2016, 13:05 |
1458565526 | Классическая проза, Классическая проза | 6/-/RU | Разговоры за чайным столом и другие рассказы | ||
|
|
0 (0) | 10.03.2009, 00:00 |
1236643200 | 9/-/RU | ||||
|
|
10 (2) | 04.12.2010, 10:37 |
1291459054 | Юмористическая проза | 7/-/RU | |||
|
|
0 (0) | 04.12.2010, 10:37 |
1291459056 | Классическая проза | 4/1961/RU | |||
|
|
10 (1) | 01.03.2009, 00:00 |
1235865600 | Проза прочее | 5/-/RU | |||
|
|
0 (0) | 30.12.2016, 09:33 |
1483090410 | Зарубежная драматургия, Пьесы, драматургия | 4/-/RU | |||
|
|
0 (0) | 28.03.2016, 19:05 |
1459188333 | Классическая проза, Классическая проза | 5/1957/RU | Томми и Ко | ||
|
|
0 (0) | 21.03.2016, 13:16 |
1458566161 | Классическая проза, Юмористическая проза, … | 4/1912/RU | Разговоры | ||
|
|
0 (0) | 28.03.2016, 19:08 |
1459188483 | Классическая проза, Классическая проза | 7/1957/RU | Томми и Ко | ||
|
|
0 (0) | 02.03.2009, 00:00 |
1235952000 | Проза прочее | 4/-/RU | |||
|
|
8 (1) | 04.12.2010, 10:37 |
1291459059 | Классическая проза | 3/-/RU | |||
|
|
0 (0) | 24.07.2016, 15:46 |
1469371583 | Классическая проза, Классическая проза | 20/2016/RU |
- Полный текст
- Разговоры за чайным столом и другие рассказы
- Разговоры за чайным столом
- Новая утопия
- Вечнозеленые деревья
- Чайники
- Трогательная история
- Ангел, автор и другие
- I. Встреча автора с ангелом
- II. Философия и «демон»
- III. Литература и средние классы
- IV. Удобство иметь хвост
- V. Камины и печи
- VI. Почтовые открытки
- VII. Дикари первобытные и дикари современные
- VIII. Вокзальная и отельная прислуга
- IX. Женская эмансипация
- X. Герой популярной новеллы
- XI. Назидательная беседа
- XII. Американка в Европе
- XIII. Когда же мы наконец возмужаем
- XIV. Призраки и живые люди
- XV. Родители, дети и господа гуманисты
- XVI. Брак и его иго
- XVII. Мужчина и мода
- XVIII. Безвольный человек
- XIX. Женщина и ее предназначение
- Наброски синим, зеленым и серым
- I. Реджинальд Блэк
- II. Графиня Н
- III. Разочарованный Билли
- IV. Кирилл Херджон
- V. История Чарлза и Майценвэ
- VI. Портрет
- VII. «Всеобщий благодетель»
- VIII. Сила привычки
- IX. Кое-что о рассеянности и забывчивости
- X. Женщина, способная очаровывать
- XI. Дух Уайбли
- XII. Джек Берридж
- XIII. Увлекающийся человек
- XIV. Неудачливый человек
- XV. Мистер Пирамид
- XVI. О модах и еще кое о чем
- XVII. Город на дне моря
- XVIII. Плавучие деревья
- Томми и К
- Как зародился журнал Питера Хоупа
- Мистер Клодд назначает себя издателем журнала
- Младенец вносит свой вклад
Разговоры за чайным столом и другие рассказы
Разговоры за чайным столом
– Они очень милы, по крайней мере, некоторые из них, хотя я бы не стала писать таких писем, – сказала светская дама.
– Интересно бы прочесть любовное письмо, написанное вами, – заметил второстепенный поэт.
– Очень любезно с вашей стороны говорить так, – отвечала она. – Мне никогда в голову не приходило, чтобы вам хотелось получить такое письмо.
– Я всегда говорил, что меня, в сущности, не понимают, – возразил поэт.
– Мне кажется, томик искусно подобранных писем мог бы иметь хороший сбыт, – заметила студентка. – Пожалуй, писанных одной рукой, но к различным корреспондентам. Когда пишешь к одному лицу, волей-неволей принужден повторяться.
– Или от различных поклонников к той же особе, – предложил философ. – Было бы интересно, как реагируют различные темпераменты на одно и то же. Это пролило бы свет на темный вопрос: принадлежат ли качества, которыми мы украшаем предмет нашего поклонения, ему в действительности, или мы их ему только приписываем при случае. Написал ли бы одной и той же женщине один: «Моя королева», а другой «Моя милашка», или она для всех влюбленных была бы только сама собой.
– Отчего вам не попытаться составить такой сборник, конечно, выбирая только самые интересные послания? – предложил я светской даме.
– А как вы думаете, это не повлекло бы за собой много неприятностей? – спросила она. – Те, чьих писем я бы не включила в сборник, никогда бы мне не простили. Так всегда бывает, если кого забудешь пригласить на похороны: каждый воображает, что это сделано нарочно, чтобы обидеть его.
– Первое любовное письмо я написал, когда мне было шестнадцать лет, – сказал поэт. – Ее звали Моникой. Она была продавщицей. Никогда мне не приходилось видеть такой совершенной земной красоты. Я написал письмо и запечатал его, но не знал, сунуть ли ей в руку, когда я проходил мимо нее на чтении по четвергам вечером, или подождать до воскресенья.
– Вопроса тут не может быть, – сказала студентка рассеянно, – конечно, лучший момент – при выходе из церкви. Тут все толпятся, и – извините – в руке молитвенник…
– Мне не пришлось решать, – продолжал поэт. – В четверг ее место оказалось занято краснолицей девицей, ответившей на мой вопросительный взгляд идиотским смехом, а в воскресенье я напрасно искал ее по скамейкам. Впоследствии я узнал, что ей внезапно отказали от места в среду, и она уехала домой. Кажется, не я один искал ее. Я оставил письмо, написанное к ней, на своем пюпитре и со временем забыл о нем. Через несколько лет я действительно полюбил и снова принялся за письмо, которое должно было захватить ее, как тонкое невидимое очарование. Я намеревался вплести в него любовь всех веков. Окончив послание, я перечел его и остался доволен. Но тут случайно, в ту минуту, как я собирался запечатать его, я перевернул свой пюпитр, и вместе с другими бумагами на пол упало письмо, писанное мною семь лет тому назад, когда я был еще мальчиком. Из простого любопытства я распечатал его, думая, что оно меня позабавит. Кончилось тем, что я отправил его вместо только что оконченного. Смысл его был тот же; но чувство было выражено несравненно лучше, гораздо искреннее, с большей художественной простотой.
– В конце концов, что может человек сделать больше, чем сказать женщине, что он ее любит? Все прочее только живописные аксессуары, стоящие наравне с разглагольствованиями в «Полном и точном описании от нашего специального корреспондента», развитом из рейтеровской телеграммы в три строчки.
– Следуя такому взгляду, вы могли бы выразить всю трагедию «Ромео и Джульетты» в двух словах:
Сильно друг друга любили
И жизнь вместе кончить решили.
– Услыхать, что тебя любят, – это только начало теоремы, так сказать, изложение предварительных условий, – заметила студентка.
– Или эпиграф в начале поэмы, – вторила ей старая дева.
– Интерес в доказательстве: почему он меня любит, – продолжала студентка.
– Я однажды предложила этот вопрос одному человеку, – сказала светская дама. – Он ответил, что это происходит помимо его воли. Мне такой опыт показался ужасно глупым, вроде того, что вам отвечает горничная, когда разобьет, например, ваш любимый чайник. Теперь же мне кажется, что ответ был не глупее всякого другого.
– Более того, – пояснил философ, – это единственное объяснение.
– Хорошо было бы, если бы этот вопрос можно было предлагать людям, не обижая их, – сказал поэт. – Мне так часто хочется задать его. Почему красавицы, богатые наследницы выбирают себе в мужья незаметных мужчин, третирующих их? Почему старые холостяки, вообще говоря, – симпатичные, добросердечные люди, а старые девы, по крайней мере, многие из них, – такие кроткие и милые?
– Может быть, – высказала свое предположение старая дева, – потому что… – Но тут она запнулась.
– Прошу вас, продолжайте, – закончил философ. – Мне так интересно выслушать ваше мнение.
– Нет, я не хотела сказать ничего особенного, – отнекивалась старая дева. – Я забыла…
– Если бы только можно было получать правдивые ответы, сколько света они пролили бы на скрытую половину жизни! – сказал поэт.
– Мне кажется, что любовь более всего прочего выставляется напоказ, – сказал философ. – Она опошляется. Ежегодно тысячи театральных пьес, повестей, поэм и этюдов разрывают занавес храма любви и влекут ее обнаженную на рыночную площадь на позорище скалящей зубы толпы. В миллионе коротких рассказов, то комических, то серьезных, она трактуется более или менее бесцеремонно, более или менее понятно, мимоходом, на лету, с насмешкой. Ей не оставляется ни тени самоуважения. Ее превращают в центральную фигуру всякого фарса, поют о ней и изображают в танцах в каждом мюзик-холле; ее приветствует неистовый крик зрителей с галерок, над ней громко хохочет партер. Это расхожая монета каждого сатирического журнала. Мог бы при подобных угрозах какой угодно божок – будь то сам Мумбо-Джумбо, – не сбежать от своих поклонников? Все ласкательные имена превратились в ходячие выражения, все ласки опошлились на подмостках. При каждом книжном выражении, которое мы произносим, мы сейчас же вспоминаем сто пародий на него. Нет такого положения, которое не было бы заранее испорчено американскими юмористами.
– Не раз мне приходилось присутствовать на пародиях Гамлета, – сказал поэт, – но пьеса продолжает интересовать меня. Помню я одну свою пешеходную экскурсию по Баварии. Местами по дороге там попадаются распятия, не имеющие в себе ничего особенного. Все они изготовлены механическим способом одной фирмой; но проходящие крестьяне с благоговением преклоняются перед Христом. Можно унизить только то, что действительно достойно презрения.
– Патриотизм – великая добродетель, а джингоисты сделали его смешным, – возразил философ.
– Напротив, они научили нас различать истинное от фальшивого, – сказал поэт. – Так и с любовью. Чем больше она обездушивается, выставляется на посмешище, служит предметом спекуляций, тем менее является желание выказывать ее, – «быть влюбленным в любовь», как выражался про себя Гейне.
– Прирожденна ли нам необходимость любить, – спросила молодая девушка, – или мы научаемся ей, потому что такова мода? Постепенно свыкаемся с нею, подобно тому как мальчик свыкается с привычкой курить, потому что все другие мальчики курят, и мы не хотим стоять особняком?
– Большинство женщин и мужчин не способны любить, – сказал поэт. – У некоторых это чисто животная страсть, у других – тихая привязанность.
– Мы разговариваем о любви, будто это вполне известная величина, – заметил философ. – В конце концов, сказать, что человек полюбил – все равно, будто сказать про него, что он рисует или играет на скрипке: это не дает нам ровно никакого объяснения, пока мы не увидим образцов его таланта. Слыша разговор на тему о любви, можно вынести впечатление, что любовь Данте и какого-нибудь светского молодого человека, Клеопатры и Жорж Санд – совершенно одно и то же.
– Это было предметом вечного огорчения для бедной Сюзанны, – заговорила светская дама; – она никогда не могла убедиться, любит ли ее Джим в действительности. И это очень грустно, так как я убеждена, что он по-своему был привязан к ней. Но он не мог делать многого, что она требовала от него: она была так романтична. Он пытался подладиться под ее тон. Он ходил смотреть все поэтические пьесы и изучал их. Но у него не было такой жилки, и он от природы был неловок. Он влетал в комнату и бросался перед ней на колени, не замечая ее собачки, так что вместо того, чтобы излить свою душу перед Сюзанной, ему приходилось вставать с поспешным: «Ах, извините! Надеюсь, ей не больно, бедняжке». И этого было, конечно, достаточно, чтобы вывести Сюзанну из себя.
– Молодые девушки так неблагоразумны, – заметила старая дева. – Они бегут за тем, что блестит, а золото замечают только тогда, когда уже поздно. Сначала он все – глаза, но сердца нет.
– Я знал девушку, – вступил я в разговор – или, скорее, молодую женщину, которую вылечили от ее безумства гомеопатическим методом. Ее сильно тревожило, что муж перестал ухаживать за нею.
– Это печально, – заметила старая дева. – Иногда вина в том женщины, иногда мужчины, а чаще виноваты оба. Что стоит не забывать маленькие проявления внимания, ласковые слова, – все эти мелочи, имеющие такое значение для любящих и так скрашивающие жизнь?
– В основании всего на свете лежит некоторый здравый смысл, – сказал я. – Секрет жизни в том, чтобы не отклоняться от него ни в ту, ни в другую сторону. Он был самым великолепным женихом, не знавшим счастья, когда ее глаза не смотрели на него; но не прошло и года с их замужества, как она с изумлением увидела, что он может быть счастлив, не сидя рядом с ней, и что он старается понравиться другим женщинам. Он проводил целые вечера у себя в клубе, иногда уходил на одинокую прогулку, по временам запирался у себя в кабинете. Дошло до того, что однажды он ясно выразил намерение уехать на неделю на рыбалку. Она не жаловалась – по крайней мере, не жаловалась ему в лицо.
– Вот это была с ее стороны глупость, – бросила студентка. – Молчание в таких случаях – ошибка. Противная сторона, не зная, что с вами – когда вы таите про себя свою досаду, – делается с каждым днем неприятнее.
– Она делилась своими горестями с подругой, – объяснил я.
– Как я не люблю людей, поступающих так, – сказала светская дама. – Эмилия ни за что не хотела заговорить с Джорджем. Она приходила ко мне и жаловалась на него, точно я была за него ответственна; а ведь я даже не мать ему. После нее являлся Джордж, и мне приходилось выслушивать все снова, но уже с его точки зрения. Мне все это, наконец, так надоело, что я решила положить конец излияниям.
– И преуспели в своем намерении? – поинтересовалась старая дева.
– Я узнала, что Джордж придет однажды вечером, и попросила Эмилию подождать в зимнем саду, – рассказала светская дама. – Она думала, что я дала ему несколько хороших советов, а я вместо того выразила ему свою симпатию и ободрила его, чтоб он поделился со мной всем, что у него на душе. Он исполнил мое желание, и это так взбесило Эмилию, что она выбежала и высказала все, что думала о нем. Я их потом оставила наедине. Им обоим это пошло впрок, и мне тоже.
– В моем же случае дело кончилось совсем иначе, – сказал я. – Ее подруга рассказала ему, что происходит. Она объяснила ему, как его небрежное отношение и забывчивость постепенно подтачивали привязанность жены к нему. Он стал обсуждать с ней этот вопрос.
«Но влюбленный и муж не одно и то же, – возразил он. – Положение совершенно иное. Вы бежите за человеком, которого хотели поймать, но раз вы догнали его, вы умеряете шаг и идете спокойно с ним, переставши окликать его и махать ему платком».
Их общий друг представлял вопрос с другой стороны.
«Вы должны сохранять то, что получили, – говорила подруга, – иначе оно ускользнет от вас. Известное поведение и манера держать себя заставили милую девушку обратить на вас внимание; являясь иным, чем вы были, как вы можете ожидать, чтобы она сохранила свое мнение о вас?»
– Но вы полагаете, что мне следовало бы и говорить и держать себя, став ее мужем, так же как тогда, когда я был ее женихом?
– Именно так, – отвечала подруга. – Отчего же нет?
– Мне это кажется недоразумением, – проговорил он.
– Попытайтесь и посмотрите, что будет, – сказала подруга.
– Хорошо, попытаюсь, – согласился он и, отправившись домой, принялся за дело.
– Что же оказалось, поздно? – спросила старая дева. – Или они опять сошлись?
– В продолжение месяца они проводили вместе целые сутки, – ответил я. – А потом жена намекнула, что ей доставило бы удовольствие провести вечерок вне дома.
Утром, когда она причесывалась, он не отходил от нее; начинал целовать ее волосы и портил ей прическу. За обедом он держал ее руку под столом и настаивал, что он станет кормить ее с вилки. До свадьбы он позволял себе подобную вещь раз или два на пикниках, и впоследствии, когда он, сидя за столом против нее, вскрывал письма, она укоризненно напоминала ему о том. Теперь он целый день не отходил от нее; ей не удавалось приняться за книгу; он начинал читать ей вслух, обыкновенно поэмы Браунинга или переводы из Гете. Он читал вслух плохо, но в те дни, когда он за ней ухаживал, она выразила свое удовольствие на его попытку, и теперь он, в свою очередь, напомнил ей об этом. Он предполагал, что если играть в игру, то и жена должна принимать в ней участие. Если он обязан ликовать, то и она должна отвечать ему радостным блеянием. Он объяснял, что они останутся влюбленными до конца жизни, и она не находила логического довода, чтобы ответить ему. Когда она собиралась писать письмо, он выхватывал бумагу из-под милой ручки, придерживавшей ее, и, конечно, размазывал чернила. Если он не подавал ей иголок и булавок, поместившись у ее ног, то покачивался, сидя на ручке ее кресла, и порой, не удержавшись, падал на нее. Когда она шла за покупками, он сопровождал ее и играл смешную роль у портнихи. В обществе он не обращал внимания ни на кого, кроме нее, и обижался, если она говорила с кем-нибудь помимо него. Правда, они не часто бывали где-либо в гостях. От большинства приглашений он отказывался и за себя и за нее, напоминая ей, как некогда она считала вечер, проведенный наедине с ним, за лучшее из удовольствий. Он называл ее смешными именами, лепетал с ней по-детски, и раз десять на дню ей приходилось поправлять свою прическу. В конце месяца, как я уже сказал, она сама предложила маленький перерыв в нежностях.
– Будь я на их месте, я бы потребовала развод. Я бы возненавидела его на весь остаток жизни, – вставила слово студентка.
– Только за то, что он постарался сделать вам приятное? – удивился я.
– За то, что он мне доказал, как я была глупа, нуждаясь в его любви, – возразила она.
– Вообще человека легко поставить в смешное положение, поймав его на слове, – изрек философ.
– Особенно женщин, – подтвердил поэт.
– Я спрашиваю себя, действительно ли между мужчинами и женщинами существует такая разница, как мы думаем? – заговорил философ. – Та, которая существует, не представляет ли из себя скорее продукт цивилизации, чем природное свойство? Не выработана ли она воспитанием, а вовсе не инстинктом?
– Отрицая разницу между женщиной и мужчиной, вы лишаете жизнь половины ее поэзии, – заметил поэт.
– Поэзия создана для людей, а не люди для поэзии, – возразил философ. – Мне кажется, разница, о которой вы говорите, представляет из себя «золотое дно» поэтов. Так, например, газеты всегда стоят за войну. Это дает им материал для разглагольствований и на бирже не остается без влияния. Чтобы убедиться в первоначальных намерениях природы, самое надежное – наблюдать наших родственников, то бишь животных. И здесь мы не видим основной разницы – разница только в величине.
– Я согласна с вами, – сказала студентка. – Когда в мужчине проснулась смекалка, то он увидел всю пользу, какую может извлечь, пользуясь превосходством своей грубой силы, чтобы сделать из женщины рабу. В других же отношениях она, без сомнения, стоит выше его.
– По женской логике, равенство полов всегда значит превосходство женщины, – заметил я.
– Это очень любопытно, – сказал философ. – По вашим словам выходит, что женщина никогда не может быть логичной.
– А разве все мужчины логичны? – спросила студентка.
* * *
– Женщину заставляет страдать преувеличение собственной ценности, – сказал философ. – Это кружит ей голову.
– Следовательно, вы признаете, что у нее есть голова? – спросила студентка.
– Я всегда был того мнения, что природа намеревалась снабдить ее этой частью тела, – ответил философ, – только поклонники всегда представляют женщину безмозглой.
– Почему у умной девушки волосы всегда прямые? – спросила светская дама.
– Потому что она не завивает их, – усмехнулась студентка.
– Мне это никогда не приходило в голову, – проговорила светская дама.
– Это надо заметить в связи с тем, что мы мало что слышим о женах умных людей. А когда приходится слышать, как, например, о жене Карлейля, то, кажется, лучше бы и не слыхать.
– Когда я был моложе, я много раздумывал о женитьбе. Молодые люди вообще часто думают об этом. «Жена моя, – рассуждал я, – должна быть умной женщиной». Замечательно: из всех женщин, которых я любил, не было ни одной выдающейся по своему уму. Конечно, присутствующие исключаются.
– Почему в самом серьезном для нашей жизни – женитьбе – серьезные соображения совсем не принимаются во внимание? – со вздохом проговорил философ. – Подбородок с ямочкой может – и очень часто – обеспечить девушке лучшего из мужей; между тем как на нравственные достоинства и ум, соединенные в одной личности, нельзя возлагать надежды в смысле приобретения хотя бы плохого супруга.
– Мне кажется, объяснить это можно тем, что в самом естественном вопросе нашей жизни – браке – существенную роль играют наши природные инстинкты. В браке – какими риторическими цветами ни украшайте голый факт – проявляется чисто животная сторона нашего существа: мужчину к нему влекут его примитивные желания; женщину – прирожденное стремление к материнству.
Тонкие белые руки старой девы задрожали на ее коленях.
– Зачем пытаться объяснить все прекрасные вещи в мире? – сказала она, говоря с не свойственным ей оживлением. – Краснеющий юноша, застенчивый, поклоняющийся предмету своего обожания, как какой-нибудь мистический святой; молодая девушка, вся зачарованная мечтами! Они не думают ни о чем, кроме как друг о друге.
– Исследование таинственных истоков горного потока не мешает нам прислушиваться к его журчанью в долине, – объяснил философ. – Скрытые законы нашего бытия питают каждый лист нашей жизни, как сок, протекающий по дереву. Развивающаяся почка и созревший плод – только изменения внешней формы этого сока.
– Я ненавижу добираться до корня вещей, – молвила светская дама. – Покойный папа был просто помешан на этом. Он нам рассказывал о происхождении устриц, когда мы их раскрывали. Мама никогда не могла притронуться к ним после этого. Или за десертом у него с дядей Павлом начинался разговор, какая кровь – бычья или свиная – лучше для удобрения столового винограда? Помню, как за год перед тем, когда Эмма начала выезжать, пал ее любимый пони. Никогда она ни до, ни после ни о чем так не горевала, как о нем. Она спросила папу, не позволит ли он похоронить его в саду. Ей хотелось иногда приходить поплакать на его могилу. Папа очень мило отнесся к ее желанию и погладил ее руку.
– Что же, милочка, мы его закопаем у новой малиновой гряды.
Как раз в эту минуту к нам подошел старик Пардо, наш главный садовник, и, дотрагиваясь до шляпы, сказал:
– Вот я все хочу спросить мисс Эмму, не положить ли нам бедную лошадку под одним из персиковых деревьев. Они у нас что-то захирели в последнее время.
Он говорил, что это красивое местечко и что он поставит там камень вроде памятника. Эмме в эту минуту было все равно, где они положат ее любимца, и мы предоставили отцу и садовнику обсуждение вопроса. Не помню, на чем решили; знаю только, что ни одна из нас в продолжение двух лет не ела ни малины, ни персиков.
– Всему свое время, – сказал философ. – Читая, как поэт воспевает румяные щечки своей возлюбленной, мы, так же как и он, не спрашиваем, откуда берется окраска крови и сколько она сохраняется. Тем не менее вопрос интересный.
– Мы, мужчины и женщины, – любимцы природы, – ответил поэт. – Мы – ее надежда. Ради нас она отрешилась от многих из своих убеждений, говоря себе, что они устарели. Она отпустила нас от себя в чужую школу, где смеются над всеми ее понятиями… Мы усвоили новые, странные взгляды, возбуждающие недоумение старушки. Однако когда мы возвращаемся домой, интересно отметить, как мы мало отличаемся от тех ее детей, которые не расставались с ней. Запас наших слов выработался и расширился, но лицом к лицу с реальностью существования он остался неизменным. Наши потребности усложнились: обеды с десятью переменами кушаний и всем прочим заменили пригоршню фруктов или орехов, собранных без труда, мясо откормленного быка и масса хлопот для его приготовления – простые вегетарианские обеды, не требующие затраты времени. Но подвинулись ли мы при этом много вперед против нашего маленького брата, который, проглотив сочного червячка au naturel, взлетает на первую попавшуюся ветку и, совершая легкое пищеварение, славит в своей песенке Бога? Квадратный кирпичный ящик, где мы движемся, загроможденный деревянной рухлядью, увешанный тряпками и полосами пестрой бумаги, набитый всякой всячиной из плавленого кремня и формованной глины, заступил место дешевой, удобной пещеры. Мы одеваемся кожами других животных, вместо того чтобы дозволить нашей собственной коже развиться в естественную защиту. Мы обвешиваем себя кусками камня и металлов, но подо всем этим остаемся двуногими животными, и вместе с другими боремся за жизнь и кусок хлеба. Мы можем видеть повторение наших трагедий и комедий в каждой травке. Существа в шерсти и перьях – мы сами в миниатюре.
– Да, я знаю; я часто слышу это, – сказала светская дама. – Только это пустяки. Могу доказать вам.
– Это не трудно, – заметил философ. – Пустяки – обратная сторона медали, запутанные концы нити, которую прядет мудрость.
– В нашем колледже была одна мисс Эскью, – сказала студентка. – Она соглашалась со всеми: с Марксом она была социалисткой; с Карлейлем – сторонницей благожелательного деспотизма; со Спинозой – материалисткой; с Ньютоном – фанатичкой. Перед ее выходом из колледжа у меня был продолжительный разговор с ней, и я пыталась уразуметь ее. Она была девушка интересная.
«Мне кажется, – сказала она мне, – я могла бы сделать выбор между ними, если бы они отвечали друг другу. Но они этого не делают. Они не хотят слушать друг друга. Каждый только повторяет то, что касается его одного».
– Ответа никогда не бывает, – объяснил философ. – Зерно каждого искреннего убеждения – истина. В жизни одни только вопросы, а решение их в «ближайшем номере».
– Презабавная была она, – продолжала молодая девушка, – мы, бывало, смеялись над ней.
– И вполне справедливо, – согласился философ.
– Это все равно, что ходить за покупками, – сказала старая дева.
– Ходить за покупками?! – воскликнула студентка.
Старая дева покраснела.
– Да, мне так кажется… Конечно, это звучит странно. Мне пришло в голову такое сходство…
– Вы хотите сказать, что выбор – вообще трудная вещь? – помог я ей.
– Вот именно, – ответила она. – Вам показывают такую массу всевозможных вещей, что вы совершенно теряете всякую способность рассуждать. По крайней мере, со мной это случается. Я начинаю досадовать на себя. Это ужасная бесхарактерность с моей стороны, но ничего не поделаешь. Хотя бы, например, этот костюм, который теперь на мне…
– Очень мил сам по себе, – заметила светская дама. – Я любовалась им, хотя, откровенно говоря, темные цвета больше идут к вам.
– Вы правы, – согласилась старая дева, – я сама его ненавижу. Только, знаете, как это случилось? Я чуть не все утро проходила по магазинам. Устала страшно. И вот…
Она вдруг оборвала себя и извинилась:
– Простите; я прервала разговор.
– Я благодарен вам за то, что вы нам высказали, – сказал философ. – Мне это кажется объяснением.
– Чего? – спросила студентка.
– Того, как многие из нас составили себе образ мыслей. Мы не любим выходить из лавки с пустыми руками, – ответил философ и затем обратился к светской даме:
– Вы хотели объяснить, доказать…
– Что я говорил глупости, – напомнил поэт. – И если вам не неприятно…
– Нисколько, – ответила светская дама, – это очень просто. Дары цивилизации не могут быть таким бессмысленным хламом, каким вы, адвокаты варварства, выставляете их. Я помню, как однажды дядя Павел принес нам обезьянку, вывезенную им из Африки. Из нескольких обрубков мы соорудили нечто вроде дерева для «моей маленькой родственницы», как, предполагаю, вы бы ее назвали. Получилось прекрасное подражание веши, к которой она и ее предки, вероятно, привыкли в течение тысячелетий; и первые две ночи мартышка спала, сидя на сучьях. На третью ночь проказница выгнала кошку из ее корзины и улеглась на мягкой подушке, а после того знать не хотела дерева, ни настоящего, ни поддельного, для ночлега. Через три месяца, когда мы предлагали ей орехи, она выхватывала их у нас из рук и бросала их нам в голову, предпочитая им пряники и очень сладкий жидкий чай. А когда мы приглашали ее отойти от топившейся плиты в кухне и пробежаться по саду, приходилось тащить ее силой, причем она отчаянно бранилась. Я вполне разделяю мнение мартышки. Я тоже предпочитаю стул, на котором сижу, – «деревянную рухлядь», по вашему выражению – самому удобному обломку старого красного песчаника в наиудобнейше меблированной из пещер; и достаточно вырядилась, чтобы воображать, что гораздо красивее в этом платье, чем мои братья и сестры, первоначально носившие его: они не умели использовать его.
– Вы всегда будете прелестны, что ни наденете, – проговорил я с убеждением, – даже…
– Я знаю, что вы собираетесь сказать, – перебила меня светская дама, – пожалуйста, не договаривайте. Это неприлично, и, кроме того, я не согласна с вами. Вы сказали бы: «Если б у меня была толстая, грубая кожа, вся поросшая волосами, и нечем было бы заменить ее…»
– Я только говорю, что так называемая цивилизация сделала не много для смягчения наших животных инстинктов, – сказал поэт. – Ваши доводы подтверждают мою теорию. Ваши доказательства в пользу цивилизации сводятся только к тому, что она сгущает аппетит мартышки. Для этого не было надобности ходить так далеко за примером. Современный дикарь пренебрегает хрустальной водой источника ради миссионерского джина. Он даже отрекается от своих перьев, которые не лишены живописности, ради безобразного цилиндра. Панталоны из клетчатой материи и шампанское следуют в свою очередь. Где же прогресс? Цивилизация доставляет более удобств нашему телу. С этим я согласен. Но принесла ли она вам что-нибудь существенное в смысл прогресса, до чего мы не дошли бы скорее другими путями.
– Она дала нам искусство, – сказала студентка.
– Когда вы говорите «нам», я предполагаю, что вы имеете в виду одну личность из пятисот тысяч, для которой искусство имеет значение не только как пустое имя. Но если даже, миновав бесчисленные толпы, не слыхавшие подобного названия, вы обратите свое внимание на несколько тысяч, рассеянных по Европе и Америке и болтающих о нем, то как вы думаете: многие ли из последней категории действительно находятся под его влиянием; у многих ли оно входит в жизнь, составляет насущную потребность? Посмотрите на физиономии немногочисленных посетителей, добросовестно, несмотря на скуку, осматривающих тысячи наших картинных галерей и художественных музеев, где они с каталогами в руках взирают на разрушенные храмы или соборные башни, пытаясь с самоотвержением мучеников восхищаться старинными мастерами, над которыми про себя они готовы посмеяться, или искалеченными статуями, которые, не будь они предупреждены, они сочли бы за разбитые украшения загородного ресторана. Не больше одного человека из десятка наслаждается тем, на что смотрит, и он не всегда самый лучший из этого десятка. Нерон был любитель искусства, а в новейшее время Август Смелый Саксонский, «человек греха», по выражению Карлейля, оставил несомненные доказательства, что он был вместе с тем знаток чистейшей воды. Можно вспомнить имена и еще более современные. Но уверены ли мы, что искусство возвышает?
– Вы говорите только ради того, чтобы говорить, – заметила ему студентка.
– Что также вполне разрешается, – напомнил ей поэт. – Однако этот вопрос стоит обсудить. Приняв даже, что искусство вообще служит человечеству, что оно обладает в действительности хотя одной десятой долей возвышающих душу свойств, широковещательно приписываемых ему, – это я считаю очень щедрым предположением, и тогда влияние его на мир окажется бесконечно малым.
– Оно распространяется сверху вниз, – заметила студентка, – от немногих оно переходит к массе.
– Процесс, по-видимому, идет очень медленно, – ответил поэт. – Мы могли бы достигнуть того же результата скорее, устранив посредника.
– Какого посредника? – спросила студентка.
– Художника, – объяснил поэт, – человека, превратившего искусство в дело торговца, торгующего за прилавком впечатлениями. Что такое, в конце концов, Коро или Тернер в сравнении с прогулкой весною по Шварцвальду или с видом Хэмптстед-парка в ноябрьские сумерки? Если бы мы были менее заняты приобретением «благ цивилизации», добиваясь в продолжение столетий создания мрачных городов и крытых железом ферм, мы бы имели больше времени для того, чтобы полюбить красоту мира. А теперь мы так поглощены заботами о «цивилизовании» самих себя, что забыли, что значит жить. Мы похожи на одну старушку, с которой мне однажды пришлось проезжать в одном экипаже через Симплонский туннель.
– Кстати, – заметил я, – в будущем мы будем избавлены от всех неудобств. Новый железнодорожный путь почти окончен. На переезд из Домо д’Орсоло до Брига потребуется не больше двух часов. Говорят, туннель великолепен.
– Будет очень приятно, – со вздохом согласился поэт. – Я уже предвижу будущее, когда благодаря «цивилизации» вовсе не будет существовать путешествий. Нас будут зашивать в мешки и выстреливать нами в любом направлении. В то же время, о котором я говорю, приходилось довольствоваться дорогой, извивавшейся по самым живописным местам Швейцарии. Мне поездка нравилась, но моя спутница не в состоянии была оценить ее. Не потому, чтобы она оставалась равнодушна к пейзажу, – напротив, он, как она объяснила мне, приводил ее в восторг. Но ее багаж отвлекал ее внимание. Его оказалось семнадцать мест, и каждый раз, как старая колымага качалась или кренилась набок, – что повторялось приблизительно через каждые тридцать секунд, – спутница моя с ужасом смотрела, не выскочил ли какой-нибудь чемодан. Полдня проходило у ней в счете и укладке вещей, и единственный вид, интересовавший ее, был вид облака пыли позади нас. Какой-то картонке удалось исчезнуть из виду, и после того моя спутница сидела в обнимку с оставшимися шестнадцатью, которые могла захватить руками, и постоянно вздыхала.
– Я знала одну итальянскую графиню, – сказала светская дама, – она была в школе с мамой. Никогда она не сворачивала и на полмили со своей дороги ради красивого вида.
«Зачем существуют художники? – говорила она. – Если есть что-либо красивое, пусть принесут мне, и я посмотрю».
Она говорила, что предпочитает изображение самой вещи, что последняя в таком виде гораздо художественнее.
«В ландшафте, – жаловалась она, – всегда найдется вдали какая-нибудь труба, или на первом плане ресторан, которые портят весь эффект. Художник их уничтожает. Если необходимо оживить пейзаж, он поставит корову или хорошенькую девушку. Настоящая корова, окажись она тут случайно, стояла бы где-нибудь в неподобающем месте и в неподобающей позе; девушка непременно оказалась бы толстой и бог весть в какой шляпе. Художник знает, какая тут должна быть девушка, и постарается, чтоб на ней была подходящая шляпа». Графиня говорила, что так всегда оказывается и в жизни.
– К тому все и идет, – ответил поэт. – Природа, – как определил однажды один известный художник, – не поспевает за нашими идеалами. В прогрессивной Германии улучшают водопады и украшают скалы. В Париже разрисовывают детские личики.
– Разве можно винить в этом цивилизацию? – вступилась студентка. – Древние бретонцы умели хорошо подбирать краски.
– Первые слабые шаги человека в искусстве всегда направляются к банке с румянами и краске для волос, – утверждал поэт.
– Какие у вас узкие взгляды! – засмеялась старая дева. – Цивилизация дала нам музыку. Не станете же вы отрицать ее значение для нас?
– Милая леди, – ответил поэт, – вы заговорили именно о той отрасли искусства, до которой цивилизации нет вовсе или очень мало дела – о единственном искусстве, которым природа одарила человека наравне с птицами и насекомыми, о единственном наслаждении, которое мы разделяем со всеми созданиями, исключая только собак; но даже вой собаки, может быть, есть добросовестная, хотя и неудачная, попытка произвести своего рода музыку. У меня был фокстерьер, неизменно подвывавший в тон. Ювал не помог нам, а, напротив, стеснил нас. Он наложил на музыку оковы профессионализма, так что теперь мы уподобляемся дрожащим мальчуганам из лавки, платящим деньги за вход, чтобы посмотреть на игру, в которую они сами не смеют играть. Так и мы сидим молча в своих креслах, слушая исполнителя, которому платим. Музыка должна бы быть всеобщим достоянием. Человеческий голос всегда останется превосходнейшим инструментом из всех, каким мы обладаем. Мы даем ему огрубеть, чтобы он лучше звучал через медные трубы. Музыка могла бы быть выразительницей идеи всего мира; цивилизация превратила ее в язык замкнутого кружка.
– Кстати, – сказала светская дама, – раз разговор зашел о музыке. Слышали вы последнюю симфонию Грига? Она недавно появилась. Я ее разучила.
– Ах, сыграйте! – попросила старая дева. – Я так люблю Грига.
– Что касается меня, то я всегда был того мнения… – начал было я.
– Помолчим, – остановил меня поэт.
* * *
– Я никогда не любила ее, – сказала старая дева. – Я всегда знала, что она бессердечная.
– Мне кажется, что она поступила, как истинная женщина, – парировал поэт.
– Право, вас следовало бы прозвать воскресшим доктором Джонстоном, – сказала светская дама. – Мне кажется, зайди спор о прическе фурий, вы бы стали восхищаться ею. Вам бы, вероятно, показалось, что это естественные кудри.
– У него в жилах течет ирландская кровь, – объяснил я. – Ирландец всегда должен составлять оппозицию правительству.
– Мы должны быть благодарны нашему поэту, – заметил философ. – Что может быть скучнее приятного разговора, то есть такого, где каждый старается сказать другому только приятное. А сказанная неприятность только подзадоривает.
– Может быть, это причина, почему современное общество так скучно. Наложив табу на всякое разногласие, мы отняли у нашего разговора всю пикантность. Религия, пол, политика – всякий предмет, о котором действительно можно подумать, тщательно изгоняется из светских собраний. Разговор превратился в хор или, – как остроумно выразился один писатель, – «в погоню за очевидностью без вывода». Если мы только не заняты сплетнями. То и дело слышно: «Вполне согласна!.. Совершенно верно… И я того же мнения»… Мы сидим и задаем друг другу загадки: «Что сделал сторонник буров?.. Что сделал Юлий Цезарь?»
– Мода заступила место силы, когда сила отсутствовала в продолжение нескольких столетий, – прибавил философ. – Даже в общественных делах заметна такая же тенденция. В настоящее время невыгодно принадлежать к оппозиции. Главная забота Церкви – достигнуть единогласия со светскими мнениями. Голос пуританской совести с каждым днем слабеет.
– Я думаю, что именно поэтому Эмили никогда не могла ужиться с бедным Джорджем. Он соглашался с ней во всем. И она говорила, что чувствует себя при этом ужасно глупой.
– Человек – животное, созданное для борьбы, – объяснил философ. – Один офицер, принимавший участие в южноафриканской войне, недавно рассказывал мне, как однажды, когда он командовал ротой, пришло известие о появлении в соседстве небольшого неприятельского отряда. Рота тотчас бодро выступила и, после трех дней трудного пути по холмистой местности, встретилась с врагом. Оказалось, что это вовсе не враг, а сбившийся с пути отряд императорской полиции. Выражения, которыми рота встретила несчастных соотечественников и братьев по крови, – по словам моего приятеля, оставляли желать лучшего относительно вежливости.
– Я сама возненавидела бы человека, который постоянно соглашался бы со мной, – заявила студентка.
– Сомневаюсь, – возразила светская дама.
– Почему? – спросила студентка.
– Я была о вас лучшего мнения, дорогая, – ответила светская дама.
– Я рад, что вы поддерживаете меня, – сказал поэт. – Я сам всегда смотрел на представителя дьявола, как на самого полезного члена справедливого суда.
– Помню, как мне однажды пришлось быть на обеде, где известный судья встретился с не менее известным адвокатом, клиента которого судья именно в этот день приговорил к повешению. «Всегда чувствуешь удовлетворение, когда осудишь преступника, которого вы защищаете. Чувствуешь полную уверенность, что он был виноват». Адвокат ответил, что он с гордостью будет вспоминать слова судьи.
– Кто это сказал: «Прежде чем нападать на ложь, надо очистить ее от истины»?
– Мне кажется, Эмерсон, – предположил я не вполне уверенно.
– Очень может быть, – согласился философ. – Многое зависит от репутации. Часто цитаты приписывают Шекспиру.
– С неделю тому назад мне пришлось войти в одну гостиную, где хозяйка встретила меня словами: «А мы как раз говорили о вас. Это не ваша статья?» Она указала на номер журнала, лежавший на столе. «Нет, – ответил я, – меня уже спрашивали об этом несколько раз. По-моему, статья не серьезная». – «Да, должна согласиться с вами», – сказала хозяйка.
– Что хотите, а я не в силах симпатизировать девушке, заведомо продающей себя за деньги, – сказала старая дева.
– А за что же еще ей продавать себя? – спросил поэт.
– Вовсе не продавать себя, – отрезала старая дева. – Она должна отдаться по любви.
– Не грозит ли нам опасность вступить в спор только из-за игры слов? – ответил поэт. – Вероятно, все из нас слыхали рассказ о еврее портном, которого раввин порицал за то, что тот работал за деньги в субботу. «Сшить такой сюртук за девятнадцать шиллингов вы называете работать за деньги?» – ответил портной с негодованием. – «Да ведь это даром!»
Не заключается ли в этой «любви», из-за которой девушка отдает себя, и нечто более осязательное? Не удивилась ли бы несколько «обожаемая», если бы, выйдя замуж по любви, увидала, что «любовь» – единственное, чем ее муж намеревается одарить ее? Не вырвалось ли бы у нее естественное восклицание: «Где же наш дом, хотя бы без меблировки? Где же мы будем жить?»
– Вот вы теперь играете словами, – заметила старая дева. – Большее заключает в себе меньшее. Любя ее, он, конечно, пожелал бы…
– Ублаготворить ее всеми благами земными, – договорил поэт. – Другими словами, он заплатил бы за нее. Что касается любви – они квиты. В супружестве муж отдается жене так же, как жена отдается мужу. Муж, правда, требовал было для себя большей свободы; но требование всегда отвергалось с негодованием женой. И она выиграла дело. Муж и жена связаны законом общественным и нравственным. При таком положении вещей ее заявление, что она отдает себя, само собой уничтожается. Тут происходит обмен. А между тем женщина одна требует себе награды.
– Скажите: «живые весы уравновешиваются», – поправил философ. – Лентяйки красуются в юбках, а ленивые глупцы гордо выступают в панталонах. Но есть классы, где женщина делает свою долю работы. В бедных классах она трудится больше своего товарища. Есть такая баллада, которая очень распространена в провинции. Не раз мне приходилось слышать, как ее пел резкий, тонкий голосок за ужином после жатвы или во время танцев:
Мужчина трудится до ночи,
А женское дело не знает конца.
– Несколько месяцев тому назад ко мне пришла моя экономка с известием об отказе кухарки, – заговорила светская дама. – Я сказала: «Очень жаль. Почему она уходит?» – «Она поступает прислугой». – «Прислугой?!» воскликнула я. – «К старому Хэдзону, на угольной верфи, – ответила экономка. – Его жена, если помните, умерла в прошлом году. У него, бедного, семь человек детей, и за ними некому приглядывать». – «То есть, вы хотите сказать, что она выходить замуж?» – «Ну да, она так говорит, – со смехом отвечала экономка, – а я ей на это сказала, что она бросает дом, где ей было хорошо и она получала пятьдесят фунтов в год, чтобы стать прислугой, не получая ни гроша. Только она ничего не хочет знать».
– Такая внушительная особа, – удивился поэт. – Я помню ее. Позвольте привести еще пример. У вас замечательно хорошенькая горничная, кажется, ее зовут Эдит.
– И я заметил ее, – вставил свое слово философ. – Она меня поразила своими особенными манерами.
– Я не выношу около себя особы с рыжими волосами, – заметила студентка.
– Ее, пожалуй, нельзя назвать рыжей, – возразил философ. – Если вглядеться внимательнее, это скорее темно-золотистый оттенок.
– Она очень добрая девушка, – вставила светская дама, – но, боюсь, мне придется расстаться с нею. Другие горничные не уживаются с нею.
– Вы не знаете, у нее есть жених? – спросил поэт.
– В настоящее время она, кажется, ходит на прогулку со старшим сыном «Голубого льва». Но она не прочь пойти и с другими. Если вы серьезно думаете…
– Я не думаю, – сказал поэт. – Но представьте себе, что в числе претендентов явится молодой джентльмен, по личной привлекательности не уступающий «Голубому льву», обладатель дохода в две или три тысячи фунтов в год. Как вы думаете, много шансов останется у «Голубого льва»?
– В высших кругах трудно наблюдать женский характер, – продолжал поэт. – Выбор девушки определяется тем, может ли жених заплатить цену, требуемую если не самой невестой, то тем, кто ее опекает. Но стала бы дочь народа колебаться, при равности во всех других отношениях, между сказочным принцем и простым смертным?
– Позвольте спросить вас, стал бы каменщик колебаться между герцогиней и судомойкой? – спросила студентка.
– Но герцогини не влюбляются в каменщиков, – протестовал поэт. – Однако почему же это так? Маклер ухаживает за буфетной девицей – такие случаи не редкость; часто дело кончается свадьбой. А случается ли даме, делающей свои покупки, влюбиться в магазинного швейцара? Вряд ли. Молодые лорды женятся на балетных танцовщицах, но леди редко приносят свои сердца к ногам первого комика.
Мужественную красоту и достоинство можно найти не в одной только палате лордов. Как вы объясняете довольно обычный факт, что мужчина обращает свой взгляд ниже себя, между тем как женщина почти всегда предпочитает стоящего выше ее по общественному положению и не допускает близости с человеком, стоящим ниже ее? Почему мы находим сказку о короле и нищенке красивой легендой, между тем как история королевы и бродяги показалась бы нам нелепой.
– Самое простое объяснение в том, что женщина настолько выше мужчины, что равновесие может быть достигнуто только, когда его вес увеличивается различными мирскими преимуществами, – объяснила студентка.
– В таком случае, вы соглашаетесь со мной, что женщина права, требуя добавочного веса, – сказал поэт. – Женщина, если хотите, дает свою любовь. Это сокровище искусства, золоченая ваза, бросаемая на весы вместе с фунтом чая, но за чай надо платить.
– Все это очень остроумно, – заметила старая дева, – но я не понимаю, какая польза из того, что в смешном виде будет представлена вещь, про святость которой нам говорит сердце?
– Напрасно вы думаете, что я стараюсь представить вопрос в смешном свете, – оправдывался поэт. – Любовь – чудная статуя, изваянная собственноручно божеством и поставленная им давным-давно в саду жизни. И человек, не зная греха, поклонялся ей, видя ее красоту. До тех пор пока не познал зло. Тогда он увидел, что статуя нагая, и устыдился этого. С тех пор он старался прикрыть ее наготу, по моде то одного, то другого времени. Мы надевали ей на ноги изящные ботинки, сожалея, что у нее так малы ноги. Мы поручали лучшим художникам рисовать замысловатые платья, которые должны скрывать ее формы. С каждым временем года мы украшаем свежим убором ее голову. Мы обвешиваем ее нарядами из сотканных слов. Только ее роскошного бюста мы не можем скрыть, к нашему великому смущению; только он напоминает нам, что под пестрыми тканями все еще сохраняется неизменная статуя, изваянная собственными руками божества.
– Я больше люблю, когда вы говорите так, – сказала старая дева, – но я никогда не бываю вполне уверена в вас. Я хотела только сказать, что деньги не должны стоять на первом плане. Замужество из-за денег – не брак; тут о нем не может быть и речи. Конечно, надо быть благоразумным…
– То есть, вы хотите сказать, что девушка должна также подумать и об обеде, и о платье, и обо всем необходимом ей, и о своих прихотях.
– Не только о «своих», – ответила старая дева.
– О чьих же? – спросил поэт.
Белые руки старой девы сильно задрожали на коленях, указывая на ее смущение.
– Моя давняя подруга принадлежит еще к старой школе, – заметила хозяйка.
– Надо принять во внимание детей, – объяснил я. – Женщина чувствует это бессознательно, это ее инстинкт.
Старая дева поблагодарила меня улыбкой.
– Вот к чему и я все вел, – сказал поэт. – Природа поручила женщине заботу о детях. Ее обязанность думать о них и их будущем. Если, выходя замуж, она не примет во внимание будущего, она изменяет вверенной ей обязанности.
– Прежде чем вы станете продолжать, надо рассмотреть один важный пункт. Лучше или хуже для детей, если их постоянно опекают? Не бывает ли бедность иногда лучшей школой?
– Вот я повторяю то же самое Джорджу, – заметила светская дама, – когда он ворчит на книжки поставщиков. Если бы папа мог видеть его желание разыгрывать бедняка, я уверена, что была бы лучшей женой.
– Не касайтесь, прошу вас, возможностей, – попросил я светскую даму. – Такая мысль слишком необычайна.
– У вас воображение никогда не было сильно развито, – ответила светская дама.
– Не было развито до такой степени, – согласился я.
– Лучшие матери воспитывают худших детей, – высказала свое мнение студентка. – Этого не следует забывать.
– Ваша мать была чудная женщина, одна из прекраснейших, каких я знала, – заметила старая дева.
– В ваших словах есть доля правды, – сказал поэт, обращаясь к студентке, – но только потому, что тут исключение, а природа употребляет постоянно все свои усилия, чтобы противодействовать отклонениям от ее законов. Где же правило, что дурная мать должна воспитывать хороших детей, а хорошая мать – дурных? И, кроме того…
– Прошу вас прекратить разговор; я вчера легла очень поздно, – сказала светская дама.
– Я только хотел доказать, что все пути ведут к закону, что хорошая мать бывает лучшей матерью. Ее обязанность заботиться о детях, охранять их детство, подумать об их нуждах.
– Вы серьезно хотите заставить нас поверить, что женщина, вышедшая замуж из-за денег, когда-нибудь, хотя на минуту, подумает о чьем-либо благе, кроме собственного?
– Может быть, не сознательно, – согласился поэт. – В нас нарочно вселены эгоистичные инстинкты, чтобы мы тем легче руководились ими. Цветок выделяет мед на собственную потребу, вовсе не имея в виду благодетельствовать пчел. Мужчина работает, как он думает, для пива и сладкой еды; в действительности же – на пользу еще не родившихся поколений. Женщина, поступая эгоистично, способствует планам природы. В древности она избирала себе товарища за его силу. Она, очень может быть, думала при этом только о себе; он мог лучше заботиться о ее несложных в то время потребностях, лучше охранять от опасностей кочевой жизни. Но природа, невидимо направляя ее, заботилась о будущем потомстве, нуждавшемся еще больше в сильном защитнике. Теперь богатство заменило собой силу. Богатый человек – сильный человек. Сердце женщины бессознательно стремится к нему.
– Разве мужчины никогда не женятся из-за денег? – спросила студентка. – Я спрашиваю это так, ради интереса. Может быть, я плохо осведомлена, но я слыхала о странах, где приданое считается почти важнее невесты.
– Германские офицеры положительно покупаются с аукциона, – отважился я пошутить. – Молодые поручики ценятся очень дорого, да и пожилой полковник стоит девушке добрую сотню тысяч.
– То есть, вы хотите сказать – стоит ее отцу, – поправил поэт. – Муж с континента требует за своей женой приданое и употребляет все меры получить его. И ему, в свою очередь, приходится всю жизнь экономить и урезывать себя, чтобы со временем приготовить необходимое приданое своим дочерям. Выходит совершенно то на то. Ваш аргумент был бы приложим только в случае, если бы женщина была производительницей наравне с мужем. При теперешнем же положении богатство жены есть результат замужества ее собственного или какой-либо из ее прабабушек. А что касается титулованной наследницы, то принцип купли и продажи – простите за употребление расхожего термина – применяется с еще большей последовательностью. Ее редко отдают в чужие страны; крадут – иногда, к великому негодованию лорда канцлера и прочих охранителей подобной собственности. Вора наказывают, если нужно, сажают в тюрьму. Если она передается на законном основании, то ее цена определена в точности, не всегда в деньгах, которых у нее может быть в достаточном количестве. В последнем случае она получает возможность торговаться за другие преимущества, не менее полезные для ее детей, – за титул, место, положение… Таким же образом женщина доисторическая – сама необыкновенной силы и свирепости – получала возможность думать о красоте своего дикого претендента и его привлекательности в доисторическом смысле, и тем в другом направлении помогала развитию расы.
– Не могу согласиться с вами, – сказала старая дева. – Я знаю один случай. Оба были бедны. Для нее это представлялось безразличным, но для него нет. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, – как говорите и вы, – что наши инстинкты даны нам, чтобы руководить нами. Не знаю… Будущее не в наших руках; оно не принадлежит нам. Может быть, было бы благоразумнее прислушиваться к голосам, ниспосылаемым нам.
– И я тоже помню один случай, – сказала светская дама. Она встала и, занявшись приготовлением чая, повернулась к нам спиной. – И моя героиня была также бедна; но представляла из себя милейшее создание. Не могу не думать, что мир выиграл бы, если бы она сделалась матерью.
– Вы пришли ко мне на помощь, дорогая леди! – воскликнул поэт.
– Я всегда это делаю по отношению к вам, – со смехом ответила светская дама. – Я, кажется, играю роль мячика, брошенного мальчуганом в высокую яблоню после того, как он весь день напрасно старался влезть на нее.
– Очень любезно с вашей стороны, – сказал поэт. – Мое мнение, что женщина смотрит на замужество как на конец своего существования, а мужчина только как на средство для жизни. Женщина, о которой вы говорите, поступила эгоистично, отказавшись от венца женственности потому, что он был протянут ей не той рукой, которую она избрала.
– Вы желали бы, чтоб мы выходили замуж без любви? – спросила студентка.
– Если возможно, с любовью, – отвечал поэт. – Но лучше без любви, чем совсем не выходить. Это – выполнение женщиной ее долга.
– Вы желали бы приравнять нас к товарам и скоту! – воскликнула студентка.
– Это сделало бы из вас то, что вы есть, – возразил ей поэт, – то есть жриц в храме Природы, ведущих мужчину к поклонению перед ее тайнами. Один американский юморист определил брак как стремление молодого человека платить за содержание какой-либо молодой женщине. От этого определения не уйдешь; признаем же его. Оно прекрасно в том, что касается молодого человека. Он жертвует собою, налагает на себя лишения, чтобы давать. Это любовь. Но с точки зрения женщины? Если она соглашается, имея в виду только заботу о себе, то с ее стороны это презренная сделка. Чтобы понять ее, быть к ней справедливыми, мы должны заглянуть глубже. Ее царство – материнская любовь. Она отдается не мужу, но через него великой богине, охраняющей своим крылом жизнь от протянутой руки смерти.
– Может быть, такая девушка и привлекательна с точки зрения Природы, но я никогда не полюблю ее, – сказала старая дева.
* * *
– Который час? – спросила студентка.
Я взглянул на часы и ответил:
– Двадцать минут пятого.
– Ровно двадцать минут? – переспросила она.
– Ровно, – подтвердил я.
– Странно, – проговорила она. – Объяснить это нельзя, а между тем всегда так бывает…
– Чего нельзя объяснить? – спросил я. – Что странно?
– Это немецкое поверье, – объяснила студентка. – Я узнала его в школе. Когда в обществе вдруг водворяется полная тишина, непременно двадцать минут какого-либо часа…
– Почему мы говорим так много? – спросил поэт.
– Мне кажется, что мы – по крайней мере, мы лично вовсе не говорим слишком много, – сказала светская дама. – Большую часть времени мы, по-видимому, слушаем вас.
– В таком случае внесем изменение: «Почему я говорю так много?» – продолжал поэт. – Если бы я говорил меньше, одному из вас пришлось бы говорить больше.
– Кто-нибудь бы воспользовался, – заметил философ.
– Вероятно, вы, – возразил ему поэт. – Но выиграло ли бы или проиграло от того наше приятное общество – об этом я не намерен рассуждать, хотя и имею свое мнение по этому вопросу. Сущность остается: поток разговора не должен останавливаться в своем течении. Почему это?
– Есть у меня один знакомый, – заговорил я. – Может быть, вы его встречали, его фамилия Лонгрёш. Вообще он человек не скучный. Скучно только слушать его. Этот человек, по-видимому, не обращает внимания на то, слушаете вы его или нет. Он не глуп. Но дурак может быть иногда забавен; Лонгрёш же – никогда. Он подхватывает всякий сюжет для раз-? говора, и о чем бы ни заговорили, у него найдется что-нибудь крайне неинтересное, чтобы сообщить по этому поводу. Он говорит, как заведенная шарманка, без перерыва, без умолку. С той минуты, как он встанет или сядет, он заводит свою шарманку и не умолкает, пока кэб или омнибус не отвезут его на следующее место остановки.
Что касается сюжетов его разговора, то он меняет свои валики раз в месяц, согласно настроению публики. В январе он повторяет вам шутки Дон Лено, или чужое мнение о старинных мастерах в Гилдхолле. В июне он распространяется о том, как вообще смотрят на Академию, и сходится с большинством во взглядах на оперу. Забывая на минуту – что извинительно для англичанина – стоит ли у нас лето или зима, мы можем проверить себя по тому, чем увлекается Лонгрёш – крокетом или футболом. Он всегда современен. Случится ли новая постановка Шекспира или какой-нибудь скандал, появится ли минутная знаменитость, нашумит ли какое-нибудь событие – к вечеру у Лонгрёша валик уже готов. В начале моей карьеры журналиста мне каждый день приходилось писать по столбцу для провинциальной газеты, под рубрикой «Что говорят». Редактор дал свои подробные инструкции:
– Ваших мнений мне не нужно; в вашем остроумии я не нуждаюсь; мне нет дела, находите ли вы вещь интересной или нет. Я хочу, чтобы действительно сообщалось, что говорят.
Я старался добросовестно исполнить свою задачу. Каждый абзац начинался со «что». Я писал свой столбец потому, что хотел заработать тридцать шиллингов. Почему мои статьи читались, я и до сих пор не понимаю; но, кажется, они отчасти приобрели популярность газет. Лонгрёш всегда воскрешает в моей памяти те тяжелые часы, которые я посвящал этой скучной работе.
– Мне кажется, я знаю человека, про которого вы говорите, – сказал философ. – Я только забыл его фамилию.
– Может быть, вы и встречали его, – ответил я. – Вот на днях кузина Эдит давала обед и, как всегда, сделала мне честь спросить моего совета. Вообще я теперь не даю советов. В ранней молодости я был на них щедр. Потом я пришел к убеждению, что достаточно с меня ответственности за собственные промахи и ошибки. Однако я сделал исключение для Эдит, зная, что она никогда не последует моему указанию.
– Кстати о редакторах, – сказал философ. – На днях Бэте говорил мне в клубе, что он бросил лично писать «ответы корреспондентам» после того, как открыл, что некоторое время корреспондировал на интересную тему «об обязанностях отца» с собственной женой, которая по временам бывает юмористкой.
– Моя мать рассказывала мне о жене священника, списывавшей все проповеди своего мужа, – сказала светская дама. – Она читала ему места из них, улегшись в постель, вместо супружеского наставления. Она говорила, что это избавляет ее от труда придумывать. Все, что она желала бы сказать ему, он уже сказал сам и с гораздо большей силой.
– Мне всегда кажется слабым довод, что только совершенный человек может наставлять, – сказал философ. – Если бы было так, наши кафедры пустовали бы. Разве меньший мир вливает в мою душу псалом или меньшую мудрость я черпаю из притчей потому, что Давид и Соломон не были достойными вместилищами алмазов, которыми Господь одарил их? Разве проповедник трезвости теряет право цитировать самоупреки бедняги Кассио только потому, что Шекспир был джентльменом – увы! – очень пристрастным к бутылочке? Барабанщик сам может быть трусом. Для нас важен барабан, а не барабанщик.
– Из всех моих знакомых у Джейн Мередит больше всего хлопот с прислугой, – сказала светская дама.
– Очень жаль, – заметил философ, помолчав. – Но, извините, я, право, не понимаю…
– Простите, – ответила светская женщина. – Я думала, что все знают Джейн Мередит. Она ведет отдел «Образцовое хозяйство» в «Женском мире».
– По-видимому, всегда останется загадкой, кто действительно автор «Простой жизни» – четырнадцатое издание, цена три шиллинга шесть пенсов без пересылки…
– О, прошу вас… – начала старая дева с улыбкой.
– О чем просите? – спросил поэт.
– Прошу вас, не поднимайте на смех этой книги, если бы даже она оказалась вашей собственной. Некоторые страницы из нее я знаю наизусть. Я их читаю про себя, когда… Не портите мое впечатление, – сказала старая дева, смеясь, но смех ее звучал нервно.
– Не бойтесь, дорогая леди, – успокоил ее поэт. – Никто не относится к поэме с большим уважением, чем я. Вы даже представить себе не можете, какое утешение эта книга для меня. И я также читаю отрывки из нее про себя, когда… Мы понимаем друг друга. Как человек, отворачивающийся от сует насилия, чтобы мирно упиваться светом луны, так и я прибегаю к поэме, ища успокоения и умиротворения. Так, восхищаясь поэмой, я, естественно, испытываю желание и любопытство встретиться с автором, познакомиться с ним. Я бы с восторгом отвел его в сторону от толпы, схватил бы его за руку и сказал ему: «Дорогой, дорогой поэт, я так рад, что пришлось встретиться с вами! Я желал бы выразить вам, каким утешением было для меня ваше произведение. Действительно, на мою долю сегодня выпало счастье…» Но я могу представить себе тот усталый и недовольный вид, с каким он встретил бы мои излияния. Воображаю себе, с каким презрением он взглянул бы, если б знал меня. У него желчь разлилась бы, как в жаркий день.
– Я где-то читал коротенький французский рассказ, который остался у меня в памяти, – сказал я.
Поэт или драматург – уж теперь не помню – женился на дочери провинциального нотариуса. В ней не было ничего особенно привлекательного, кроме ее приданого. Он прожил собственное небольшое состояние и находился в стесненных обстоятельствах. Она преклонялась перед ним и была идеальной женой для поэта. Она великолепно стряпала, – что оказалось весьма полезным искусством в первые пять-шесть лет их замужества, – а впоследствии, когда он разбогател, в совершенстве вела его дела, своими заботами и экономией не допуская мирских хлопот до дверей его кабинета. Без сомнения, идеальная Hausfrau, но, конечно, не подруга для поэта. Так каждый шел своим путем, пока добрая леди не умерла, избрав, как всегда, подходящую минуту: когда без нее лучше всего можно было обойтись.
И вот тут-то, правда, немного поздно, начинается самая интересная часть история.
Жена постоянно настаивала на сохранении одного предмета мебели, не подходившего к общему стилю их богатого отеля: тяжелого, неуклюжего дубового бюро, некогда стоявшего в конторе ее отца и подаренного им ей давно в день ее рождения.
Прочтите сами этот рассказ, если хотите постигнуть нежную грусть, которой он проникнут, тонкий аромат сожаления, распространяемый им.
Муж, найдя не без затруднения подходящий ключ, вставил его в замок бюро. Эта простая, крепкая угловатая мебель постоянно возмущала его артистическое чувство. И она, его добрая Сарра, была проста и немного угловата. Может быть, именно потому бедняжка так любила единственную вещь, казавшуюся не у места в доме, представлявшем из себя совершенство. Ну, теперь ее, доброго существа, уж нет! А бюро – бюро все еще стоит на своем месте. Никому нет надобности заглядывать в эту комнату, куда никто и не заходил, кроме жены. Может быть, она вовсе не была так счастлива, как могла бы быть? Может быть, муж менее интеллигентный, от которого она не жила бы такой обособленной жизнью, который входил бы в интерес ее простого повседневного существования, создал бы ее счастье и сам был бы счастливее.
Так вот, муж поднял крышку, выдвинул большой ящик. Он оказался полным рукописей, аккуратно сложенных и перевязанных прежде яркими, теперь выцветшими, лентами. Сначала он подумал, что это его собственное писание: начатые, разрозненные вещи, заботливо собранные ею. Она так много думала о нем, добрая душа! Право, она, может быть, вовсе не была такой скучной, как он полагал. По крайней мере, она имела способность оценить его. Он развязал ленточку. Нет! Бумаги оказались писаны ее рукой, с поправками, с изменениями, с подчеркнутыми строчками.
Он развязал вторую, третью пачку. Затем, улыбаясь, начал читать. Каковы могли быть эти стихи, эти рассказы?
Он был смущен, разглядывая сложенную бумагу, предвидя всю заурядность, всю мелочность чувства. Бедняжка! И она пожелала быть писательницей. И у нее были стремления, мечты.
Солнечный свет медленно прополз по всему потолку комнаты, тихо скользнул в окно и оставил его одного. Все эти годы он жил рядом с собратом, с поэтом! Им следовало бы быть товарищами, а они даже не разговаривали. Почему она таилась? Почему ушла от него, не открывшись? Много лет тому назад, когда они только что поженились, – он это вспомнил теперь, – она как-то сунула ему в карман, смеясь и краснея, несколько синих тетрадок и попросила прочесть их. Как мог он догадаться? Конечно, он забыл о них. Потом они снова исчезли; он о них и не вспомнил.
Часто, в начале их совместной жизни, она заговаривала с ним о его работах. Если б он только заглянул ей в глаза, он бы, может быть, понял.
Но она казалась всегда такой доброй простушкой. Кто бы мог подозревать? Вдруг кровь бросилась ему в лицо. Какое она должна была составить себе мнение о его работе?
Все эти годы он воображал ее себе безгранично преданной, не понимающей, но восхищенной. Он иногда прочитывал ей кое-что, причем всегда сравнивал себя в душе с Мольером, читающим своей кухарке. Какое она имела право сыграть с ним такую шутку?
А жаль! Как бы он был рад, если бы она была теперь возле него!
* * *
– Я думаю: куда деваются мысли, не высказанные нами? Мы знаем, что в природе ничто не пропадает бесследно; даже капуста бессмертна, продолжая жить в измененном виде, – изрек философ. – Сказанную или написанную мысль мы можем проследить; но такие мысли должны составлять лишь слабый процент. У меня часто является этот вопрос, когда я иду по улице. У каждого мужчины или женщины, с которыми мы встречаемся, в голове сплетаются шелковые нити мыслей, длинных или коротеньких, изящных или грубых. Во что они превращаются?
– Я однажды слышал, как вы сказали, что мысли – в воздухе, – заметила старая дева поэту, – что поэту только остается собирать их, как ребенок собирает цветы, растущие по краям дороги, и делает из них букеты…
– Это я сказал вам по секрету, – ответил поэт. – Пожалуйста, не распространяйте дальше, иначе мои издатели воспользуются этим, чтобы низвести меня с пьедестала.
– Эти слова остались у меня навсегда в памяти, – продолжала старая Дева. – В них столько правды. Мысль приходит нам вдруг. Мне иногда мысли кажутся детьми, не имеющими матерей и ищущими приюта в нашем мире.
– Недурная идея, – задумчиво проговорил поэт. – Мне они теперь будут мерещиться в сумерки в виде круглолицых фигурок, как бы сошедших с гобеленов, слабо светящихся в темнеющем воздухе!.. Откуда ты, нежная мысль, стучащаяся в моем мозгу? Из далекого леса, где мать-крестьянка напевает над колыбелью? Или ты мысль о любви и страстном томлении, рожденная где-нибудь под тропическим солнцем? Мысль о жизни и мысль о смерти, не зародились ли вы в мозгу какой-либо девушки-патрицианки, медленно прохаживающейся по волшебному саду? Или вы явились в свет в тусклой тяжелой атмосфере фабрики? Бедные, безымянные, бесприютные! В будущем я буду чувствовать себя чуть не филантропом, принимая их, усыновляя.
– Вы ведь еще не решили, кто вы, в сущности: джентльмен, которого мы приобретаем за шесть пенсов, без пересылки, или близкий нам, кого мы получаем даром? – напомнила ему светская дама. – Пожалуйста, не думайте, что я имею в виду какое-либо сравнение, но вопрос интересует меня с тех пор, как Джордж поступил в клуб богемы и взял за правило с субботы по понедельник поставлять сюда начинающих знаменитостей. Я, кажется, не отличаюсь узостью взглядов, но тут оказался один господин, которого мне пришлось держать под своим башмаком…
– На что он, вероятно, не жаловался, – прервал я. – У светской женщины прелестнейшая из ножек.
– Она тяжелее, чем вы думаете, – ответила светская дама. – Джордж уверяет, что мне следовало бы обойтись с ним как с истинным поэтом. Но я не согласна с подобным взглядом. Я от всей души восхищаюсь им как поэтом. Я люблю томик его стихов. Он лежит в белом кожаном переплете у меня в гостиной и придает тон комнате. За книгу поэта я готова заплатить требуемые четыре шиллинга шесть пенсов; но самого его во плоти мне не нужно. Говоря мягко, сам он не стоит цены, которую дают за его стихи.
– Не особенно любезно с вашей стороны применять такую меру только к поэтам. Несколько лет тому назад один из моих приятелей женился на прелестнейшей женщине Нью-Йорка, а это уж много значит. Все поздравляли его, и, судя по наружности, он был сам доволен. Через два года мы встретились с ним в Женеве и поехали в Рим вместе. В продолжение дороги он и его жена едва обменялись несколькими словами, а перед прощаньем он был настолько мил, что дал мне совет, который кому-нибудь другому мог бы принести пользу. «Никогда не женитесь на прелестной женщине, – сказал он мне. – Не может быть ничего скучнее прелестной женщины… Когда ею не любуешься…»
– Мне кажется, мы должны смотреть на проповедника, как на собрата-артиста, – сказал философ. – Певец может быть мясистым толстяком, любителем пива, но голос его захватывает нашу душу. Проповедник поднимает высоко свое знамя чистоты. Он машет им над своею головой и над головами окружающих. Он не зовет с Господом: «Идите ко мне», но: «Идите со мной и спасетесь». Молитва «Прости им!» была молитвой не священника, но Бога. Молитва, предписанная ученикам, была: «Прости нас. Избави нас». Проповедник не мужественнее, не сильнее тех, кто толпится за ним, нуждаясь в руководителе; он только знает дорогу. И он может ослабеть и упасть на пути, но он один не имеет права бежать.
– С одной стороны, вполне понятно, – заметил поэт, – что те, кто дают больше всего другим, сами должны быть слабы. Профессиональный атлет служит, как мне кажется, вознаграждением за всеобщую слабость. На мой взгляд, прелестные, очаровательные люди, с которыми нам приходится встречаться в обществе, – люди, нечестно присвоившие себе дары, вверенные им природой на благо всех. Ваш добросовестный, работящий юморист в частной жизни – угрюмый пес. С другой стороны, нечестно пользующийся смехом крадет у света остроумие, данное ему для общественного пользования, и становится блестящим собеседником.
– Но, – обратился поэт ко мне, – вы начали говорить о некоем Лонгрёше, великом любителе разговоров.
– Любителе разглагольствовать, – поправил я.
– Моя кузина отметила его недавно в своем длинном списке приглашенных: «Лонгрёш». Нам необходимо пригласить Лонгрёша.
– Не будет ли это слишком утомительно для других? – спросил я.
– Да, правда, он утомителен, – согласилась она, – но так полезен. Он никогда не даст разговору зачахнуть.
– Почему это? – спросил поэт. – Почему, как только мы сойдемся, сейчас начинаем щебетать, как стая воробьев? Почему, чтобы вечер считался удачным, на нем должен стоять содом, как в клетке попугаев в зоологическом саду?
– Я помню историю о попугае, но забыл, кто мне ее рассказывал.
– Может быть, кто-нибудь из нас припомнит, когда вы начнете, – высказал свое предположение философ.
– Один человек, – начал я, – старый фермер (я это помню) начитался историй о попугаях или наслушался их в клубе. В результате ему показалось, что хорошо бы самому иметь попугая. Вот он отправился к торговцу и, как сам рассказывал, заплатил порядочную цену за выбранную им птицу. Неделю спустя он вернулся в лавку, а сзади мальчик нес клетку с попугаем. «Птица, которую вы продали мне на прошлой неделе, не стоит и соверена». – «Что с ней случилось?» – спросил купец. «Да я почему знаю, что случилось? – ответил фермер. – Говорю вам, она не стоит не только соверена, но и полсоверена». – «Почему? – добивался купец. – Ведь она говорит хорошо?» – «Говорит? – ответил негодующий фермер, – проклятая птица болтает весь день, да хоть бы раз сказала что-нибудь забавное».
– У одного моего знакомого был однажды попугай… – начал было философ.
– Не пройти ли нам в сад? – предложила светская дама, вставая и направляясь к двери.
– Я сам читаю эту книгу с величайшим удовольствием, – сказал поэт. – Она наводит на такую массу мыслей. Боюсь, что я не прочел ее достаточно внимательно. Надо перечитать.
– Понимаю вас, – сказал философ. – Книга, действительно интересующая нас, заставляет забыть, что мы читаем. Самый интересный разговор тот, при котором кажется, будто никто не говорит.
– Помните вы того русского, которого Джордж приводил сюда месяца три тому назад? – спросила светская дама, обращаясь к поэту. – Я забыла его фамилию. Впрочем, я никогда путем не знала ее. Это было что-то неудобопроизносимое; только, помню, фамилия оканчивалась, как всегда, на двойное «г». Я прямо в самом начале объявила ему, что стану звать его просто по имени, оказавшимся, к счастью, Николаем. Он очень любезно согласился.
– Я хорошо помню его, – заявил поэт. – Прелестный человек.
– Он, в свою очередь, остался в таком же восторге от вас, – ответила хозяйка.
– Охотно верю, – проговорил вполголоса поэт. – Такого умного человека редко встретишь.
– Вы целых два часа проговорили, забившись в угол, – сказала светская дама, – а когда вы ушли, я спросила его, чему он научился у вас. Он ответил мне с жестом восторга: «Ах, как он хорошо говорит!» Я же настаивала: «Что же он рассказал вам?» Мне было интересно узнать: вы были так поглощены друг другом, что забыли о существовании остальных. «Честное слово, не могу сказать, – ответил он. – Знаете, теперь, как припоминаю, приходится с ужасом сознаться, что разговор, собственно, вел я один». Я была довольна, что могла успокоить его на этот счет. «Нет, напрасно вы так думаете, – сказала я. – Я бы поверила вам, если бы не присутствовала».
– Вы были совершенно правы, – согласился поэт. – Я помню, что и я вставил два или три замечания. И мне кажется, я действительно говорил недурно.
– Но вы тоже, может быть, помните, что в следующий раз, когда вы были у меня, я спросила вас, что он говорил, и оказалось, что ваша память в этом отношении представляет из себя чистую страницу. Вы сказали, что нашли его интересным. В то время я была поражена, но теперь начинаю понимать. Вы оба, очевидно, находя разговор таким блестящим, приписывали заслугу того себе лично.
– Хорошая книга и милый разговор похожи на приятный обед: они легко усваиваются. Лучший обед тот, съев который, вы не сознаете, что пообедали.
– Вещь сама по себе не интересная часто вызывает интересные мысли, – заметила старая дева. – Часто я чувствую, как у меня на глазах выступают слезы, когда смотрю какую-нибудь глупую мелодраму. Сказанное слово, намек вызывают воспоминания, заставляют мысль работать.
– Несколько лет тому назад мне пришлось сидеть в глубине залы какого-то мюзик-холла рядом с деревенским жителем. До половины одиннадцатого он казался очень доволен всем, что видел и слышал, и добросовестно подпевал всем куплетам о тещах, деревянных ногах, подвыпивших женщинах и т. п. В половине одиннадцатого на сцену вышел известный исполнитель и начал ряд куплетов, названных им: «Сгущенные трагедии». На первые две вещи мой сельский приятель весело посмеивался. Когда же певец приступил к третьей, начинавшейся: «Мальчик, коньки, лед ломается; опасность неминуема…» – мой сосед побледнел, поспешно встал и быстро вышел из залы. Я последовал за ним десять минут спустя и нашел его в баре напротив, где он напивался виски. «Не мог я вынести этого дурака, – заявил он мне хриплым голосом. – У меня мальчуган утонул прошлой зимой, катаясь на коньках. Не понимаю, какой смысл поднимать на смех настоящее горе».
– Я могу присоединить к вашему рассказу еще один, – сказал философ. – Джим забронировал для меня несколько мест на одно из своих первых представлений. Билеты попали ко мне только в четыре часа пополудни. Я отправился в клуб, чтоб захватить кого-нибудь. Единственный человек, которого я застал там, был тихий молодой человек, новый член клуба. У него еще было мало знакомых, и он поблагодарил меня. Играли какой-то фарс, уж право, не помню какой: они все на один лад, – весь комизм в том, что кто-то старается согрешить, не имея к тому расположения. Такие вещи всегда имеют успех. Английская публика подобные сюжеты любит, лишь бы они трактовались с веселой точки зрения. Нам не нравится только, когда о зле рассуждают серьезно. Тут было обычное подсматривание, обычный визг. Все кругом хохотали. Мой сосед сидел с какой-то неподвижной улыбкой на лице.
«Недурно сделано», – обратился я к нему, когда занавес опустился после второго действия при общем хохоте.
«Да, кажется, очень смешно», – ответил он.
Я взглянул на него – он был почти юноша.
«Вы еще слишком молоды, чтоб быть моралистом». Он засмеялся коротким смехом. «Со временем это пройдет», – ответил он мне.
Впоследствии он рассказал мне свою историю. Он сам был комическим актером в Мельбурне, – он был австралиец. Только для него третий акт имел иную развязку. Его жена, которую он любил, отнеслась к жизни серьезно и кончила самоубийством. Сделала такую глупость.
– Мужчины – животные, – заявила тут студентка, иной раз любившая употребить крепкое словцо.
– Я сама думала так в молодости, – сказала светская дама.
– А теперь не думаете, когда слышите подобную вещь? – спросила студентка.
– Без сомнения, в человеке много животного, – отвечала хозяйка. – Но… видите ли, много лет тому назад, когда я была еще очень молода, я высказала это самое мнение, то есть что мужчина – животное, одной старой леди, у которой жила в Брюсселе, где проводила зиму. Она была хорошей знакомой отца, одной из добрейших и милейших женщин в свете – можно сказать, близкой к совершенству, – хотя о ней как о знаменитой красавице времен королевы Виктории и ходило много рассказов.
Я лично никогда им не верила. Когда я впервые увидела Магтергорн в летний вечер, он мне напомнил ее доброе, бесстрастное, спокойное лицо, обрамленное серебряными волосами. Я сама не знаю, почему.
– Дорогая моя, – со смехом заметила старая дева, – ваша привычка украшать свою речь анекдотами придает ей сходство с синематографом.
– Я и сама замечаю это, – соглашалась светская дама. – Я стараюсь захватить слишком много.
– Искусство хорошего рассказчика состоит в том, чтобы уметь избегать несущественного, – заметил философ. – У меня есть знакомая, ни разу, насколько я знаю, не добравшаяся до конца рассказа. Совершенно безразлично, например, как звали человека, сказавшего или сделавшего что-нибудь, – Брауном, или Джонсом, или Робинсоном, – но она будет мучиться, пытаясь припомнить: «Ах, боже мой, боже мой! – восклицает она бесконечное число раз. – Я так хорошо помнила его имя. Какая же я глупая!» Она расскажет вам, почему должна помнить его имя, как всегда помнила его до последней минуты. Она обращается с просьбой к половине присутствующих, прося помочь ей. Безнадежно пытаться вернуть ее к рассказу: ее умом всецело овладевает одна мысль. Наконец, после бесконечных мучений, она вспоминает, что его звали Томкинс, и приходит в восторг, но затем снова погружается в отчаяние, открыв для себя что забыла его адрес. Это заставляет ее настолько сконфузиться, что она отказывается от продолжения рассказа и, упрекая себя, уходит к себе в комнату. Чуть погодя она снова возвращается с пеной у рта и приносит номер улицы и дома. Но тем временем она уж забыла анекдот.
– Расскажите же нам о вашей старушке, и о том, что вы сказали ей, – с нетерпением проговорила студентка, всегда подхватывающая всякий рассказ, где дело касается глупости или преступных наклонностей другого пола.
– Я была в таких годах, когда молодой девушке приедаются сказки, и она, отложив в сторону книги, начинает осматриваться в свете и, конечно, возмущается тем, что видит. Я относилась очень серьезно к недостаткам и проступкам мужчин – наших естественных врагов. Моя старушка, бывало, посмеивалась, и я считала ее ограниченной и недалекой. Однажды наша горничная – любительница, как все горничные, посплетничать, – с восторгом рассказала нам историю, доказавшую мне, как верно я оценивала «грубых мужчин». Хозяин лавочки на углу нашей улицы, всего четыре года тому назад женившийся на прелестной девушке, бежал, бросив ее.
«Хоть бы когда прежде намекнул, – рассказывала Жанна. – За целую неделю уложил в кофр свои вещи и платье и отправил на вокзал, а потом сказал жене, что уходит сыграть партию в домино и чтоб она не дожидалась его; поцеловал ее и ребенка на прощанье, и поминай как звали. «Ну, слыхано ли, барыня, что-нибудь подобное?» – заключила Жанна, всплеснув руками. «Грустно сказать, Жанна, а приходится признаться, что я слыхала», – ответила моя старушка со вздохом и затем постепенно перевела разговор на вопрос об обеде. Когда Жанна вышла, я обратилась к ней, вся пылая негодованием. Мне не раз приходилось самой разговаривать с этим человеком, и я считала его прекрасным мужем – внимательным, так гордившимся, по-видимому, своей миловидной супругой.
«Не служит ли это доказательством того, что я говорю!» – воскликнула я. «К несчастью, случившееся не в их пользу». – «А между тем вы защищаете их?» – спросила я. «В мои годы, дорогая, не защищают и не порицают, а только пытаются понять, – сказала она, прикоснувшись ко мне своей тонкой белой рукой. – Не разузнать ли нам подробнее, в чем дело, – предложила она, – происшествие невеселое, но может оказаться полезным для нас». – «С меня довольно и того, что я слышала», – сказала я. «Иной раз хорошо выслушать более подробный рассказ, прежде чем составить себе окончательное суждение», – ответила она и позвонила Жанне. – «Эта история с нашей соседкой заинтересовала меня, – сказала она. – Вы знаете, почему он бежал и бросил ее?» Жанна пожала своими широкими плечами. «Старая история, сударыня», – ответила она с коротким смешком. «Кто же?» – спросила хозяйка. «Жена Савари, точильщика, прекрасного мужа. Канитель тянулась несколько месяцев». – «Спасибо, Жанна». Когда Жанна вышла, хозяйка обратилась ко мне, говоря: «Каждый раз, как я слышу о дурном поступке мужчины, я заглядываю за угол – не скрывается ли там женщина. Когда я вижу плохую женщину, я слежу за ее глазами. Я вижу, что она ищет себе товарища. Природа всегда создает пары».
– Не могу отказаться от мысли, что много зла приносит человечеству вообще слишком большое восхваление женщины, – заметил философ.
– Кто же их восхваляет? – спросила студентка. – Мужчины иногда болтают нам глупости – вряд ли найдется такая простушка, чтоб поверить им, – но я вполне убеждена, что наедине они перемывают нам косточки.
– А я так думаю, что они вряд ли говорят между собой о нас так много, как мы воображаем. Но вообще неблагоразумно добиваться узнать, какой приговор вынесли тебе, – заметила старая дева, – несколько очень хороших вещей о женщине было высказано мужчинами.
– Вот тут налицо их трое; спросите их, – предложила студентка.
– Скажите по чести, когда вы говорите между собой о нас, вы когда-нибудь обмолвитесь о нашей доброте, уме, добросовестности?
– «Обмолвиться» – вряд ли подходящее слово, – заявил философ задумчиво. – Говоря положив руку на сердце, приходится сознаться, что наша собеседница до известной степени права. Каждый человек в какой-либо период своей жизни ставит на пьедестал какую-нибудь женщину. Очень молодые, неопытные люди восхищаются, может быть, не отдавая себе отчета. Для них всякая шляпка привлекательна – модистка создает ангела. А очень старые люди, как я слышал, возвращаются к иллюзиям своей молодости. Об этом я еще не в состоянии рассуждать безапелляционно. Что же касается нас, остальных, то я принужден согласиться: «обмолвиться» – неподходящее слово.
– Вот и я говорю… – начала студентка.
– Может быть, это просто в силу реакции, – сказал я. – Приличия требуют, чтобы мы в лицо выказывали женщине несколько преувеличенное уважение. Мы должны даже в ее сумасбродствах видеть лишь притягательную силу, – так решили господа поэты. Может быть, является некоторым облегчением передвинуть стрелку в обратном направлении.
– Но не факт ли, что именно лучшие люди и даже самые умные всегда относились к женщине с наибольшим уважением? – заметила старая дева. – Разве мы не судим о цивилизации народа по тому месту, которое у него занимают женщины?
– В такой же степени, в какой судим по мягкости законов, по охране, представляемой слабым. Дикари убивали бесполезных членов племени, – мы устраиваем для них больницы и приюты. Отношение мужчины к женщине показывает, насколько он сам победил свой эгоизм, как далеко он отошел от обезьяньего закона: «Сила – право».
– Прошу вас, не перетолковывайте моих слов, – взмолился философ, нервно поглядывая на нахмурившиеся бровки студентки. – Я никогда не утверждал, чтобы женщина не была равной мужчине; я убежден, что она равна. Я только утверждаю, что она стоит не выше его. Умный человек почитает женщину как друга, сотрудницу, свое дополнение. Только дурак отказывает ей в человеческих правах.
– Но разве мы не стоим выше по нашим идеалам? – настаивала на своем старая дева. – Я не говорю, чтоб мы, женщины, были совершенствами – пожалуйста, не думайте этого. Вы замечаете наши недостатки не хуже нас самих. Прочтите женщин-писательниц, начиная с Джордж Эллиот. Но ради вас самих – разве не лучше, когда мужчине есть на что поднять глаза, как на нечто высшее?..
– Между идеалом и очарованием большая разница, – отвечал философ. – Идеал всегда помогал человеку; но это принадлежит области мечтаний, самой важной для него области – области его будущего. Очарование – земного происхождения; оно в свое время поражает каждого мужчину, ослепляя его. Страна, где управляли женщины, всегда дорого платила за свое безумие.
– А Елизавета! А Виктория! – воскликнула студентка.
– Они были идеальными правительницами потому, что предоставляли управление страной способным людям. Но Франция при ее Помпадурах!.. Византия при ее Феодорах – более подходящие примеры для моей теории. Я только говорю о том, как неблагоразумно видеть во всех женщинах совершенство. Велизарий погубил и себя и свой народ тем, что считал собственную жену честной женщиной.
– Но рыцарство, без сомнения, оказало услуги человечеству, – вставил я.
– Даже в широких размерах, – согласился философ. – Оно воспользовалось человеческой страстью и обратило ее на благие цели. В свое время это имело значение. Для человека, знавшего только войну и хищничество, воспитанного в жестокости и несправедливости, женщина была единственным существом, научавшим его радости делать уступки. Женщина в те времена была ангелом по сравнению с мужчиной! Это не пустые слова. Все более мягкие проявления жизни сосредоточивались в ее руках. Мужчина проводил жизнь в войне или разгуле. Женщина ухаживала за больными, утешала горюющих, шла незапятнанная среди мира, омраченного пороками. Самая ее покорность духовенству, природная способность восхищаться церемонией – теперь факторы, суживающие ее благотворное влияние, – в то время должны были окружать ее перед его затуманенным взглядом, приученным смотреть на догмат как на душу религии, ореолом святости. Женщина была тогда служанкой. Естественно, что она старалась возбудить сострадание и нежность в мужчине. Теперь она сделалась повелительницей мира. Теперь смягчать мужчину – вовсе не ее миссия. В наше время женщина ведет войну; женщина возвеличивает грубую силу.
Теперь женщина, сама счастливая, глуха к страдальческому стону мира; она высоко ставит человека, пренебрегающего интересами своего вида ради увеличения удобств своей личной семьи, и презирает как плохого отца и мужа человека, чье чувство долга простирается за пределы его семейного очага. Вспомните упрек, сделанный леди Нельсон мужу после битвы на Ниле. «Я женился, и поэтому не могу прийти» – вот слова, которые очень многие женщины подсказывают мужьям в ответ на призыв со стороны Бога. Недавно мне пришлось говорить с одной женщиной о жестокости по отношению к котикам, с которых заживо сдирают шкуру. «Мне жаль бедных зверьков, – ответила она, – но, говорят, мех от этого приобретает более темный оттенок». Правда, ее жакет был из великолепного меха.
– Когда я издавал газету, я открыл особый отдел переписки на эту тему, – сказал я. – Мы получали массу писем – большинство заурядных, даже глупых. Но попалось одно оригинальное. Оно было написано девушкой-продавщицей в большой модной мастерской. Она далеко не разделяла взгляда, чтобы все женщины и во все времена представляли из себя совершенство. Она советовала романистам и поэтам поступить на год в большое модное дело: тут они бы получили возможность изучить женщину, так сказать, в ее натуральном виде.
– Не следует судить нас по тому, что, сознаюсь, составляет нашу главную слабость, – сказала светская дама. – Женщина, занятая только своим туалетом, перестает быть человечной – она возвращается к первобытному животному состоянию. Но, правду сказать, и портнихи могут иногда вывести из себя. Вина не вполне на одной стороне.
– Вы меня так и не убедили, что женщину ценят выше ее достоинства, – заметила студентка. – Даже и наш разговор пока не доказал ваших положений.
– Я не утверждаю, чтобы выдающиеся писатели проводили этот взгляд, но в популярной литературе он продолжает существовать. Ни один мужчина не станет оспаривать его в глаза женщине, и женщина – в ущерб себе – признала такой взгляд непреложным. Это понятие впиталось в более или менее разнообразной форме ее сознанием, исключая возможность исправления. Девушку не побуждают задать себе весьма полезный вопрос: «Выйдет ли из меня здоровый, полезный член общества? Или я подвергнусь опасности выродиться в пустую, эгоистичную, никому не нужную особу?»
Она вполне довольна собой, пока не открывает в себе наклонностей к мужским порокам, забывая, что есть и женские пороки. Женщина – балованное дитя нашего века. Никто не указывает ей на ее недостатки. Свет с его тысячью пороками льстит ей.
Каприз, ослиное упрямство именуются «милыми причудами» хорошенькой девушки. Трусость, одинаково презренная в мужчине и женщине, поощряется в ней, как очаровательное свойство.
Неспособность взять в руки дорожный мешок и пройти с ним через сквер или обогнуть угол – выставляется привлекательностью. Неестественное невежество и непроходимая глупость дают ей право считаться поэтически идеальной. Если ей случится дать пенни нищему на улице – причем обыкновенно ее выбор падает на обманщика – или поцеловать щенка в нос, – мы истощаем весь свой хвалебный лексикон, провозглашая ее святой. Я еще изумляюсь, каким образом, несмотря на все нелепости, какими женщины вскармливаются, из них выходит столько дельных.
Что же касается меня, то я нахожу большое утешение в убеждении, что разговор сам по себе несет менее ответственности во всем хорошем и дурном, что есть на свете, чем мы, говорящие, себе воображаем. Чтобы прорасти и принести плод, слова должны упасть на почву фактов.
– Но все же вы считаете справедливым бороться против глупости? – спросил философ.
– Без сомнения! – воскликнул поэт. – Тем мы и опознаем глупость, что можем убить ее. От истины наши стрелы отскакивают, не нанося ей вреда.
* * *
– Но почему она поступила так? – спросила старая дева.
– Почему? Мне кажется, вряд ли какая-нибудь из них знает, почему поступает так или иначе, – сказала светская дама, выказывая признаки досады, что вообще с ней случалось редко. – Говорит, что у нее недостаточно работы.
– Должно быть, она совершенно необыкновенная женщина, – заметила старая дева.
– Сколько на мою долю выпало хлопот благодаря ей, только из-за того, что Джорджу нравится, как она готовит, и сказать не могу, – продолжала светская дама с негодованием. – В последние годы у нас бывали небольшие обеды раз в неделю, только ради ее удовольствия. Теперь она желает, чтоб я давала два обеда. А я вовсе не намерена этого делать.
– Если я могу предложить свои услуги… – начал поэт. – Мой желудок, конечно, не тот, что был прежде, но могу служить в качестве ценителя… Я бы не отказался разделить с вами утонченную трапезу дважды в неделю – скажем, в среду и субботу. Если вы думаете, что удовлетворите ее этим…
– Очень любезно с вашей стороны, – отвечала светская дама. – Но я не могу допустить этого. Почему вам отказываться от незатейливого обеда, приличного поэту, только ради того, чтобы угодить моей кухарке!
– Я при этом имел в виду больше вас, – продолжал поэт.
– Мне просто хочется совсем бросить хозяйство и перебраться в отель, – сказала светская дама. – Хоть это и не по мне, но прислуга становится положительно невозможной.
– Это весьма интересно, – заметил поэт.
– Очень рада, что вы это находите, – не без колкости ответила хозяйка.
– Что, интересно? – спросил я у поэта.
– Что все в наш век, все, хотя медленно, но упорно клонится к устройству жизни на таких началах, один намек на которые мы несколько лет тому назад назвали бы социализмом. Повсюду увеличивается число отелей, а число частных домов уменьшается.
– Что же тут удивительного? – возразила светская дама. – Вы, мужчины, говорите о «радостях семейного очага». Некоторые пишут на эту тему стихотворения, но большинство из вас, живя в меблированных комнатах, проводят чуть не весь день в клубе.
Мы сидели в саду; поэт погрузился в созерцание солнечного заката. Хозяйка продолжала:
– Вот муж и жена сидят у камина. Муж уселся поудобнее и не замечает, как жена вышла из комнаты: она же отправилась за объяснением, почему в корзине для угля в гостиной всегда только один сор, а лучший уголь сжигается в кухне? Дом для нас, женщин, – место работы, от которой не уйдешь.
– Мне кажется… – начала студентка, говоря на этот раз, к моему удивлению, без негодования.
Вообще студентка разделяет так называемое «божественное неудовольствие» всем вообще. Со временем она справится с удивлением, что мир не такое приятное место пребывания, каким ей его рисовали, и откажется от своего теперешнего твердого убеждения, что предоставьте ей свободу действия, она все переустроила бы в четверть часа. И теперь по временам в ее тоне уже слышится меньше уверенности в том, что она не первая, серьезно задумавшаяся над этим вопросом.
– Мне кажется, – начала она, – причина тому – воспитание. Наши бабушки были довольны, наполняя свою жизнь мелочными хозяйственными хлопотами. Они вставали рано, работали со служанками, сами за всем присматривали. Теперь мы нуждаемся во времени для саморазвития, для чтения, для размышления, для удовольствия. Домашние работы не только не составляют цели нашего существования, но служат ему помехой. Мы досадуем на это.
– В теперешнем возмущении женщины историки будущего увидят главный фактор нашего общественного развития, – продолжал поэт. – «Домашний очаг», который мы до сих пор восхваляем, но с возрастающей неохотой, зависел от ее согласия жить, в сущности, рабыней.
Когда Адам пахал, а Ева пряла, причем Адам не выходил за пределы своей ограды, а Ева останавливала колесо своей прялки, когда ее запас был достаточен для семьи, тогда «домашний очаг» покоился на твердом основании существующего факта. Оно поколебалось, когда муж сделался гражданином и его интересы распространились за пределы домашнего круга. С той минуты женщине одной пришлось поддерживать это учреждение. Теперь она, в свою очередь, требует права вступить в общественную жизнь, вырваться из одиночества, в котором она пребывает в замке своего возлюбленного.
«Дворцы» с общими столовыми, читальнями, системой общей услуги вырастают в каждом квартале; особняки, виллы исчезают. Та же история повторяется во всех странах. Отдельное жилище, где оно еще сохранилось, поглощается целой системой жилищ. В Америке – лаборатории, где производятся опыты по всем отраслям жизни, какой она сделается в будущем – дома отапливаются одной общей топкой. Вы не зажигаете огня – только впускаете теплый воздух. Ваш обед привозят вам в перевозной печи. Вы абонируетесь на слугу или служанку. Очень скоро частные хозяйства с их штатом беспорядочной, вечно ссорящейся прислуги, с массой потребностей, неудовлетворенных или чрезмерных, исчезнут так же, как исчезли пещерные жилища.
– Желала бы прожить еще столько, чтоб увидать все это, – сказала светская дама.
– Вероятнее всего, доживете, – сказал поэт. – Мне хотелось бы иметь возможность с такой же уверенностью сказать это про себя.
– Если ваше предположение имеет шансы на исполнение, то я утешаю себя мыслью, что я старший из партии. Я никогда не читаю эти полные и обстоятельные описания жизни будущего столетия, не предаваясь размышлению, что прежде чем все это осуществится, я умру и буду похоронен. Может быть, это эгоизм с моей стороны, но мне кажется, я не был бы в состоянии жить такой машинной жизнью, какую предсказывают наши провидцы.
Мне кажется, вы, то есть большинство из вас, упускаете из виду очень важное соображение – именно, что человечество живет. Вы вырабатываете свои ответы, будто оно представляет из себя искомое в тройном правиле. Если человек в столько-то тысяч лет сделал столько-то в таком-то направлении при такой-то и такой-то скорости, сколько он сделает и т. д. Вы забываете, что на него влияют импульсы, не поддающиеся никакому вычислению, что его увлекают направо и налево силы, которых вам невозможно изобразить в своей алгебре. В одно поколение христианство превратило республику Платона в абсурд. Пресса покончила с неразрешимыми выводами Макиавелли.
– Нет, я не согласен с вами, – сказал поэт.
– Факт не убеждает меня в ошибке, – возразил философ.
– Христианство только прибавило силы стремлениям, зачатки которых уже таились в племени, еще находившемся в младенчестве. Пресса, научая нас думать сообща с другими, в некотором роде сузила цели индивида в противопоставлении целям человечества. Оглянитесь без предрассудка, беспристрастно на прошлое человечества. Какая картина вам представится? Сначала вы увидите разбросанные по дикой, мертвой пустыне норы и пещеры; затем грубо сколоченные хижины, вигвамы – первобытные жилища первобытного человека. Одиноко в сопровождении своей подруги и потомства он бродит по высокой траве, постоянно озираясь зорким пугливым взглядом; он удовлетворяет свои несложные потребности, сообщает с помощью немногочисленных жестов и звуков свой незначительный запас знаний своему потомству; затем, забравшись за какой-нибудь камень или в скрытое местечко, джунгли, умирает там. Оглядываемся снова. Тысячи столетий промчались и исчезли без следа. Поверхность земли испещрена странными, неровными следами: здесь, где солнце сияет над сушей и морем, они теснятся друг к другу, почти соприкасаются; там, в тени, расстояние между ними больше. Образовалось племя. И масса то двигается вперед, то останавливается, то подается назад, повинуясь общему импульсу. Человек узнал тайну сплочения, взаимной помощи. Воздвигаются города. Из их каменного центра распространяется сила; возникает нация; цивилизация порождается досугом; жизнь человека уже не сводится исключительно к животным потребностям. Соплеменники защищают художника, мыслителя. Сократ думает, Фидий ваяет мрамор, между тем как Перикл создает закон, а Леонид обуздывает варваров. Империя поглощает мелкие государства. Россия протягивает руку через всю Азию. В Лондоне мы пьем за здоровье союза народов, говорящих на английском языке; в Берлине и Вене устраиваем празднества в честь общегерманского союза; в Париже шепчемся об общности латинской расы. Как в великом, так и в малом. Склады обширные, универсальные магазины вытесняют мелких торговцев; трест сплачивает сотни фирм; союз говорит от имени рабочих. Границы наши или языка кажутся тесными для новых понятий. Пусть на бизань-мачте разных судов развеваются какие угодно клочки пестрой ткани, – германские, американские, русские флаги, – человечеству есть дело только до капитана этих судов. Сто пятьдесят лет тому назад Сэм Джонсон дожидался в передней издателя; теперь все наперерыв приглашают его к чайному столу и слушают, что он процедит им сквозь зубы. Поэт, новеллист говорит на двадцати языках. В будущем дороги пролягут прямехонько от одного полюса до другого. Надо быть слепым, чтобы не видеть, к какой цели мы стремимся. Она отстоит от нас на одно или два поколения. Это громко жужжащий улей – один общий улей, охватывающий весь земной шар. Пчелы существовали до нас; они разрешили загадку, ответа на которую мы допытываемся впотьмах. Старая дева содрогнулась.
– Ужасная мысль! – сказала она.
– Для нас, но не для тех, кто будет жить после нас. Ребенок боится возмужалости. Аврааму, бродившему со своими стадами, жизнь современного горожанина, прикованного сутра до вечера к своей конторе, показалась бы немногим лучше каторги.
– Мои симпатии на стороне идеалов Авраама, – заметил философ.
– И мои также, – согласился с ним поэт. – Но ни вы, ни я не являемся представителями тенденций современности. Мы принадлежим к числу любопытных древностей. Мы и нам подобные служат тормозом, регулирующим ход прогресса. Очевидно, видовой гений направляется в сторону организованного коллективизма жизни, слившейся воедино под контролем одной центральной идеи.
Единичный работник вовлечен в фабрику. Знаменитый художник в наши дни набрасывает рисунки для нее, каждая вещь составляется пятьюдесятью работниками, каждый из которых обладает совершенством в своей специальности. Почему в отеле, с его пятьюстами слуг, кухней, способной питать три тысячи ртов, все идет гладко, между тем как в «собственном хозяйстве» вечный беспорядок и ссоры? Мы теряем способность жить одни; инстинкт общественности уничтожает ее.
– Тем хуже для общины, – заключил философ. – Человек, как сказал Ибсен, всегда стоит выше всего, когда он стоит один. Вернемся к нашему другу Аврааму. Без сомнения, он, бродя по пустыне, беседуя со своим Богом, был ближе к идеалу, чем современный горожанин, черпающий свои мысли из утренней газеты, восторгающийся в театре всякой бессмыслицей, аплодирующий грубому жесту в каком-нибудь мюзик-холле. В общине руководителем становится всегда стоящий ниже всех. Вы сейчас упомянули о том, что Джонсона теперь все приглашают к себе. А многие ли из современников читали Джонсона, если сравнить с числом подписчиков на «Шутовскую безделицу»? К чему же ведет подобное так называемое «коллективное мышление»? – К различным мафиям и дрейфусиадам. Породила ли толпа когда-нибудь благородную идею? Если бы Сократ и Галилей, Конфуций и Христос «думали коллективно», – мир действительно был бы муравейником, каким, по-видимому, вам рисуется его будущность.
– Подводя итог в книге, следует смотреть на обе страницы, – ответил поэт. – Я соглашаюсь: толпа, сама по себе, не создает ничего; с другой стороны, она вбирает идеалы в свою душу и дает им убежище. Она более охотно отзывается на хорошее, чем на дурное. Кто более стойко поддерживает добродетель, как не ваша галёрка? Негодяй, только что перед тем отколотивший свою мать, вместе с прочими громко аплодирует обращению к прирожденным рыцарским чувствам мужчины на сцене. Он с негодованием отверг бы в эту минуту тень мысли о возможности наброситься на мать, при каких бы то ни было обстоятельствах. «Коллективное мышление» ему полезно. Мотив, побуждающий праздношатающегося, пропитанного абсентом, в патриотическом увлечении кричать: «Долой жидов!», ведет свое происхождение от идеального побуждения. Даже когда толпа сумасшествует, ее может приводить в движение только извращение ее лучших инстинктов. Статистики страховых обществ не могут быть судьями услуги, оказанной Прометеем человечеству. Мир как целое выиграл от коллективизма и достигнет своей цели только с помощью его. Идя по известной тропе цивилизации, мы далеко отошли от кочевого образа жизни. Дорога все еще поднимается, скрытая от нас туманами, но ее зигзаги ведут нас в обетованную землю. Цель, по-видимому, – не развитие отдельной личности, но поднятие расы. Одинокие великие люди – пастухи стада, слуги, а не хозяева мира. Моисей умер и был похоронен в пустыне, только издали созерцая землю, где должны были найти себе отдохновение утомленные странники.
Весьма прискорбно, что «Шутовская безделица» и ей подобные произведения находят себе столько читателей. Но, может быть, этим путем научаются читать такие люди, которые иначе никогда не постигли бы этого искусства. Мы теряем терпение, забывая, что появление и исчезновение нашего поколения – не более как размах маятника часов природы. Вчера мы стремились поглядеть на бой гладиаторов, на сожжение христиан, на казнь через повешение в Ньюгете. Даже с гуманитарной точки зрения, музыкальный фарс – прогресс по сравнению с этим.
– В южных штатах Америки на линчевание отправляются специальные поезда, – гнул свое философ, не сдаваясь, – бой быков переходит во Францию, а английские газеты проповедуют возрождение медвежьей травли и петушиных боев. Разве мы не движемся все по тому же кругу?
– Дорога петляет, как я уже сказал, – возразил поэт. – Подъем несколько крут. Может быть, именно теперь мы идем по изгибу, заворачивающему назад. Я подкрепляю свою веру, время от времени оглядываясь назад. Я вижу трудную дорогу со многими ступенями, ведущими книзу. Но все же мы поднимаемся, все же мы идем кверху.
– К такой презренной цели согласно вашей теории! – проговорила старая дева. – Мне было бы невыносимо чувствовать себя насекомым в улье, имеющим свой маленький, строго определенный круг обязанностей, состоящим в каждом своем поступке под контролем, определенным законом, обязанным пребывать на определенном месте, даже питаться и пить по определенным правилам. Нет, лучше подумаем о чем-нибудь более веселом.
Поэт засмеялся.
– Поздно, дорогая леди, – сказал он. – Дело уже сделано. Мы уже попали в улей; ячейки строятся. Кто живет собственной жизнью? Кто сам себе хозяин? Что вы можете делать, как не жить, сообразуясь с доходом, в маленькой, – не сомневаюсь, уютной, – ячейке; жужжать в своем маленьком миру свою веселую, приятную песенку, помогая себе подобным насекомым, день изо дня исполняя полезную работу, обусловленную личными средствами и темпераментом, видя все те же лица, двигаясь по тому же узкому кругу? Почему я пишу стихи? Меня за это нельзя порицать. Это единственная вещь, что я могу делать. Почему один человек живет и трудится на безлесных скалах Исландии, а другой работает в апеннинских виноградниках? Почему одна женщина ездит в коляске, и, что ни день меняя шляпку, ведет веселую, беззаботную жизнь, а другая мечется, делая ежедневно с июля по июнь по полдюжины визитов, с июля до февраля спеша с одного модного курорта на другой, одеваясь по указанию своей модистки, говоря красивые вещи, каких от нее ожидают? Кому удается избегнуть закона улья? Только забулдыге, бродяге. С другой стороны, какого человека мы уважаем и какому завидуем? Человека, трудящегося для общины, человека «общественного», как мы его называем; человека бескорыстного, работающего ради дела, а не ради выгоды, посвящающего дни и ночи на изучение тайн природы, на приобретение знаний, полезных всей расе. Разве не счастливейший тот человек, который победил свои личные инстинкты и отдал себя на служение общественному благу? Улей образовался в дни господства мрака, когда человек еще не имел знаний; он образовался на ложных основаниях. Этот человек будет иметь ячейку пошире, чем прочие, вся прочая мелкота будет завидовать ему, тысячи ползающих личинок будут его рабами, влача несчастное существование только для него, и для него одного; весь свой мед они должны приносить ему; он наедается, а они мрут с голоду. А польза какая? Он не стал крепче в своей волшебной ячейке. Сон для утомленных глаз, а не для шелковых одеял. Сны людям снятся повсюду. Его желудок, если он его растягивает – этот орган ведь невелик, – мстит за это. Запас меда горкнет. Старый улей получил свое начало в мрачные дни невежества, глупости, грубости. Должен возникнуть новый улей.
– Я и не подозревала, что вы социалист, – сказала светская дама.
– И я также, до нашего разговора, – подтвердил поэт.
– А в будущую среду вы будете заступаться за индивидуализм, – засмеялась светская дама.
– Очень может быть, – согласился поэт. – Пучина взывает многими голосами.
– Попрошу еще чашку чаю, – сказал философ.
Новая утопия
Я провел исключительно интересный вечер. Обедал с некоторыми из моих выдающихся друзей в «Национальном социалистическом клубе». Обед отличался удивительною изысканностью блюд. Были фазаны, начиненные трюфелями и удостоившиеся со стороны одного из нас наименования кулинарной поэзии; были, разумеется, и другие блюда, ни в чем не уступавшие фазанам. Если же я прибавлю, что шато-лафит 1849 года был вполне достоин той цены, которую мы за него заплатили, то, полагаю, это будет лучшим доказательством изысканности нашего обеда.
После обеда, за сигарою (во имя истины должен сознаться, что «Национальный социалистический клуб» очень опытен в приобретении хороших сигар) у нас завязалась крайне поучительная беседа о грядущей национализации капитала и о полном социалистическом равенстве людей.
Положим, что касается лично меня, то я был обречен больше слушать, чем говорить, благодаря своей некомпетентности в данных вопросах. Рано лишившись своих родителей, я в детстве был поставлен в такие условия, которые вынуждали меня собственными усилиями прокладывать себе жизненный путь; поэтому у меня не было времени заниматься мировыми вопросами.
Зато я был весь внимание к тому, что говорилось моими просвещенными друзьями, бравшимися в несколько лет исправить все страшное мировое зло, в котором коснело злополучное человечество в течение прошлых тысячелетий, когда на свете еще не было этих самых моих друзей.
Главным лозунгом великих мирообновителей было «равенство», абсолютное равенство людей во всех отношениях: в положении, во влиянии на общественные дела, в имуществе, во всех правах и обязанностях, а следовательно, в довольстве и счастье.
– Так как, – говорили мои друзья, – мир создан для всех, то он и должен быть разделен поровну между всеми. Труд каждого человека должен идти на пользу государства, которое будет питать и одевать людей и вообще заботиться об их нуждах и потребностях. Никто не имеет права обогащаться сам своим трудом; все должны трудиться исключительно для пользы государства.
Все личное богатство – эти социальные узы, посредством которых немногие связывали многих, это страшное оружие, служившее кучке разбойников средством отбирать у целого общества плоды его трудов, должно быть вырвано из рук тех, которые слишком уж долго держали его.
Общественные различия, как не имеющие смысла преграды, которыми до сих пор сдерживались в своем естественном движении волны могучего жизненного потока, должны быть уничтожены. Человечеству должен быть дан неограниченный простор в его поступательном движении, в его законном стремлении к новым формам жизни, к новым возможностям, каковы бы они ни были. Пусть человечество свободно разливается по всей шири безграничного простора. До настоящего времени оно было вынуждено идти лишь тесною кучей, причем каждой отдельной личности, с неимоверным трудом и в неописуемых страданиях, на свой собственный страх и риск, приходилось перебираться через крутизну и пропасти неравенства рождения и положения. Для изнеженных ног баловней слепой судьбы дорога была ровная, укатанная и выложенная мягким газоном, между тем как истерзанные ноги обездоленных не имели другой опоры, кроме острых камней. Пусть же отныне для всех людей будет один ровный, прямой, просторный и мягкий путь, усыпанный розами, лилиями и фиалками, – словом, обставленный всевозможными удобствами и удовольствиями.
Неистощимые богатства матери-природы должны питать одинаково всех; не должно быть ни голодных, ни погибающих от излишества питания. У сильного должна быть отнята возможность захватывать себе больше, чем будет иметь слабый. Земля принадлежит человечеству со всем, что находится на ее поверхности и в ее недрах; поэтому она и должна быть разделена между всеми поровну. Равные по законам природы люди должны быть равными и по своим собственным законам.
Из неравенства возникли все отрицательные явления в человечестве: нужда, преступление, грех, самолюбие, заносчивость, лицемерие и пр. При полном равенстве исчезнет всякий повод, всякий соблазн к совершению всяческого зла; а раз все это исчезнет, то таящееся в человеческой природе благородство засияет во всей своей красоте, во всем своем ослепительном блеске.
Лишь только будет объявлено равенство людей, земля сразу превратится в рай, но без унижающего людей деспотизма какого бы то ни было божества.
В конце этих широковещательных разглагольствований ораторы подняли бокалы и провозгласили тост за священное равенство (разумеется, в этом тосте участвовал и я), а потом велели подать себе шартреза и новых сигар.
Я вернулся домой с этого вечера в глубоком раздумье и, улегшись в постель, долго не мог уснуть, мысленно перебирая нарисованные моими друзьями картины нового мира.
В самом деле, как прекрасна была бы наша жизнь, если бы эти картины могли осуществиться, а не оставались бы, так сказать, лишь одними набросками. Я представлял себе их уже воплощенными и видел, что действительно ничего лучшего и быть не может.
Не стало бы больше борьбы за существование и вражды между отдельными личностями; исчезли бы зависть, вражда и ненависть; не стало бы больше горьких разочарований, нужды и страданий. Государство пеклось бы о нас с самой минуты нашего рождения и вплоть до того времени, когда мы будем зарыты в землю; снабжало бы нас всем необходимым, с колыбели и до могилы включительно, и нам совсем не нужно было бы заботиться о себе.
Исчезла бы необходимость тяжелого труда. По вычислениям моих друзей, достаточно трехчасового труда в день со стороны каждого из граждан нового мира; будет даже запрещено продолжать работу хоть на одну минуту сверх срока.
Не будет больше ни бедных, вызывающих жалость, ни богатых, вызывающих зависть. Не будет никого, кто бы смотрел на нас сверху вниз и на кого мы сами смотрели бы снизу вверх… Положим, тогда не будет и таких, на которых мы могли бы смотреть сверху вниз; это обстоятельство немного разочаровало меня, но я вскоре утешился мыслью, что ведь и самое солнце не без пятен.
Во всяком случае, общее впечатление от придуманного моими мудрыми друзьями было прекрасное. Жить совершенно беспечно, без малейших забот и почти без всякого труда, без горя и страданий, даже без мысли, за исключением думы, о славных судьбах человечества, – разве это, в самом деле, не рай?..
Вдруг блестящие картины грядущего земного блаженства спутались в моем воображении, померкли, растворились в безобразном хаосе, и я заснул сном праведника.
* * *
Проснувшись, я увидел себя лежащим в стеклянном ящике, в каком-то огромном, но неприветливом, даже мрачном помещении. Над моим изголовьем была прикреплена дощечка с надписью. Я повернул, насколько мог, голову и прочитал надпись, изображенную следующим образом и в следующих словах:
«СПЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК XIX СТОЛЕТИЯ
Этот человек был найден спящим в одном из домов Лондона, во время великой революции 1899 года. По словам квартирной хозяйки, он спал уже более десяти лет, потому что она все забывала разбудить его. Было постановлено, в научных целях, не будить его, а наблюдать, сколько времени он может еще проспать. В силу этого, он был помещен в музей редкостей 11 февраля 1900 года. (Посетителей просят в отверстия для прохождения воздуха воды не лить)».
Какой-то старик с интеллигентным лицом, возившийся недалеко от меня над распределением в другом стеклянном ящике высушенных ящериц, подошел, сдернул с меня крышку и спросил:
– Что с вами? Вас что-нибудь обеспокоило?
– Нет, ничего, – ответил я. – Я проснулся просто потому, что выспался, как это всегда со мной бывает. Но скажите, пожалуйста, в каком мы теперь веке?
– В двадцать девятом. Вы проспали ровно тысячу лет.
– Тысячу лет?! – невольно воскликнул я. – Впрочем, что ж, тем лучше: за такой продолжительный отдых у меня, наверное, накопилось много новых сил, – продолжал я, выбираясь из ящика и спускаясь со стола, на котором тот стоял. – Продолжительный сон всегда считался лучшим средством для восстановления сил.
Приняв вертикальное положение вместо горизонтального, то есть встав на ноги, я действительно почувствовал в себе прилив новых сил.
– Предполагаю, что вы сейчас захотите сделать то, что обыкновенно прежде всего делают люди в вашем положении, – довольно кисло промолвил старик, не ответив на мои последние слова. – Вы, вероятно, потребуете, чтобы я провел вас по всему городу и объяснил вам все происшедшие за тысячу лет перемены. И вы будете осыпать меня вопросами и разного рода замечаниями.
– Вы угадали, – подхватил я, – именно это я и желал бы сделать.
– Ну конечно, – еще кислее пробурчал он. – Так идемте, чтобы скорее покончить с этим.
И он двинулся к выходу.
Спускаясь с ним с лестницы, я поинтересовался:
– Значит, теперь все в порядке?
– Что именно? Насчет какого порядка вы спрашиваете? – в свою очередь спросил мой спутник.
– Да насчет мирового порядка, – пояснил я. – Как раз перед тем, как мне суждено было погрузиться в такой крепкий и долгий сон, некоторые из моих друзей собирались раскрошить мир на части и потом воссоздать его на новых началах. Вот я и спрашиваю, удалось ли им это и лучше ли стало теперь, чем было при мне… то есть до моего тысячелетнего сна? Существует ли теперь общее равенство и освобождено ли человечество от греха, страданий и всякого рода зол?
– Ода! – немного оживившись, ответил мой спутник. – Вы увидите, что теперь нет ничего общего с тем, что было тысячу лет назад. Порядок у нас образцовый. И мы немало потрудились ради установления этого порядка за все то время, которое вы проспали. Мы переделали всю землю до неузнаваемости и превратили ее в совершенство. Теперь уж никто не творит на ней что-нибудь дурное и неправое. А что касается равенства, то у нас изъяты из него только одни идиоты.
Манера старика выражаться показалась мне довольно вульгарною, но я не решился высказать ему этого.
Мы пошли по городу. Кругом было очень чисто и тихо. Снабженные номерами улицы были прямые и широкие; все они перекрещивались под прямыми углами и поражали полною однообразностью. Прежних экипажей с лошадьми совсем не было видно. Передвижение производилось исключительно или пешком, или же в фурах с электрической тягой. Люди, попадавшиеся нам изредка навстречу, были очень спокойны и серьезны, и
все на одно лицо, словно они были членами одного семейства. Одеты они были точь-в-точь так же, как был одет мой спутник, то есть в серую блузу, наглухо застегнутую у шеи и подпоясанную ремнем, и в серые панталоны. Все были черноволосые и с начисто выбритыми лицами.
– Неужели все эти люди – близнецы? – спросил я.
– Близнецы? – с видимым изумлением повторил старик. – С чего вам пришла в голову такая несуразная мысль?
– Почему же «несуразная»? – немного обиженно возразил я. – Чем же иначе объяснить удивительное сходство всех встречных между собою и с вами? У всех одни лица, одинакового черного цвета волосы…
– Что касается этого, то у нас установлено как ненарушимое правило иметь черные волосы, – пояснил мой спутник. – У кого же они от природы другого цвета, тот обязан выкрасить их в черный.
– Для чего же это? – полюбопытствовал я.
– Как для чего?! – вскинулся на меня старик. – Неужели вы и этого не понимаете? Я же вам говорил, что у нас теперь процветает полное равенство. А какое же это было бы равенство, если бы одним из нас, будь то мужчина или женщина, было разрешено чваниться белокурыми или, как вы в свое время называли их – «золотистыми» волосами, у другого голова горела бы, как в огне, от рыжей растительности, у третьего чернелась бы, как уголь, а у иных белелась бы, как снег? Нет, в наши счастливые дни люди равны не только по положению, но и по внешности. Установив для всех мужчин обязательное бритье лиц и для обоих полов одинаковый цвет волос и стрижку их в одинаковую длину, мы некоторым образом исправляем недочеты природы.
– А почему вы предпочли всем цветам черный? – спросил я.
– Не знаю, – ответил старик. – Мне достаточно знать, что этот цвет раз и навсегда установлен…
– Кем? – поинтересовался я.
– Разумеется, БОЛЬШИНСТВОМ, – с особенной торжественностью ответил мой спутник, благоговейно приподымая свою безобразную шляпу и смиренно опуская глаза, как делали прежние пуритане во время молитвы.
Задумавшись, я машинально следовал за стариком. Потом, заметив, что нам навстречу попадаются одни мужчины, я спросил:
– Разве в этом городе нет женщин?
– Как это – «нет женщин»?! – вскричал старик. – Сколько угодно. Мы уже много встречали их.
– Однако я не вижу их, – продолжал я. – Неужели выдумаете, что я не сумел бы сразу отличить женщину от мужчины?
– Да вот вам идут две женщины, – сказал мой проводник, указывая на проходившую мимо нас пару людей, одетых в те же серые блузы и панталоны.
– Но по каким же признакам можно узнать, что это женщины? – недоумевал я.
– По металлическим номерам, которые мы все носим на груди, – ответил старик.
– Ах, вот оно что!.. А я думал, что этими номерами у вас только обозначаются полицейские, и удивлялся, почему их так много, между тем как обыкновенных обывателей совсем не видно, – сказал я.
– Нет, каждый обыватель имеет свой номер: мужчины узнаются по нечетным номерам, а женщины – по четным. Полицейских же у нас нет: мы в них не нуждаемся, – поучал меня старик.
– Изумительно просто! – восхитился я. – Значит, вы только по этим номерам и отличаете мужчину от женщины?
– Конечно, – коротко ответил мой провожатый, которому, очевидно, начинало надоедать мое любопытство.
Некоторое время мы опять шли молча, потом я спросил:
– А для чего каждый из вас должен иметь номер?
Старик усмехнулся и, с сожалением взглянув на меня, произнес:
– Какие странные вопросы вы задаете!.. Впрочем, я ожидал их. Номера служат для того, чтобы мы могли отличать себя друг от друга.
– А разве у вас нет имен?
– Конечно, нет.
– Почему?
– Да просто потому, что в именах было слишком много неравенства у прежних людей. Одни из них называли себя Монморанси и свысока смотрели на тех, которые назывались Смитами, а Смиты отвертывались от Джонсов. И так далее до бесконечности. Каждый кичился своим именем и с презрением относился к носителям других имен. Для того чтобы пресечь в корне это возмутительное явление, было решено совсем уничтожить имена и заменить их номерами.
– И Монморанси не протестовали против этого? – удивлялся я.
– Как не протестовать! Протестовали, и даже очень сильно, но были подавлены Смитами и Джонсами, которые составляли БОЛЬШИНСТВО, – с прежней торжественностью и благоговением ответил проводник.
– Но разве номера первые и вторые не смотрели свысока на номера третьи и четвертые и так далее по порядку? – продолжал я.
– Да, вначале кичились и этим различием, – подтвердил старик. – Но с уничтожением богатства отдельных лиц числа лишились своего прежнего значения, за исключением разве промышленных целей, так что в настоящее время номер сто уже не считает себя выше миллионного номера.
Так как в музее, в котором я проснулся, не было никаких приспособлений для умыванья, то я и не умывался, а теперь, почувствовав крайнюю потребность освежиться умываньем, я осведомился у своего спутника, где бы мне можно было произвести эту операцию.
– У нас не полагается умываться самим, – заявил проводник. – Подождите до половины пятого, тогда вас умоют к чаю.
– Как умоют?! – вскричал я. – Ведь я не маленький, могу и сам…
– Вы будете умыты правительственными должностными лицами, – прервал меня старик.
– Но зачем же понадобилось правительству брать на себя обязанность няньки по отношению к взрослым? – недоумевал я.
Старик пояснил, что невозможно поддержать равенства между людьми, если им будет предоставлена свобода умываться, когда и как им вздумается. Были люди, которые привыкли умываться три или четыре раза в день, между тем как другие чуть не раз в год чувствовали необходимость счищать с себя грязь. Благодаря этому образовались два класса: чистых и грязных, которые так и называли друг друга, вследствие чего стали было возрождаться прежние предрассудки. Чистые презирали грязных, а грязные ненавидели чистых. Ввиду этого правительство было вынуждено взять на себя заботу и об умывании граждан. Были назначены особые должностные лица, которые два раза в день и производят умывание всех граждан. Частные же умыванья совсем воспрещены.
Обходя улицы, я не видел отдельных домов, были только здания вроде огромных, грубо устроенных бараков, и притом все на один лад, без малейших различий. На углах красовались такие же здания, но гораздо меньших размеров и с надписями: «Музей», «Больница», «Зал для диспутов», «Баня», «Гимназия», «Академия Наук», «Выставка предметов промышленности», «Школа красноречия» и т. д.
– Разве в этом городе не живут? – осведомился я.
– Ах, какие удивительные вопросы! – снова воскликнул мой спутник. – Где же, по-вашему, живут наши граждане, если не в городе?
– Так неужели они живут в этом «городе»? – недоумевал я. – Ведь тут совсем нет жилых домов.
– Таких домов, какие были тысячу лет назад, у нас, разумеется, нет, да мы в них и не нуждаемся, потому что живем в братстве и равенстве, – продолжал старик. – Мы живем вот в этих самых зданиях или, вернее, в блоках зданий. В каждом блоке помещается тысяча человек. В каждом помещении сто постелей. Кроме спален, в каждом блоке имеются строго рассчитанных размеров столовые, ванные, одевальные и кухни.
В семь часов утра, по звуку колокола, все встают и сами убирают свои постели. В семь часов тридцать минут идут в ванные и одевальные, где их моют, бреют, стригут и одевают… то есть позволяют им одеваться самим в одинаковые костюмы. В восемь идут в столовую завтракать. Завтрак состоит из пинты овсяной похлебки и полпинты теплого молока на каждого. Мы строго придерживаемся вегетарианства, приобретшего в течение последних столетий такое огромное количество сторонников, что из них постоянно составляется большинство на выборах.
В час дня колокол сзывает к обеду, состоящему из бобов и вареных плодов; два раза в неделю дается пудинг с вареньем, а по воскресеньям – пирог со сливами. В пять часов, после вторичного умыванья, мы пьем чай, а в десять гасятся огни, и мы ложимся спать.
Будучи равными, мы все живем совершенно одинаково; и между нами нет ни высших, ни низших. Мужчины и женщины имеют одинаковые права, только живут отдельно; мужчины – в одной части города, а женщины – в другой…
– А разве у вас нет семейных? – перебил я.
– Нет, семейный институт уничтожен уже двести лет назад. Семейный уклад нам не подошел, потому что он оказался противообщественным. Главы семейств больше думали о своих женах и детях, чем о государстве. Они трудились главным образом в пользу своих семей, а не для общины, и пеклись несравненно больше о будущности своих детей, чем о судьбах всего человечества.
Узы любви и крови объединяли людей в маленькие тесные группы, вместо того чтобы безраздельно слиться в одну общую. Прежде чем думать об успехах человечества, они думали об успехах своих родных. Прежде чем стараться об увеличении счастья всех своих сограждан, они старались о счастье своих близких по сердцу и крови. Для того чтобы доставить этим близким особенные удобства, они работали сверх силы, подвергали себя лишениям и накапливали лично для себя богатства. Любовь порождала в сердцах людей порок карьеризма. Ради того, чтобы удостоиться улыбки любимой женщины и оставить своим детям в наследство, помимо богатства, громкое имя, люди выбивались из сил, лишь бы подняться над общим уровнем, сделать что-нибудь такое, чем бы можно было привлечь к себе внимание мира и заслужить особенные почести. Каждому хотелось оставить на пыльном пути человечества более глубокий след, чем оставляют другие. Благодаря всему этому основные принципы социалистического строя ежедневно нарушались и подвергались опасности быть совершенно уничтоженными. Каждый дом, в котором жили обособленные, семьи, становился центром пропаганды идеи ценности каждой отдельной личности. Из недр очага поднимались ехидны «товарищества» и «независимости», чтобы отравлять умы людей и жалить общество в самое сердце.
Пошли публичные диспуты о равенстве и о неравенстве. Одни (меньшинство) стояли за первое, другие (большинство) – за второе. Мужья, любившие своих жен, находили их лучшими в мире и с презрительным снисхождением, едва скрывая свои чувства, смотрели на других женщин. Любящие жены, в свою очередь, находили, что их мужья умнее и во всех отношениях лучше других. Матери находили, что лучше их детей и быть не может, то есть каждая мать думала так о своих отпрысках, глядя на чужих как на существ неизмеримо низших. Дети с самого рождения также были пропитаны еретическими убеждениями, что их отцы и матери лучше всех остальных родителей на свете.
Вообще, со всех точек зрения, семья оказывалась нашим врагом. У одного, действительно, была прелестная жена и двое благонравных детей, а его соседу выпала на долю сварливая грымза и одиннадцать озорных бездельников. В чем же тут было равенство?
Кроме того, в одной семье горевали, а в другой – радовались. В одной хижине горько плачут перед маленьким гробиком осиротевшие муж и жена, в другой, рядом, супружеская чета радостно смеется, глядя на то, как гримасничает ребенок, стараясь сунуть себе в рот собственную ногу. Какое это равенство? Может ли общество, в котором существовали подобные противоположности, считаться нормальным?
Такие вопиющие несообразности терпеть больше было нельзя. Мы поняли, что семейная любовь мешала нам на каждом шагу, что именно в ней мы и имели самого сильного врага. Это глупое чувство делало равенство людей невозможным. Оно вело за собой в пестрой смеси радость и горе, мир и тревогу. Оно разрушало привитые нами с таким огромным трудом новые верования людей и подвергало страшной опасности все человечество. Ввиду этого мы нашли нужным уничтожить любовь.
В настоящее время у нас нет семьи, зато нет и семейных тревог; нет любовных историй – нет и любовных страданий; нет любовных восторгов – нет и терзаний ревности; нет поцелуев – нет и слез.
Теперь мы наслаждаемся настоящим равенством, освободившись от всех радостей, зато и от всех горестей семейной жизни, – с самодовольством закончил свою длинную речь мой спутник.
– Да, разумеется, при таких условиях у вас должны быть удивительные тишь и гладь, – заметил я и продолжал: – Но скажите, пожалуйста, – я спрашиваю с чисто научной точки зрения, – какими же путями возмещается у вас естественная убыль в населении? Или вы сделались бессмертными и…
– Ну нет, тайны приобретения бессмертия мы пока еще не открыли, – поспешил заявить мой спутник. – У нас умирают, как и встарь, хотя и в других условиях и пропорциях, а причиненную этим убыль мы возмещаем совершенно просто, тем же способом, каким в ваше время производилось размножение коров, лошадей и прочих домашних животных, в которых вы нуждались. Ежегодно, весною, мы некоторое время разрешаем обоим полам жить вместе, причем необходимое количество рождений устанавливаем заранее. Новорожденные тщательно воспитываются под медицинским руководством и наблюдением. Лишь только явившись на свет, они отбираются от своих родительниц, во избежание пагубной для равенства материнской любви, и помещаются в государственные воспитательные дома, откуда их своевременно отдают в общественные школы, где они пребывают до четырнадцатилетнего возраста. В этом возрасте они подвергаются экспертизе специалистов, по решению которых подготовляются к тому или другому делу, смотря по открытым у них способностям. Двадцати лет их заносят в списки взрослых граждан, причем им дается право голоса. Между мужчинами и женщинами не делается никаких различий; оба пола пользуются совершенно одинаковыми правами.
– Какими же, собственно? – осведомился я.
– Да всеми теми, о каких я сейчас говорил. Чего же вам еще? – с заметным раздражением пробурчал старик.
Я опять замолчал.
Когда мы, по моим расчетам, прошли несколько миль и я ничего не видел, кроме однообразных улиц да «блоков» зданий, так похожих одно на другое, мне вздумалось спросить:
– Разве здесь нет магазинов или, вообще, торговых и ремесленных заведений?
– Нет. На что они нам? – ответил проводник. – Государство кормит и одевает нас, дает нам жилище, оказывает медицинскую помощь, моет, бреет, красит, причесывает нас, а когда помираем – хоронит. Ни в каких торговых и ремесленных заведениях мы не нуждаемся, поэтому их и нет.
Чувствуя некоторую усталость, а главное – жажду, я немного спустя предложил новый вопрос:
– Нельзя ли нам зайти куда-нибудь, где я мог бы напиться? У меня страшно пересохло горло.
– Напиться?!. Что значит «напиться»? – удивился мой спутник. – У нас после обеда дается полпинты какао. Может быть, вы об этом говорите?
Я понял невозможность объяснить ему мою потребность напиться просто воды или чего-нибудь в этом роде, потому и сказал:
– Да-да, какао. Говорю вам: мне очень хочется…
– Ну, а я говорю вам, что какао подается у нас только к обеду! – резко прервал меня старик.
Я снова должен был замолчать и покориться своей участи – ждать обеда.
Мимо нас проходил молодой человек с благообразным лицом, но однорукий. Еще раньше я заметил несколько одноруких и одноногих. Это явление поразило меня, и я спросил об его причине.
– Это тоже объясняется очень просто, – ответил старик. – Когда у кого-нибудь из молодых людей замечается превышение в росте или и силе сверх установленной средней нормы, то у него отнимается нога или рука, чтобы привести его в равновесие с другими. Мы, так сказать, низводим его до нужного уровня, без которого также немыслимо равенство. Природа частенько ошибается в своей мерке; она никак не хочет приучиться работать по той мерке, которая нам нужна, и мы исправляем ее ошибки.
– Значит, вы не вполне еще подчинили себе природу? – съехидничал я.
– Увы, нет еще! – со вздохом промолвил старик. – Стараемся, но все еще далеко не с полным успехом. Положим, – с гордостью добавил он поеле непродолжительного молчания, – во многих отношениях мы уж посбили с нее спеси.
– Ну, а что вы делаете, когда среди вас является человек с умом выше нормы? – с тем же ехидством продолжал я.
– Это бывает очень редко, но когда случается такая ненормальность, то мы просто-напросто вскрываем у данного субъекта череп и производим над его мозгом некоторую операцию, после которой он становится вполне нормальным.
Сказав это, мой спутник снова помолчал, очевидно, погруженный в раздумье, потом добавил:
– В первое время мне казалось очень грустным, что мы не можем повышать умственные способности людей, а умеем только понижать их, но с течением времени я примирился с этим.
– И вы находите справедливым такое искусственное… или, вернее, насильственное понижение природных умственных способностей? – спросил я.
– Конечно. Разве я могу считать это несправедливым, раз исключена возможность повышать эти способности? – ответил мой собеседник.
– Почему же не можете? – приставал я.
– Потому, что так постановлено БОЛЬШИНСТВОМ, – смиренно проговорил старик.
– Неужели вы находите, что ваше большинство не может быть несправедливым? – вырвалось у меня.
– Разумеется, нет. БОЛЬШИНСТВО не может быть не правым, – тоном глубокой убежденности промолвил мой спутник.
– Ваше мнение разделяется и теми, у которых вам приходится обрезывать мозги? – не унимался я.
– Нет. Но много ли их? – передернув плечами, произнес старик. – Мы с ними не считаемся.
– Однако, по-моему, и меньшинство имеет право на сохранение своих рук, ног и мозгов, – возразил я.
– Меньшинство НЕ ИМЕЕТ НИКАКИХ ПРАВ, – последовала суровая отповедь со стороны моего собеседника.
– Следовательно, тому, кто пожелал бы жить среди вас, необходимо примкнуть к большинству, чтобы не…
– Разумеется! – оборвал меня старик, угадав мою дальнейшую мысль. – Только таким путем он и может избавиться от больших неудобств.
Мне надоело бродить по этому скучному городу, и я спросил, нельзя ли для разнообразия выйти за его черту, на простор полей. Мой проводник ответил, что это можно, но предупредил:
– Едва ли и там вам покажется интересно.
– Почему? – удивился я. – В мое время за городом было так хорошо. Там были зеленые, усыпанные цветами луга, над которыми витал такой упоительный аромат, когда по ним проносился легкий ветерок; были прекрасные ветвистые деревья, населенные пернатыми певуньями; были обвитые розами прелестные коттеджи.
– Ну, теперь там ничего этого нет, – снова сухо прервал меня старик. – Мы все это переделали по-своему. Вместо описываемой вами ненужной роскоши природы мы устроили обширные огороды, разделенные дорогами и каналами, перекрещивающимися под прямым углом, как здешние улицы. Вашей былой «красоты» вы больше не найдете и за городом. Мы ее уничтожили, потому что и она мешала нашему равенству. Мы нашли несправедливым, чтобы одни люди жили среди живописных окрестностей, а другие – среди болот или голых песков. Теперь благодаря нашим трудам весь мир стал одинаков во всех своих частях, все люди повсюду живут в одинаковых условиях, потому что на земле нет уже таких мест, которые имели бы какие-либо преимущества перед другими.
– А разве нет других стран, кроме этой? – спросил я, думая, что старик под словами «весь мир» подразумевает только свою страну, и, чувствуя, что дорого бы дал, чтобы очутиться в какой-нибудь иной стране, хотя бы даже в одной из тех, которые тысячу лет назад считались самыми суровыми.
– Области другие есть, но стран в прежнем смысле больше не существует, – пояснил мой спутник. – Говорю вам: весь мир сделан нами совершенно одинаковым. Везде один народ, один язык, один закон, одна и та же форма жизни.
– Боже мой! Неужели, в самом деле, на всей земле, от полюса до полюса и на протяжении всего экватора, нет ни малейшего разнообразия? – ужасался я. – Как это должно быть скучно!.. Но, может быть, у вас есть хоть какие-нибудь способы развлечения, театры, например?
– Нет, мы уничтожили и театры, – ответил старик. – Особенности артистического темперамента не допускали уравнения. Каждый из артистов мнил себя лучше и выше других… Быть может, в ваши дни это было иначе?
– Нет, артисты и в наше время, как и во все предшествовавшие времена, считали себя, так сказать, сверхмировыми существами, – сознался я. – Но мы не обижались, не придавая этому особенного значения.
– Ну, а мы взглянули на этот вопрос иначе, – отозвался мой спутник. – Наш «Союз общественной охраны Белой ленты» нашел, что все способы развлечения вредны и порочны, перетянул на свою сторону БОЛЬШИНСТВО и добился того, что всякие игры, музыка, танцы и прочие забавы были навсегда воспрещены.
– Ну, а книги читать вам позволяется? – спросил я.
– Это нам не запрещено, но только читать-то у нас нечего. Новых книг больше не пишется. Да и о чем писать в мире, где нет ни горестей, ни радостей, ни разочарований, ни надежд, ни любви, ни ненависти; где жизнь течет таким ровным, тихим, нигде не застревающим потоком?
– Да, у вас действительно писать не о чем, – согласился я. – Но что сделали вы с творениями прежних авторов? У нас были Шекспир, Вальтер Скотт, Теккерей, Байрон… Наконец я сам написал кое-что, заслуживающее некоторого внимания, как говорили. Может быть, все это у вас хранится в общественных…
– Нигде не хранится, – почти сердито оборвал меня мой проводник. – Мы весь этот старый хлам сожгли. Нам совсем не интересно знать о тех временах, когда в мире шла такая неразбериха и люди, в огромном большинстве, были превращены в невольников и во вьючный скот.
Дальше я узнал от него, что у них благодаря настояниям самой сильной общественной партии «Союза общественной охраны Белой ленты», были уничтожены все без исключения произведения искусства прежних времен и постановлено подавлять в подрастающих поколениях малейшее стремление к художественной деятельности всякого рода, потому что такая деятельность признана зловредною, как подрывающая великие основы равенства. Люди с художественными наклонностями имеют привычку мыслить и этим самым возвышаться над другими, не имеющими такой зловредной привычки. Разумеется, последняя категория людей преобладала и составляла БОЛЬШИНСТВО, которое и признало существование неприятных ей лиц первой категории недопустимым. При этом старик добавил, что по той же причине были воспрещены различные виды спорта и общественные игры, так как состязания ведут к проявлению способностей, а различие в способностях нарушает законы равенства.
– А по скольку часов в день работают у вас? – спросил я.
– Только по три часа, все же остальное время дня в нашем собственном распоряжении, – не без гордости проговорил старик.
– Что же вы делаете в течение такого продолжительного свободного времени? – поинтересовался я.
– Отдыхаем, – последовал краткий ответ.
– Отдыхаете?! Двадцать один час подряд только и делаете, что отдыхаете? И это после такого ничтожного труда? – изумлялся я.
– Ну, конечно, не все же время мы спим или сидим, как ваши прежние истуканы, – возразил мой спутник. – Мы думаем, беседуем…
– А!.. О чем же, смею спросить?
– О том, как трудно жилось прежним людям и как счастливы теперь мы, а также о великих предназначениях человечества.
– А что именно вы представляете себе под выражением «предназначения человечества»? – с любопытством спросил я. – Об этом и в наши дни много толковалось, но никто так и не мог выяснить, что, собственно, имелось в виду.
– Да? Ну, мы и в этом отношении ушли гораздо дальше вас, – с самодовольством проговорил мой собеседник. – Мы видим предназначение человечества в полном преобладании над природой, чтобы она не стремилась больше своими вольностями нарушать наши законы равенства; чтобы все у нас делалось силою одного электричества, без всякого содействия с нашей стороны; чтобы каждый из нас имел право голоса; чтобы…
– Довольно! Благодарю вас, – перебил я его. – Теперь я все понял, и мне остается спросить вот только о чем: есть ли у вас религия?
– Конечно.
– И вы поклоняетесь какому-нибудь божеству?
– Разумеется.
– Как оно у вас называется?
– БОЛЬШИНСТВОМ.
– Так. Ну, теперь для меня все окончательно ясно… Впрочем, есть еще один вопрос, последний… Надеюсь, вы простите мне, что я задаю вам такое множество вопросов?
– Задавайте и этот вопрос, не стесняясь, – пробурчал старик, – я к тому и приставлен, чтобы в течение трех часов в день отвечать на вопросы людей неопытных.
– Я хотел бы узнать вот что еще: много ли людей кончают у вас самоубийством?
– Самоубийством?!. Ну, таких случаев у нас совсем не наблюдается.
Я взглянул на лица встречных мужчин и женщин. Заметив на их лицах и в глазах такое же выражение удивления, смешанного с тревогой, какое мне приходилось наблюдать в глазах наших домашних животных, я решил, что этим людям действительно нет надобности прибегать к самоубийству.
Лишь только я решил этот вопрос, как все окружающее меня вдруг покрылось непроницаемым туманом… Я окликнул своего спутника, но не получил ответа…
Господи! да что же это со мной? Почему я снова очутился в хорошо знакомой мне комнате и на собственной постели, а возле меня раздается не менее знакомый, крикливый голос миссис Биглз, моей прежней квартирной хозяйки?
Разве и она проспала тысячу лет и тоже теперь проснулась?.. Она кричит, что уже двенадцать часов… Только еще двенадцать! Значит, я должен ждать еще четыре с половиною часа, когда меня умоют… Ах, как трещит у меня голова и как невыносимо ноют руки и ноги!..
Да, я действительно в своей собственной постели… Неужели все это было лишь тяжелым, кошмарным сном, и я остался на своем месте, в девятнадцатом столетии, при привычном государственном, общественном, семейном и прочем строе?..
Да, сквозь открытое окно до меня доносятся звуки прежней жизни. Слышу, как по-прежнему смеются и плачут, радуются и горюют люди, и как каждый из них с помощью воли и труда, напрягая и развивая свои силы, прокладывает себе собственный путь в жизни. Слышу шум борьбы и падение погибающих в этой борьбе, но слышу и быстрый бег тех, которые спешат на помощь упавшим… Слышу и то, как восторженно прославляются те, которым удалось совершить какое-нибудь великое дело…
О, как я счастлив, что избавился от страшного кошмара осуществленного социалистического строя, основанного на «свободе, равенстве и братстве»!.. Ах, какое великое, неописуемое блаженство чувствовать себя опять самим собою, а не…
Впрочем, у меня сейчас нет времени увлекаться отвлеченными рассуждениями. Мне сегодня предстоит целая уйма дел, а мое рабочее время не ограничивается ведь тремя часами…
Эх, зачем я вчера вечером пил так много вина, курил крепкие сигары и слушал разглагольствования будущих переустроителей мира! Вот от всего этого у меня и сделался в голове такой невообразимый кавардак.
Вечнозеленые деревья
Они смотрят такими тусклыми и угрюмыми в ясный весенний день, когда молодая зеленая травка испещряется белыми подснежниками и желтым шафраном, а с каждой ветви рвутся на волю, к яркому солнышку, сотни нежных пушистых листочков, выбиваясь из стеснительной оболочки красновато-коричневых бутонов; смотрят такими холодными и жесткими среди трепещущих кругом них молодых надежд и жизнерадостности.
А в светлые летние дни, когда вся природа украшена своими лучшими уборами, когда розы густыми гирляндами обвивают двор и каждое окно, когда поля покрыты колосящимися хлебами, пронизанными пестрыми цветами, и от пышных лугов веет медовым запахом, – они глядят еще более хмуро в своей обтрепанной и поблекшей зимней одежде и кажутся такими старыми, жалкими и беспомощными.
Но всего печальнее смотрят они во дни плодоносной осени, когда деревья, подобно пожилым женщинам, желающим скрыть свои годы, наряжаются в пышные пестрые одежды из золота и пурпура, когда в полях уже созрели все злаки, а в садах с отягощенных ветвей десятками падают на землю перезревшие сладкие плоды, когда леса разноцветными лентами окаймляют долины. Среди интенсивного блеска угасающего дня природы они в своей однообразно-темной одежде кажутся так же не у места, как бедные родственники на пиру богача. У них только и есть эта одежда: ее постоянно мочат дожди, осыпает снег, треплют ветры и бури, оттого она такая поношенная и неказистая.
Когда же наступает зима, поля и луга покрываются толстым белым покровом, под которым погребаются умершие цветы, а лиственные деревья обрисовываются на белесоватом небе одними своими обнаженными остовами, когда умолкает веселый птичий хор и все кругом так бесцветно, тихо и безжизненно – только одни они, вечнозеленые деревья, стоят торжествующими среди бушующих метелей.
Они не красивы, а только бодры, крепки и выносливы; всегда, во все времена года, одни и те же, не меняющиеся, вечнозеленые. Весна не может сделать их светлыми, лето не может опалить их, осень не может сначала украсить их, а потом заставить поблекнуть и обнажиться, зима не может убить их.
Есть и среди человечества вечнозеленые душою мужчины и женщины; правда, их немного, но все-таки они есть. Эти люди не из показных, не из тех, за которыми бегут толпами (природа действует по старинным правилам торговли: она никогда не выкладывает на выставку своего лучшего товара). Эти люди только крепки, сильны и выносливы.
Они крепче всего света, крепче жизни и смерти, крепче самой судьбы. Над ними свирепствуют житейские бури, их хлещут ливни, их пытаются сковать морозы. Но бури, ливни и морозы проносятся, а те, которых они старались уничтожить, продолжают стоять бодрыми, крепкими, вечнозелеными. Они спокойно наслаждаются солнечными днями жизни и благодарят за них, но также спокойно и расстаются с ними. Невзгоды не могут согнуть их, беды и горести не могут омрачить их светлых лиц; они могут только заставить еще крепче замкнуться их уста. Тепло нашего материального процветания не может заставить блеснуть новою яркостью вечную зелень их дружбы к нам, а холод наших неудач не может убить листвы их привязанности к нам. Будем же держаться этих людей, постараемся притянуть их к себе, приютимся возле них, как возле непоколебимых в бурях утесов.
В наши летние дни мы мало думаем об этих людях, потому что они не льстят нам, не разливаются над нами в слащавостях, не привлекают нас никакими обольщениями. Они даже плохие говоруны, и – что еще хуже для многих – не менее плохие слушатели. У них, на общий взгляд, угловатые манеры и полное отсутствие всякого заискивания. Наряду с нашими другими знакомыми они производят невыгодное впечатление. Они плохо одеваются и имеют очень невзрачный вид. Встречаясь с ними в обществе или на улице, мы стараемся избегать их; они не из тех, которыми можно похвалиться пред людьми из «блестящего» общества.
Только во дни наших нужд и скорбей мы научаемся понимать и любить их; только невзгоды суровой зимы заставляют птичек ценить всю выгоду приюта среди вечнозеленых ветвей.
Во дни нашей весны мы, глупые и легкомысленные, с насмешками и презрением проходим мимо этих неинтересных, однотонных людей и гоняемся за пестрыми, но недолговечными цветами и мотыльками. Мы мечтаем о том, чтобы сад нашей жизни был привлекателен для каждого прохожего; мы украшаем этот сад только розами и лилиями, а свое жилище – душистою повиликою. Как хорошо будет в этом саду летом, когда над ним засияет безоблачное голубое небо, и весь он зальется потоками ослепительного золотистого солнечного света! А о том, как в этом же пышном саду нам придется дрожать в холодные пасмурные осенние дни и мерзнуть в зимние – мы весною совсем не думаем.
А вы, молоденькие, глупенькие девушки, с вашими хорошенькими, но пустыми головками. Сколько раз вам говорилось, что все, что вам больше всего нравится в избранном вами юноше, далеко не то, что нужно, чтобы он мог быть хорошим мужем, но вы и слушать не хотели; вы затыкали свои ушки от этих увещеваний, надували губки и делали по-своему. И только личный горький опыт заставлял вас потом вспомнить те слова, которые казались вам такими неприятными и злыми, и оценить их по достоинству.
Жених, «пылающий как горно», быстро остынет, сделавшись мужем, и вместе с его остыванием покажутся все его некрасивые стороны, потому что нельзя изменить человека, изгнать из него дурное, вложить доброе, переделать, перекроить, перешить его, как платье, фасон которого перестал нравиться. Каким вы получили мужа, таким он до конца своих дней и останется; наносный блеск быстро тускнеет, прелесть новизны быстро улетучивается. Остается неизменным лишь коренное. Быстро остывает и заимствованный жар пылавшего вулканом новобрачного, и под старость вам не у чего будет греться.
Да, во время его молодости он кажется вам таким красивым и привлекательным. Он так горячо целует вашу ручку, так нежен и предупредителен. Он так крепко прижимает вас к груди, и его молодая рука кажется такой сильной и мощной. Глаза его так ярки и так головокружительно сладко заглядывают в ваши. И он всегда так хорошо одет (но не всегда хорошо платит за это портному).
Но будет ли он так же пламенно целовать вам руку, когда она сделается старою, дряблою и морщинистою? Будет ли осыпать вас нужными именами, когда ваш ребенок ночью не даст ему покоя своим криком, и вы не будете в состоянии унять это маленькое, бог весть чем страдающее существо? Будет ли он настолько заботлив, чтобы хоть на одну ночь сменить вас возле кроватки больного ребенка? Будет ли его рука крепкою и сильною для защиты вас во дни невзгод? Будут ли его глаза светиться для вас блеском любви, когда ваши начнут блекнуть и слезиться?
А вы, юные, недальновидные, легко увлекающиеся юноши! Неужели вы серьезно можете надеяться на то, что те привередливые кокетки, ради которых вы сходите с ума, будут хорошими женами?
Бесспорно, ваша избранница хороша и одевается с изысканным вкусом (еще бы: ведь она только и делает, что корпит над модными журналами, присматривается к одежде богатых щеголих и по целым часам виснет над прилавком модных магазинов и портних!), и она всегда такая милая, веселая, очаровательная; всегда кажется такой прямодушной, мягкой, покорной и сострадательной.
Она, пожалуй, такою и останется до самого конца своей жизни, но только не для вас. Она будет очаровывать многих мужей, но только не своего. На вас будет возложена обязанность «прилично» содержать ее, повсюду, куда она захочет, возить ее, любоваться ее успехами в обществе, в случае надобности защищать ее, не спать по ночам, раздумывая над тем, где бы раздобыть денег для ее прихотей. Больше с нее ничего не спрашивайте. С вас довольно чести называться ее мужем и быть предметом зависти других мужей, одаренных точь-в-точь такими же женами, но не замечающих этого, потому что они уже пригляделись.
Вообще, на долю вашей жены выпадут все преимущества, все радости, все удовольствия, весь блеск и все торжество жизни, если вы добродушны, мягкосердечны, честны, терпеливы и непритязательны, а на вашу – полные противоположности всего того, чем пользуется ваша жена.
Она будет сиять молодостью и красотой, сначала своими, а потом со временем и купленными; вы же при такой жене быстро состаритесь; лицо ваше пожелтеет, глаза потускнеют и ввалятся, волосы поредеют и поседеют раньше, чем вы, как говорится, успеете оглянуться.
Она будет блистать и в обществе и на вечерах у себя богатством и изяществом нарядов; вы будете на службе носить старый потертый сюртук, а дома ходить в обтрепанном, засаленном халате и стоптанных туфлях, и не решитесь высунуть носа в гостиную, когда там ваша жена задает «вечера» – справляющимся о вас из вежливости скажут, что вы «страшно заняты», и этим ответом удовлетворятся: ведь вы никому не нужны.
Она всегда окружена веселым, приятным обществом, ухаживающим за ней и осыпающим ее комплиментами и любезностями; вы всегда одни, вам никто не скажет простого, теплого, дружеского слова, никто не одарит вас ласковым взглядом. К вам жена заявляется только тогда, когда ей нужны деньги, которых она у вас не просит, а требует. С другой целью она на вашу половину и не заглядывает.
Для нее жизнь течет вечным праздником, без горя и забот; для вас – нескончаемыми унылыми буднями, полными неприятностей, огорчения, труда и беспокойств…
Да, жить уютно, по-семейному, можно только с такими людьми, которые не блистают в обществе, а цветами своего сердца и ума стараются украсить лишь свой собственный очаг, думают лишь о том, чтобы тем, кто разделяет с ними этот очаг, было тепло и спокойно, приятно и радостно.
Лучшими спутниками на тяжелом жизненном пути являются не люди, умеющие очаровывать и обольщать красивой внешностью и остроумной болтовней, а люди на вид тусклые и не находчивые в гостиных; люди крепкие, рассудительные и устойчивые к невзгодам; люди, которые не боятся ливня; прикрывшись не модным, а удобным и надежным зонтом, они безбоязненно переходят через огромные лужи, потому что у них крепкая обувь, и всегда готовы протянуть свою сильную и твердую руку в помощь другому. Такие люди, одаренные вечно юною и свежею душою, стойки во всякой беде, не гнутся и не падают ни при какой буре. Эти люди среди человечества – то же самое, что вечнозеленые сосны и ели среди деревьев.
Стойкость много значит. Женщины обыкновенно более стойки, нежели мужчины. Есть женщины, на которых вы смело можете положиться во всех жизненных невзгодах. У них та же стойкость, которая проявляется в преданной собаке. Мужчины по большей части скорее похожи па кошек. Вы можете прожить с кошкой двадцать лет и считать ее своею, но никогда не можете быть вполне уверены в ней, никогда не можете заглянуть на дно ее души и постоянно должны быть настороже, как бы она ни вздумала соблазниться мягким ковриком, разостланным перед камином соседа.
В современном мире нет школы для придания мужчине стойкости. В прежние, тревожные времена, когда вся Европа постоянно сотрясалась из края в край войнами, чумою и разными другими общественными и стихийными бедствиями, мужчина умел быть стойким не только по отношению к себе лично, но и к товарищу. Мы заучили наизусть много красивых фраз о безнравственности войны и радуемся, что живем в такое мирное время, с широко развитыми дипломатическими и торговыми сношениями. И мы пользуемся этим временем, затрачивая все свои силы и способности на то, чтобы как можно основательнее обмануть, обставить, облапошить и даже, при случае, ограбить «лучшего» друга, а часто и родного брата; теми же средствами мы «побеждаем» и своих врагов. Это мы называем «свободным развитием личных свойств», хвалимся своей «цивилизацией», кричим о «прогрессе» (да, мы действительно изумительно быстро шагаем вперед, но в какую сторону?) и с негодованием отзываемся о прежних «глухих, варварских» временах, когда царило одно «грубое насилие», хотя тогда люди бились как орлы и львы, за честь своих гербов, на которых недаром были изображены орлы и львы, а не лисицы…
Разумеется, много можно сказать против войны. Я вовсе не хочу отрицать ее темных сторон; я хочу лишь обратить внимание на тот бесспорный факт, что война порождала героев, которых в мирные времена не видно. Она прививала людям привычку к точности и решительности, к неустрашимости и самопожертвованию; она укрепляла их суждение, глаз и руку; она учила их терпению в страданиях, спокойной рассудительности в опасностях, сохранению душевной ясности в превратностях судьбы. Рыцарство, верность, твердость и мужество – прекрасные дети безобразной войны. Но лучший ее дар людям – все-таки стойкость.
Война внушала людям необходимость быть верными друг другу, верными своим обязанностям, верными своему посту, – словом, верными всегда и во всем до самой смерти.
Мученики, умиравшие на костре; естествоиспытатели, старавшиеся покорить природу и открывшие мировые законы; реформаторы, своей кровью (а не одною болтовнёю) завоевавшие нам различные вольности; люди, душою и телом отдававшиеся науке и искусству в те времена, когда ни то, ни другое не приносило ни славы, ни денег, а лишь осуждение и нищету, – все эти герои происходили от тех суровых людей, которые в кровавых сечах научались смеяться над страданиями и смертью, которым вражеские удары внушали ту непреложную истину, что высшая обязанность человека – быть стойким и безбоязненным.
Припомните историю о старом короле викингов, который хотел было принять христианство, но в тот момент, когда его с большою торжественностью собирались крестить, вдруг спохватился и спросил:
– Вы уверили меня, что принятие христианства – единственный верный путь в Валгаллу. Но скажите мне, где же будут все мои соратники, друзья и родственники, умершие в старой вере?
Смущенное духовенство ответило, что все они будут в таком месте, о котором нежелательно говорить в такую торжественную минуту.
– А! – вскричал, отступая от купели, старый викинг, отлично понявший тонкий намек духовенства. – В таком случае я не желаю креститься: я не хочу покидать их в несчастье.
Он жил с теми людьми, сражался бок о бок с ними, был им неизменно предан и не захотел покинуть их даже после смерти, хотя ему за это и угрожало мучиться вместе с ними в аду.
Как был смешон этот глупый викинг, не правда ли, господа современники? С моей же точки зрения – для вас, конечно, не обязательной, лучше бы бросить всю нашу «культуру» и «цивилизацию» и вернуться к тем «мрачным» временам, когда вырабатывались такие характеры, каким обладал этот «смешной» викинг.
Единственным живым памятником тех времен остался у нас бульдог, но и тот уж не тот! Какая жалость, что мы даем погибать этой прекрасной породе собак! Как великолепен бульдог в своей свирепости и стойкости перед врагом хозяина, в сознании своей обязанности защищать до последней капли крови имущество и жизнь своего кормильца! Но как он кроток и покорен, когда ему нужно защищать только самого себя!
Бульдог хотя и неказист на вид, зато он самый лучший и верный друг. Он напоминает известную поговорку о человеке, которого нельзя не уважать, узнав его, но узнать его очень трудно, потому что в обыкновенное время он не проявляет своей душевной красоты.
Хотя мое первое знакомство с бульдогом произошло много лет назад, но я отлично помню это. Я в то время жил летом в деревне, в одном семействе, вместе с товарищем, которого звали Джордж.
Как-то раз мы вернулись домой с дальней прогулки так поздно, что наши хозяева уже спали. Мы потихоньку пробрались в нашу комнату, где был зажжен для нас свет, и принялись разуваться. Вдруг мы заметили, что возле печки лежит бульдог. Мне еще не приходилось видеть в непосредственной близости собаки с такой угрюмой мордой и с таким свирепым взглядом; казалось, она совершенно недоступна каким бы то ни было нежным и благородным чувствам. Джордж находил, что этот зверь скорее напоминает страшилище из языческой мифологии, нежели благонравную английскую собаку. И я вполне соглашался с мнением товарища.
По-видимому, бульдог поджидал нас. Он поднялся, приветствовал нас зловещей улыбкой и стал между нами и дверью.
Примирительно, заискивающе улыбнулись ему в ответ и мы, называя его «хорошей собакой», выражая ему наше сочувствие словами: «Бедненький дружок, мы не вовремя разбудили тебя», и, наконец, спросили его тоном, предрешающим утвердительный ответ со стороны бульдога: «Ты ведь хороший, славный песик, да?» Разумеется, мы вовсе не думали того, что говорили. Наше истинное мнение об этом четвероногом посетителе было диаметрально противоположно тому, которое мы выражали вслух. Мы не желали оскорблять его. Он был у нас в качестве, так сказать, гостя, и мы как благовоспитанные молодые люди чувствовали необходимость скрыть от него испытываемое нами от его присутствия неудовольствие и не ставить его в ложное, неловкое положение.
Кажется, мы успели в этой игре. Бульдог, видимо, не испытывал никакого стеснения, чего мы сами о себе не могли сказать. Относясь довольно равнодушно к нашим любезностям, он вдруг почувствовал какое-то особенное влечение к ногам Джорджа.
Кстати сказать, Джордж всегда очень гордился своими ногами, находя их красивыми и стройными; конечно, я из деликатности не противоречил ему, но про себя находил его ноги неуклюжими «бревнами». Но бульдог, очевидно, вполне разделял мнение самого Джорджа насчет очаровательности его «ходилок»: пес приблизился к этим принадлежностям моего товарища и долго обнюхивал их со всех сторон с видом истинного знатока. Окончив эту экспертизу, бульдог радостно фыркнул, вильнул хвостом и осклабился.
Джордж, отличавшийся в то время большой скромностью и стыдливостью, вспыхнул до корней волос и поспешно втянул ноги на стул, на котором сидел, но, заметив, что пес выражает явное намерение последовать за ними на стул, пересел на стол, подогнув под себя ноги, как делают портные.
Расхаживая возле стола, бульдог свирепо глядел на Джорджа, как-то странно шевелил хвостом, кивал головой и слегка рычал. Все эти проявления душевных движений почтенного пса казались нам настолько зловещими, что я, по чувству солидарности с товарищем, присоседился к нему и уселся на столе в такой же позе, как он.
Стол был небольшой и не совсем устойчивый на своих круглых с колесиками ножках, так что сидеть на нем вдвоем, да еще с подогнутыми ногами, представлялось для нас, не привыкших пользоваться такого рода седалищами, довольно чувствительным неудобством.
Разумеется, мы легко могли бы освободиться из нашего неловкого положения, разбудив спавших рядом хозяев. Но мы на это не решались, во-первых, из свойственной нам деликатности, а во-вторых, в ясном сознании, что представляемая нами картина не из таких, какими приятно похвалиться перед лицами, которым желательно внушить благоприятное мнение о себе.
В таком положении мы молча и неподвижно просидели около получаса. Между тем гость взобрался на тот стул, на котором перед тем сидел Джордж, и не сводил с нас укоризненного и вместе с тем, как нам казалось, насмешливого взгляда. Сделав нечаянное движение, я чуть было не скувырнулся со стола, занимая только один край его, и заметил, что пес одобрительно заколотил хвостом по стулу.
«Экая злорадная скотина!» – подумал я, весь похолодев от ужаса, и уселся насколько было возможно крепче.
По истечении получаса мы с товарищем принялись вполголоса обсуждать свое положение. Я предлагал «рискнуть» спуститься со стола и попытаться выгнать нашего непрошеного посетителя. Но Джордж, со свойственным ему красноречием и склонностью к софизмам, возразил, что не следует смешивать безумную попытку с храбростью.
– Ты знаешь, – продолжал он, – что храбрость – достояние мудрецов, между тем как безумная попытка – признак глупости. Сделать так, как ты предлагаешь, – значит приближаться к глупости. Я на это не согласен.
Я также не желал «приближаться к глупости», поэтому мы поступили как «мудрецы», оставшись сидеть на столе.
Прошел с убийственной медленностью еще час. Больше мы уж не могли вынести нашего «портновского» положения. После нового совещания мы единодушно решили сделать одну попытку, которая так или иначе должна была спасти нас.
Потихоньку, со всевозможными предосторожностями, мы вытащили из-под себя скатерть; Джордж ловко набросил ее на голову пса, который испуганно завизжал и, поджав хвост, бросился к двери, таща за собою скатерть, впрочем, тут же, посреди комнаты, и свалившуюся с него. С не свойственным для него проворством Джордж на своих «неуклюжих бревнах» подоспел к двери раньше бульдога, отворил ее и, прижавшись за нею к стене, стал выжидать, когда выбежит наш «трусливый враг». Лишь только последний исчез в сенях по направлению к кухне, мой товарищ поспешно вернулся в комнату, тщательно запер за собою дверь и помог мне спуститься с неудобного седалища; у меня так затекли ноги, что я едва владел ими.
Утром, за завтраком, мы вежливо попросили наших хозяев не пускать в другой раз к нам в комнату своего свирепого пса, который чуть не отгрыз у нас ноги.
– Господь с вами, молодые люди! – вскричала хозяйка, всплеснув руками, – Неужели вы испугались нашего старого Бобика? Да ведь ему около двадцати лет, он полуслепой, и у него не осталось ни одного зуба. Мы кормим его супом, кашей и вообще чем помягче. А вы побоялись, что он у вас отгрызет ноги!.. Как же это вы не разглядели, что он уж полукалека? Мы бережем его, чтобы его самого кто не обидел. Вас же мы знаем как добрых молодых людей, поэтому и позволили ему полежать в комнате до вашего прихода… Он, наверное, просил приласкать его, разделяя наше хорошее мнение о вас. Он привык, чтобы наши знакомые ласкали его, бедного старичка.
Ах, как мы с Джорджем осрамились! Собака ласкалась к нам, ожидая взаимности, а мы приняли ее за чудовище и целых полтора часа разыгрывали из себя таких дураков, что нам потом долго было совестно даже вспоминать об этом.
Хорошо еще, что пес не был злопамятен, и когда мы, встретившись с ним в тот же день, позвали его к себе, чтобы вознаградить за ночное недоразумение, он доверчиво пришел и лизнул наши сапоги.
С тех пор он сделался нашим любимцем; мы всячески ласкали и холили его. Расставаясь с ним по окончании вакаций, мы ревели, как настоящие ребята, и нам казалось, что из подслеповатых глаз старого Бобика также текут слезы. Впрочем, впоследствии мне не раз приходилось убеждаться, что собаки, да и некоторые другие животные, привязанные к людям (только не кошки; те иначе выражают свое огорчение), плачут совершенно так же, как мы.
Расскажу еще историю о другом бульдоге, который оказался совсем иного нрава.
Как-то раз мой дядя был в гостях у одного приятеля, который подарил ему молодого бульдога, но предупредил при этом, что песик хотя и «славный», но еще не воспитан. Дядя был совершенно несведущ в воспитании бульдогов; он думал, что это дело простое, поэтому взял бульдога и привел к себе домой.
Час спустя после водворения бульдога в дом дяди к нему в комнату вбежала взволнованная жена, сопровождаемая по пятам новым членом «семейства», всем своим видом выражавшим высшую степень самодовольства.
– Ну, уж и добыл пса! – вскричала тетушка, с негодованием показывая на своего спутника. – Худшего злодея не мог достать?
– Как… злодея?! – изумился дядя. – Это один из лучших молодых бульдогов во всем городе. Производители его в прошлом году получили первую награду на выставке и…
– Очень может быть, что его производители были псы, достойные всяких наград, уважения, почестей, но сам-то он ничего подобного не заслуживает, – возразила тетушка. – Знаешь, что он уже успел натворить, пробыв всего один час в нашем мирном доме?
– Нет… А что именно?
– А то, что он для первого дебюта загрыз любимого кота нашей соседки по правую сторону, бедной мистрис Сленгер… Она прибежала ко мне вся в слезах и еле могла выговорить, что случилось, – пояснила тетушка взволнованным голосом.
– Гм? – промычал дядя, смущенно перебирая бумаги на столе. – Это, действительно, очень прискорбный случай… и совершенно неожиданный… Надо как-нибудь утешить бедную миссис Сленгер… Конечно, ужасно лишиться любимого существа, да еще при таких условиях… Пойди и утешь ее…
– Пойди сам! – огрызнулась тетушка, – Чем ты ее утешишь? Сумеешь разве воскресить загрызенного этим разбойником кота? Если ты такой чудодей, то ступай и утешай, – язвила она, отирая со лба пот, выступивший от сильного волнения.
– Так что же нам теперь делать? – недоумевал дядя.
– Нужно скорее отдать назад этого кровожадного пса, пока он не загрыз саму миссис Сленгер, или же хорошенько вымуштровать его, чтобы он вел себя как следует, – не задумываясь отбарабанила тетушка.
Дядя слишком был занят делами своей службы и не мог немедленно приняться за «муштровку» собаки, поэтому он пока ограничился тем, что велел домашним не выпускать ее со двора.
Но, привыкшая у своего первого хозяина гулять перед домом, она то и дело неизвестными путями пробиралась туда и была грозою всей улицы.
Бульдог, в сущности, не был злонравным (потом, при ближайшей разборке дела, оказалось, что и кота соседки он загрыз только потому, что тот сам чересчур уж нахально дразнил его), а только слишком прямолинейно и усердно исполнял то, что считал своей обязанностью.
Собственно говоря, он не имел ясного представления о своих правах, о своем долге и о своей ответственности. По всей видимости, он был убежден, что его держат для того, чтобы он не пропускал в дом ни одной живой души, а если она каким-нибудь чудом и ухитрится проникнуть туда наперекор ему, то не выпускать ее обратно.
Дядя с тетей жили с нами в одном доме, и я каждый день бывал у них. Как они сами, так и двое их сыновей очень любили животных вообще, а собак в особенности. Любил их и я, и вот мы с двоюродными братьями посвящали часть нашего свободного времени на то, чтобы внушить бульдогу те правила приличного поведения, которых он еще не знал вследствие недостатка правильного воспитания в первой молодости. Но все наши старания были тщетны. Его прямолинейность и строгая совестливость не допускали никаких компромиссов, и он с прежним рвением продолжал исполнять то, что признавал своим долгом.
На наших постоянных поставщиков хлеба, молочных продуктов, мяса, зелени и прочего бульдог в несколько дней нагнал такого страху, что они боялись проходить мимо него, и, по уговору с нами, бросали что было можно через низенькую зеленую изгородь прямо в наш палисадник; а чего было нельзя препровождать к нам таким путем, за этим приходилось ходить служанке или кому-нибудь из нас, подростков.
Благодаря этим новым порядкам наши матери, хлопоча по хозяйству, частенько говорили нам:
– Сбегай-ка, сынок, в палисадник, посмотри, не валяется ли там где-нибудь мясо на жаркое… да кстати, загляни под розовый куст: кажется, мальчик из бакалейной лавки давеча бросил туда пакет с черносливом.
Мы бежали и всегда находили в палисаднике под кустами и деревьями или на цветочных клумбах не только то, что велено было искать, но и кое-что другое, не предусмотренное матерями.
Однажды вышел преинтересный инцидент с паяльщиками. Нужно вам сказать, что когда у нас посылают в мастерскую с просьбой прислать оттуда кого-нибудь на дом, то обыкновенно приходит сначала один мастер с предупреждением, что сейчас придет другой, потом приходит этот другой и заявляет, что он, при всем желании, не может сделать, что нужно, так как занят, по горло занят; тогда появляется третий и, осведомившись, были ли первые двое, приступает к делу.
Когда приходили один за другим трое паяльщиков, наш бульдог был занят обращением в бегство почтальона и двух прачек, но подоспел обратно на свой пост как раз к тому времени, когда паяльщики выходили все вместе. Оказалось, что третий забыл прихватить с собой олова и теперь шел за ним, почему и присоединился к первым двум.
Убедившись, что в дом проникло целых трое «чужих» без его ведома, пес был страшно огорчен этим обстоятельством и твердо решил исправить свою оплошность. Чуть не целых три часа держал он злополучных паяльщиков в осаде, не выпуская их из ворот, но и не позволяя им вернуться в дом, где они могли бы найти другой выход или помощь. Так как он не лаял, а только рычал и показывал свои страшные зубы, то в доме никто ничего не слыхал. Паяльщики хотя и кричали, чтобы кто-нибудь вышел их освободить, но в доме думали, что эти люди ссорятся между собою на улице, и не обращали на них внимания. Время было утреннее, то есть самое хлопотливое, и каждый был углублен в свое дело. Мы же, дети, были в школе, иначе, конечно, скорее взрослых заинтересовались бы случившимся.
Но вот дядиной служанке понадобилось зачем-то выйти во двор. Узнав о подвиге чересчур ретивого бульдога, служанка побежала за хозяином, и только по приказанию последнего пес, хотя и с недовольным ворчанием, выпустил на свободу паяльщиков.
За такое усердие своего четвероногого сторожа дяде пришлось заплатить довольно дорого: паяльщики хотя и ничего не сделали в доме, но потребовали плату за зря потраченное время и за страх. Вместе с тем они отказались снова прийти к нам в дом.
Кончилась вся история тем, что дядя обзавелся всем необходимым для паяния и в нужных случаях стал сам производить эту операцию.
Из всех наших домашних бульдог невзлюбил дядину кухарку, что, впрочем, было нисколько неудивительно, так как эта женщина обладала крайне неприятной наружностью и строптивым характером. Пес никогда не бросался на нее, но молча преследовал ее и всегда старался наделать ей как можно больше неприятностей, хотя больше смешных, чем вредных.
Однажды он устроил с ней такую штуку: выпустил ее из дому, а вернуться домой не дал, продержав часа два в осаде на заднем дворе.
Не помню, каким путем освободилась кухарка, но после этого случая дядя проникся убеждением, что нужно наконец отучить пса от излишнего усердия и заставить его знать собачьи права и обязанности более благопристойные. Не зная, как приступить к этому делу, дядя посоветовался с одним из своих приятелей, отлично изучившим собачьи характер и повадки и умевшим обращаться с самыми упрямыми псами.
– О, бульдога нетрудно воспитать и даже перевоспитать, – ответил приятель, выслушав сетования дяди.
– Но как же приступить к этому? – осведомился дядя.
– Заприте бульдога в комнату, по возможности пустую, и останьтесь там сами, – продолжал приятель.
– Ну, а потом? – полюбопытствовал заинтересованный дядя.
– Поместите его в самой середине комнаты, опуститесь перед ним на четвереньки и старайтесь привести его в раздражение…
– Но…
– Да, именно сначала в раздражение, а затем понемногу доведите его до состояния бешенства…
– Гм… – задумчиво произнес дядя. – Ну, а дальше?
– Ну, он, разумеется, бросится на вас… – хладнокровно пояснял его приятель.
– Спасибо! – вскричал дядя. – Но ведь это…
– Это и будет самым удобным моментом, чтобы воздействовать на него в желательном смысле, – договорил его собеседник. – Он непременно будет стараться схватить вас за горло, а вы должны не допускать его до этого и успеть вовремя ударить по носу, да посильнее, так чтобы он упал.
– Хорошо, я начинаю понимать вашу мысль…
– Очень рад, мой друг… Понятно, пес тотчас же вскочит и снова набросится на вас. Но вы повторите прежний маневр. Эта игра должна продолжаться до тех пор, пока бульдог не выбьется из сил. Тогда он окажется кротким, как овечка, и вы будете иметь полную возможность внушить ему какие угодно правила поведения. Говорю это по собственному опыту, – заключил приятель.
– Та-ак… А других способов… более удобных для перевоспитания бульдогов разве нет? – спросил дядя.
– Может быть, и есть, но я не знаю их, – сознался его приятель. – Во всяком случае, этот способ меня лично всегда приводил к самым блестящим результатам, почему я так убедительно и рекомендую вам его.
– Не смею сомневаться, – сухо проговорил дядя. – Но раз вы так хорошо освоились с этим приемом, то отчего бы вам во имя нашей многолетней дружбы не помочь мне в этом деле?.. Мы можем предоставить в ваше распоряжение отдельную комнату, где никто не стал бы вам мешать.
Приятель сильно смутился и поспешил проститься с дядей, заявив, что сейчас ему некогда заняться перевоспитанием собаки, но что на днях он непременно явится и займется этим делом. Дядя, конечно, так и не дождался своего приятеля, и их дружбе с тех пор наступил конец.
Мясник, с которым дядя также посоветовался, нашел, что метод дядиного приятеля не совсем удобный и слишком рискованный, и предложил другой, но его мнению, более рациональный.
– Возьмите подлиннее цепь, – советовал мясник, – приладьте ее покрепче к ошейнику собаки и отправляйтесь с ней каждый вечер на дальнюю прогулку куда-нибудь за город. Но ни на минутку не спускайте собаки с цепи, даже на просторе; пусть она все время идет возле вас на цепи. Проделайте это месяца два подряд, и тогда, ручаюсь вам, ваш бульдог будет шелковый. Как только он начнет рваться с цепи, вы его притяните поближе к себе. Ему это сначала будет очень неприятно, но с течением времени, когда он убедится, что все его протесты бесполезны, в особенности, если вы по временам хорошенько вытянете его плеткой, то он поневоле переломит себя, лишится своей воли и покорится вашей.
– Да, это очень может быть, – заметил дядя. – Но мне кажется, что ваш способ скорее подействует на самого меня, нежели на моего бульдога. Ведь если я, в свои пятьдесят шесть лет и при своей солидности, должен буду каждый день делать длинные прогулки, то через месяц от меня останется одна тень… Нет, это будет не совсем удобно… Впрочем, благодарю вас за совет. Пожалуй, я последую ему. Быть может, это и мне принесет пользу, – добавил он после некоторого раздумья.
По своей добросовестности, которою он смело мог поспорить со своим бульдогом, дядя каждый вечер стал выходить с псом на двухчасовую прогулку. И, несмотря на то что бульдог все время был на цепи и дядя умерял его порывы к свободе, пес возвращался домой еще более свежим, резвым и предприимчивым, чем уходил, а дядя едва держался на ногах от усталости, пыхтел как паровоз, весь обливался потом и требовал себе скорее бренди с закуской.
Из отрывистых слов дяди, произносимых им в промежутках между двумя рюмками с подлежащею закускою, выяснилось, что он никакими силами не мог удержать своего хвостатого спутника от порывов нестись по полю в погоне за коровами, телятами, лошадьми, барашками и прочими «иноплеменниками». Боясь упустить его, если ослабить цепь, или задушить, если чересчур натянуть ее, дядя сам должен был бегать вместе с ним.
К концу второй недели такого усиленного движения дядя потерял в весе фунтов двадцать и заметно посвежел.
Но в один прекрасный день наступил, так сказать, кризис. Было воскресенье. Погода стояла хорошая. Гуляющих по улицам нашего предместья и стремившихся за город собралось очень много. Дядя, как всегда, водил своего бульдога в ближайшее поле. Вот тут-то и произошел кризис. Быстро вертясь вокруг своего хозяина, бульдог опутал его ноги цепью, а потом и самого себя. Как ни старался дядя раскрутить цепь, она все больше закручивалась, так что ему оставалось только одно: сесть прямо на землю и в таком положении освобождать себя и собаку от уз. Но оказалось, что и этого нельзя сделать, потому что стальные звенья в нескольких местах так сцепились одно с другим, что не было возможности отцепить их, не освободив сперва другого конца цепи, прикрепленного к кольцу ошейника. И дядя снял с этого кольца цепь.
Почувствовав себя на свободе, бульдог вихрем понесся вслед за парою гусей, пасшихся неподалеку на краю пруда. Вместо того чтобы броситься в воду, куда бульдог едва ли последовал бы за ними, – он не любил воды, – глупые птицы с громкими криками направились домой, несясь на своих тяжелых крыльях так близко над землей, что резвая собака имела полное основание надеяться, что ей удастся поймать за хвост хоть одну из них.
Дом, где жили гуси, находился возле самого предместья, и им удалось благополучно проскользнуть во двор.
Бульдог не особенно огорчился этой неудачей и тотчас же пустился в погоню за комнатной собачкой, которая с визгом удирала от него, стараясь скрыться в первую попавшуюся открытую дверь или подворотню. По пути он сбил с ног пару маленьких ребятишек, возившихся на улице в песке. Ребятишки подняли отчаянный рев, на который выбежали взрослые.
Между тем бульдог мчался вдоль домов ураганом. Дядя бежал за ним со спутанной цепью в руках, свистел ему, кричал, называл его на все лады, – ничто не помогало. Пес гнал перед собой все живое и наделал страшного переполоху.
Кончилось тем, что в дело вмешался страж общественного порядка.
Был составлен протокол, по которому дядю привлекли к суду «за хождение по улицам со злой собакой не на привязи». Суд приговорил его к крупному штрафу. После этого дядя, по настоянию жены, должен был подарить бульдога одному знакомому помещику, безвыездно жившему в своем имении и большому любителю собак. Тот, как я потом узнал, живо сумел «перевоспитать» чересчур предприимчивого пса, сделав из него образец ума, сметливости, послушания, терпения и прочих хороших качеств.
Кстати, мне припомнилась еще одна история, тоже о бульдоге. Эта история настолько грустна, что я советую жалостливому читателю сначала запастись несколькими носовыми платками на случай слез, а потом уж и приступать к прочтению ее.
Это было во дни пресловутых кринолинов. Одна из моих многочисленных тетушек, жившая в маленьком провинциальном городке, только что завела было себе обширный кринолин, состоявший из мелких стальных обручей, и очень гордилась им.
Однажды она заговорилась на улице с одной своей хорошей знакомой. Вдруг почувствовала, что под ее кринолин забрался кто-то, оказавшийся бульдогом. Произошло это, по всей вероятности, так: нижний обруч кринолина мог почему-либо приподняться и образовать нечто вроде входа, которым собака и воспользовалась, чтобы проникнуть под кринолин с целью укрыться от немилосердно припекавшего солнца. Но лишь только тетушка пошевельнулась, чтобы узнать, в чем дело, приподнявшийся обруч снова опустился к земле. Очутившись в полной темноте и как бы в клетке, бульдог, разумеется, испугался.
Стараясь выбраться из места заключения, он метался туда и сюда, но, натыкаясь повсюду на преграду, он не мог сделать этого и кончил тем, что направился по улице вместе с прикрывавшей его «клеткой», а следовательно, и с моей тетушкой.
Не понимая, что так стремительно подталкивает ее с места, тетушка в ужасе выронила свой парадный зонтик и сумочку с кошельком. Испуская раздирающие душу вопли, размахивая руками и спотыкаясь, она кубарем завертелась по площади, куда ее увлекала непонятная, таинственная сила. В испуге она не догадалась приподнять кринолин, чтобы выпустить из-под него собаку и этим сразу выяснить все дело.
Можно себе представить изумление публики при виде такого загадочного поведения со стороны известной всему городу, уважаемой дамы.
Повертевшись некоторое время вокруг площади, почтенная дама понеслась обратно на свою улицу, сбила с ног нескольких встречных, наткнулась на фонарный столб, вследствие чего у нее на лбу вскочила огромная шишка (шляпа уже давно свалилась с ее головы и плавала, на потеху ребятишкам, в канаве с водой), помчалась в первый попавшийся переулок, по которому и продолжала свой стремительный бег.
Зрители невольно подумали, что эта уважаемая дама внезапно помешалась, в страхе разбегались перед нею и громко звали ей на помощь полицию. Улицы быстро опустели; торговцы поспешно закрывали свои лавки; конное и пешее движение на улицах приостановилось; словом, весь мирный городок пришел в смятение. Многие из любопытных забирались на крыши домов; особенно мужественные люди выбегали из ворот и дверей, торопливо подхватывали на руки зазевавшихся малюток и разносили их по домам. За окнами виднелись перепуганные лица женщин; кое-где раздавались плач и стоны, точно при вторжении неприятеля или появлении какого-нибудь стихийного бедствия.
Полиция также растерялась и не знала, что ей делать. Одни предлагали вызвать пожарную команду, а другие – потребовать на помощь солдат.
Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы наконец тетушка не споткнулась на своего невидимку и не села на него посреди улицы. Только тут она догадалась, что нужно сделать. Быстро вскочив на ноги, она приподняла кринолин. Обрадованный узник выскочил из своего заключения и пустился наутек, а сконфуженная дама бросилась без оглядки домой.
После этого приключения тетушка несколько дней проболела, а по выздоровлении долго не решалась показываться в городе и возненавидела кринолины.
Чайники
Установлено наукою, что можно снять с огня чайник с бурлящим кипятком и нести куда угодно на голой ладони, не чувствуя при этом никакого неудобства, за исключением, впрочем, того случая, когда чайнику вздумается опрокинуться и облить вас своим содержимым.
При этом опыте необходимо лишь то, чтобы вода кипела вовсю и чтобы ко дну чайника не прилипла горячая зола; при соблюдении этих двух условий вы не почувствуете ни малейшего ожога.
Объясняется это непонятное, на первый взгляд, явление как нельзя проще. Весь жар от огня проходит сквозь чайник в воду. Лишь только вода нагревается до степени кипения «белым ключом», чайник (собственно говоря, котелок, в котором у нас кипятится вода для чая) остывает, и вы смело можете нести его вышеуказанным способом.
Что касается лично меня, то я всегда пользуюсь приделанными к таким котелкам ручками, обернув их салфеткой. Однажды я попытался было нести наш чайный котелок «научным» способом; но, по-видимому, мне только показалось, что вода в котелке закипела как следует: дно его оказалось настолько горячим, что я, вскрикнув от боли, уронил его с ладони на пол, причем кипяток разлился по всему ковру, к счастью, никого не задев. Обошлось так благополучно, впрочем, потому, что все присутствовавшие, собравшиеся со специальной целью посмотреть на «научное чудо», вовремя успели отбежать на безопасное расстояние.
Кстати сказать, я всегда находил большую разницу между теорией и практикой; чем это объяснить, я не знаю, поэтому и ограничиваюсь одним констатированием фактов.
Помню, когда я учился плавать, мои учителя уверяли меня, что если я лягу в воде на спину плашмя, вытяну в обе стороны руки и не буду шевелиться, то ни за что не утону, если бы даже захотел. Не знаю, с чего им пришло в голову, что у меня может явиться желание утонуть, но для меня было ясно, что они нашли возможным заподозрить меня в таком безумии, почему и предупредили, чтобы я напрасно не тратил драгоценного времени на попытку осуществить сумасбродный замысел.
Судя по их словам, я мог лежать на воде в описанном положении до тех пор, пока не умру от холода и голода или от старости. Могло случиться только одно: поднимется густой туман, на меня наткнется лодка или другое более тяжелое судно и убьет меня; погрузиться же просто-напросто в воду и утонуть я, по их уверению, не мог. Мне доказали это рисунком на аспидной доске и замысловатыми вычислениями на другой стороне этой доски. Нельзя же было не верить всем этим «научным» данным!
И я поверил. В течение целой недели я ежедневно ходил в школу плавания, ложился на воду в том положении, в каком, по убеждениям моих учителей, никак нельзя утонуть, так как это было бы противно незыблемым законам природы, но каждый раз тут же ключом шел ко дну.
Возьмем еще теорию о могуществе человеческого взгляда для усмирения домашних животных и даже диких зверей. Полную непрактичность и этой теории я могу доказать личным опытом.
В детстве я проводил лето на ферме среди полей и лугов. Как-то раз я перебегал через большой луг, стремясь к живой изгороди, за которой начиналось владение соседнего фермера, с сыном которого я подружился. На самой середине луга паслась очень почтенного вида корова с огромными рогами. Когда я проходил мимо нее, она с напряженным вниманием посмотрела на меня. Сначала я очень был польщен ее вниманием, думая, что она очарована моим видом, но когда она наметилась своим острым головным украшением прямо мне в грудь, причем ожесточенно завертела хвостом и на толстых губах у нее выступила пена, я понял, что дело совсем в другом.
Я вспомнил, что мне было запрещено ходить без взрослого провожатого по этому лугу, и в этот момент догадался, что запрещение было вполне основательно, раз на этом лугу находилось такое сердитое животное. После я узнал, что корова только что выдержала тяжелый нравственный удар: у нее отняли ее дорогого отпрыска, и она готова была дать почувствовать свои оскорбленные чувства первому попавшемуся живому существу.
Я бросился было в сторону от коровы, но она ловким маневром преградила мне путь. Я замер на месте, не зная, что предпринять. Мне в то время было лет двенадцать, и я уже кое-чего наслышался и начитался, между прочим, и насчет того, как люди в подобных случаях притворяются мертвыми, и тогда их, будто бы, ни за что не тронет даже самый свирепый зверь. Забыл, чем объяснялась эта странность со стороны зверей, но думаю, что если действительно бывали и бывают подобные случаи, то они объяснимы только досадой зверя на то, что ему не удалось самому убить намеченную им жертву. Пристыженный своей неудачей, он уходит. А может быть, при виде такой неожиданной смерти каким-нибудь образом затрагивается совесть зверя; он радуется, что избавлен от тяжести лишнего преступления, и дает себе слово навсегда подавить свою кровожадность и, вообще, нравственно переродиться к лучшему.
Все эти рассуждения мелькнули в моей голове в описываемый критический момент. И в тот самый миг, когда я уже хотел шлепнуться на землю и притвориться мертвым, у меня явилось сомнение: можно ли ожидать каких-нибудь благородных чувств со стороны коровы и не свойственны ли такие чувства лишь львам и тиграм? Я не мог припомнить ни одного случая, чтобы кто-нибудь этим способом избежал опасности быть распоротым рогами предприимчивой джерсейской коровы, и не знал наверное, что именно сделает корова, если я притворюсь мертвым: устыдится того, что я предупредил ее благое намерение прекратить мое бренное существование, или же воспользуется случаем сначала истоптать меня своими копытами, а потом уж поднять на рога.
И потом: как же я поднимусь, если даже мое притворство удастся? В африканских пустынях люди обыкновенно выжидают, когда их враг уйдет. А куда же уйдет моя корова, если она живет на этом лугу? Нельзя же мне лежать в виде мертвого тела, быть может, целую неделю, в ожидании, что кто-нибудь придет на выручку или нечаянно наткнется на меня!
И вот я решил испытать могущество человеческого взора, о чем так много наслышался и начитался. Говорилось, что ни один зверь не в состоянии выдержать пристального взгляда человека. Под влиянием его животным овладевает ужас и после тщетной борьбы с его непреодолимой силой животное в паническом страхе убегает.
Раскрыв насколько можно шире правый глаз, я впился им в своего рогатого и хвостатого врага.
– Не хочу доводить корову до панического ужаса, – говорил я себе, – а постараюсь лишь немножко попугать, чтобы она отошла от меня. Поэтому достаточно пустить в ход силу одного моего глаза. Как только она уйдет от меня, я вернусь домой и уж никогда больше не буду один беспокоить обитательницу этого луга своим видом.
Но, к моему великому удивлению, корова не выказывала ни малейших признаков тревоги, и я должен был сознаться, что скорее мне самому становилось не по себе. В самом деле, пристальный взгляд коровы больше влиял в устрашающем смысле на меня, чем мой на нее.
Находя всякую снисходительность относительно этого грубого животного излишней, я вытаращил вовсю и левый глаз и теперь действовал на нее уж двойным «магическим током». Но она стойко вынесла и это и, вместо того чтобы в страхе убежать, еще сильнее забрызгала пеною, закрутила хвостом, замотала опущенною вниз головой и ринулась на меня.
Разочаровавшись в могуществе двойного магического глазного тока, я поспешил прибегнуть к более простому средству, то есть сделал громадный прыжок в сторону и со всех ног принялся улепетывать по направлению к дому. Разъяренная корова некоторое время гналась за мной, потрясая землю своими бешеными скачками, но, к моему удовольствию, не догнала и, огласив окрестность озлобленным мычанием, повернула назад на то место, где произошла наша с ней встрча, надолго врезавшаяся в мою память.
Нет, руководствоваться теориями очень неудобно. В юности мы верим, что теории являются теми яркими светочами, которыми мудрость освещает жизненный путь, а годы научают нас понимать, что это, в большинстве случаев, не что иное, как обманчивые болотные огоньки, производимые гнилушками.
Стоя на корме нашего маленького кораблика, мы роемся в шканечных журналах великих мореплавателей, до нас ходивших по житейскому морю. Мы тщательно следим за их курсом и отмечаем в бесконечном свитке своей памяти сделанные ими измерения глубин, их мудрые советы, основанные на многолетнем личном опыте, руководствуемся их правилами и проникаемся теми острыми чувствами и глубокими мыслями, которые возникали у них во время их трудного плавания по тем самым грозным волнам, которые теперь бушуют вокруг нас.
И мы решаем, что их опытность будет нашим компасом, их тихий шепот будет нашим пилотом, и по указаниям их предостерегающих рук мы поставим свои паруса по неведомому нам ветру.
Но чем глубже мы заглядываем в предания прошлого и чем строже ими руководствуемся, тем бешенее треплется волнами наш утлый кораблик. Ветры, наполнявшие паруса прежних, бесследно исчезнувших кораблей, были совсем другие, чем те, которые гнут наши мачты, и в тех местах, где для прежних мореплавателей было свободное море, наши суда встречают подводные отмели, рифы и камни, трещат по швам и идут ко дну.
Закроем же лучше пожелтевшие страницы записей наших предшественников; по этим записям мы можем научиться разве что быть мужественными моряками, а не тому, куда и как держать путь.
На житейском море каждый должен сам быть себе кормчим, сам должен управлять своим кораблем, смотря по условиям времени. Чужими советами руководствоваться нельзя, потому что каждому предначертан особенный путь по безбрежному океану жизни. Днем над нашими головами сияет солнце, а ночью приходят ему на смену другие светила; только их указаниям мы и можем верить, ибо они – огни небесные, и их голос – голос Самого Бога.
Житейское море бездонно, и каждый находит в нем особую глубину. Всех его нижних течений, мелей, скал и рифов никто еще не мог узнать и никогда не узнает. Дно его изменчиво, изменчивы его ветры, волны и буруны, и нет его точной карты, которою все плавающие могли бы руководствоваться.
Житейское море безгранично, и никому неведомы его берега. Много тысяч лет уже совершаются на нем приливы и отливы; ежедневно на нем появляются выступающие из тумана на свет крохотные кораблики, с белеющими призрачными парусами, и к ночи снова тонут во мгле. И никто не может сказать, откуда они пришли и куда ушли; для каждого из этих корабликов море полно тайн, и они идут по ним к неведомым берегам, в неведомую страну, к неведомой цели…
Кто были те мореплаватели, за которыми мы должны следовать? Один короткий день их носило по бурливому морю; один мимолетный миг цеплялись они за борта своей утлой ладьи, называемой Временем.
Прихотливые ветры играли этой ладьей, гоняя ее через бездонные пропасти и невидимые подводные течения по гребням грозно шумящих волн; и унесло ее в непроницаемые дебри мрака безвестности, откуда она уж не возвращалась. И как ни старались проясненные горькими слезами глаза любящих существ пронизать эти дебри, они не могли увидеть скрывшейся в них ладьи. За каждою ладьею навеки смыкались волны, и следа их пути не оставалось. Кто же были те, которые пытались начертить карту безбрежного и бездонного океана жизни, и почему мы должны следовать по их хотя и добросовестным, но неточным указаниям? Что могли они узнать в этом океане, кроме кипевших вокруг их ладьи сменяющих одна другую волн? Они не знали ни направления, ни пристани, куда их влекло. Они шли из мрака, уходили во мрак и нигде не видели света.
Их записи открывают перед нами те опасности, которые их окружали, и ту борьбу, которую им пришлось выдержать за короткий миг их плавания; но какую ценность могут иметь для нас их отметки о сделанных ими измерениях глубины и чертежи вечно изменяющихся и, в сущности, только кажущихся, воображаемых берегов? Что же это, как не головоломные загадки, решения которых утеряны? Да и могут ли загадки, хотя бы и разрешимые, служить верными указаниями?
Вообще, не слишком ли много прислушиваемся мы к голосам наших предшественников, в особенности относительно тех вещей, в которых они сами не особенно сведущи? Мало ли в мире проповедуется учений, которые тут же оспариваются? Мало ли криков, с одной стороны, о том, что истина – только там-то и в том-то, а с другой, – что эти крики могут только ввести в обман? И эти утверждающие и отрицающие одно и то же крики так оглушительно громки, что среди них тонет единственно верный голос Бога, который один может указать нам путь к истине.
С тех пор как возник этот мир, начались и тянутся до наших дней всякого рода изустные и письменные поучения, наставления, увещевания, осмеивания и преследования друг друга, – и все это с целью указать нам путь на небо. Смущенные столькими противоречивыми спасателями, мы беспокойно мечемся от одного к другому и не знаем, кого и чего держаться, и в то же время инстинктивно чувствуем, что с нами делается что-то неладное.
– Идите этой дорогой, а не той! – раздается с одной стороны.
– Иди за мной! – несется с другой стороны. – Только я могу провести вас на истинный путь. За мной, иначе вы погибнете!
– Не слушайте ни того ни другого! – вопит третий. – Они ведут вас в пропасть. Один я знаю настоящий путь.
– Нет-нет, и этого не слушайте! – рокочет чей-то громоподобный голос– Путь, который вы ищете, – вот здесь, передо мной! Я только что открыл его! Все остальные пути ведут к гибели! Идите за мной, и вы достигнете неба!
В одном столетии людей гоняли, с помощью меча и огня, ко входу на небо, а в следующем их так же ожесточенно и теми же способами отгоняли от этого входа, который новым спасителям человечества стал казаться «вратами адовыми», и заставляли направляться совсем по другому пути и к другому входу.
И мы, подобно беспомощным заблудившимся цыплятам, в страхе и смятении, с громкими криками о спасении, все бегаем вокруг и около, тщетно отыскивая настоящий путь к тихой пристани.
Но будем уповать, что когда-нибудь все мы достигнем неба, где бы оно ни находилось: ведь мы так много шумим о нем и так отчаянно бьемся, чтобы попасть туда. Положим, мы не имеем даже ясного представления о том, что представляет из себя это небо. Одни думают, что это выставка золота и драгоценных камней; другие рисуют его себе в виде огромной концертной залы, где беспрерывно гремит музыка. Но все мнения сходятся на том, что небо – это такая страна, где люди будут жить без труда и забот, где все, даже самые смелые и фантастичные желания будут исполнены и будет вечное безоблачное счастье. И конечно, все те, которые нам не по нраву, туда не будут допущены.
Небо – это такое место, о котором мы начинаем мечтать, когда совершенно разочаровываемся в здешнем земном мире. И тогда мы с напряжением всех наших последних сил рвемся к нему.
По всей видимости, есть и такие люди, которые под названием «неба» подразумевают лишь более широкую сферу мысли и действия, возможность более ясного прозрения, облагороженное существование вблизи Бога. Эти чистосердечные люди ощупью бродят по окружающей их тьме, отыскивая путеводный луч; к ним со всех сторон несутся голоса, указывающие тот или иной путь, и громче других раздаются голоса тех, которые, заблуждаясь сами, меньше всего могут служить проводниками.
Многие из этих крикунов искренни; они немало размышляли о небе и уверены, что нашли и поняли его, и теперь стараются вести туда других. Но что толку в их искренности, когда они сами заблуждаются?
Мы похожи на толпу беспризорных сирот, выгнанных на улицу и предоставленных на волю злой судьбы. Самые бойкие из нас придумывают себе разные забавы и ради них дерутся между собою, а более смирные приткнутся в каком-нибудь уголке, играют там в «школу» и в восторге, когда приходят тетя Философия и дядя Добронравие и берутся быть нашими наставниками, уверяя, что им понятны все тайны неба и земли и что эти тайны откроются нам через них, если только мы будем внимательными слушателями и послушными последователями их указаний. На самом же деле мы от них можем узнать лишь то, что они сами думают об этих великих тайнах.
Уйдем скорее с грязных улиц и площадей с их оглушительным грохотом и гулом и непрерывной бешеной сутолокой и сумятицей; побежим лучше на безграничный простор зеленых полей, над которым плывут вольные облака и в котором между нами и звездами царит полная тишина, и в этой тишине будем прислушиваться к тому таинственному голосу, который лишь среди безмолвия может достичь нашего слуха.
Это голос Самого Бога, понятным для каждого из нас языком разъясняющий все наши вопросы и сомнения. Этот голос и среди житейской сутолоки, среди бурь и невзгод, шепчет каждому мудрые слова утешения, ободрения и безобманного совета, но только мы плохо слышим его. Мы устремляли все свое внимание на одни пустые разглагольствования окружающих нас самозваных учителей, которые сами толком ничего не знают.
Перестанем руководствоваться чужими указаниями и мнениями и будем слушаться лишь того голоса, который раздается в нас самих. Но то, что говорит этот голос, мы не в состоянии передать другим: они не поймут нас, и мы своими стараниями заставить их понять только увеличим общую неразбериху. Лишь голос Бога внятен и понятен каждому, желающему его слышать, потому что только один Он говорит на собственном языке каждого. Недаром сказано: «Господь находится в своем Святом Храме, пусть перед Ним умолкнет вся земля».
В нашей жизни серьезное и смешное играют друг с другом в прятки, как свет и тени в апрельский день. Но очень часто эти две противоположности ловят друг друга, обнимаются, дружно переплетаются и некоторое время остаются в тесном союзе, чтобы затем с новыми силами возобновить прежнюю игру.
Однажды я ходил по саду, думая о том, как ребячески бессмысленны наши стремления учить друг друга тому, чего мы сами не понимаем. Вдруг, проходя мимо беседки, я услышал голос моей семилетней племянницы, которая самым потешным образом иллюстрировала мою мысль, стараясь объяснить своей пятилетней сестренке, что значат дети, откуда они берутся, как их находят и на что они нужны.
– Дети – не то, что куклы, – звенел голосок маленького философа. – Дети живые, а куклы не живые. С детьми нам позволяют возиться только тогда, когда мы становимся большими. Но дети очень покойны, скучны и…
Но тут голосок оборвался, чтобы через мгновение запеть что-то в роде колыбельной песенки.
Моя племянница – очень любознательная девочка, чем и изводит всю свою семью. Недавно мы установили для нее предельное число вопросов в день. Использовав это число и получив на свои вопросы более или менее удовлетворительные ответы, она выказывает поползновение повторить все число сначала; когда же мы убеждаем ее оставить нас, наконец, в покое, она уходит очень угнетенная и в дверях негодующе кричит:
– Зачем же вы назначили так мало вопросов? Могли бы назначить и побольше!
Любознательность этой девочки не ограничивается чем-нибудь одним, но касается всего, что творится в цивилизованном мире, начиная с богословских вопросов, жизни и обычаев новорожденных котят, неудачных супружеств и кончая шоколадными конфетками; относительно последних она особенно интересуется знать, почему их нельзя вынимать обратно изо рта и подвергать подробному рассмотрению в то время, когда они наполовину сжеваны.
О многих вещах она уже составила себе собственное мнение, которое и выражает со свободой, приводящей в ужас самых «либеральных» людей. Даже меня, тоже не отличающегося особенным консерватизмом, она иногда приводит в сильное смущение. Вообще эта девочка отличается слишком передовыми взглядами, которые могут встретить сочувствие со стороны общества разве только в будущем.
До сих пор она мало интересовалась вопросом о детях, то есть собственно о самых маленьких, так называемых бэби. Только в последние дни у нее проявился интерес к тем крошечным существам, одним из которых так еще недавно она была сама.
Дело в том… Право, не знаю, могу ли я коснуться этой щекотливой темы? Впрочем, что же, в сущности, в ней неприличного? Попробую сказать… Дело в том, что в доме моего шурина случилось одно очень обыденное событие, о котором, однако, принято говорить только обиняками, в особенности в присутствии детей, подростков и девиц, хотя бы и столетних. Говоря попросту, у моего шурина родился ребенок. Мэри – так зовут мою старшую племянницу – умеет всегда появляться там, где ее совсем не ожидают, то есть среди «интересных» разговоров старших между собою, и вдобавок постоянно делает такое невинное личико, что никогда нельзя знать, слышала она что-нибудь из того, чего не должна слышать, или нет.
По всей вероятности, она одновременно с нами узнала об «интересном» событии в доме моего шурина, но в течение нескольких дней ничем этого не выказывала. Мы уж думали, что ей ничего неизвестно, однако в прошлое воскресенье… Нужно вам сказать, что в это воскресенье весь день шел дождь, почему мы все оставались дома, и у нас был только Дик Четуайн, явившийся навестить свою невесту, мою свояченицу Эмили.
Я сидел в столовой за газетой. Эмили с Диком помещались рядом на диване и рассматривали швейцарские виды.
Моя племянница Мэри, или сокращенно Мэй, – как мы ее обыкновенно звали, – сидела на полу, на низенькой скамеечке, и расставляла на другой скамеечке кубики, из которых собиралась строить какой-то особенно замысловатый дом. Минут пять девочка сидела совершенно молча, и я уже готов был спросить ее, не болит ли у нее головка или животик, как вдруг, в то время как ручонки маленькой строительницы создали фантастическую башню, ее тоненький голосок поразил наш слух вопросом, брошенным как бы мимоходом и обращенным ко мне:
– Дядя, кого это Боженька дал тете Энн – маленького бэби-мальчика или маленькую бэби-девочку?
– О каких глупостях ты спрашиваешь, Мэй! – притворно сердитым тоном проговорил я и при другой обстановке непременно расхохотался бы. – Никаких бэби у тети Энн нет.
– А я бы хотела, чтобы была бэби-девочка, – нисколько не смущаясь, продолжала хитрая малышка. – Бэби-девочки лучше бэби-мальчиков. Не правда ли, дядя?
– Может быть… не знаю… строй свой домик и не спрашивай о том, чего никто не знает, – увещевал я ее. – Нехорошо это.
– Что нехорошо, дядя? Бэби?
– Да, да, бэби… Отстань от меня! Не мешай мне читать!
– И бэби-мальчики и бэби-девочки не хороши, дядя?
– Да, все никуда не годятся.
– Никуда не годятся?! Так зачем же их держать?
– Да что же ты не слушаешься меня, Мэй! Я тебе говорю, чтобы ты перестала болтать глупости, а ты все свое!.. Держат этих гадких бэби потому, что они посылаются Богом в наказание большим, чтобы тем поскорее надоела жизнь… Поняла?.. Нет?.. Ну, значит, ты глупенькая, а потому и не можешь понять.
Настала новая пауза. Затем из тех же розовых уст послышалось:
– А дядя Генри знает?.. Он сердится на тетю?
– Что такое, Мэй?.. О чем знает дядя Генри и за что он может сердиться на тетю? – спросил я, делая вид, что не понимаю этих вопросов и пытаясь увильнуть от прямого ответа.
– Знает дядя Генри о том, что тетя Энн завела себе бэби? – уже определеннее формулировала девочка свой вопрос.
– Ну, конечно, знает, если живет в одном доме с тетей, – ответил я, совершенно забыв, что только что отрицал появление бэби у тети Энн.
– И он за это очень сердится на тетю Энн?
– За что? За то, что она захотела завести себе бэби?
– Да, именно за то. Ведь дядя Генри должен будет заплатить за бэби?
– Да, конечно, – подтвердил я почти машинально, придумывая, как бы половчее прекратить эту неудобную беседу.
– Так я и знала… Да, много нужно денег на то, чтобы покупать бэби, очень много. Все так говорят, – с самым серьезным видом продолжала рассуждать девочка, по-видимому, повторяя то, что недавно слышала среди взрослых.
– Да, немало, – снова машинально подтвердил я, занятый своей мыслью.
– А сколько? Два шиллинга?
– Нет, побольше.
– Побольше?.. Да, говорят, бэби стоят очень-очень дорого… Значит, мне нельзя завести себе бэби, дядя?
– Отчего же? Можно… хоть двух зараз! – с досадой воскликнул я, не придумав более умного ответа.
– Двух? – протянула девочка, сделав большие глаза. – Нет, в самом, деле, дядя? Когда же мне их дадут? Ко дню моего рождения? И кто мне их купит: ты или…
– Ах, будет же тебе вздор молоть, Мэй! – перебил наконец я. – Бэби не куклы; они не покупаются, а сами приходят… Когда ты будешь такая же большая, как твоя мама и как тети, то, может быть, они придут и к тебе.
– Ну, хорошо, когда я буду большой, ты велишь бэби прийти ко мне? – не унималась девочка.
– Хорошо, если ты будешь умная и выйдешь замуж.
– А что значить выйти «замуж»? Тетя Энн замужем?.. И мама тоже?
– Да…
– И тетя Эмили и дядя Дик тоже хотят выйти замуж?
– Да, да… Но вот что, Мэй, если ты сейчас же не замолчишь, то…
– А разве нельзя иметь бэби тем, которые не хотят выходить замуж?
– Нельзя! Но я тебе говорю…
– Значит, у тети Эмили тоже будет…
– Мэй, собирай свои кубики и уходи к маме! Ты надоела мне!.. Ну, живее!.. Никогда ты сразу не слушаешься, гадкая девочка!.. Иди же.
– Ну, что ж, и уйду… Расспрошу о бэби маму… Она мне все скажет, если ты не хочешь сказать. Прощай, злой дядя!
И, вся негодующая, она поспешно выбежала из комнаты.
Вот и скрывайте что-нибудь от детей.
Однако о чем я начал писать этот очерк?.. Ах да, о «чайниках»… Гм… Начал с чайников, а закончил детской болтовней на щекотливые темы.
Впрочем, не беда: в следующий раз начну с детской пытливости и закончу чайниками.
Трогательная история
Однажды, в середине июля, я заглянул к редактору-издателю «Еженедельника».
– Вот и отлично, что вы пожаловали сами и избавили меня от труда писать вам! – воскликнул издатель, видимо, обрадованный моему появлению. – Напишите мне, пожалуйста, какую-нибудь трогательную историю для рождественского номера… Томас хочет дать что-то смешное. Он недавно слышал об одном курьезном приключении и намерен «размазать» его для наших читателей. Ничего, пусть «размазывает» страниц на десять… Миге обещал пройтись «по части милосердия». Он на это мастер, в особенности, если надеется получить хороший гонорар… Что же касается «критической» части, то мы пустим в ход Скитлза. Никто лучше него не умеет «прохаживаться» насчет праздничной суетни, бессмысленных расходов, чрезмерной еды, несварения желудка и прочих праздничных «удовольствий»… Но мне хотелось бы, так сказать, для контраста, поместить что-нибудь и трогательное… Например, историю о человеке, которого считали умершим, а он вдруг является целым и невредимым в самый разгар елочного веселья и тут же обручается с девицей, только что собиравшейся с горя по нему отравиться или… выйти за другого. К трогательному не мешает подпустить и некоторую дозу юмора; а на это из всех наших сотрудников самый способный, бесспорно, вы, – польстил мне издатель.
Признаюсь, предложение это застало меня врасплох. Я вовсе не за тем зашел в редакцию «Еженедельника», где хотя и сотрудничал, но очень немного. Тем не менее лестное предложение редактора… Впрочем, сначала я должен сделать небольшое отступление от главной темы; такая уж у меня несчастная привычка, с которой приходится считаться, ничего не поделаешь.
Дело в том, что здесь кстати (а может быть, и некстати, это дело вкуса) я должен сказать несколько слов о «критике» «Еженедельника», Скитлзе, потому что он, на мой взгляд, вполне заслуживает этого.
Настоящая фамилия этого «критика» была Вихерхент, но товарищи прозвали его «Скитлзом» за его кеглеобразную фигуру.
Обыкновенно всегда насмешливый Скитлз перед Рождеством делался крайне сентиментальным. Приблизительно за неделю до праздника он буквально раздувался от любви к ближнему, кто бы ни был этот ближний, хотя бы его злейший враг. Кого бы Скитлз ни встретил в это время, он тотчас же принимался осыпать этого встречного такими любезностями, какие не всегда имеются у нас в запасе даже на случай неожиданной встречи с богатым дядюшкой, после которого мы чаем получить наследство. И он проделывал это всегда с таким видом, словно тот, кому он так сердечно желал всяческих благ, непременно получит их и, следовательно, должен быть ему за это очень признателен.
И это при встрече с врагом. Встреча же с приятелем в эти дни была прямо опасна для Скитлза: испытываемые им при этом чувства восторга и радости буквально душили его, и можно было опасаться, что его переполненное чувствами сердце не выдержит и лопнет.
Но всего труднее было Скитлзу в первый рождественский вечер благодаря огромному количеству тостов, которые ему приходилось провозглашать. До знакомства с ним мне никогда не случалось видеть человека, который мог бы предложить такую уйму тостов и при каждом тосте выпить. Сначала он предлагал и пил в честь самого праздника, потом в
честь старой Англии; затем переходил к своим родителям, перебирал свою нисходящую и восходящую родню, всех членов знакомых ему семейств, начиная с присутствующих и кончая отсутствующими.
Истощив весь этот репертуар, Скитлз провозглашал тост за всю прекрасную половину человеческого рода и за любовь вообще, дабы она «неугасимо светилась в очах наших прелестных жен и невест», за дружбу тоже вообще, дабы и она «никогда не остывала в сердцах истинных британцев», за луну, как покровительницу всех влюбленных, и за «лучезарное, животворящее солнце, которое вечно светит над нами и греет нас» (только не у нас, в Англии, и не зимою, – прибавлю я от себя).
Да, очень чувствительный и красноречивый человек был этот Скитлз. Блеск его красноречия достигал своего апогея обыкновенно в тостах, провозглашаемых им в честь «отсутствующих друзей». Хотя таких друзей у него имелось огромное количество, несмотря на это, он никогда не забывал ни одного из них. Когда являлся случай основательно выпить, Скитлз непременно вспоминал «отсутствующих друзей» и клялся с самой горячей любовью и готовностью «пожертвовать ради них жизнью»… на дне бокала. При этом он своими словоизвержениями так щедро награждал и присутствующих друзей, что у них потом целую неделю жужжало в ушах…
Вообще, его «отсутствующие друзья» страшно надоедали друзьям присутствующим. Он положительно пересаливал, распинаясь за них. Мы все, при случае, хорошо относимся к нашим друзьям, когда они отсутствуют. Но не вечно же горевать о них и превозносить их до небес!
На все есть свое время и своя мера. На юбилейных обедах или на акционерных собраниях, где всегда чувствуешь себя в приподнятом настроении, уместно вспомнить об «отсутствующих друзьях». Но Скитлз переносил свое благоговейное почитание этих друзей нередко в совсем неподходящую обстановку, причем провозглашал тосты и произносил речи, также совершенно не подходящие к этой обстановке.
Никогда не забуду, какой однажды предложил он тост и какую произнес речь на свадебном пиру. Свадьба была блестящая, многолюдная и веселая; новобрачные и все присутствующие находились в самом восторженном настроении. Завтрак кончался и все обязательные тосты были уже провозглашены. Новобрачные вскоре должны были отправиться на вокзал, чтобы совершить обычное свадебное путешествие, и мы уже подумывали, как бы пошумнее и повеселее проводить их. Но вот вдруг поднимается со своего места Скитлз с бокалом в руке и с самым похоронным выражением на лице…
Я сидел рядом с ним и, предчувствуя, что он задумал выкинуть несуразность, толкнул его под столом ногой. Но, должно быть, я ошибся и толкнул не его, потому что он даже бровью не повел. Вторично я уже не пытался сделать это, и Скитлз, со своей обычной чувствительностью, торжественно заговорил.
– Друзья мои! – начал он дрожащим от волнения голосом и с отуманенными от слез глазами, – позвольте мне сказать несколько слов. Ввиду предстоящего расставанья… Кто знает, когда мы снова встретимся?.. Перед тем как эта молодая еще невинная чета, только что взявшая на себя бремя многотрудной, полной всяческих испытаний и невзгод брачной жизни, покинет этот мирный дружеский приют, чтобы направиться навстречу горьким разочарованиям и бурным треволнениям новой, не изведанной еще ею жизни, я желал бы предложить тост…
Голос его пресекся. Передохнув и утерев катившиеся по красным щекам слезы, оратор, среди торжественного молчания слушателей, продолжал:
– Друзья! Едва ли между нами найдется хоть один человек, которому не пришлось испытать потери милого сердцу существа, отнятого беспощадною смертью или же силою неумолимых суровых условий жизни перенесенного в дальнюю страну…
В этом месте своей прочувствованной речи Скитлз испустил тяжкий вздох и на минуту закрыл платком омоченное слезами, скорбное лицо. Тетка новобрачной, недавно имевшая несчастье проводить за океан своего единственного сына, сделавшего непростительную в старой Англии «шалость», расплакалась уже навзрыд, уткнувшись носом в тарелочку с мороженым.
– Нам всем известно, эта прелестная молодая особа (при этих словах он указал бокалом, в котором искрилось шампанское, на новобрачную) несколько лет тому назад лишилась своей матери… Друзья мои, что может быть тяжелее такой утраты?
Этот патетический вопрос заставил разразиться громкими рыданиями и новобрачную. Новобрачный, тоже крайне возбужденный, хотел утешить свою молодую жену и зашептал ей на ухо что-то вроде уверения, что смерть ее матери уже случилась и что едва ли есть основание жалеть о ее переходе в лучший мир.
На это новобрачная с негодованием ответила ему, что он напрасно раньше не высказал ей своей радости по поводу смерти ее дорогой матери; тогда она, по крайней мере, не вышла бы за него замуж и не имела бы причины плакать на своем свадебном пиру.
Новобрачный отскочил от нее как ошпаренный и погрузился в глубокое раздумье. Создавшееся положение было и грустное, и смешное, и, вместе с тем, крайне неловкое. Я, до сих пор упорно смотревший в свою тарелку, чтобы не встретиться с чужим взглядом, как раз в этот критический момент невольно поднял глаза и встретился с устремленным на меня насмешливым взглядом одного собрата по перу. Результатом встречи наших взглядов было то, что мы оба неудержимо расхохотались, рискуя быть названными бессердечными и не умеющими себя вести. Между тем Скитлз, по-видимому, один из всех присутствующих, не чувствовавший ни малейшей потребности быть где угодно, только не за этим столом, откашлялся, вновь открыл шлюз своего красноречия и самоувереннее прежнего продолжал:
– Друзья! Неужели память об этой так безвременно отошедшей в вечность доброй матери нашей страдалицы-новобрачной должна остаться непрославленной на этом торжественном собрании?.. И не следует ли нам кстати помянуть добрым словом и горячей слезой всех наших дорогих матерей, отцов, братьев, сестер и иных родственников, отнятых у нас неумолимою судьбою? Да, друзья мои, мы обязаны сделать это. Поднимем же среди нашего веселья бокалы в память всех наших отсутствующих родных и друзей.
Тост был принят. Все с подобающими такому тосту вздохами и стонами, а некоторые и со слезами, опорожнили бокалы и поспешно поднялись из-за стола, чтобы привести в порядок свои расстроенные чувства и лица.
Немного спустя новобрачные уселись в экипаж. На лице молодой было написано сомнение относительно возможности счастья с таким «бессердечным чудовищем», каким оказался избранник ее сердца.
С того дня сам Скитлз сделался «отсутствующим другом» в доме этих новобрачных…
Однако довольно об этом. Возвращаюсь к главной теме настоящего очерка.
– Так вы уж постарайтесь написать мне какую-нибудь хорошенькую трогательную историю и, пожалуйста, вручите ее для набора не позже конца августа, – продолжал издатель «Еженедельника». – Необходимо, чтобы наш рождественский номер не запоздал так, как в прошлом году, когда мы могли выпустить его только в октябре и нас опередил «Клиппер». Крайне нежелательно повторение такой неприятности.
– На мой счет не беспокойтесь, – ответил я. – Мне как раз нечего делать в эти дни, и я живо справлюсь с вашим поручением. Через неделю будет готово.
Вернувшись домой, я принялся обдумывать сюжет трогательной истории, но ничего подходящего на ум не приходило. Комического – сколько угодно, хоть отбавляй. Даже голова затрещала под бурным наплывом смешных представлений и положений. Если бы для отвлечения этого ужасающего прилива я не погрузился в последний номер «Панча», нашего наиболее популярного юмористического журнала, то, право, мог бы с ума сойти.
«Нет, по-видимому, сегодня мне не удастся вызвать у себя патетического настроения, – говорил я себе, – значит, ни к чему и насиловать себя. Посмотрим, что будет дальше. Спешить особенно некуда. Времени впереди еще много. Успеется».
Я ожидал, что на меня найдет вдохновение «духа скорби и печали», но вместо того, наоборот, я, как нарочно, с каждым днем проникался все большим и большим весельем. Смешные сцены все время всплывали в моем воображении, и я мог бы наполнить ими рождественские номера всех выходящих в Лондоне юмористических изданий.
В середине августа я почувствовал, что если мне и в течение двух оставшихся недель этого месяца не удастся нагнать на себя хандру, то в рождественском номере «Еженедельника» не будет ничего, что могло бы заставить трепетать от жалости сердца британского общества, и тогда навсегда померкнет слава этого популярнейшего журнала для семейного чтения.
В те дни у меня еще была совесть. Раз я дал слово, что к концу августа напишу трогательную историю, я чувствовал себя обязанным сдержать это слово во что бы то ни стало, ценою каких бы то ни было жертв; только смерть или полное умственное расстройство могли мне помешать.
Зная по опыту, что несварение желудка способно довести до чернейшей меланхолии самого отъявленного весельчака, я начал питаться вареной свининой, йоркширскими пудингами, жирными паштетами; за ужином съедал огромную порцию салата из омаров. Но этот режим питания подействовал только в том смысле, что у меня появились ночные кошмары. Мне снились лазающие по деревьям слоны и пляшущие церковные старосты, и я просыпался от гомерического хохота.
Но так как расположения к смеху у меня было и без того слишком много, и именно с ним мне и хотелось бороться, то я бросил всякие желудочные эксперименты и принялся с ожесточением читать целую кучу трогательных историй, написанных другими. Но и это не помогло. Рассчитанная на «трогательность» маленькая девочка в Вудвордском рассказе «Нас семеро» только раздражила меня, так что я готов был поколотить эту девочку. Чувствительные морские разбойники Байрона заставляли меня зевать. Когда в какой-нибудь повести умирала героиня, я радовался и не верил словам автора, что с минуты смерти этой девушки ее жених никогда уже больше не улыбался.
Наконец я прибегнул еще к одному средству, которое показалось было мне наиболее подходящим к данному случаю: пересмотрел всю свою собственную литературную стряпню. Однако и это средство оказалось бессильным навеять на меня грусть в такой мере, чтобы создать прочное настроение.
Тогда я собрал гору классической мировой сентиментальной литературы и с храбростью отчаяния погрузился в ее недра. Это немножко понизило было мое жизнерадостное настроение, но не в нужной степени и ненадолго. Положение становилось критическим.
В субботу предпоследней недели августа я пригласил к себе старого певца грустных былин и баллад. Старик добросовестно старался заслужить те пять шиллингов, которые попросил у меня как плату за свой труд. У него оказался огромный репертуар английских, шотландских, ирландских, валлийских и даже немецких (конечно, в английском переводе) жалоб-нейших баллад, способных тронуть самые каменные сердца, но только не мое. Вместо того чтобы впасть в тихую грусть, как можно было ожидать, я готов был пуститься в пляс под мелодичные звуки и «чувствительные» слова певца. Ноги мои сами собой выделывали эксцентрические движения и замысловатые выкрутасы, особенно в самых патетических местах какого-нибудь «Олд Робина Грэя».
В начале последней недели я снова отправился к издателю «Еженедельника» и откровенно высказал ему, что в данное время я положительно не в состоянии написать что-нибудь трогательное. Рассказал я и о своих неудачных попытках настроиться на нужный лад.
– Не понимаю, какой вам еще нужен особенный лад! – воскликнул издатель, внимательно выслушав меня. – Вам с вашим талантом стоит только сесть да и написать на любую тему. Ведь так вы всегда и делали до сих пор. Что же случилось с вами именно теперь… как бы это сказать?.. Ну, такого, что парализовало ваше перо, что ли?.. Мало ли тем, подходящих для грустных рождественских рассказов? Например, вот хоть эта: молодая девушка безнадежно любит молодого человека, который уезжает за море, и не только долго не возвращается, но и не дает о себе никакой весточки. А девушка все ждет да ждет его и не выходит замуж, хотя ей делаются самые блестящие предложения, и потом умирает со своей невысказанной тайной. Разве это не приходило вам в голову?
– Приходило, – ответил я, немножко раздраженный. – Неужели вы думаете, что я уже не могу…
– Так разве это не годится? – поспешил прервать меня издатель.
– Конечно, не годится! В наше время весь мир стонет от несчастливых супружеств, а вы хотите, чтобы ваши читатели стонали от жалости к девушке, которой благополучно удалось избежать несчастья, – возразил я с еще большим раздражением.
– Гм? – промычал издатель. – А если взять, например, ребенка, который подавал большие надежды и вдруг умирает?
– Ну и слава Богу! – воскликнул я. – Что же в этом трогательного? Детей повсюду такая уйма, что хоть беги из-за них на край света… Сколько с ними хлопот и возни!
Поняв, что писать трогательные истории о влюбленных девицах и умирающих детях я не расположен, издатель спросил, не возникало ли в моем воображении представления о дряхлом одиноком старце, который в рождественский вечер плачет над грудой пожелтевших писем, начертанных давно уже истлевшею любимою рукою?
– Возникало, – ответил я. – Но я тотчас же отмахнулся от этого старика как от сентиментального идиота.
– Так напишите об умирающей собаке, – продолжал издатель. – Публика любит трогательные истории о собаках, жертвующих жизнью ради спасения хозяев от разбойников или…
– Ну, это уже не рождественская тема, – прервал я. Остановились было на теме об обманутой девице, но оставили и эту тему, как не годную в журнале семейного чтения.
– Ну, так пусть ваша голова отдохнет несколько дней, а потом, наверное, к вам само собой явится настоящее вдохновение, – решил издатель. – Мне бы не хотелось обращаться к Дженксу, хотя он и считается специалистом по трогательным историям. У него всегда такие сильные выражения, которые не по вкусу нашим читательницам. Непременно рассчитываю на вас и даю вам еще две недели сроку.
Простившись с издателем, я решил пойти посоветоваться с одним очень популярным, пожалуй, даже самым популярным писателем, дружбой с которым я был вправе гордиться. Быть на приятельской ноге с великим человеком, – разве это плохо?
Положим, в глубоком смысле этого слова мой приятель не был велик, то есть он не принадлежал к числу тех истинно великих людей, которые сами не знают своего величия. Но с точки зрения современности он не мог не считаться великим. Ведь каждая написанная им книга тотчас же по выходе ее в свет раскупалась нарасхват в ста тысячах экземплярах, а каждая пьеса, поставленная им на сцене, шла обязательно пятьсот раз подряд. И чем больше он писал, тем громче прославлялся его талант и тем сильнее гремело по всему миру его имя. Куда бы он ни являлся, его повсюду встречали с величайшими почестями. Общество буквально носило его на руках, ухаживало за ним, всячески лелеяло и баловало. Во всех журналах и газетах красовались прочувствованные описания его чарующего домашнего утла, его чарующих улыбок, слов и манер и всей его чарующей особы.
Сам Шекспир в свое время не был так прославлен, как мой приятель. Как же, повторяю, было мне не гордиться дружбой с такой знаменитостью? Ну, я и гордился. К счастью, он в это время был в городе и, что еще лучше, даже оказался дома, когда я пришел к нему. Я застал его сидящим с сигарой в зубах, перед открытым окном в роскошном кабинете.
Он и мне предложил сигару. Его сигары не из тех, от которых принято отказываться. Поэтому я взял сигару, закурил ее и поведал приятелю о своих тревогах.
Выслушав меня, он довольно долго глубокомысленно молчал. Я уж подумал, что он, быть может, только притворялся слушающим меня, и хотел обидеться на его невнимательность – про себя, разумеется. Но вдруг он отвел свой усталый взгляд от низко нависших над городом тяжелых туч, сквозь которые тщетно пытался прорваться чересчур отважный луч солнца, вынул изо рта сигару и сказал:
– Так вам нужна настоящая трогательная история? Пожалуй, я могу рассказать вам одну. Она коротка, но грустна, а стало быть, и трогательна.
Он говорил таким серьезным тоном, я невольно весь превратился во внимание.
– Это история человека, потерявшего самого себя, – начал мой знаменитый приятель, снова устремив глаза в то место, где шла борьба между океаном седых туманов и крохотным лучом солнечного света. – Человека, стоявшего у собственного смертного одра, наблюдавшего собственную медленную смерть и знавшего, что ему нет воскресения.
Дело в том, что когда-то жил на свете бедный мальчик. Он почти не имел ничего общего с другими детьми; любил быть один и целые дни бродил по окрестностям, погруженный в никому неведомые мысли и мечты. Он не был ни угрюм, ни зол, но в его детском сердце постоянно звучал голос и твердил, что ему должно открыться нечто такое, что не может быть понято его сверстниками, и чья-то незримая рука вела его в пустыню, где ничто не мешало ему слушать и видеть недоступное другим.
Но и среди уличного шума ему постоянно слышался таинственный голос, шептавший, что он должен приготовиться к тем Божьим делам, которые будут поручены ему, как одному из немногих, способных их совершить. Эти дела состояли в том, чтобы оказывать нравственную поддержку тем Божьим поборникам, которые хотят стремиться к усовершенствованию мира и не пасть в тяжелой борьбе с мировым злом. И когда он оставался где-нибудь один, то простирал к небу свои детские руки, благодарил за обещание дать ему возможность приносить великую пользу и горячо молился о том, чтобы Божья сила помогла ему быть всегда достойным своего избрания в работники на Божьей ниве. В переполнявшей его душу радости о предстоящих трудах на этой ниве бесследно тонули мелкие житейские огорчения и лишения, и по мере того как он подрастал, внутренний голос становился все громче, яснее и понятнее, пока, наконец, мальчику не прояснился во всех подробностях тот путь, по которому ему предстояло идти до конца своей жизни.
Но вот, когда он уже возмужал и, вполне подготовленный, мог приступить к своему делу, к нему явился нечистый дух и стал соблазнять его, тот самый дух, который сгубил так много великих людей ранее, губит их в наши дни и будет губить и впредь, дух мирских успехов и славы. И этот дух стал нашептывать ему соблазнительные слова, и он стал прислушиваться к ним.
– Какая будет польза тебе от распространения твоих великих мыслей, от того, что ты будешь открывать другим вековечные истины, которых никто не хочет знать? – шептал злой дух. – Чем вознаградит тебя за это мир? Разве ты не знаешь, чем и как всегда вознаграждал мир величайших учителей, величайших мыслителей и поэтов, которые все свои богатые силы, всю свою благородную жизнь отдавали на служение ближнему? Разве тебе неизвестно, что их уделом всегда было общее негодование, презрение и нищета? Оглянись и посмотри, как жалка участь немногих правдивых, честных и серьезных тружеников мысли, в сравнении с осыпанными всякими благами угодниками толпы, пляшущими под ее дудку?
Ты возразишь мне, что истинных певцов признают после их смерти, и зароненные ими в людские головы великие мысли с течением времени все более и более разрастаются и распространяются, пока не овладеют миром, который на все лады повторяет эти мысли, часто не зная даже имени их творцов; прославляет и носится с ними, покуда на смену им не придут новые. Но какая же от этого польза для тех, которые умерли в позоре и нищете?
Ты талантлив, даже, пожалуй, гениален. Посвяти же свои великие дары на угождение миру, и мир немедленно вознаградит тебя всем, чем только пожелаешь. Он даст тебе богатство, даст тебе славу, даст тебе величие, – то величие, которое не мозолит ему глаз. И всем этим ты будешь пользоваться, вплоть до тех пышных похорон, венков и памятников, которыми благодарная толпа проводит тебя в тот мир, о котором никто ничего не знает.
Человек тот поддался коварным нашептываньям демона и пал. И, вместо того чтобы быть служителем Божьим, он сделался рабом людей. Он стал писать для толпы то, что было ей приятно. Она рукоплескала ему и целыми пригоршнями бросала ему золото. Он подбирал это золото и снова спешил к столу, чтобы написать похвалу «благородству» и «великодушию» своих владык-развратителей.
Чистый дух поэзии, который идет рука об руку с духом пророчества, покинул его, и он превратился в простого торгаша, все старания которого сводились к тому, чтобы уловить вкусы толпы и вовремя угодить им.
«Милая толпа, – думал он про себя, – скажи мне только, чего ты желаешь, и я исполню твое желание. Может быть, тебе угодно повторение старой лжи, старых условностей, изношенных житейских формул, злых мыслей, смрад которых душит все светлое и доброе? Может быть, прикажешь повторить тебе ту бессмысленно глупую и пошлую болтовню, которую ты слыхала уже миллионы раз, но которая все еще не надоела тебе, потому что она так хорошо подлажена под твое понимание?.. Скажи мне… прикажи, что я должен делать, чтобы ты была всегда довольна мною и не прекращала поток своих щедрот для меня? Прикажешь защищать неправое, провозгласив его правым? Прикажешь обелять черное и чернить белое? Какой лести желаешь ты услышать от меня сегодня, завтра и в остальные дни?.. О, не томи меня, скажи, прикажи, и я, если нужно, вывернусь наизнанку, лишь бы всегда, до самой моей смерти, угождать тебе, моей милостивой повелительнице!»
И он сделался богатым, славным и великим. Он получил все, что было ему обещано демоном-искусителем: роскошно обставленное жилище, чистокровных рысаков, шикарные экипажи, дорогую одежду, вкусный стол, множество слуг, раболепствовавших перед ним и делавших вид, что готовы за него в огонь и в воду, а втайне обманывавших его и издевавшихся над ним.
Словом, этот угодник толпы был бы вполне «счастлив», если бы на дне его письменного стола не лежала пачка тоненьких пожелтевших тетрадок, исписанных неумелым детским почерком. У него не хватало духа уничтожить эти глупые тетрадки, и они служили ему вечным напоминанием о бедном мальчике, который когда-то бродил босиком по избитым камням мостовой, погруженный в сладостные мечты о том неземном величии, являющемся уделом истинных служителей Божьих, – о мальчике, который много лет тому назад мечтал сделаться совсем не тем, чем сделался, когда возмужал…
Мой приятель замолчал и, тяжело вздохнув, погрузился в грустные размышления. Я не решился отвлечь его от этих размышлений и потихоньку удалился.
Это действительно была очень грустная история, но не в том духе, какой требуется для рождественского номера семейного журнала, поэтому издатель «Еженедельника» не принял ее, и мне, в конце концов, все-таки пришлось наскоро написать «трогательную историю» о покинутой девице, умершей от разбитого сердца…

Кошки. Загадочные, очаровательные, наглые, мистические, ласковые и непостижимые. В этом выпуске вы узнаете о том, чем чреваты кошачьи обиды, сколь спасительно, а иной раз губительно присутствие кошек рядом с человеком, каким образом кошки могут влиять на судьбы обыкновенных людей, а также как люди…
6 часов 12 минут
83 397
24
144
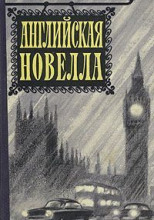
Миссис Корнер — обычная английская леди, полгода назад она стала женой. Ее супруг, как ей кажется, не соответствует стандартному образу английского джентльмена, и она изо всех сил старается его переделать. Беда в том, что свои представления она почерпнула из посредственных пьес и бульварных романов…

Прелесть этой книги — не столько в литературном стиле или полноте и пользе заключающихся в ней сведений, сколько в безыскусственной правдивости. На страницах ее запечатлелись события, которые действительно
произошли. Я только слегка их приукрасил, за ту же цену. Джордж, Гаррис и Монморенси — не…

Шедевр джеромовской иронической прозы. В моду входит писательство,— и какой настоящий джентльмен откажется от «пробы пера»! «Книги занимают свое место в мире, но они не являются целью мироздания. Книги должны стоять бок о бок с бифштексом и жареной бараниной, запахом моря, прикосновением руки,…
5 часов 35 минут
10 392
17
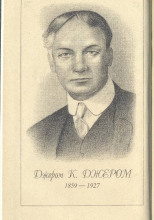
В тихом английском городке Мидлсбро родился и жил Энтони Джон Стронгсарм — спокойный и умный мальчик, любимый сын хороших родителей, многообещающий юноша, удачливый бизнесмен, любимый и любящий мужчина, отец семейства, всю жизнь мечтавший победить окружающую его бедность…
Роман «Энтони Джон»…

Любите хороший юмор? Тогда без сомнений начинайте слушать эту аудиокнигу.Джером К. Джером Один из величайших английских писателей-юмористов, немалая часть книг которого пользовалась спросом на континенте даже большим, чем в самой Англии.
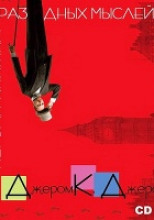
Очень немного по-настоящему смешных книг. Еще меньше по-настоящему смешных авторов. Вы держите в руках весьма редкий экземпляр именно такой литературы. Джером Клапка Джером… Продолжать? Хорошо. Один из величайших английских писателей-юмористов, немалая часть книг которого пользовалась спросом на…

Очень немного по-настоящему смешных книг. Еще меньше по-настоящему смешных авторов. Вы держите в руках весьма редкий экземпляр именно такой литературы. Джером Клапка Джером… Продолжать? Хорошо. Один из величайших английских писателей-юмористов, немалая часть книг которого пользовалась спросом на…

Большой черный кот с изумрудными глазами находит приют у разных людей: священника, драматурга, художника. С его появлением жизнь этих людей меняется и, чаще всего, в лучшую сторону. Они стнавятся известными и состоятельными… Но какой ценой им это все достается?
Мы с Ричардом Данкерманом были…
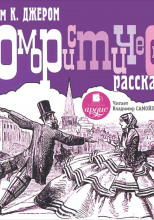
Джером Клапка Джером — классик английского юмора, автор известной всему миру повести «Трое в одной лодке, не считая собаки», а также множества новелл и рассказов, сценок и скетчей, пародий и анекдотов, веселых эссе и зарисовок.
Джером — блестящий рассказчик, обаятельный и добродушный,…