Песнь о Гайавате по главам
|
|
Вступление
Если спросите — откуда
Эти сказки и легенды
С их лесным благоуханьем,
Влажной свежестью долины,
Голубым дымком вигвамов,
Шумом рек и водопадов,
Шумом, диким и стозвучным,
Как в горах раскаты грома? —
Я скажу вам, я отвечу:
«От лесов, равнин пустынных,
От озер Страны Полночной,
Из страны Оджибуэев,
Из страны Дакотов диких,
С гор и тундр, с болотных топей,
Где среди осоки бродит
Цапля сизая, Шух-шух-га.
Повторяю эти сказки,
Эти старые преданья
По напевам сладкозвучным
Музыканта Навадаги».
Если спросите, где слышал,
Где нашел их Навадага, —
Я скажу вам, я отвечу:
«В гнездах певчих птиц, по рощам,
На прудах, в норах бобровых,
На лугах, в следах бизонов,
На скалах, в орлиных гнездах.
Эти песни раздавались
На болотах и на топях,
В тундрах севера печальных:
Читовэйк, зуек, там пел их,
Манг, нырок, гусь дикий, Вава,
Цапля сизая, Шух-шух-га,
И глухарка, Мушкодаза».
Если б дальше вы спросили:
«Кто же этот Навадага?
Расскажи про Навадагу», —
Я тотчас бы вам ответил
На вопрос такою речью:
«Средь долины Тавазэнта,
В тишине лугов зеленых,
У излучистых потоков,
Жил когда-то Навадага.
Вкруг индейского селенья
Расстилались нивы, долы,
А вдали стояли сосны,
Бор стоял, зеленый — летом,
Белый — в зимние морозы,
Полный вздохов, полный песен.
Те веселые потоки
Были видны на долине
По разливам их — весною,
По ольхам сребристым — летом,
По туману — в день осенний,
По руслу — зимой холодной.
Возле них жил Навадага
Средь долины Тавазэнта,
В тишине лугов зеленых.
Там он пел о Гайавате,
Пел мне Песнь о Гайавате, —
О его рожденье дивном
О его великой жизни:
Как постился и молился,
Как трудился Гайавата,
Чтоб народ его был счастлив,
Чтоб он шел к добру и правде».
Вы, кто любите природу —
Сумрак леса, шепот листьев,
В блеске солнечном долины,
Бурный ливень и метели,
И стремительные реки
В неприступных дебрях бора,
И в горах раскаты грома,
Что как хлопанье орлиных
Тяжких крыльев раздаются, —
Вам принес я эти саги,
Эту Песнь о Гайавате!
Вы, кто любите легенды
И народные баллады,
Этот голос дней минувших,
Голос прошлого, манящий
К молчаливому раздумью,
Говорящий так по-детски,
Что едва уловит ухо,
Песня это или сказка, —
Вам из диких стран принес я
Эту Песнь о Гайавате!
Вы, в чьем юном, чистом сердце
Сохранилась вера в бога,
В искру божью в человеке;
Вы, кто помните, что вечно
Человеческое сердце
Знало горести, сомненья
И порывы к светлой правде,
Что в глубоком мраке жизни
Нас ведет и укрепляет
Провидение незримо, —
Вам бесхитростно пою я
Эту Песнь о Гайавате!
Вы, которые, блуждая
По околицам зеленым,
Где, склонившись на ограду,
Поседевшую от моха,
Барбарис висит, краснея,
Забываетесь порою
На запущенном погосте
И читаете в раздумье
На могильном камне надпись,
Неумелую, простую,
Но исполненную скорби,
И любви, и чистой веры, —
Прочитайте эти руны,
Эту Песнь о Гайавате!
Трубка мира
На горах Большой Равнины,
На вершине Красных Камней,
Там стоял Владыка Жизни,
Гитчи Манито могучий,
И с вершины Красных Камней
Созывал к себе народы,
Созывал людей отвсюду.
От следов его струилась,
Трепетала в блеске утра
Речка, в пропасти срываясь,
Ишкудой, огнем, сверкая.
И перстом Владыка Жизни
Начертал ей по долине
Путь излучистый, сказавши:
«Вот твой путь отныне будет!»
От утеса взявши камень,
Он слепил из камня трубку
И на ней фигуры сделал.
Над рекою, у прибрежья,
На чубук тростинку вырвал,
Всю в зеленых, длинных листьях;
Трубку он набил корою,
Красной ивовой корою,
И дохнул на лес соседний,
От дыханья ветви шумно
Закачались и, столкнувшись,
Ярким пламенем зажглися;
И, на горных высях стоя,
Закурил Владыка Жизни
Трубку Мира, созывая
Все народы к совещанью.
Дым струился тихо, тихо
В блеске солнечного утра:
Прежде — темною полоской,
После — гуще, синим паром,
Забелел в лугах клубами,
Как зимой вершины леса,
Плыл все выше, выше, выше, —
Наконец коснулся неба
И волнами в сводах неба
Раскатился над землею.
Из долины Тавазэнта,
Из долины Вайоминга,
Из лесистой Тоскалузы,
От Скалистых Гор далеких,
От озер Страны Полночной
Все народы увидали
Отдаленный дым Покваны,
Дым призывный Трубки Мира.
И пророки всех народов
Говорили: «То Поквана!
Этим дымом отдаленным,
Что сгибается, как ива,
Как рука, кивает, манит,
Гитчи Манито могучий
Племена людей сзывает,
На совет зовет народы».
Вдоль потоков, по равнинам,
Шли вожди от всех народов,
Шли Чоктосы и Команчи,
Шли Шошоны и Омоги,
Шли Гуроны и Мэндэны,
Делавэры и Могоки,
Черноногие и Поны,
Оджибвеи и Дакоты —
Шли к горам Большой Равнины,
Пред лицо Владыки Жизни.
И в доспехах, в ярких красках, —
Словно осенью деревья,
Словно небо на рассвете, —
Собрались они в долине,
Дико глядя друг на друга.
В их очах — смертельный вызов,
В их сердцах — вражда глухая,
Вековая жажда мщенья —
Роковой завет от предков.
Гитчи Манито всесильный,
Сотворивший все народы,
Поглядел на них с участьем,
С отчей жалостью, с любовью, —
Поглядел на гнев их лютый,
Как на злобу малолетних,
Как на ссору в детских играх.
Он простер к ним сень десницы,
Чтоб смягчить их нрав упорный,
Чтоб смирить их пыл безумный
Мановением десницы.
И величественный голос,
Голос, шуму вод подобный,
Шуму дальних водопадов,
Прозвучал ко всем народам,
Говоря: «О дети, дети!
Слову мудрости внемлите,
Слову кроткого совета
От того, кто всех вас создал!
Дал я земли для охоты,
Дал для рыбной ловли воды,
Дал медведя и бизона,
Дал оленя и косулю,
Дал бобра вам и казарку;
Я наполнил реки рыбой,
А болота — дикой птицей:
Что ж ходить вас заставляет
На охоту друг за другом?
Я устал от ваших распрей,
Я устал от ваших споров,
От борьбы кровопролитной,
От молитв о кровной мести.
Ваша сила — лишь в согласье,
А бессилие — в разладе.
Примиритеся, о дети!
Будьте братьями друг другу!
И придет Пророк на землю
И укажет путь к спасенью;
Он наставником вам будет,
Будет жить, трудиться с вами.
Всем его советам мудрым
Вы должны внимать покорно —
И умножатся все роды,
И настанут годы счастья.
Если ж будете вы глухи, —
Вы погибнете в раздорах!
Погрузитесь в эту реку,
Смойте краски боевые,
Смойте с пальцев пятна крови;
Закопайте в землю луки,
Трубки сделайте из камня,
Тростников для них нарвите,
Ярко перьями украсьте,
Закурите Трубку Мира
И живите впредь как братья!»
Так сказал Владыка Жизни.
И все воины на землю
Тотчас кинули доспехи,
Сияли все свои одежды,
Смело бросилися в реку,
Смыли краски боевые.
Светлой, чистою волною
Выше их вода лилася —
От следов Владыки Жизни.
Мутной, красною волною
Ниже их вода лилася,
Словно смешанная с кровью.
Смывши краски боевые,
Вышли воины на берег,
В землю палицы зарыли,
Погребли в земле доспехи.
Гитчи Манито могучий,
Дух Великий и Создатель,
Встретил воинов улыбкой.
И в молчанье все народы
Трубки сделали из камня,
Тростников для них нарвали,
Чубуки убрали в перья
И пустились в путь обратный —
В ту минуту, как завеса
Облаков заколебалась
И в дверях отверстых неба
Гитчи Манито сокрылся,
Окружен клубами дыма
От Йокваны, Трубки Мира.
Четыре ветра
«Слава, слава, Мэджекивис!» —
Старцы, воины кричали
В день, когда он возвратился
И принес Священный Вампум
Из далеких стран Вабассо —
Царства кролика седого,
Царства Северного Ветра.
У Великого Медведя
Он украл Священный Вампум,
С толстой шеи Мише-Моквы,
Пред которым трепетали
Все народы, снял он Вампум
В час, когда на горных высях
Спал медведь, тяжелый, грузный,
Как утес, обросший мохом,
Серым мохом в бурых пятнах.
Тихо он к нему подкрался,
Так подкрался осторожно,
Что его почти касались
Когти красные медведя,
А горячее дыханье
Обдавало жаром руки.
Осторожно снял он Вампум
По ушам, по длинной морде
Исполина Мише-Моквы;
Ничего не услыхали
Уши круглые медведя,
Ничего не разглядели
Глазки сонные — и только
Из ноздрей его дыханье
Обдавало жаром руки.
Кончив, палицей взмахнул он,
Крикнул громко и протяжно
И ударил Мише-Мокву
В середину лба с размаху,
Между глаз ударил прямо!
Словно громом оглушенный,
Приподнялся Мише-Моква,
Но едва вперед подался,
Затряслись его колени,
И со стоном, как старуха,
Сел на землю Мише-Моква.
А могучий Мэджекнвис
Перед ним стоял без страха,
Над врагом смеялся громко,
Говорил с пренебреженьем:
«О медведь! Ты — Шогодайя!
Всюду хвастался ты силой,
А как баба, как старуха,
Застонал, завыл от боли.
Трус! Давно уже друг с другом
Племена враждуют наши,
Но теперь ты убедился,
Кто бесстрашней и сильнее.
Уходите прочь с дороги,
Прячьтесь в горы, в лес скрывайтесь!
Если б ты меня осилил,
Я б не крикнул, умирая,
Ты же хнычешь предо мною
И свое позоришь племя,
Как трусливая старуха,
Как презренный Шогодайя».
Кончив, палицей взмахнул он,
Вновь ударил Мише-Мокву
В середину лба с размаху,
И, как лед под рыболовом,
Треснул череп под ударом.
Так убит был Мише-Моква,
Так погиб Медведь Великий,
Страх и ужас всех народов.
«Слава, слава, Мэджекивис! —
Восклицал народ в восторге. —
Слава, слава, Мэджекивис!
Пусть отныне и вовеки
Ветром Запада он будет,
Властелином над ветрами!»
И могучий Мэджекивис
Стал владыкой над ветрами.
Ветер Западный оставил
Он себе, другие отдал
Детям: Вебону — Восточный,
Шавондази — теплый Южный,
А Полночный Ветер дикий
Злому дал Кабибонокке.
Молод и прекрасен Вебон!
Это он приносит утро
И серебряные стрелы
Сыплет, сумрак прогоняя,
По холмам и по долинам;
Это Вебона ланиты
На заре горят багрянцем,
А призывный голос будит
И охотника и зверя.
Одинок на небе Вебон!
Для него все птицы пели,
Для него цветы в долинах
Разливали сладкий запах,
Для него шумели реки,
Рощи темные вздыхали,
Но всегда был грустен Вебон;
Одинок он был на небе.
Утром раз, на землю глядя,
В час, когда спала деревня
И туман, как привиденье,
Над рекой блуждал, белея,
Он увидел, что в долине
Ходит дева — собирает
Камыши и длинный шпажник
Над рекою по долине.
С той поры, на землю глядя,
Только очи голубые
Видел Вебон на рассвете:
Как два озера лазурных,
На него они смотрели,
И задумчивую деву,
Что к нему стремилась сердцем,
Полюбил прекрасный Вебон:
Оба были одиноки,
На земле — она, он — в небе.
Он возлюбленную нежил
И ласкал улыбкой солнца,
Нежил вкрадчивою речью,
Тихим вздохом, тихой песней,
Тихим шепотом деревьев,
Ароматом белых лилий.
К сердцу милую привлек он,
Ярким пурпуром окутал —
И она затрепетала
На груди его звездою.
Так доныне неразлучно
В небесах они проходят:
Вебон, рядом Вебон-Аннонг —
Вебон и Звезда Рассвета.
В ледяных горах, в пустыне,
В царстве кролика, Вабассо,
В царстве вечной снежной вьюги,
Обитая Кабибонокка.
Это он осенней ночью
Разрисовывает листья
Краской желтой и багряной,
Это он приносит вьюги,
По лесам шипит и свищет,
Покрывает льдом озера,
Гонит чаек острокрылых,
Гонит цаплю и баклана
В камыши, в морские бухты,
В гнезда их на теплом юге.
Вышел раз Кабибонокка
Из своих чертогов снежных
Меж горами ледяными,
Устремился с воем к югу
По замерзшим, белым тундрам.
И, осыпанные снегом,
Волоса его — рекою,
Черной, зимнею рекою
По земле за ним струились.
В тростниках, среди осоки,
На замерзших, белых тундрах
Жил там Шингебис, морянка.
Одиноко в белых тундрах
Проводил он зиму эту:
Братья Шингебиса были
В теплых странах Шавондази.
И вскричал Кабибонокка
В лютом гневе: «Кто дерзает
Презирать Кабибонокку?
Кто осмелился остаться
В царстве Северного Ветра,
Если Вава и Шух-шух-га,
Если дикий гусь и цапля
Уж давно на юг умчались?
Я пойду к его вигваму,
Я очаг его разрушу!»
И пришел во мраке ночи
Ко врагу Кабибонокка.
Он намел сугробы снега,
Завывал в трубе вигвама,
Потрясал его свирепо,
Рвал дверные занавески.
Шингебис не испугался,
Шингебис его не слушал!
В очаге его играло
Пламя яркое, и рыбу
Ел он с песнями и смехом.
Ворвался тогда в жилище
Дикий, злой Кабибонокка;
Шингебис, от стужи вздрогнул
В ледяном его дыханье,
Но по-прежнему смеялся,
Но по-прежнему пел громко;
Он костер поправил только,
Чтоб костер горел светлее,
Чтоб кидало пламя искры.
И с чела Кабибонокки,
С кос его в снегу холодном
Стали падать капли пота,
Как весною каплет с крыши
Иль с ветвей болиголова.
Побежденный этим жаром,
Раздраженный этим пеньем,
Он вскочил и из вигвама
В поле бросился, шагая
По рекам и по озерам:
На борьбу над белой тундрой
Вызывал врага коварно.
Но без страха, без боязни
Вышел Шингебис на битву;
До рассвета он боролся
С Ветром Северным над тундрой,
До утра когтями бился
Шингебис с Кабибоноккой.
И без сил Кабибонокка
Отступил в свои, владенья,
Со стыдом бежал по тундрам
В царство кролика, Вабассо,
А за ним все раздавались
Хохот, песни и насмешки.
Шавондази, тучный, сонный,
Обитал на дальнем юге,
Где в дремотном блеске солнца
Круглый год царило лето.
Это он шлет птиц весною,
Шлет к нам ласточку, шлет Шошо,
Шлет Овейсу, трясогузку,
Опечи шлет, реполова,
Гуся, Ваву, шлет на север,
Шлет табак душистый, дыни,
Виноград в багряных гроздьях.
Дым из трубки Шавондази
Небеса туманит паром,
Наполняет негой воздух.
Тусклый блеск дает озерам,
Очертанья гор смягчает,
Веет нежной лаской лета
В теплый Месяц Светлой Ночи,
В Месяц Лыж зимой холодной.
Беззаботный Шавопдази!
Лишь одно узнал он горе,
Лишь одну печаль изведал.
Раз, смотря на север с юга,
Далеко в степных равнинах
Он увидел утром деву,
Деву с гибким, стройным станом,
Одинокую в равнинах.
Был на ней наряд зеленый,
И как солнце были косы.
День за днем потом смотрел он,
День за днем вздыхал он страстно,
День за днем все больше сердце
Разгоралось в нем любовью
К деве нежной, златокудрой.
Но ленив и неподвижен
Был беспечный Шавондази,
Да, ленив и слишком тучен:
К милой он пойти все медлил,
Он сидел, вздыхая страстно,
И все только любовался
Златокудрой девой прерий.
Наконец однажды утром
Увидал он, что поблекли
Кудри русые у милой, —
Словно первый снег, белеют.
«О мой брат из Стран Полночных,
Из далеких стран Вабассо,
Царства Северного Ветра!
Ты украл мою невесту,
Завладел моею милой,
Обольстил ее своею
Сказкой Северного Ветра!»
Так несчастный Шавондази,
«Изливал свои страданья,
И бродил в равнинах знойный
Южный Ветер, полный вздохов,
Страстных вздохов Шавондази.
И наполнился весь воздух,
Словно снегом, белым пухом:
Погубили вздохи ветра
Деву с русыми кудрями,
И от взоров Шавондази
Навсегда сокрылась дева.
О мечтатель Шавондази!
Не по девушке вздыхал ты,
Не на женщину смотрел ты, —
На цветок, на одуванчик;
О цветке вздыхал ты страстно,
На цветок глядел все лето
День за днем с любовью томной
И сгубил его навеки,
В поле вздохами развеял.
Бедный, бедный Шавондази!
Детство Гайаваты
В летний вечер, в полнолунье,
В незапамятное время,
В незапамятные годы,
Прямо с месяца упала
К нам прекрасная Нокомис,
Дочь ночных светил, Нокомис.
Как дитя, она играла,
На ветвях на виноградных
Меж подруг своих качалась,
И одна из них, сгорая
Злобой ревности и мести,
Эти ветви подрубила,
И на Мускодэ упала,
На цветущую долину,
Замирая от испуга,
Летним вечером Нокомис.
«Вон звезда упала с неба!» —
Говорил народ в селеньях.
Там, на мягких мхах и травах,
Там, среди стыдливых лилий,
В тихой Мускодэ, в долине,
В звездном блеске, в лунном свете,
Стала матерью Нокомис,
Назвала дочь первородной —
Назвала ее Веноной.
И, как лилия в долине,
Расцвела ее Венона:
Стала гибкой, стала стройной,
Точно лунный свет, прекрасной,
Точно звездный отблеск, нежной.
И Нокомис часто стала
Говорить, твердить Веноне:
«О, страшись, остерегайся
Мэджекивиса, Венона!
Никогда его не слушай,
Не гуляй одна в долине,
Не ложись в траве меж лилий!»
Но не слушалась Венона,
Не внимала мудрой речи,
И пришел к ней Мэджекивис,
Темным вечером подкрался,
С тихим шепотом склоняя
На лугу цветы и травы.
Там прекрасная Венона
Меж цветов одра лежала,
Там нашел ее коварный
Ветер Западный — и начал
Очаровывать Венону
Сладкой речью, нежной лаской —
И родился сын печали,
Нежной страсти и печали,
Дивной тайны — Гайавата.
Так родился, Гайавата;
А коварный Мэджекивис,
Бессердечный Мэджекивис
Уж покинул дочь Нокомис,
И недолго после билось
Сердце нежное Веноны:
Умерла она в печали.
Долго с криками рыдала,
Долго плакала Нокомис:
«О, зачем жестокий Погок
Не меня унес с собою?
Лучше б мне лежать в могиле!
Вагономин, вагономин!»
На прибрежье Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
С юных дней жила Нокомис,
Дочь ночных светил, Нокомис.
Позади ее вигвама
Темный лес стоял стеною —
Чащи темных, мрачных сосен,
Чащи елей в красных шишках,
А пред ним прозрачной влагой
На песок плескались волны,
Блеском солнца зыбь сверкала
Светлых вод Большого Моря.
Там, в тиши лесов и моря,
Внука нянчила Нокомис,
В люльке липовой качала,
Устланной кугой и мохом,
Крепко связанной ремнями,
И, качая, говорила:
«Спи! А то отдам медведю!»
Там, баюкая, певала:
«Эва-ия, мой совенок!
Что там светится в вигваме?
Чьи глаза блестят в вигваме?
Эва-ия, мой совенок!»
Много-много рассказала
О звездах ему Нокомис;
Показала хвост кометы —
Ишкуду в огнистых косах,
Показала Танец Духов,
Их блистающие рати
В небесах Страны Полночной,
В Месяц Лыж морозной ночью;
Показала серебристый
Путь всех призраков и духов —
Белый путь на темном небе,
Полном призраков и духов.
Вечерами, теплым летом,
У дверей сидел малютка,
Слушал тихий ропот сосен,
Слушал тихий плеск прибоя,
Звуки дивных слов и песен:
«Минни-вава!» — пели сосны,
«Мэдвэй-ошка!» -пели волны.
Видел мушку, Ва-ва-тэйзи,
Что, сверкая белой искрой,
Светит в сумраке вечернем
Над травою и кустами,
И тихонько пел ей песню,
Что Нокомис научила:
«Ва-ва-тэйзи, Ва-ва-тэйзи!
Крошка, огненная мушка,
Крошка, белый огонечек!
Потанцуй еще немножко,
Посвети мне, попрыгунья,
Белой искоркой своею:
Скоро я в постельку лягу,
Скоро я закрою глазки!»
Видел, как над Гитчи-Гюми,
Отражаясь в Гитчи-Гюми,
Подымался полный месяц,
Видел тень на нем и пятна
И шептал: «Что там, Нокомис?»
А Нокомис отвечала:
«Раз один сердитый войн
Подхватил старуху-бабку
И швырнул ее на небо,
Зашвырнул на месяц прямо.
Так она там и осталась».
Видел радугу на небе,
На востоке, и тихонько
Говорил: «Что там, Нокомис?»
А Нокомис отвечала:
«Это Мускодэ на небе;
Все цветы лесов зеленых,
Все болотные кувшинки,
На земле когда увянут,
Расцветают снова в небе».
Если сов он слышал в полночь —
Вой и хохот в чаще леса, —
Он, дрожа, кричал: «Кто это?»
Он шептал: «Что там, Нокомис?»
А Нокомис отвечала:
«Это совы собралися
И по-своему болтают,
Это ссорятся совята!»
Так малютка, внук Нокомис,
Изучил весь птичий говор,
Имена их, все их тайны:
Как они вьют гнезда летом,
Где живут они зимою;
Часто с ними вел беседы,
Звал их всех: «мои цыплята».
Всех зверей язык узнал он,
Имена их, все их тайны:
Как бобер жилище строит,
Где орехи белка прячет,
Отчего резва косуля,
Отчего труслив Вабассо;
Часто с ними вел беседы,
Звал их: «братья Гайаваты».
И рассказчик сказок Ягу,
Говорун, хвастун великий,
Много по свету бродивший,
Верный друг Нокомис старой,
Сделал лук для Гайаваты:
Лук из ясеня он сделал,
Стрелы сделал он из дуба,
Наконечники — из яшмы,
Тетиву — из кожи лани.
И сказал он Гайавате:
«Ну, мой сын, иди скорее
В лес, где держатся олени.
Застрели-ка там косулю
С разветвленными рогами».
Гордо взял свой лук и стрелы
Гайавата и отважно
В лес пустился; птицы звонко
Пели, по лесу порхая.
«Не стреляй в нас, Гайавата!» —
Опечи пел красногрудый;
«Не стреляй в нас, Гайавата!» —
Пел Овейса синеперый.
На дубу над Гайаватой
Вниз и вверх скакала белка,
Меж зеленых листьев дуба
С кашлем прыгала, смеялась
И, смеясь, пробормотала:
«Пощади, о Гайавата!»
И вприпрыжку белый кролик
Робко бросился с тропинки,
Стал вдали на задних лапках
И охотнику промолвил
Хоть и в шутку, но трусливо:
«Пощади, о Гайавата!»
Но не слушал Гайавата, —
Точно сонный, брел он лесом,
Думал только об олене,
След его искал глазами,
След, что вел к речному броду,
По тропе к речному броду.
За ольховыми кустами
Сел и выждал он оленя,
Увидал два глаза в чаще,
Увидал над ней два рога,
Ноздри, поднятые к ветру,
Увидал и морду зверя
Под листвою, в пятнах света,
И, как легкий лист березы,
Сердце в нем затрепетало,
Как ольха, весь задрожал он,
Увидав над бродом зверя.
На одно колено ставши,
Он прицелился в оленя.
Только ветка шевельнулась,
Только листик закачался,
Но олень уж встрепенулся,
Отшатнувшись, топнул в землю,
Чутко встал, подняв копыто,
Прыгнул, точно ждал удара.
Ах, он шел навстречу смерти!
Как оса, стрела запела,
Как оса, в него впилася!
Мертвый, он лежал у брода,
Меж деревьев, над рекою;
Сердце в нем уже не билось,
Но зато у Гайаваты
Сердце так и трепетало,
Как домой он нес оленя
И ему рукоплескали
Старый Ягу и Нокомис.
Из оленьей пестрой шкуры
Внуку плащ Нокомис сшила,
Созвала соседей в гости,
Пир дала в честь Гайаваты.
Вся деревня собралася,
Все соседи называли
Гайавату храбрым, сильным —
Сон-джи-тэгэ, Ман-го-тэйзи!
Гайавата и Мэджекивис
Миновали годы детства,
Возмужал мой Гайавата;
Игры юности беспечной,
Стариков житейский опыт,
Труд, охотничьи сноровки —
Все постиг он, все изведал.
Резвы ноги Гайаваты!
Запустив стрелу из лука,
Он бежал за ней так быстро,
Что стрелу опережал он.
Мощны руки Гайаваты!
Десять раз, не отдыхая,
Мог согнуть он лук упругий
Так легко, что догоняли
На лету друг друга стрелы.
Рукавицы Гайаваты,
Рукавицы, Минджикэвон,
Из оленьей мягкой шкуры
Обладали дивной силой:
Сокрушать он мог в них скалы,
Раздроблять в песчинки камни.
Мокасины Гайаваты
Из оленьей мягкой шкуры
Волшебство в себе таили:
Привязавши их к лодыжкам,
Прикрепив к ногам ремнями,
С каждым шагом Гайавата
Мог по целой миле делать.
Об отце своем нередко
Он расспрашивал Нокомис,
И поведала Нокомис
Внуку тайну роковую:
Рассказала, как прекрасна,
Как нежна была Венона,
Как сгубил ее изменой
Вероломный Мэджекивис,
И, как уголь, разгорелось
Гневом сердце Гайаваты.
Он сказал Нокомис старой:
«Я иду к отцу, Нокомис,
Я хочу его проведать
В царстве Западного Ветра,
У преддверия Заката».
Из вигвама выходил он,
Снарядившись в путь далекий,
В рукавицах, Минджикэвон,
И волшебных мокасинах.
Весь наряд его богатый
Из оленьей мягкой шкуры
Зернью вампума украшен
И щетиной дикобраза.
Голова его — в орлиных
Развевающихся перьях,
За плечом его, в колчане, —
Из дубовых веток стрелы,,
Оперенные искусно
И оправленные в яшму.
А в руках его — упругий
Лук из ясеня, согнутый
Тетивой из жил оленя.
Осторожная Нокомис
Говорила «Гайавате:
«Не ходя, о Гайавата,
В царство Западного Ветра:
Он убьет тебя коварством,
Волшебством своим погубит».
Но отважный Гайавата
Не внимал ее советам,
Уходил он от вигвама,
С каждым шагом делал милю.
Мрачным лес ему казался,
Мрачным — свод небес над лесом,
Воздух — душным и горячим,
Полным дыма, полным гари,
Как в пожар лесов и прерий:
Словно уголь, разгоралось
Гневом сердце Гайаваты.
Так держал он путь далекий
Все на запад и на запад
Легче быстрого оленя,
Легче лани и бизона.
Переплыл он Эсконабо,
Переплыл он Миссисипи,
Миновал Степные Горы,
Миновал степные страны
И Лисиц и Черноногих
И пришел к Горам Скалистым,
В царство Западного Ветра,
В царство бурь, где на вершинах
Восседал Владыка Ветров,
Престарелый Мэджекивис.
С тайным страхом Гайавата
Пред отцом остановился:
Дико в воздухе клубились,
Облаками развевались
Волоса его седые,
Словно снег, они блестели,
Словно пламенные косы
Ишкуды, они сверкали.
С тайной радостью увидел
Мэджекивис Гайавату:
Это молодости годы
Перед ним воскресли к жизни,
Это встала из могилы
Красота Веноны нежной.
«Будь здоров, о Гайавата! —
Так промолвил Мэджекивис. —
Долго ждал тебя я в гости
В царство Западного Ветра!
Годы старости — печальны,
Годы юности — отрадны.
Ты напомнил мне былое,
Юность пылкую напомнил
И прекрасную Венону!»
Много дней прошло в беседе,
Долго мощный Мэджекивис
Похвалялся Гайавате
Прежней доблестью своею,
Приключеньями былыми,
Непреклонною отвагой;
Говорил, что дивной силой
Он от смерти заколдован.
Молча слушал Гайавата,
Как хвалился Мэджекивис,
Терпеливо и с улыбкой
Он сидел и молча слушал.
Ни угрозой, ни укором,
Ни одним суровым взглядом
Он не выказал досады,
Но, как уголь, разгоралось
Гневом сердце Гайаваты.
И сказал он: «Мэджекивис!
Неужель ничто на свете
Погубить тебя не может?»
И могучий Мэджекивис
Величаво, благосклонно
Отвечал: «Ничто на свете,
Кроме вон того утеса,
Кроме Вавбика, утеса!»
И, взглянув на Гайавату
Взором мудрости спокойной,
По-отечески любуясь
Красотой его и мощью,
Он сказал: «О Гайавата!
Неужель ничто на свете
Погубить тебя не может?»
Помолчал одну минуту
Осторожный Гайавата,
Помолчал, как бы в сомненье,
Помолчал, как бы в раздумье,
И сказал: «Ничто на свете.
Лишь один тростник, Эпоква,
Лишь вон тот камыш высокий!»
И как только Мэджекивис,
Встав, простер к Эпокве руку,
Гайавата в страхе крикнул,
В лицемерном страхе крикнул:
«Каго, каго! Не касайся!»
«Полно! — молвил Мэджекивис.
Успокойся, — я не трону».
И опять они беседу
Продолжали; говорили
И о Вебоне прекрасном,
И о тучном Шавондази,
И о злом Кабибонокке;
Говорили о Веноне,
О ее рожденье дивном,
О ее кончине грустной —
Обо всем, что рассказала
Внуку старая Нокомис.
И воскликнул Гайавата:
«О коварный Мэджекивис!
Это ты убил Венону,
Ты сорвал цветок весенний,
Растоптал его ногами!
Признавайся! Признавайся!»
И могучий Мэджекивис
Тихо голову седую
Опустил в тоске глубокой,
В знак безмолвного согласья.
Быстро встал тогда, сверкая
Грозным взором, Гайавата,
На утес занес он руку
В рукавице, Минджикэвон,
Разломил его вершину,
Раздробил его в осколки,
Стал в отца швырять свирепо:
Словно уголь, разгорелось
Гневом сердце Гайаваты.
Но могучий Мэджекивис
Камни гнал назад дыханьем,
Бурей гневного дыханья
Гнал назад, на Гайавату.
Он схватил руной Эпокву,
Вырвал с мочками, с корнями, —
Над рекой из вязкой тины
Вырвал бешено Эпокву
Он под хохот Гайаваты.
И начался бой смертельный
Меж Скалистыми Горами!
Сам Орел Войны могучий
На гнезде поднялся с криком,
С резким криком сел на скалы,
Хлопал крыльями над ними.
Словно дерево под бурей,
Рассекал Эпоква воздух,
Словно град, летели камни
С треском с Вавбика, утеса,
И земля окрест дрожала,
И на тяжкий грохот боя
По горам гремело эхо,
Отзывалося: «Бэм-Вава!»
Отступать стал Мэджекивис,
Устремился он на запад,
По горам на дальний запад
Отступал три дня, сражаясь,
Убегал, гонимый сыном,
До преддверия Заката,
До границ своих владений,
До конца земли, где солнце
В красном блеске утопает,
На ночлег в воздушной бездне
Опускаясь, как фламинго
Опускается зарею
На печальное болото.
«Удержись, о Гайавата! —
Наконец вскричал он громко, —
Ты убить меня не в силах,
Для бессмертного нет смерти.
Испытать тебя хотел я,
Испытать твою отвагу,
И награду заслужил ты!
Возвратись в родную землю,
К своему вернись народу,
С ним живи и с ним работай.
Ты расчистить должен реки,
Сделать землю плодоносной,
Умертвить чудовищ злобных,
Змей, Кинэбик, и гигантов,
Как убил я Мише-Мокву,
Исполина Мише-Мокву.
А когда твой час настанет
И заблещут над тобою
Очи Погока из мрака, —
Разделю с тобой я царство,
И владыкою ты будешь
Над Кивайдином вовеки!»
Вот какая разыгралась
Битва в грозные дни Ша-ша,
В дни далекого былого,
В царстве Западного Ветра.
Но следы той славной битвы
И теперь охотник видит
По холмам и по долинам:
Видит шпажник исполинский
На прудах и вдоль потоков,
Видит Вавбика осколки
По холмам и по долинам.
На восток, в родную землю,
Гайавата путь направил.
Позабыл он горечь гнева,
Позабыл о мщенье думы,
И вокруг него отрадой
И весельем все дышало.
Только раз он путь замедлил,
Только раз остановился,
Чтоб купить в стране Дакотов
Наконечников на стрелы.
Там, в долине, где смеялись,
Где блистали, низвергаясь
Меж зелеными дубами,
Водопады Миинегаги,
Жил старик, дакот суровый.
Делал он головки к стрелам,
Острия из халцедона,
Из кремня и крепкой яшмы,
Отшлифованные гладко,
Заостренные, как иглы.
Там жила с ним дочь-невеста,
Быстроногая, как речка,
Своенравная, как брызги
Водопадов Миннегаги.
В блеске черных глаз играли
У нее и свет и тени —
Свет улыбки, тени гнева;
Смех ее звучал как песня,
Как поток струились косы,
И Смеющейся Водою
В честь реки ее назвал он,
В честь веселых водопадов
Дал ей имя — Миннегага.
Так ужели Гайавата
Заходил в страну Дакотов,
Чтоб купить головок к стрелам,
Наконечников из яшмы,
Из кремня и халцедона?
Не затем ли, чтоб украдкой
Посмотреть на Миннегагу,
Встретить взор ее пугливый,
Услыхать одежды шорох
За дверною занавеской,
Как глядят на Миннегагу,
Что горит сквозь ветви леса,
Как внимают водопаду
За зеленой чащей леса?
Кто расскажет, что таится
В молодом и пылком сердце?
Как узнать, о чем в дороге
Сладко грезил Гайавата?
Все Нокомис рассказал он,
Возвратясь домой под вечер:
О борьбе и о беседе
С Мэджекивисом могучим,
Но о девушке, о стрелах
Не обмолвился ни словом!
Пост Гайаваты
Вы услышите сказанье,
Как в лесной глуши постился
И молился Гайавата:
Не о ловкости в охоте,
Не о славе и победах,
Но о счастии, о благе
Всех племен и всех народов.
Пред постом он приготовил
Для себя в лесу жилище, —
Над блестящим Гитчи-Гюми,
В дни весеннего расцвета,
В светлый, теплый Месяц Листьев
Он вигвам себе построил
И, в виденьях, в дивных грезах,
Семь ночей и дней постился.
В первый день поста бродил он
По зеленым тихим рощам;
Видел кролика он в норке,
В чаще выпугнул оленя,
Слышал, как фазан кудахтал,
Как в дупле возилась белка,
Видел, как под тенью сосен
Вьет гнездо Омими, голубь,
Как стада гусей летели
С заунывным криком, с шумом
К диким северным болотам.
«Гитчи Манито! — вскричал он,
Полный скорби безнадежной, —
Неужели наше счастье,
Наша жизнь от них зависит?»
На другой день над рекою,
Вдоль по Мускодэ бродил он,
Видел там он Маномони
И Минагу, голубику,
И Одамин, землянику,
Куст крыжовника, Шабомин,
И Бимагут, виноградник,
Что зеленою гирляндой,
Разливая сладкий запах,
По ольховым сучьям вьется.
«Гитчи Манито! — вскричал он,
Полный скорби безнадежной, —
Неужели наше счастье,
Наша жизнь от них зависит?»
В третий день сидел он долго,
Погруженный в размышленья,
Возле озера, над тихой,
Над прозрачною водою.
Видел он, как прыгал Нама,
Сыпля брызги, словно жемчуг;
Как резвился окунь, Сава,
Словно солнца луч сияя,
Видел щуку, Маскенозу,
Сельдь речную, Окагавис,
Шогаши, морского рака.
«Гитчи Манито! — вскричал он,
Полный скорби безнадежной. —
Неужели наше счастье,
Наша жизнь от них зависит?»
На четвертый день до ночи
Он лежал в изнеможенье
На листве в своем вигваме.
В полусне над ним роились
Грезы, смутные виденья;
Вдалеке вода сверкала
Зыбким золотом, и плавно
Все кружилось и горело
В пышном зареве заката.
И увидел он: подходит
В полусумраке пурпурном,
В пышном зареве заката,
Стройный юноша к вигваму.
Голова его — в блестящих,
Развевающихся перьях,
Кудри — мягки, золотисты,
А наряд — зелено-желтый.
У дверей остановившись,
Долго с жалостью, с участьем
Он смотрел на Гайавату,
На лицо его худое,
И, как вздохи Шавондази
В чаще леса, — прозвучала
Речь его: «О Гайавата!
Голос твой услышан в небе,
Потому что ты молился
Не о ловкости в охоте,
Не о славе и победах,
Но о счастии, о благе
Всех племен и всех народов.
Для тебя Владыкой Жизни
Послан друг людей — Мондамин;
Послан он тебе поведать,
Что в борьбе, в труде, в терпенье
Ты получишь все, что просишь.
Встань с ветвей, с зеленых листьев,
Встань с Мондамином бороться!»
Изнурен был Гайавата,
Слаб от голода, но быстро
Встал с ветвей, с зеленых листьев.
Из стемневшего вигвама
Вышел он на свет заката,
Вышел с юношей бороться, —
И едва его коснулся,
Вновь почувствовал отвагу,
Ощутил в груди усталой
Бодрость, силу и надежду.
На лугу они кружились
В пышном зареве заката,
И все крепче, все сильнее
Гайавата становился.
Но спустились тени ночи,
И Шух-шух-га на болоте
Издала свой крик тоскливый,
Вопль и голода и скорби.
«Кончим! — вымолвил Мондамин,
Улыбаясь Гайавате, —
Завтра снова приготовься
На закате к испытанью».
И, сказав, исчез Мондамин.
Опустился ли он тучкой
Иль поднялся, как туманы, —
Гайавата не заметил;
Видел только, что исчез он,
Истомив его борьбою,
Что внизу, в ночном тумане,
Смутно озеро белеет,
А вверху мерцают звезды.
Так два вечера, — лишь только
Опускалось тихо солнце
С неба в западные воды,
Погружалось в них, краснея,
Словно уголь, раскаленный
В очаге Владыки Жизни, —
Приходил к нему Мондамин.
Молчаливо появлялся,
Как роса на землю сходит,
Принимающая форму
Лишь тогда, когда коснется
До травы или деревьев,
Но невидимая смертным
В час прихода и ухода.
На лугу они кружились
В пышном зареве заката;
Но спустились тени ночи,
Прокричала на болоте
Громко, жалобно Шух-шух-га,
И задумался Мондамин;
Стройным станом и прекрасный,
Он стоял в своем наряде;
В головном его уборе
Перья веяли, качались,
На челе его сверкали
Капли пота, как росинки.
И вскричал он: «Гайавата!
Храбро ты со мной боролся,
Трижды стойко ты боролся,
И пошлет Владыка Жизни
Надо мной тебе победу!»
А потом сказал с улыбкой:
«Завтра кончится твой искус —
И борьба и пост тяжелый;
Завтра ты меня поборешь;
Приготовь тогда мне ложе
Так, чтоб мог весенний дождик
Освежать меня, а солнце —
Согревать до самой ночи.
Мой наряд зелено-желтый,
Головной убор из перьев
Оборви с меня ты смело,
Схорони меня и землю
Разровняй и сделай мягкой.
Стереги мой сон глубокий,
Чтоб никто меня не трогал,
Чтобы плевелы и травы
Надо мной не зарастали,
Чтобы Кагаги, Царь-Ворон,
Не летал к моей могиле.
Стереги мой сон глубокий
До поры, когда проснусь я,
К солнцу светлому воспряну!»
И, сказав, исчез Мондамин.
Мирным сном спал Гайавата;
Слышал он, как пел уныло
Полуночник, Вавонэйса,
Над вигвамом одиноким;
Слышал он, как, убегая,
Сибовиша говорливый
Вел беседы с темным лесом;
Слышал шорох — вздохи веток,
Что склонялись, подымались,
С ветерком ночным качаясь.
Слышал все, но все сливалось
В дальний ропот, сонный шепот:
Мирным сном спал Гайавата.
На заре пришла Нокомис,
На седьмое утро пищи
Принесла для Гайаваты.
Со слезами говорила,
Что его погубит голод,
Если пищи он не примет.
Ничего он не отведал,
Ни к чему не прикоснулся,
Лишь промолвил ей: «Нокомис!
Подожди со мной заката,
Подожди, пока стемнеет
И Шух-шух-га громким криком
Возвестит, что день окончен!»
Плача, шла домой Нокомис,
Все тоскуя, опасаясь,
Что его погубит голод.
Он же стал, томясь тоскою,
Ждать Мондамина. И тени
Потянулись от заката
По лесам и по долинам;
Опустилось тихо солнце
С неба в Западные Воды,
Как спускается зарею
В воду красный лист осенний
И в воде, краснея, тонет.
Глядь — уж тут Мондамин юный,
У дверей стоит с приветом!
Голова его — в блестящих,
Развевающихся перьях,
Кудри — мягки, золотисты,
А наряд — зелено-желтый.
Как во сне, к нему навстречу
Встал, измученный и бледный,
Гайавата, но бесстрашно
Вышел — и бороться начал.
И слились земля и небо,
Замелькали пред глазами!
Как осетр в сетях трепещет,
Бьется бешено, чтоб сети
Разорвать и прыгнуть в воду,
Так в груди у Гайаваты
Сердце сильное стучало;
Словно огненные кольца,
Горизонт сверкал кровавый
И кружился с Гайаватой;
Сотни солнцев, разгораясь,
На борьбу его глядели.
Вдруг один среди поляны
Очутился Гайавата,
Он стоял, ошеломленный
Этой дикою борьбою,
И дрожал от напряженья;
А пред ним, в измятых перьях
И в изорванных одеждах,
Бездыханный, неподвижный,
На траве лежал Мондамин,
Мертвый, в зареве заката.
Победитель Гайавата
Сделал так, как приказал он:
Снял с Мондамина одежды,
Снял изломанные перья,
Схоронил его и землю
Разровнял и сделал мягкой.
И среди болот печальных
Цапля сизая, Шух-шух-га,
Издала свой крик тоскливый,
Вопль и жалобы и скорби.
В отчий дом, в вигвам Нокомис
Возвратился Гайавата,
И семь суток испытанья
В этот вечер завершились.
Но запомнил Гайавата
Те места, где он боролся,
Не покинул без призора
Ту могилу, где Мондамин
Почивал, в земле зарытый,
Под дождем и ярким солнцем.
День за днем над той могилой
Сторожил мой Гайавата,
Чтобы холм ее был мягким,
Не зарос травою сорной,
Прогоняя свистом, криком
Кагаги с его народом.
Наконец зеленый стебель
Показался над могилой,
А за ним — другой и третий,
И не кончилося лето,
Как в своем уборе пышном,
В золотистых, мягких косах,
Встал высокий, стройный маис.
И воскликнул Гайавата
В восхищении: «Мондамин!
Это друг людей, Мондамин!»
Тотчас кликнул он Нокомис,
Кликнул Ягу, рассказал им
О своем виденье дивном,
О своей борьбе, победе,
Показал зеленый маис —
Дар небесный всем народам,
Что для них быть должен пищей.
А поздней, когда, под осень,
Пожелтел созревший маис,
Пожелтели, стали тверды
Зерна маиса, как жемчуг,
Он собрал его початки,
Сняв с него листву сухую,
Как с Мондамина когда-то
Снял одежды, — и впервые
«Пир Мондамина» устроил,
Показал всему народу
Новый дар Владыки Жизни.
Друзья Гайаваты
Было два у Гайаваты
Неизменных, верных друга.
Сердце, душу Гайаваты
Знали в радостях и в горе
Только двое: Чайбайабос,
Музыкант, и мощный Квазинд.
Меж вигвамов их тропинка
Не могла в траве заглохнуть;
Сплетни, лживые наветы
Не могли посеять злобы
И раздора между ними:
Обо всем они держали
Лишь втроем совет согласный,
Обо всем с открытым сердцем
Говорили меж собою
И стремились только к благу
Всех племен и всех народов.
Лучшим другом Гайаваты
Был прекрасный Чайбайабос,
Музыкант, певец великий,
Несравненный, небывалый.
Был, как воин, он отважен,
Но, как девушка, был нежен,
Словно ветка ивы, гибок,
Как олень рогатый, статен.
Если пел он, вся деревня
Собиралась песни слушать,
Жены, воины сходились,
И то нежностью, то страстью
Волновал их Чайбайабос.
Из тростинки сделав флейту,
Он играл так нежно, сладко,
Что в лесу смолкали птицы,
Затихал ручей игривый,
Замолкала Аджидомо,
А Вабассо осторожный
Приседал, смотрел и слушал.
Да! Примолкнул Сибовиша
И сказал: «О Чайбайабос!
Научи мои ты волны
Мелодичным, нежным звукам!»
Да! Завистливо Овэйса
Говорил: «О Чайбайабос!
Научи меня безумным,
Страстным звукам диких песен!»
Да! И Опечи веселый
Говорил: «О Чайбайабос!
Научи меня веселым,
Сладким звукам нежных песен!»
И, рыдая, Вавонэйса
Говорил: «О Чайбайабос!
Научи меня тоскливым,
Скорбным звукам скорбных песен!»
Вся природа сладость звуков
У него перенимала,
Все сердца смягчал и трогал
Страстной песней Чайбайабос,
Ибо пел он о свободе,
Красоте, любви и мире,
Пел о смерти, о загробной
Бесконечной, вечной жизни,
Воспевал Страну Понима
И Селения Блаженных.
Дорог сердцу Гайаваты
Кроткий, милый Чайбайабос,
Музыкант, певец великий,
Несравненный, небывалый!
Он любил его за нежность
И за чары звучных песен.
Дорог сердцу Гайаваты
Был и Квазинд, — самый мощный
И незлобивый из смертных;
Он любил его за силу,
Доброту и простодушье.
Квазинд в юности ленив был,
Вял, мечтателен, беспечен;
Не играл ни с кем он в детстве,
Не удил в заливе рыбы,
Не охотился за зверем, —
Не похож он был на прочих.
Но постился Квазинд часто,
Своему молился Духу,
Покровителю молился.
«Квазинд, — мать ему сказала, —
Ты ни в чем мне не поможешь!
Лето ты, как сонный, бродишь
Праздно по полям и рощам,
Зиму греешься, согнувшись
Над костром среди вигвама;
В самый лютый зимний холод
Я хожу на ловлю рыбы, —
Ты и тут мне не поможешь!
У дверей висит мой невод,
Он намок и замерзает, —
Встань, возьми его, ленивец,
Выжми, высуши на солнце!»
Неохотно, но спокойно
Квазинд встал с золы остывшей,
Молча вышел из вигвама,
Скинул смерзшиеся сети,
Что висели у порога,
Стиснул их, как пук соломы,
И сломал, как пук соломы!
Он не мог не изломать их:
Вот настолько был он силен!
«Квазинд! — раз отец промолвил, —
Собирайся на охоту.
Лук и стрелы постоянно
Ты ломаешь, как тростинки,
Так хоть будешь мне добычу
Приносить домой из леса».
Вдоль ущелья, по теченью
Ручейка они спустились,
По следам бизонов, ланей,
Отпечатанным на иле,
И наткнулись на преграду:
Повалившиеся сосны
Поперек и вдоль дороги
Весь проход загромождали.
«Мы должны, — промолвил старец, —
Ворочаться: тут не влезешь!
Тут и белка не взберется,
Тут сурок пролезть не сможет».
И сейчас же вынул трубку,
Закурил и сел в раздумье.
Но не выкурил он трубки,
Как уж путь был весь расчищен:
Все деревья Квазинд поднял,
Быстро вправо и налево
Раскидал, как стрелы, сосны,
Разметал, как копья, кедры.
«Квазинд! — юноши сказали,
Забавляясь на долине. —
Что же ты стоишь, глазеешь,
На утес облокотившись?
Выходи, давай бороться,
В цель бросать из пращи камни».
Вялый Квазинд не ответил,
Ничего им не ответил,
Только встал и, повернувшись,
Обхватил утес руками,
Из земли его он вырвал,
Раскачал над головою
И забросил прямо в реку,
Прямо в быструю Повэтин.
Так утес там и остался.
Раз по пенистой пучине,
По стремительной Повэтин,
Плыл с товарищами Квазинд
И вождя бобров, Амика,
Увидал среди потока:
С быстриной бобер боролся,
То всплывая, то ныряя.
Не задумавшись нимало,
Квазинд молча прыгнул в реку,
Скрылся в пенистой пучине,
Стал преследовать Амика
По ее водоворотам
И в воде пробыл так долго,
Что товарищи вскричали:
«Горе нам! Погиб наш Квазинд!
Не вернется больше Квазинд!»
Но торжественно он выплыл:
На плече его блестящем
Вождь бобров висел убитый,
И с него вода струилась.
Таковы у Гайаваты
Были верные два друга.
Долго с ними жил он в мире,
Много вел бесед сердечных,
Много думал дум о благе
Всех племен и всех народов.
Пирога Гайаваты
«Дай коры мне, о Береза!
Желтой дай коры, Береза,
Ты, что высишься в долине
Стройным станом над потоком!
Я свяжу себе пирогу,
Легкий челн себе построю,
И в воде он будет плавать,
Словно желтый лист осенний,
Словно желтая кувшинка!
Скинь свой белый плащ, Береза!
Скинь свой плащ из белой кожи:
Скоро лето к нам вернется,
Жарко светит солнце в небе,
Белый плащ тебе не нужен!»
Так над быстрой Таквамино,
В глубине лесов дремучих
Восклицал мой Гайавата
В час, когда все птицы пели,
Воспевали Месяц Листьев,
И, от сна восставши, солнце
Говорило: «Вот я — Гизис,
Я, великий Гизис, солнце!»
До корней затрепетала
Каждым листиком береза,
Говоря с покорным вздохом:
«Скинь мой плащ, о Гайавата!»
И ножом кору березы
Опоясал Гайавата
Ниже веток, выше корня,
Так, что брызнул сок наружу;
По стволу, с вершины к корню,
Он потом кору разрезал,
Деревянным клином поднял,
Осторожно снял с березы.
«Дай, о Кедр, ветвей зеленых,
Дай мне гибких, крепких сучьев,
Помоги пирогу сделать
И надежней и прочнее!»
По вершине кедра шумно
Ропот ужаса пронесся,
Стон и крик сопротивленья;
Но, склоняясь, прошептал он:
«На, руби, о Гайавата!»
И, срубивши сучья кедра,
Он связал из сучьев раму,
Как два лука, он согнул их,
Как два лука, он связал их.
«Дай корней своих, о Тэмрак,
Дай корней мне волокнистых:
Я свяжу свою пирогу,
Так свяжу ее корнями,
Чтоб вода не проникала,
Не сочилася в пирогу!»
В свежем воздухе до корня
Задрожал, затрясся Тэмрак,
Но, склоняясь к Гайавате,
Он одним печальным вздохом,
Долгим вздохом отозвался:
«Все возьми, о Гайавата!»
Из земли он вырвал корни,
Вырвал, вытянул волокна,
Плотно сшил кору березы,
Плотно к ней приладил раму.
«Дай мне, Ель, смолы тягучей,
Дай смолы своей и соку:
Засмолю я швы в пироге,
Чтоб вода не проникала,
Не сочилася в пирогу!»
Как шуршит песок прибрежный,
Зашуршали ветви ели,
И, в своем уборе черном,
Отвечала ель со стоном,
Отвечала со слезами:
«Собери, о Гайавата!»
И собрал он слезы ели,
Взял смолы ее тягучей,
Засмолил все швы в пироге,
Защитил от волн пирогу.
«Дай мне, Еж, колючих игол,
Все, о Еж, отдай мне иглы:
Я украшу ожерельем,
Уберу двумя звездами
Грудь красавицы пироги!»
Сонно глянул Еж угрюмый
Из дупла на Гайавату,
Словно блещущие стрелы,
Из дупла метнул он иглы,
Бормоча в усы лениво:
«Подбери их, Гайавата!»
По земле собрал он иглы,
Что блестели, точно стрелы;
Соком ягод их окрасил,
Соком желтым, красным, синим,
И пирогу в них оправил,
Сделал ей блестящий пояс,
Ожерелье дорогое,
Грудь убрал двумя звездами.
Так построил он пирогу
Над рекою, средь долины,
В глубине лесов дремучих,
И вся жизнь лесов была в ней,
Все их тайны, все их чары:
Гибкость лиственницы темной,
Крепость мощных сучьев кедра
И березы стройной легкость;
На воде она качалась,
Словно желтый лист осенний,
Словно желтая кувшинка.
Весел не было на лодке,
В веслах он и не нуждался:
Мысль ему веслом служила,
А рулем служила воля;
Обогнать он мог хоть ветер,
Путь держать — куда хотелось.
Кончив труд, он кликнул друга,
Кликнул Квазинда на помощь,
Говоря: «Очистим реку
От коряг и желтых мелей!»
Быстро прыгнул в реку Квазинд,
Словно выдра, прыгнул в реку,
Как бобер, нырять в ней начал,
Погружаясь то по пояс,
То до самых мышек в воду.
С криком стал нырять он в воду,
Поднимать со дна коряги,
Вверх кидать песок руками,
А ногами — ил и травы.
И поплыл мой Гайавата
Вниз по быстрой Таквамино,
По ее водоворотам,
Через омуты и мели,
Вслед за Квазиндом могучим.
Вверх и вниз они проплыли,
Всюду были, где лежали
Корни, мертвые деревья
И пески широких мелей,
И расчистили дорогу,
Путь прямой и безопасный
От истоков меж горами
И до самых вод Повэтин,
До залива Таквамино.
Гайавата и Мише-Нама
По заливу Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
С длинной удочкой из кедра,
Из коры крученой кедра,
На березовой пироге
Плыл отважный Гайавата.
Сквозь слюду прозрачной влаги
Видел он, как ходят рыбы
Глубоко под дном пироги;
Как резвится окунь, Сава,
Словно солнца луч сияя;
Как лежит на дне песчаном
Шогаши, омар ленивый,
Словно дремлющий тарантул.
На корме сел Гайавата
С длинной удочкой из кедра;
Точно веточки цикуты,
Колебал прохладный ветер
Перья в косах Гайаваты.
На носу его пироги
Села белка, Аджидомо;
Точно травку луговую,
Раздувал прохладный ветер
Мех на шубке Аджидомо.
На песчаном дне на белом
Дремлет мощный Мише-Нама,
Царь всех рыб, осетр тяжелый,
Раскрывает жабры тихо,
Тихо водит плавниками
И хвостом песок взметает.
В боевом вооруженье, —
Под щитами костяными
На плечах, на лбу широком,
В боевых нарядных красках —
Голубых, пурпурных, желтых, —
Он лежит на дне песчаном;
И над ним-то Гайавата
Стал в березовой пироге
С длинной удочкой из кедра.
«Встань, возьми мою приманку! —
Крикнул в воду Гайавата. —
Встань со дна, о Мише-Нама,
Подымись к моей пироге,
Выходи на состязанье!»
В глубину прозрачной влаги
Он лесу свою забросил,
Долго ждал ответа Намы,
Тщетно ждал ответа Намы
И кричал ему все громче:
«Встань, царь рыб, возьми приманку!»
Не ответил Мише-Нама.
Важно, медленно махая
Плавниками, он спокойно
Вверх смотрел на Гайавату,
Долго слушал без вниманья
Крик его нетерпеливый,
Наконец сказал Кенозе,
Жадной щуке, Маскенозе: «Встань, воспользуйся приманкой,
Оборви лесу нахала!»
В сильных пальцах Гайаваты
Сразу удочка согнулась;
Он рванул ее так сильно,
Что пирога дыбом встала,
Поднялася над водою,
Словно белый ствол березы
С резвой белкой на вершине.
Но когда пред Гайаватой
На волнах затрепетала,
Приближаясь, Маскеноза, —
Гневом вспыхнул Гайавата
И воскликнул: «Иза, иза! —
Стыд тебе, о Маскеноза!
Ты лишь щука, ты не Нама,
Не тебе я кинул вызов!»
Со стыдом на дно вернулась,
Опустилась Маскеноза;
А могучий Мише-Нама
Обратился к Угудвошу,
Неуклюжему Самглаву:
«Встань, воспользуйся приманкой,
Оборви лесу нахала!»
Словно белый, полный месяц,
Встал, качаясь и сверкая,
Угудвош, Самглав тяжелый,
И, схватив лесу, так сильно
Закружился вместе с нею,
Что вверху в водовороте
Завертелася пирога,
Волны, с плеском разбегаясь,
По всему пошли заливу,
А с песчаных белых мелей,
С отдаленного прибрежья
Закивали, зашумели
Тростники и длинный шпажник.
Но когда пред Гайаватой
Из воды поднялся белый
И тяжелый круг Самглава,
Громко крикнул Гайавата:
«Иза, иза! — Стыд Самглаву!
Угудвош ты, а не Нама,
Не тебе я кинул вызов!»
Тихо вниз пошел, качаясь
И блестя, как полный месяц,
Угудвош прозрачно-белый,
И опять могучий Нама
Услыхал нетерпеливый,
Дерзкий вызов, прозвучавший
По всему Большому Морю.
Сам тогда он с дна поднялся,
Весь дрожа от дикой злобы,
Боевой блистая краской
И доспехами бряцая,
Быстро прыгнул он к пироге,
Быстро выскочил всем телом
На сверкающую воду
И своей гигантской пастью
Поглотил в одно мгновенье
Гайавату и пирогу.
Как бревно по водопаду,
По широким черным волнам,
Как в глубокую пещеру,
Соскользнула в пасть пирога.
Но, очнувшись в полном мраке,
Безнадежно оглянувшись,
Вдруг наткнулся Гайавата
На большое сердце Намы:
Тяжело оно стучало
И дрожало в этом мраке.
И во гневе мощной дланью
Стиснул сердце Гайавата,
Стиснул так, что Мише-Нама
Всеми фибрами затрясся,
Зашумел водой, забился,
Ослабел, ошеломленный
Нестерпимой болью в сердце.
Поперек тогда поставил
Легкий челн свой Гайавата,
Чтоб из чрева Мише-Намы,
В суматохе и тревоге,
Не упасть и не погибнуть.
Рядом белка, Аджидомо,
Резво прыгала, болтала,
Помогала Гайавате
И трудилась с ним все время.
И сказал ей Гайавата:
«О мой маленький товарищ!
Храбро ты со мной трудилась,
Так прими же, Аджидомо,
Благодарность Гайаваты
И то имя, что сказал я:
Этим именем все дети
Будут звать тебя отныне!»
И опять забился Нама,
Заметался, задыхаясь,
А потом затих — и волны
Понесли его к прибрежью.
И когда под Гайаватой
Зашуршал прибрежный щебень,
Понял он, что Мише-Нама,
Бездыханный, неподвижный,
Принесен волной к прибрежью.
Тут бессвязный крик и вопли
Услыхал он над собою,
Услыхал шум длинных крыльев,
Переполнивший весь воздух,
Увидал полоску света
Меж широких ребер Намы
И Кайошк, крикливых чаек,
Что блестящими глазами
На него смотрели зорко
И друг другу говорили:
«Это брат наш, Гайавата!»
И в восторге Гайавата
Крикнул им, как из пещеры:
«О Кайошк, морские чайки,
Братья, сестры Гайаваты!
Умертвил я Мише-Наму, —
Помогите же мне выйти
Поскорее на свободу,
Рвите клювами, когтями
Бок широкий Мише-Намы,
И отныне и вовеки
Прославлять вас будут люди,
Называть, как я вас назвал!»
Дикой, шумной стаей чайки
Принялися за работу,
Быстро щели проклевали
Меж широких ребер Намы,
И от смерти в чреве Намы,
От погибели, от плена,
От могилы под водою
Был избавлен Гайавата.
Возле самого вигвама
Стал на берег Гайавата;
Тотчас крикнул он Нокомис,
Вызвал старую Нокомис
Посмотреть на Мише-Наму:
Мертвый он лежал у моря,
И его клевали чайки.
«Умертвил я Мише-Наму,
Победил его! — сказал он. —
Вон над ним уж вьются чайки.
То друзья мои, Нокомис!
Не гони их прочь, не трогай:
Я от смерти в чреве Намы
Был сейчас избавлен ими.
Пусть они свой пир окончат,
Пусть зобы наполнят пищей;
А когда, с заходом солнца,
Улетят они на гнезда,
Принеси котлы и чаши,
Заготовь к зиме нам жиру».
И Нокомис до заката
Просидела на прибрежье.
Вот и месяц, солнце ночи,
Встал над тихою водою,
Вот и чайки с шумным криком,
Кончив пир свой, поднялися,
Полетели к отдаленным
Островам на Гитчи-Гюми,
И сквозь зарево заката
Долго их мелькали крылья.
Мирным сном спал Гайавата;
А Нокомис терпеливо
Принялася за работу
И трудилась в лунном свете
До зари, пока не стало
Небо красным на востоке.
А когда сменило солнце
Бледный месяц, — с отдаленных
Островов на Гитчи-Гюми
Воротились стаи чаек,
С криком кинулись на пищу.
Трое суток, чередуясь
С престарелою Нокомис,
Чайки жир срывали с Намы.
Наконец меж голых ребер
Волны начали плескаться,
Чайки скрылись, улетели,
И остались на прибрежье
Только кости Мише-Намы.
Гайавата и Жемчужное Перо
На прибрежье Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
Вышла старая Нокомис,
Простирая в гневе руку
Над водой к стране заката,
К тучам огненным заката.
В гневе солнце заходило,
Пролагая путь багряный,
Зажигая тучи в небе,
Как вожди сжигают степи,
Отступая пред врагами;
А луна, ночное солнце,
Вдруг восстала из засады
И направилась в погоню
По следам его кровавым,
В ярком зареве пожара.
И Нокомис, простирая
Руку слабую к закату,
Говорила Гайавате:
«Там живет волшебник злобный
Меджисогвон, Дух Богатства,
Тот, кого Пером Жемчужным
Называют все народы;
Там озера смоляные
Разливаются, чернея,
До багряных туч заката;
Там, среди трясины мрачной,
Вьются огненные змеи,
Змеи страшные, Кинэбик!
То хранители и слуги
Меджисогвона-убийцы.
Это им убит коварно
Мой отец, когда на землю
Он с луны за мной спустился
И меня искал повсюду.
Это злобный Меджисогвон
Посылает к нам недуги,
Посылает лихорадки,
Дышит белой мглою с тундры,
Дышит сыростью болотных,
Смертоносных испарений!
Лук возьми свой, Гайавата,
Острых стрел возьми с собою,
Томагаук, Поггэвогон,
Рукавицы, Минджикэвон,
И березовую лодку.
Желтым жиром Мише-Намы
Смажь бока ее, чтоб легче
Было плыть ей по болотам,
И убей ты чародея,
Отомсти врагу Нокомис,
Отомсти врагу народа!»
Быстро в путь вооружился
Благородный Гайавата;
Легкий челн он сдвинул в воду,
Потрепал его рукою,
Говоря: «Вперед, пирога,
Друг мой верный и любимый,
К змеям огненным, Кинэбик,
К смоляным озерам черным!»
Гордо вдаль неслась пирога,
Грозно песню боевую
Пел отважный Гайавата;
А над ним Киню могучий,
Боевой орел могучий,
Вождь пернатых, с диким криком
В небесах кругами плавал.
Скоро он и змей увидел,
Исполинских змей увидел,
Что лежали средь болота,
Ежась, искрясь средь болота,
На пути сплетаясь в кольца,
Подымаясь, наполняя
Воздух огненным дыханьем,
Чтоб никто не мог проникнуть
К Меджисогвону в жилище.
Но бесстрашный Гайавата,
Громко крикнув, так сказал им:
«Прочь с дороги, о Кинэбик!
Прочь с дороги Гайаваты!»
А они, свирепо ежась,
Отвечали Гайавате
Свистом, огненным дыханьем:
«Отступи, о Шогодайя!
Воротись к Нокомис старой!»
И тогда во гневе поднял
Мощный лук свой Гайавата,
Сбросил с плеч колчан — и начал
Поражать их беспощадно:
Каждый звук тугой и крепкой
Тетивы был криком смерти,
Каждый свист стрелы певучей
Песнью смерти и победы!
Тяжело в воде кровавой
Змеи мертвые качались,
И победно Гайавата
Плыл меж ними, восклицая:
«О, вперед, моя пирога,
К смоляным озерам черным!»
Желтым жиром Мише-Намы
Он бока и нос пироги
Густо смазал, чтобы легче
Было плыть ей по болотам.
И до света одиноко
Плыл он в этом сонном мире,
Плыл в воде, густой и черной,
Вековой корой покрытой
От размытых и гниющих
Камышей и листьев лилий;
И безжизненно и мрачно
Перед ним вода блестела,
Озаренная луною,
Озаренная мерцаньем
Огоньков, что зажигают
Души мертвых на стоянках
В час тоскливой, долгой ночи.
Белым месячным сияньем
Тихий воздух был наполнен;
Тени ночи по болотам
Далеко кругом чернели;
А москиты Гайавате
Пели песню боевую;
Светляки, блестя, кружились,
Чтобы сбить его с дороги,
И в густой воде Дагинда
Тяжело зашевелилась,
Тупо желтыми глазами
Поглядела на пирогу,
Зарыдала — и исчезла;
И мгновенно огласилось
Все кругом стозвучным свистом,
И Шух-шух-га издалека
С камышового прибрежья
Возвестила громким криком
О прибытии героя!
Так держал путь Гайавата,
Так держал он путь на запад,
Плыл всю ночь, пока не скрылся
С неба бледный, полный месяц.
А когда пригрело солнце,
Стало плечи жечь лучами,
Увидал он пред собою
На холме Вигвам Жемчужный —
Меджисогвона жилище.
Вновь тогда своей пироге
Он сказал; «Вперед!» — и быстро,
Величаво и победно
Пронеслась она средь лилий,
Чрез густой прибрежный шпажник.
И на берег Гайавата
Вышел, ног не замочивши.
Тотчас взял он лук свой верный,
Утвердил в песке, коленом
Надавил посередине
И могучей тетивою
Запустил стрелу-певунью,
Запустил в Вигвам Жемчужный,
Как гонца с своим посланьем,
С гордым вызовом на битву:
«Выходи, о Меджисогвон:
Гайавата ожидает».
Быстро вышел Меджисогвон
Из Жемчужного Вигвама,
Быстро вышел он, могучий,
Рослый и широкоплечий,
Сумрачный и страшный видом,
С головы до ног покрытый
Украшеньями, оружьем,
В алых, синих, желтых красках,
Словно небо на рассвете,
В развевающихся перьях
Из орлиных длинных крыльев.
«А, да это Гайавата! —
Громко крикнул он с насмешкой,
И, как гром, тот крик раздался. —
Отступи, о Шогодайя!
Уходи скорее к бабам,
Уходи к Нокомис старой!
Я убью тебя на месте,
Как ее отца убил я!»
Но без страха, без смущенья
Отвечал мой Гайавата:
«Хвастовством и грубым словом
Не сразишь, как томагавком;
Дело лучше слов бесплодных
И острей насмешек стрелы.
Лучше действовать, чем хвастать!»
И начался бой великий,
Бой, невиданный под солнцем!
От восхода до заката —
Целый летний день он длился,
Ибо стрелы Гайаваты
Бесполезно ударялись
О жемчужную кольчугу.
Бесполезны были даже
Рукавицы, Минджикэвон,
И тяжелый томагаук:
Раздроблять он мог утесы,
Но колец не мог разбить он
В заколдованной кольчуге.
Наконец перед закатом,
Весь израненный, усталый,
С расщепленным томагавком,
С рукавицами, в лохмотьях
И с тремя стрелами только,
Гайавата безнадежно
На упругий лук склонился
Под старинною сосною;
Мох с ветвей ее тянулся,
А на пне грибы желтели —
Мертвецов печальных обувь.
Вдруг зеленый дятел, Мэма,
Закричал над Гайаватой:
«Целься в темя, Гайавата,
Прямо в темя чародея,
В корни кос ударь стрелою:
Только там и уязвим он!»
В легких перьях, в халцедоне,
Понеслась стрела-певунья
В тот момент, как Меджисогвон
Поднимал тяжелый камень,
И вонзилась прямо в темя,
В корни длинных кос вонзилась.
И споткнулся, зашатался
Меджисогвон, словно буйвол,
Да, как буйвол, пораженный
На лугу, покрытом снегом.
Вслед за первою стрелою
Полетела и вторая,
Понеслась быстрее первой,
Поразила глубже первой;
И колени чародея,
Как тростник, затрепетали,
Как тростник, под ним согнулись.
А последняя взвилася
Легче всех — и Меджисогвон
Увидал перед собою
Очи огненные смерти,
Услыхал из мрака голос,
Голос Погока призывный.
Без дыхания, без жизни
Пал могучий Меджисогвон
На песок пред Гайаватой.
Благодарный Гайавата
Взял тогда немного крови
И, позвав с сосны печальной
Дятла, выкрасил той кровью
На головке дятла гребень
За его услугу в битве;
И доныне Мэма носит
Хохолок из красных перьев.
После, в знак своей победы,
В память битвы с чародеем,
Он сорвал с него кольчугу
И оставил без призора
На песке прибрежном тело.
На песке оно лежало,
Погребенное по пояс,
Головой поникнув в воду,
А над ним кружился с криком
Боевой орел могучий,
Плавал медленно кругами,
Тихо, тихо вниз спускаясь.
Из вигвама чародея
Гайавата снес в пирогу
Все сокровища, весь вампум,
Снес меха бобров, бизонов,
Соболей и горностаев,
Нитки жемчуга, колчаны
И серебряные стрелы —
И поплыл домой, ликуя,
С громкой песнею победы.
Там к нему на берег вышли
Престарелая Нокомис,
Чайбайабос, мощный Квазинд;
А народ героя встретил
Пляской, пеньем, восклицая:
«Слава, слава Гайавате!
Побежден им Меджисогвон,
Побежден волшебник злобный!»
Навсегда остался дорог
Гайавате дятел, Мэма.
В честь его и в память битвы
Он свою украсил трубку
Хохолком из красных перьев,
Гребешком багровым Мэмы,
А богатство чародея
Разделил с своим народом,
Разделил, по равной части.
Сватовство Гайаваты
«Муж с женой подобен луку,
Луку с крепкой тетивою;
Хоть она его сгибает,
Но ему сама послушна,
Хоть она его и тянет,
Но сама с ним неразлучна;
Порознь оба бесполезны!»
Так раздумывал нередко
Гайавата и томился
То отчаяньем, то страстью,
То тревожною надеждой,
Предаваясь пылким грезам
О прекрасной Миннегаге
Из страны Дакотов диких.
Осторожная Нокомис
Говорила Гайавате:
«Не женись на чужеземке,
Не ищи жены по свету!
Дочь соседа, хоть простая, —
Что очаг в родном вигваме,
Красота же чужеземки —
Это лунный свет холодный,
Это звездный блеск далекий!»
Так Нокомис говорила.
Но разумно Гайавата
Отвечал ей: «О Нокомис!
Мил очаг в родном вигваме,
Но милей мне звезды в небе,
Ясный месяц мне милее!»
Строго старая Нокомис
Говорила: «Нам не нужно
Праздных рук и ног ленивых;
Приведи жену такую,
Чтоб работала с любовью,
Чтоб проворны были руки,
Ноги двигались охотно!»
Улыбаясь, Гайавата
Молвил: «Я в земле Дакотов
Стрелоделателя знаю;
У него есть дочь-невеста,
Что прекрасней всех прекрасных;
Я введу ее в вигвам твой,
И она тебе в работе
Будет дочерью покорной,
Будет лунным, звездным светом,
Огоньком в твоем вигваме,
Солнцем нашего народа!»
Но опять свое твердила
Осторожная Нокомис:
«Не вводи в мое жилище
Чужеземку, дочь Дакота!
Злобны дикие Дакоты,
Часто мы воюем с ними,
Распри наши не забыты,
Раны наши не закрылись!»
Усмехаясь, Гайавата
И на это ей ответил:
«Потому-то и пойду я
За невестой в край Дакотов,
Для того пойду, Нокомис,
Чтоб окончить наши распри,
Залечить навеки раны!»
И пошел в страну красавиц,
В край Дакотов, Гайавата,
В путь далекий по долинам,
В тишине равнин пустынных,
В тишине лесов дремучих.
С каждым шагом делал милю
Он в волшебных мокасинах;
Но быстрей бежали мысли,
И дорога бесконечной
Показалась Гайавате!
Наконец, в безмолвье леса
Услыхал он гул потоков,
Услыхал призывный грохот
Водопадов Миннегаги.
«О, как весел, — прошептал он, —
Как отраден этот голос,
Призывающий в молчанье!»
Меж деревьев, где играли
Свет и тени, он увидел
Стадо чуткое оленей.
«Не сплошай!» — сказал он луку,
«Будь верней!» — стреле промолвил,
И когда стрела-певунья,
Как оса, впилась в оленя,
Он взвалил его на плечи
И пошел еще быстрее.
У дверей в своем Вигваме,
Вместе с милой Миннегагой,
Стрелоделатель работал.
Он точил на стрелы яшму,
Халцедон точил блестящий,
А она плела в раздумье
Тростниковые циновки;
Все о том, что будет с нею,
Тихо девушка мечтала,
А старик о прошлом думал.
Вспоминал он, как, бывало,
Вот такими же стрелами
Поражал он на долинах
Робких ланей и бизонов,
Поражал в лугах зеленых
На лету гусей крикливых;
Вспоминал и о великих
Боевых отрядах прежних,
Покупавших эти стрелы.
Ах, уж нет теперь подобных
Славных воинов на свете!
Ныне воины что бабы:
Языком болтают только!
Миннегага же в раздумье
Вспоминала, как весною
Приходил к отцу охотник,
Стройный юноша-красавец
Из земли Оджибуэев,
Как сидел он в их вигваме,
А простившись, обернулся,
На нее взглянул украдкой.
Сам отец потом нередко
В нем хвалил и ум и храбрость.
Только будет ли он снова
К водопадам Миннегаги?
И в раздумье Миннегага
Вдаль рассеянно глядела,
Опускала праздно руки.
Вдруг почудился ей шорох,
Чья-то поступь в чаще леса,
Шум ветвей, — и чрез мгновенье,
Разрумяненный ходьбою,
С мертвой ланью за плечами,
Стал пред нею Гайавата.
Строгий взор старик на гостя
Быстро вскинул от работы,
Но, узнавши Гайавату,
Отложил стрелу, поднялся
И просил войти в жилище.
«Будь здоров, о Гайавата!» —
Гайавате он промолвил.
Пред невестой Гайавата
Сбросил с плеч свою добычу,
Положил пред ней оленя;
А она, подняв ресницы,
Отвечала Гайавате
Кроткой лаской и приветом:
«Будь здоров, о Гайавата!»
Из оленьей крепкой кожи
Сделан был вигвам просторный,
Побелен, богато убран
И дакотскими богами
Разрисован и расписан.
Двери были так высоки,
Что, входя, едва нагнулся
Гайавата на пороге,
Чуть коснулся занавесок
Головой в орлиных перьях.
Встала с места Миннегага,
Отложив свою работу,
Принесла к обеду пищи,
За водой к ручью сходила
И стыдливо подавала
С пищей глиняные миски,
А с водой — ковши из липы.
После села, стала слушать
Разговор отца и гостя,
Но сама во всей беседе
Ни словечка не сказала!
Да, как будто сквозь дремоту
Услыхала Миннегага
О Нокомис престарелой,
Воспитавшей Гайавату,
О друзьях его любимых
И о счастье, о довольстве
На земле Оджибуэев,
В тишине долин веселых.
«После многих лет раздора,
Многих лет борьбы кровавой
Мир настал теперь в селеньях
Оджибвэев и Дакотов! —
Так закончил Гайавата,
А потом прибавил тихо: —
Чтобы этот мир упрочить,
Закрепить союз сердечный,
Закрепить навеки дружбу,
Дочь свою отдай мне в жены,
Отпусти в мой край родимый,
Отпусти к нам Миннегагу!»
Призадумался немного
Старец, прежде чем ответить,
Покурил в молчанье трубку,
Посмотрел на гостя гордо,
Посмотрел на дочь с любовью
И ответил очень важно:
«Это воля Миннегаги.
Как решишь ты, Миннегага?»
И смутилась Миннегага
И еще милей и краше
Стала в девичьем смущенье.
Робко рядом с Гайаватой
Опустилась Миннегага
И, краснея, отвечала:
«Я пойду с тобою, муж мой!»
Так решила Миннегага!
Так сосватал Гайавата,
Взял красавицу невесту
Из страны Дакотов диких!
Из вигвама рядом с нею
Он пошел в родную землю.
По лесам и по долинам
Шли они рука с рукою,
Оставляя одиноким
Старика отца в вигваме,
Покидая водопады,
Водопады Миннегаги,
Что взывали издалека:
«Добрый путь, о Миннегага!»
А старик, простившись с ними,
Сел на солнышко к порогу
И, копаясь за работой,
Бормотал: «Вот так-то дочки!
Любишь их, лелеешь, холишь,
А дождешься их опоры,
Глядь — уж юноша приходит,
Чужеземец, что на флейте
Поиграет да побродит
По деревне, выбирая
Покрасивее невесту, —
И простись навеки с дочкой!»
Весел был их путь далекий
По холмам и по долинам,
По горам и по ущельям,
В тишине лесов дремучих!
Быстро время пролетало,
Хоть и тихо Гайавата
Шел теперь — для Миннегаги,
Чтоб она не утомилась.
На руках через стремнины
Нес он девушку с любовью, —
Легким перышком казалась
Эта ноша Гайавате.
В дебрях леса, под ветвями,
Он прокладывал тропинки,
На ночь ей шалаш построил,
Постелил постель из листьев
И развел костер у входа
Из сухих сосновых шишек.
Ветерки, что вечно бродят
По лесам и по долинам,
Путь держали вместе с ними;
Звезды чутко охраняли
Мирный сон их темной ночью;
Белка с дуба зорким взглядом
За влюбленными следила,
А Вабассо, белый кролик,
Убегал от них с тропинки
И, привстав на задних лапках,
Из норы глядел украдкой
С любопытством и со страхом.
Весел был их путь далекий!
Птицы сладко щебетали,
Птицы звонко пели песни
Мирной радости и счастья.
«Ты счастлив, о Гайавата,
С кроткой, любящей женою!» —
Пел Овейса синеперый.
«Ты счастлива, Миннегага,
С благородным, мудрым мужем!» —
Опечи пел красногрудый.
Солнце ласково глядело
Сквозь тенистые деревья,
Говорило им: «О дети!
Злоба — тьма, любовь — свет солнца,
Жизнь играет тьмой и светом, —
Правь любовью, Гайавата!»
Месяц с неба в час полночный
Заглянул в шалаш, наполнил
Мрак таинственным сияньем
И шепнул им: «Дети, дети!
Ночь тиха, а день тревожен;
Жены слабы и покорны,
А мужья властолюбивы, —
Правь терпеньем, Миннегага!»
Так они достигли дома,
Так в вигвам Нокомис старой
Возвратился Гайавата
Из страны Дакотов диких,
Из страны красивых женщин,
С Миннегагою прекрасной.
И была она в вигваме
Огоньком его вечерним,
Светом лунным, светом звездным,
Светлым солнцем для народа.
Свадебный пир Гайаваты
Стану петь, как По-Пок-Кивис,
Как красавец Йенадиззи
Танцевал под звуки флейты,
Как учтивый Чайбайабос,
Сладкогласный Чайбайабос
Песни пел любви-томленья
И как Ягу, дивный мастер
И рассказывать и хвастать,
Сказки сказывал на свадьбе,
Чтобы пир был веселее,
Чтобы время шло приятней,
Чтоб довольны были гости!
Пышный пир дала Нокомис,
Пышно праздновала свадьбу!
Чаши были все из липы,
Ярко-белые и с глянцем,
Ложки были все из рога,
Ярко-черные и с глянцем.
В знак торжественного пира,
Приглашения на свадьбу,
Всем соседям ветви ивы
В этот день она послала;
И соседи собралися
К циру в праздничных нарядах,
В дорогих мехах и перьях,
В разноцветных ярких красках,
В пестром вампуме и бусах.
На пиру они сначала
Осетра и щуку ели,
Приготовленных Нокомис;
После — пимикан олений,
Пимикан и мозг бизона,
Горб быка и ляжку лани,
Рис и желтые лепешки
Из толченой кукурузы.
Но радушный Гайавата,
Миннегага и Нокомис
При гостях не сели к пище:
Только потчевали молча,
Только молча им служили.
А когда обед был кончен,
Хлопотливая Нокомис
Из большого меха выдры
Тотчас каменные трубки
Табаком набила южным,
Табаком с травой пахучей
И с корою красной ивы.
После ласково сказала:
«Протанцуй нам, По-Пок-Кивис,
Танец Нищего веселый,
Чтобы пир был веселее,
Чтобы время шло приятней,
Чтоб довольны были гости!»
И красавец По-Пок-Кивис,
Беззаботный Йенадиззи,
Озорник, всегда готовый
Веселиться и буянить,
Тотчас встал среди собранья.
Ловок был он в плясках, в танцах,
В состязаньях и забавах,
Смел и ловок в разных играх,
Даже в самых трудных играх!
На деревне По-Пок-Кивис
Слыл пропащим человеком,
Игроком, лентяем, трусом;
Но насмешки и прозванья
Не смущали Йенадиззи:
Ведь зато он был красавец
И большой любимец женщин!
Он стоял в одежде белой
Из пушистой ланьей шкуры,
Окаймленной горностаем,
Густо вампумом расшитой
И ежовою щетиной;
В головном его уборе
Колыхался пух лебяжий;
На козловых мокасинах
Красовались иглы, бисер
И хвосты лисиц — на пятках,
А в руках держал он трубку
И большое опахало.
Краской желтою и красной,
Краской алою и синей
Все лицо его сияло;
В косы, смазанные маслом,
И с пробором, как у женщин,
Вплетены гирлянды были
Из пахучих трав и листьев.
Вот как убран и наряжен
Встал красавец По-Пок-Кивис,
Встал при звуках флейт и песен,
Голосов и барабанов
И свой дивный танец начал.
Танцевал он прежде важно,
Выступая меж деревьев —
То под тенью, то на солнце —
Мягким шагом, как пантера;
После — все быстрей, быстрее
Закружился, завертелся,
Вкруг вигвама начал прыгать
Через головы сидящих
Так, что ветер, пыль и листья
Понеслись за ним кругами!
А потом вдоль Гитчи-Гюми,
По песчаному прибрежью,
Как безумный, он помчался,
Ударяя с дикой силой
Мокасинами о землю
Так, что ветер стал уж бурей,
Засвистал песок, вздымаясь,
Словно вьюга по пустыне,
И покрылося прибрежье
Все холмами Нэго-Воджу!
Так веселый По-Пок-Кивис
Танец Нищего окончил
И, окончив, возвратился
К месту пира, сел с гостями,
Сел, спокойно улыбаясь
И махая опахалом.
После друга Гайаваты,
Чайбайабоса, просили:
«Спой нам песню, Чайбайабос,
Песню страсти, песню неги,
Чтобы пир был веселее,
Чтобы время шло приятней,
Чтоб довольны были гости!»
И прекрасный Чайбайабос
Спел им нежно, сладкозвучно,
Спел в волнении глубоком
Песню страсти, песню неги;
Все смотря на Гайавату,
Все смотря на Миннегагу,
Тихо пел он эту песню:
«Онэвэ! Проснись, родная!
Ты, лесной цветочек дикий,
Ты, лугов зеленых птичка,
Птичка дикая, певунья!
Взор твой кроткий, взор косули,
Так отраден, так отраден,
Как роса для нежных лилий
В час вечерний на долине!
А твое дыханье сладко,
Как цветов благоуханье,
Как дыханье их зарею
В Месяц Падающих Листьев!
Не стремлюсь ли я всем сердцем
К сердцу милой, к сердцу милой,
Как ростки стремятся к солнцу
В тихий Месяц Светлой Ночи?
Онэвэ! Трепещет сердце
И поет тебе в восторге,
Как поют, вздыхают ветви
В ясный Месяц Земляники!
Загрустишь ли ты, родная, —
И мое темнеет сердце,
Как река, когда над нею
Облака бросают тени!
Улыбнешься ли, родная, —
Сердце вновь дрожит и блещет,
Как под солнцем блещут волны,
Что рябит холодный ветер!
Пусть улыбкою сияют
Небеса, земля и воды, —
Не могу я улыбаться,
Если милой я не вижу!
Я с тобой, с тобой! Взгляни же,
Кровь трепещущего сердца!
О, проснись! Проснись, родная!
Онэвэ! Проснись, родная!»
Так прекрасный Чайбайабос
Песню пел любви-томленья;
И хвастливый, старый Ягу,
Удивительный рассказчик,
Слушал с завистью, как гости
Восторгались сладким пеньем;
Но потом, по их улыбкам,
По глазам и по движеньям
Увидал, что все собранье
С нетерпеньем ожидает
И его веселых басен,
Непомерно лживых сказок.
Очень был хвастлив мой Ягу!
В самых дивных приключеньях,
В самых смелых предприятиях —
Всюду был героем Ягу:
Он узнал их не по слухам,
Он воочию их видел!
Если б только Ягу слушать,
Если б только Ягу верить,
То нигде никто из лука
Не стреляет лучше Ягу,
Не убил так много ланей,
Не поймал так много рыбы
Иль речных бобров в капканы.
Кто резвее всех в деревне?
Кто всех дальше может плавать?
Кто ныряет всех смелее?
Кто постранствовал по свету
И диковин насмотрелся?
Уж, конечно, это Ягу,
Удивительный рассказчик.
Имя Ягу стало шуткой
И пословицей в народе;
И когда хвастун-охотник
Чересчур охотой хвастал
Или воин завирался,
Возвратившись с поля битвы,
Все кричали: «Ягу, Ягу!
Новый Ягу появился!»
Это он связал когда-то
Из коры зеленой липы
Люльку жилами оленя
Для малютки Гайаваты.
Это он ему позднее
Показал, как надо делать
Лук из ясеня упругий,
А из сучьев дуба — стрелы.
Вот каков был этот Ягу,
Безобразный, старый Ягу,
Удивительный рассказчик!
И промолвила Нокомис:
«Расскажи нам, добрый Ягу,
Почудесней сказку, басню,
Чтобы пир был веселее,
Чтобы время шло приятней,
Чтоб довольны были гости!»
И ответил Ягу тотчас:
«Вы услышите сегодня
Повесть — дивное сказанье
О волшебнике Оссэо,
Что сошел с Звезды Вечерней!»
Сын вечерней звезды
«То не солнце ли заходит
Над равниной водяною?
Иль то раненый фламинго
Тихо плавает, летает,
Обагряет волны кровью,
Кровью, падающей с перьев,
Наполняет воздух блеском,
Блеском длинных красных перьев?
Да, то солнце утопает,
Погружаясь в Гитчи-Гюми;
Небеса горят багрянцем,
Воды блещут алой краской!
Нет, то плавает фламинго,
В волны красные ныряя;
К небесам простер он крылья
И окрасил волны кровью!
Огонек Звезды Вечерней
Тает, в пурпуре трепещет,
В полумгле висит над морем.
Нет, то вампум серебрится
На груди Владыки Жизни,
То Великий Дух проходит
Над темнеющим закатом!
На закат смотрел с восторгом
Долго, долго старый Ягу;
Вдруг воскликнул: «Посмотрите!
Посмотрите на священный
Огонек Звезды Вечерней!
Вы услышите сказанье
О волшебнике Оссэо,
Что сошел с Звезды Вечерней!
В незапамятные годы,
В дни, когда еще для смертных
Небеса и сами боги
Были ближе и доступней,
Жил на севере охотник
С молодыми дочерями;
Десять было их, красавиц,
Стройных, гибких, словно ива,
Но прекрасней всех меж ними
Овини была, меньшая.
Вышли девушки все замуж,
Все за воинов отважных,
Овини одна не скоро
Жениха себе сыскала.
Своенравна и сурова,
Молчалива и печальна
Овини была — и долго Женихов, красавцев юных,
Прогоняла прочь с насмешкой,
А потом взяла да вышла
За убогого Оссэо!
Нищий, старый, безобразный,
Вечно кашлял он, как белка.
Ах, но сердце у Оссэо
Было юным и прекрасным!
Он сошел с Звезды Заката,
Он был сын Звезды Вечерней,
Сын Звезды любви и страсти!
И огонь ее, и чары,
И краса, и блеск лучистый —
Все в груди его таилось,
Все в речах его сверкало!
Женихи, любовь которых
Овини отвергла гордо, —
Йенадиззи в ожерельях,
В пышных перьях, ярких красках
Насмехалися над нею;
Но она им так оказала:
«Что за дело мне до ваших
Ожерелий, красок, перьев
И насмешек непристойных!
Я счастлива за Оссэо!»
Раз в ненастный, темный вечер
Шли веселою толпою
На веселый праздник сестры, —
Шли на званый пир с мужьями;
Тихо следовал за ними
С молодой женой Оосэо.
Все шутили и смеялись —
Эти двое шли в молчанье.
На закат смотрел Оссэо,
Взор подняв, как бы с мольбою;
Отставал, смотрел с мольбою
На Звезду любви и страсти,
На трепещущий и нежный
Огонек Звезды Вечерней;
И расслышали все сестры,
Как шептал Оссэо тихо:
«Ах, шовэн нэмэшин, Ноза! —
Сжалься, сжалься, о отец мой!»
«Слышишь? — старшая сказала.
Он отца о чем-то просит!
Право, жаль, что старикашка
Не споткнется на дороге,
Головы себе не сломит!»
И смеялись сестры злобно
Непристойным, громким смехом.
На пути их, в дебрях леса,
Дуб лежал, погибший в бурю,
Дуб-гигант, покрытый мохом,
Полусгнивший под листвою,
Почерневший и дуплистый.
Увидав его, Оссэо
Испустил вдруг крик тоскливый
И в дупло, как в яму, прыгнул.
Старым, дряхлым, безобразным
Он упал в него, а вышел —
Сильным, стройным и высоким,
Статным юношей, красавцем!
Так вернулася к Оссэо
Красота его и юность;
Но — увы! — за ним мгновенно
Овини преобразилась!
Стала древнею старухой,
Дряхлой, жалкою старухой,
Поплелась с клюкой, согнувшись,
И смеялись все над нею
Непристойным, громким смехом.
Но Оссэо не смеялся,
Овини он не покинул,
Нежно взял ее сухую
Руку — темную, в морщинах,
Как дубовый лист зимою,
Называл своею милой,
Милым другом, Нинимуша,
И пришел с ней к месту пира,
Сел за трапезу в вигваме.
Тот вигвам в лесу построен
В честь святой Звезды Заката.
Очарованный мечтами,
На пиру сидел Оссэо.
Все шутили, веселились,
Но печален был Оссэо!
Не притронулся он к пище,
Не сказал ни с кем ни слова,
Не слыхал речей веселых;
Лишь смотрел с тоской во взоре
То на Овини, то кверху,
На сверкающие звезды.
И пронесся тихий шепот,
Тихий голос, зазвучавший
Из воздушного пространства,
От далеких звезд небесных.
Мелодично, смутно, нежно
Говорил он: «О Оссэо!
О возлюбленный, о сын мой!
Тяготели над тобою
Чары злобы, темной силы,
Но разрушены те чары;
Встань, приди ко мне, Оссэо!
Яств отведай этих дивных,
Яств вкуси благословенных,
Что стоят перед тобою;
В них волшебная есть сила:
Их вкусив, ты станешь духом;
Все твои котлы и блюда
Не простой посудой будут:
Серебром котлы заблещут,
Блюда — в вампум превратятся.
Будут все огнем светиться,
Блеском раковин пурпурных.
И спадет проклятье с женщин,
Иго тягостной работы:
В птиц они все превратятся,
Засияют звездным светом,
Ярким отблеском заката
На вечерних нежных тучках».
Так сказал небесный голос;
Но слова его понятны
Были только для Оссэо,
Остальным же он казался
Грустным пеньем Вавонэйсы,
Пеньем птиц во мраке леса,
В отдаленных чащах леса.
Вдруг жилище задрожало,
Зашаталось, задрожало,
И почувствовали гости,
Что возносятся на воздух!
В небеса, к далеким звездам,
В темноте ветвистых сосен,
Плыл вигвам, минуя ветви,
Миновал — и вот все блюда
Засияли алой краской,
Все котлы из сизой глины —
Вмиг серебряными стали,
Все шесты вигвама ярко
Засверкали в звездном свете,
Как серебряные прутья,
А его простая кровля —
Как жуков блестящих крылья.
Поглядел кругом Оссэо
И увидел, что и сестры
И мужья сестер-красавиц
В разных птиц все превратились:
Были тут скворцы с дроздами,
Были сойки и сороки,
И все прыгали, порхали,
Охорашивались, пели,
Щеголяли блеском перьев,
Распускали хвост, как веер.
Только Овини осталась
Дряхлой, жалкою старухой
И в тоске сидела молча.
Но, взглянувши вверх, Оссэо
Испустил вдруг крик тоскливый,
Вопль отчаянья, как прежде,
Над дуплистым старым дубом,
И мгновенно к ней вернулась
Красота ее и юность;
Все ее лохмотья стали
Белым мехом горностая,
А клюка — пером блестящим,
Да, серебряным, блестящим!
И опять вигвам поднялся,
В облаках поплыл прозрачных,
По воздушному теченью,
И пристал к Звезде Вечерней, —
На звезду спустился тихо,
Как снежинка на снежинку,
Как листок на волны речки,
Как пушок репейный в воду.
Там с приветливой улыбкой
Вышел к ним отец Оссэо,
Старец с кротким, ясным взором,
С серебристыми пудрями,
И сказал: «Повесь, Оссэо,
Клетку с птицами своими,
Клетку с пестрой птичьей стаей,
У дверей в моем вигваме!»
У дверей повесив клетку,
Он вошел в вигвам с женою,
И тогда отец Оссэо,
Властелин Звезды Вечерней,
Им сказал: «О мой Оссэо!
Я мольбы твои услышал,
Возвратил тебе, Оссэо,
Красоту твою и юность,
Превратил сестер с мужьями
В разноперых птиц за шутки,
За насмешки над тобою.
Не сумел никто меж ними
Оценить в убогом старце,
В жалком образе калеки
Сердца пылкого Оссэо,
Сердца вечно молодого.
Только Овини сумела
Оценить тебя, Оссэо!
Там, на звездочке, что светит
От Звезды Вечерней влево,
Чародей живет, Вэбино,
Дух и зависти и злобы;
Превратил тебя он в старца.
Берегись лучей Вэбино:
В них волшебная есть сила —
Это стрелы чародея!»
Долго, в мире и согласье,
На Звезде Вечерней мирной
Жил с отцом своим Оссэо;
Долго в клетке над вигвамом
Птицы пели и порхали
На серебряных шесточках,
И супруга молодая
Родила Оссэо сына:
В мать он вышел красотою,
А в отца — дородным видом.
Мальчик рос, мужал с летами,
И отец, ему в утеху,
Сделал лук и стрел наделал,
Отворил большую клетку
И пустил всех птиц на волю,
Чтоб, стреляя в теток, в дядей,
Позабавился малютка.
Там и сям они кружились,
Наполняя воздух звонким
Пеньем счастья и свободы,
Блеском перьев разноцветных;
Но напряг свой лук упругий,
Запустил стрелу из лука
Мальчик, маленький охотник, —
И упала с ветки птичка,
В ярких перышках, на землю,
Насмерть раненная в сердце.
Но — о, чудо! — уж не птицу
Видит он перед собою,
А красавицу младую
С роковой стрелою в сердце!
Кровь ее едва упала
На священную планету,
Как разрушилися чары,
И стрелок отважный, юный
Вдруг почувствовал, что кто-то
По воздушному пространству
В облаках его спускает
На зеленый, злачный остров
Посреди Большого Моря.
Вслед за ним блестящей стаей
Птицы падали, летали,
Как осеннею порою
Листья падают, пестрея,
А за птицами спустился
И вигвам с блестящей кровлей,
На серебряных стропилах,
И принес с собой Оссэо,
Овини принес с собою.
Вновь тут птицы превратились,
Получили образ смертных,
Образ смертных, но не рост их:
Все Пигмеями остались,
Да, Пигмеями — Пок-Вэджис,
И на острове скалистом,
На его прибрежных мелях
И доныне хороводы
Водят летними ночами
Под Вечернею Звездою.
Это их чертог блестящий
Виден в тихий летний вечер;
Рыбаки с прибрежья часто
Слышат их веселый говор,
Видят танцы в звездном свете».
Кончив свой рассказ чудесный,
Кончив сказку, старый Ягу
Всех гостей обвел глазами
И торжественно промолвил:
«Есть возвышенные души,
Есть непонятые люди!
Я знавал таких немало.
Зубоскалы их нередко
Даже на смех подымают,
Но насмешники должны бы
Чаще думать об Оссэо!»
Очарованные гости
Повесть слушали с восторгом
И рассказчика хвалили,
Но шепталися друг с другом:
«Неужель Оссэо — Ягу,
Мы же — тетушки и дяди?»
После снова Чайбайабос
Пел им песнь любви-томленья,
Пел им нежно, сладкозвучно
И с задумчивой печалью
Песню девушки, скорбящей
Об Алгонкине, о милом.
«Горе мне, когда о милом,
Ах, о милом я мечтаю,
Все о нем томлюсь-тоскую,
Об Алгонкине, о милом!
Ах, когда мы расставались,
Он на память дал мне вампум,
Белоснежный дал мне вампум,
Мой возлюбленный, Алгонкин!
«Я пойду с тобой, — шептал он, —
Ах, в твою страну родную;
О, позволь мне», — прошептал он,
Мой возлюбленный, Алгонкин!
«Далеко, — я отвечала, —
Далеко, — я прошептала, —
Ах, страна моя родная,
Мой возлюбленный, Алгонкин!»
Обернувшись, я глядела,
На него с тоской глядела,
И в мои глядел он очи,
Мой возлюбленный, Алгонкин!
Он один стоял под ивой,
Под густой плакучей ивой,
Что роняла слезы в воду,
Мой возлюбленный, Алгонкин!
Горе мне, когда о милом,
Ах, о милом я мечтаю,
Все о нем томлюсь-тоскую,
Об Алгонкине, о милом!»
Вот как праздновали свадьбу!
Вот как пир увеселяли:
По-Пок-Кивис — бурной пляской,
Ягу — сказкою волшебной,
Чайбайабос — нежной песней.
С песней кончился и праздник,
Разошлись со свадьбы гости
И оставили счастливых
Гайавату с Миннегагой
Под покровом темной ночи.
Благословение полей
Пой, о песнь о Гайавате,
Пой дни радости и счастья,
Безмятежные дни мира
На земле Оджибуэев!
Пой таинственный Мондамин,
Пой полей благословенье!
Погребен топор кровавый,
Погребен навеки в землю
Тяжкий, грозный томагаук;
Позабыты клики битвы, —
Мир настал среди народов.
Мирно мог теперь охотник
Строить белую пирогу,
На бобров капканы ставить
И ловить сетями рыбу;
Мирно женщины трудились:
Гнали сладкий сок из клена,
Дикий рис в лугах сбирали
И выделывали кожи.
Вкруг счастливого селенья
Зеленели пышно нивы, —
Вырастал Мондамин стройный
В глянцевитых длинных перьях,
В золотистых мягких косах.
Это женщины весною
Обрабатывали нивы, —
Хоронили в землю маис
На равнинах плодородных;
Это женщины под осень
Желтый плащ с него срывали,
Обрывали косы, перья,
Как учил их Гайавата.
Раз, когда посев был кончен,
Рассудительный и мудрый
Гайавата обратился
К Миннегаге и сказал ей:
«Ты должна сегодня ночью
Дать полям благословенье;
Ты должна волшебным кругом
Обвести свои посевы,
Чтоб ничто им не вредило,
Чтоб никто их не коснулся!
В час ночной, когда все тихо,
В час, когда все тьмой покрыто,
В час, когда Дух Сна, Нэпавин,
Затворяет все вигвамы,
И ничье не слышит ухо,
И ничье не видит око, —
С ложа встань ты осторожно,
Все сними с себя одежды,
Обойди свои посевы,
Обойди кругом все нивы,
Только косами прикрыта,
Только тьмой ночной одета.
И обильней будет жатва;
От следов твоих на ниве
Круг останется волшебный,
И тогда ни ржа, ни черви,
Ни стрекозы, Куо-ни-ши,
Ни тарантул, Соббикапш,
Ни кузнечик, Па-пок-кина,
Ни могучий Вэ-мок-квана,
Царь всех гусениц мохнатых,
Никогда не переступят
Круг священный и волшебный!»
Так промолвил Гайавата;
А ворон голодных стая,
Жадный Кагаги, Царь-Ворон,
С шайкой черных мародеров
Отдыхали в ближней роще
И смеялись так, что сосны
Содрогалися от смеха,
От зловещего их смеха
Над словами Гайаваты.
«Ах, мудрец, ах, заговорщик!» —
Говорили птицы громко.
Вот простерлась ночь немая
Над полями и лесами;
Вот и скорбный Вавонэйса
В темноте запел тоскливо,
Притворил Дух Сна, Нэпавин,
Двери каждого вигвама,
И во мраке Миннегага
Поднялась безмолвно с ложа;
Все сняла она одежды
И, окутанная тьмою,
Без смущенья и без страха
Обошла свои посевы,
Начертала по равнине
Круг волшебный и священный.
Только Полночь созерцала
Красоту ее во мраке;
Только смолкший Вавонэйса
Слышал тихое дыханье,
Трепет сердца Миннегаги;
Плотно мантией священной
Ночи мрак ее окутал,
Чтоб никто не мог хвастливо
Говорить: «Ее я видел!»
На заре, лишь день забрезжил,
Кагаги, Царь-Ворон, скликал
Шайку черных мародеров —
Всех дроздов, ворон и соек,
Что шумели на деревьях,
И бесстрашно устремился
На посевы Гайаваты,
На зеленую могилу,
Где покоился Мондамин.
«Мы Мондамина подымем
Из его могилы тесной! —
Говорили мародеры. —
Нам не страшен след священный,
Нам не страшен круг волшебный,
Обведенный Миннегагой!»
Но разумный Гайавата
Все предвидел, все обдумал:
Слышал он, как издевались
Над его словами птицы.
«Ко, друзья мои, — сказал он, —
Ко, мой Кагаги, Царь-Ворон!
Ты с своею шайкой долго
Будешь помнить Гайавату!»
Он проснулся до рассвета,
Он для черных мародеров
Весь посев покрыл сетями,
Сам же лег в сосновой роще,
Стал в засаде терпеливо
Поджидать ворон и соек,
Поджидать дроздов и галок.
Вскоре птицами все поле
Запестрело и покрылось;
Дикой, шумною ватагой,
С криком, карканьем нестройным,
Принялись они за дело;
Но, при всем своем лукавстве,
Осторожности и знанье
Разных хитростей военных,
Не заметили, что скрыта
Недалеко их погибель,
И нежданно очутились
Все в тенетах Гайаваты.
Грозно встал тогда он с места,
Грозно вышел из засады, —
И объял великий ужас
Даже самых храбрых пленных!
Без пощады истреблял он
Их направо и налево,
И десятками их трупы
На шестах высоких вешал
Вкруг посевов освященных
В знак своей кровавой мести!
Только Кагаги, Царь-Ворон,
Предводитель мародеров,
Пощажен был Гайаватой
И заложником оставлен.
Он понес его к вигваму
И веревкою из вяза,
Боевой веревкой пленных,
Привязал его на кровле.
«Кагаги, тебя, — сказал он, —
Как зачинщика разбоя,
Предводителя злодеев,
Оскорбивших Гайавату,
Я заложником оставлю:
Ты порукою мне будешь,
Что враги мои смирились!»
И остался черный пленник
Над вигвамом Гайаваты;
Злобно хмурился он, сидя
В блеске утреннего солнца,
Дико каркал он с досады,
Хлопал крыльями большими, —
Тщетно рвался на свободу,
Тщетно звал друзей на помощь.
Лето шло, и Шавондази
Посылал, вздыхая страстно,
Из полдневных стран на север
Негу пламенных лобзаний.
Рос и зрел на солнце маис
И во всем великолепье,
Наконец, предстал на нивах:
Нарядился в кисти, в перья,
В разноцветные одежды;
А блестящие початки
Налилися сладким соком,
Засверкали из подсохших,
Разорвавшихся покровов.
И сказала Миннегаге
Престарелая Нокомис:
«Вот и Месяц Листопада!
Дикий рис в лугах уж собран,
И готов к уборке маис;
Время нам идти на нивы
И с Мондамином бороться —
Снять с него все перья, кисти,
Снять наряд зелено-желтый!»
И сейчас же Миннегага
Вышла весело из дома
С престарелою Нокомис,
И они созвали женщин,
Молодежь к себе созвали,
Чтоб сбирать созревший маис,
Чтоб лущить его початки.
Под душистой тенью сосен,
На траве лесной опушки
Старцы, воины сидели
И, покуривая трубки,
Важно, молча любовались
На веселую работу
Молодых людей и женщин,
Важно слушали; в молчанье
Шумный говор, смех и пенье:
Словно Опечи на кровле,
Пели девушки на ниве,
Как сороки стрекотали
И смеялись, точно сойки.
Если девушке счастливой
Попадался очень спелый,
Весь пурпуровый початок,
«Нэшка! — все кругом кричали.
Ты счастливица — ты скоро
За красавца замуж выйдешь!»
«Уг!» — согласно отзывались
Из-под темных сосен старцы.
Если ж кто-нибудь на ниве
Находил кривой початок,
Вялый, ржавчиной покрытый,
Все смеялись, пели хором,
Шли, хромая и согнувшись,
Точно дряхлый старикашка,
Шли и громко пели хором:
«Вагэмин, степной воришка,
Пэмосэд, ночной грабитель!»
И звенело поле смехом;
А на кровле Гайаваты
Каркал Кагаги, Царь-Ворон,
Бился в ярости бессильной.
И на всех соседних елях
Раздавались не смолкая,
Крики черных мародеров.
«Уг!» — с улыбкой отзывались
Из-под темных сосен старцы.
Письмена
«Посмотри, как быстро в жизни
Все забвенье поглощает!
Блекнут славные преданья,
Блекнут подвиги героев;
Гибнут знанья и искусство
Мудрых Мидов и Вэбинов,
Гибнут дивные виденья,
Грезы вещих Джосакидов!
Память о великих людях
Умирает вместе с ними;
Мудрость наших дней исчезнет,
Не достигнет до потомства,
К поколеньям, что сокрыты
В тьме таинственной, великой
Дней безгласных, дней грядущих.
На гробницах наших предков
Нет ни знаков, ни рисунков.
Кто в могилах, — мы не знаем,
Знаем только — наши предки;
Но какой их род иль племя,
Но какой их древний тотем —
Бобр, Орел, Медведь, — не знаем;
Знаем только: «это предки».
При свиданье — с глазу на глаз
Мы ведем свои беседы;
Но, расставшись, мы вверяем
Наши тайны тем, которых
Посылаем мы друг к другу;
А посланники нередко
Искажают наши вести
Иль другим их открывают».
Так сказал себе однажды
Гайавата, размышляя
О родном своем народе
И бродя в лесу пустынном.
Из мешка он вынул краски,
Всех цветов он вынул краски
И на гладкой на бересте
Много сделал тайных знаков,
Дивных и фигур и знаков;
Все они изображали
Наши мысли, наши речи.
Гитчи Манито могучий
Как яйцо был нарисован;
Выдающиеся точки
На яйце обозначали
Все четыре ветра неба.
«Вездесущ Владыка Жизни» —
Вот что значил этот символ.
Гитчи Манито могучий,
Властелин всех Духов Злобы,
Был представлен на рисунке,
Как великий змей, Кинэбик.
«Пресмыкается Дух Злобы,
Но лукав и изворотлив» —
Вот что значит этот символ.
Белый круг был знаком жизни,
Черный круг был знаком смерти;
Дальше шли изображенья
Неба, звезд, луны и солнца,
Вод, лесов, и горных высей,
И всего, что населяет
Землю вместе с человеком.
Для земли нарисовал он
Краской линию прямую,
Для небес — дугу над нею,
Для восхода — точку слева,
Для заката — точку справа,
А для полдня — на вершине.
Все пространство под дугою
Белый день обозначало,
Звезды в центре — время ночи,
А волнистые полоски —
Тучи, дождь и непогоду.
След, направленный к вигваму,
Был эмблемой приглашенья,
Знаком дружеского пира;
Окровавленные руки,
Грозно поднятые кверху, —
Знаком гнева и угрозы.
Кончив труд свой, Гайавата
Показал его народу,
Разъяснил его значенье
И промолвил: «Посмотрите!
На могилах ваших предков
Нет ни символов, ни знаков.
Так пойдите, нарисуйте
Каждый — свой домашний символ,
Древний прадедовский тотем,
Чтоб грядущим поколеньям
Можно было различать их».
И на столбиках могильных
Все тогда нарисовали
Каждый — свой фамильный тотем,
Каждый — свой домашний символ:
Журавля, Бобра, Медведя,
Черепаху иль Оленя.
Это было указаньем,
Что под столбиком могильным
Погребен начальник рода.
А пророки, Джосакиды,
Заклинатели, Вэбины,
И врачи недугов, Миды,
Начертали на бересте
И на коже много страшных,
Много ярких, разноцветных
И таинственных рисунков
Для своих волшебных гимнов:
Каждый был с глубоким смыслом,
Каждый символом был песни.
Вот Великий Дух, Создатель,
Озаряет светом небо;
Вот Великий Змей, Кинэбик,
Приподняв кровавый гребень,
Извиваясь, смотрит в небо;
Вот журавль, орел и филин
Рядом с вещим пеликаном;
Вот идущие по небу
Обезглавленные люди
И пронзенные стрелами
Трупы воинов могучих;
Вот поднявшиеся грозно
Руки смерти в пятнах крови,
И могилы, и герои,
Захватившие в объятья
Небеса и землю разом!
Таковы рисунки были
На коре и ланьей коже;
Песни битвы и охоты,
Песни Мидов и Вэбинов —
Все имело свой рисунок!
Каждый был с глубоким смыслом,
Каждый символом был песни.
Песнь любви, которой чары
Всех врачебных средств сильнее,
И сильнее заклинаний,
И опасней всякой битвы,
Не была забыта тоже.
Вот как в символах и знаках
Песнь любви изображалась:
Нарисован очень ярко
Человек багряной краской —
Музыкант, любовник пылкий.
Смысл таков: «Я обладаю
Дивной властью надо всеми!»
Дальше — он поет, играя
На волшебном барабане,
Что должно сказать: «Внемли мне!
Это мой ты слышишь голос!»
Дальше — эта же фигура,
Но под кровлею вигвама.
Смысл таков: «Я буду с милой.
Нет преград для пылкой страсти!»
Дальше — женщина с мужчиной,
Стоя рядом, крепко сжали
Руки с нежностью друг другу.
«Все твое я вижу сердце
И румянец твой стыдливый!» —
Вот что значил символ этот.
Дальше — девушка средь моря,
На клочке земли, средь моря;
Песня этого рисунка
Такова: «Пусть ты далеко!
Пусть нас море разделяет!
Но любви моей и страсти
Над тобой всесильны чары!»
Дальше — юноша влюбленный
К спящей девушке склонился
И, склонившись, тихо шепчет,
Говорит: «Хоть ты далеко,
В царстве Сна, в стране Молчанья,
Но любви ты слышишь голос!»
А последняя фигура —
Сердце в самой середине
Заколдованного круга.
«Вся душа твоя и сердце
Предо мной теперь открыты!» —
Вот что значил символ этот.
Так, в своих заботах мудрых
О народе, Гайавата
Научил его искусству
И письма и рисованья
На бересте глянцевитой,
На оленьей белой коже
И на столбиках могильных.
Плач Гайаваты
Видя мудрость Гайаваты,
Видя, как он неизменно
С Чайбайабосом был дружен,
Злые духи устрашились
Их стремлений благородных
И, собравшись, заключили
Против них союз коварный.
Осторожный Гайавата
Говорил нередко другу:
«Брат мой, будь всегда со мною!
Духов Злых остерегайся!»
Но беспечный Чайбайабос
Только встряхивал кудрями,
Только нежно улыбался.
«О, не бойся, брат мой милый:
Надо мной бессильны Духи!» —
Отвечал он Гайавате.
Раз, когда зима покрыла
Синим льдом Большое Море
И метель, кружась, шипела
В почерневших листьях дуба,
Осыпала снегом ели,
И в снегу они стояли,
Точно белые вигвамы, —
Взявши лук, надевши лыжи,
Не внимая просьбам брата,
Не страшась коварных Духов,
Смело вышел Чайбайабос
На охоту за оленем.
Как стрела, олень рогатый
По Большому Морю мчался;
С ветром, снегом, словно буря,
Он преследовал оленя,
Позабыв в пылу охоты
Все советы Гайаваты.
А в воде сидели Духи,
Стерегли его в засаде,
Подломили лед коварный,
Увлекли певца в пучину,
Погребли в песках подводных.
Энктаги, владыка моря,
Вероломный бог Дакотов,
Утопил его в студеной,
Зыбкой бездне Гитчи-Гюми.
И с прибрежья Гайавата
Испустил такой ужасный
Крик отчаянья, что волки
На лугах завыли в страхе,
Встрепенулися бизоны,
А в горах раскаты грома
Эхом грянули: «Бэм-Вава!»
Черной краской лоб покрыл он,
Плащ на голову накинул
И в вигваме, полный скорби,
Семь недель сидел и плакал,
Однозвучно повторяя:
«Он погиб, он умер, нежный,
Сладкогласный Чайбайабос!
Он покинул нас навеки,
Он ушел в страну, где льются
Неземные песнопенья!
О мой брат! О Чайбайабос!»
И задумчивые пихты
Тихо веяли своими
Опахалами из хвои,
Из зеленой, темной хвои,
Над печальным Гайаватой;
И вздыхали и скорбели,
Утешая Гайавату.
И весна пришла, и рощи
Долго-долго поджидали,
Не придет ли Чайбайабос?
И вздыхал тростник в долине,
И вздыхал с ним Сибовиша.
На деревьях пел Овейса,
Пел Овейса синеперый:
«Чайбайабос! Чайбайабос!
Он покинул нас навеки!»
Опечи пел на вигваме,
Опечи пел красногрудый:
«Чайбайабос! Чайбайабос!
Он покинул нас навеки!»
А в лесу, во мраке ночи,
Раздавался заунывный,
Скорбный голос Вавонэйсы:
«Чайбайабос! Чайбайабос!
Он покинул нас навеки,
Сладкогласный Чайбайабос!»
Собрались тогда все Миды,
Джосакиды и Вэбины,
И, построив в чаще леса,
Близ вигвама Гайаваты,
Свой приют — Вигвам Священный,
Важно, медленно и молча
Все пошли за Гайаватой,
Взяв с собой мешки и сумки, —
Кожи выдр, бобров и рысей,
Где хранились корни, травы,
Исцелявшие недуги.
Услыхав их приближенье,
Перестал взывать он к другу,
Перестал стенать и плакать,
Не промолвил им ни слова,
Только плащ с лица откинул,
Смыл с лица печали краску,
Смыл в молчании глубоком
И к Священному Вигваму,
Как во сне, пошел за ними.
Там его поили зельем,
Наколдованным настоем
Из корней и трав целебных:
Нама-Вэск — зеленой мяты
И Вэбино-Вэск — сурепки,
Там над ним забили в бубны
И запели заклинанья,
Гимн таинственный запели:
«Вот я сам, я сам с тобою,
Я, Седой Орел могучий!
Собирайтесь ж внимайте,
Белоперые вороны!
Гулкий гром мне помогает,
Дух незримый помогает,
Слышу всюду их призывы,
Голоса их слышу в небе!
Брат мой! Встань, исполнись силы,
Исцелись, о Гайавата!»
«Ги-о-га!»- весь хор ответил,
«Вэ»-га-вэ!» — весь хор волшебный.
«Все друзья мои — все змеи!
Слушай — кожей соколиной
Я тряхну над головою!
Манг, нырок, тебя убью я,
Прострелю стрелою сердце!
Брат мой! Встань, исполнись силы,
Исцелись, о Гайавата!»
«Ги-о-га!» — весь хор ответил,
«Вэ-га-вэ!»» — весь хор волшебный.
«Вот я, вот пророк великий!
Говорю — и сею ужас,
Говорю — и весь трепещет
Мой вигвам, Вигвам Священный!
А иду — свод неба гнется,
Содрогаясь подо мною!
Брат мой! Встань, исполнись силы,
Говори, о Гайавата!»
«Ги-о-га!» — весь хор ответил,
«Вэ-га-вэ!» — весь хор волшебный.
И, мешками потрясая,
Танцевали танец Мидов
Вкруг больного Гайаваты, —
И вскочил он, встрепенулся,
Исцелился от недуга,
От безумья лютой скорби!
Как уходит лед весною,
Миновали дни печали,
Как уходят с неба тучи;
Думы черные сокрылись.
После к другу Гайаваты,
К Чайбайабосу взывали,
Чтоб восстал он из могилы,
Из песков Большого Моря,
И настолько властны были
Заклинанья и призывы,
Что услышал Чайбайабос
Их в пучине Гитчи-Гюми,
Из песков он встал, внимая
Звукам бубнов, пенью гимнов,
И пришел к дверям вигвама,
Повинуясь заклинаньям.
Там ему, в дверную щелку,
Дали уголь раскаленный,
Нарекли его владыкой
В царстве духов, в царстве мертвых
И, прощаясь, приказали
Разводить костры для мертвых,
Для печальных их ночлегов
На пути в Страну Понима.
Из родимого селенья,
От родных и близких сердцу,
По зеленым чащам леса,
Как дымок, как тень, безмолвно
Удалился Чайбайабос.
Где касался он деревьев —
Не качалися деревья,
Где ступал — трава не мялась,
Не шумела под ногами.
Так четыре дня и ночи
Шел он медленной стопою
По дороге всех усопших;
Земляникою усопших
На пути своем питался,
Переправился на дубе
Чрез печальную их реку,
По Серебряным Озерам
Плыл на Каменной Пироге,
И в Селения Блаженных,
В царство духов, в царство теней,
Принесло его теченье.
На пути он много видел
Бледных духов, нагруженных,
Истомленных тяжкой ношей:
И одеждой, и оружьем,
И горшками с разной пищей,
Что друзья им надавали
На дорогу в край Понима.
Горько жаловались духи:
«Ах, зачем на нас живые
Возлагают бремя это!
Лучше б мы пошли нагими,
Лучше б голод мы терпели,
Чем нести такое бремя! —
Истомил нас путь далекий!»
Гайавата же надолго
Свой родной вигвам оставил,
На Восток пошел, на Запад,
Поучал употребленью
Трав целебных и волшебных.
Так священное искусство
Врачевания недугов
В первый раз познали люди.
По-Пок-Кивис
Стану петь, как По-Пок-Кивис,
Как красавец Йенадиззи
Взбудоражил всю деревню
Дерзкой удалью своею;
Как, спасаясь только чудом,
Он бежал от Гайаваты
И какой конец печальный
Был чудесным приключеньям.
На прибрежье Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
На песчаном Нэго-Воджу
Жил красавец По-Пок-Кивис.
Это он во время свадьбы
Гайаваты с Миннегагой
Так безумно и разгульно
Танцевал под звуки флейты,
Это он в безумном танце
Накидал песок холмами
На прибрежье Гитчи-Гюми.
Заскучавши от безделья,
Вышел раз он из вигвама
И направился поспешно
Прямо к Ягу, где сбиралась
Слушать сказки и преданья
Молодежь со всей деревни.
Старый Ягу в это время
Забавлял гостей рассказом
Об Оджиге, о кунице:
Как она пробила небо,
Как вскарабкалась на небо,
Лето выпустила с неба;
Как сначала подвиг этот
Совершить пыталась выдра,
Как барсук с бобром и рысью
На вершины гор взбирались,
Бились в небо головами,
Бились лапами, но небо
Только трескалось над ними;
Как отважилась на подвиг,
Наконец, и росомаха.
«Подскочила росомаха, —
Говорил гостям рассказчик, —
Подскочила — и над нею
Так и вздулся свод небесный,
Словно лед в реке весною!
Подскочила снова — небо
Гулко треснуло над нею,
Словно льдина в половодье!
Подскочила напоследок —
Небо вдребезги разбила,
Скрылась в небе, а за нею
И Оджиг в одно мгновенье
Очутилася на небе!»
«Слушай! — крикнул По-Пок-Кивис,
Появляясь на пороге. —
Надоели эти сказки!
Надоели хуже мудрых
Поучений Гайаваты!
Мы отыщем для забавы
Кое-что получше сказок».
Тут, торжественно раскрывши
Свой кошель из волчьей кожи,
По-Пок-Кивис вынул чашу
И фигуры Погасэна:
Томагаук, Поггэвогон,
Рыбку маленькую, Киго,
Пару змей и пару пешек,
Три утенка и четыре
Медных диска, Озавабик.
Все фигуры, кроме дисков,
Темных сверху, светлых снизу,
Были сделаны из кости
И покрыты яркой краской, —
Красной сверху, белой снизу.
Положив фигуры в чашу,
Он встряхнул, перемешал их,
Кинул наземь пред собою
И выкрикивал, что вышло:
«Красным кверху пали кости,
А змея, Кинэбик, стала
На блестящем медном диске;
Счетом сто и тридцать восемь!»
И опять смешал фигуры,
Положил опять их в чашу,
Кинул наземь пред собою
И выкрикивал, что вышло:
«Белым кверху пали змеи,
Белым кверху пали пешки,
Красным — прочие фигуры;
Пятьдесят и восемь счетом!»
Так учил их По-Пок-Кивис,
Так, играя для примера,
Он метал и объяснял им
Все приемы Погасэна.
Двадцать глаз за ним следили,
Разгораясь любопытством.
«Много игр, — промолвил Ягу, —
Много игр, опасных, трудных,
В разных странах, в разных землях
На своем веку я видел.
Кто играет с старым Ягу,
Должен быть на редкость ловок!
Не хвалися, По-Пок-Кивис!
Будешь ты сейчас обыгран,
Жестоко наказан мною!»
Началась игра, и дико
Увлеклись игрою гости!
На одежду, на оружье,
До полночи, до рассвета,
Старики и молодые —
Все играли, все метали,
И лукавый По-Пок-Кивис
Обыграл их без пощады!
Взял все лучшие одежды,
Взял оружье боевое,
Пояса и ожерелья,
Перья, трубки и кисеты!
Двадцать глаз пред ним сверкали,
Как глаза волков голодных.
Напоследок он промолвил:
«Я в товарище нуждаюсь:
В путешествиях и дома
Я всегда один, и нужен
Мне помощник, Мэшинова,
Кто б носил за мною трубку.
Весь мой выигрыш богатый —
Все меха и украшенья,
Все оружие и перья —
Все в один я кон поставлю
Вот на этого красавца!»
То был юноша высокий
По шестнадцатому году,
Сирота, племянник Ягу.
Как огонь сверкает в трубке,
Под седой золой краснея,
Засверкали взоры Ягу
Под нависшими бровями.
«Уг!» — ответил он свирепо.
«Уг!» — ответили и гости.
И, костлявыми руками
Стиснув чашу роковую,
Ягу с яростью подбросил
И рассыпал вкруг фигуры.
Красным кверху пали пешки,
Красным кверху пали змеи,
Красным кверху и утята,
Озавабики — все черным,
Белым только рыбка, Киго;
Только пять всего по счету!
Улыбаясь, По-Пок-Кивис
Положил фигуры в чашу,
Ловко вскинул их на воздух
И рассыпал пред собою:
Красной, белой, черной краской
На земле они блестели,
А меж ними встала пешка,
Встал Инайнивэг, подобно
По-Пок-Кивису красавцу,
Говорившему с улыбкой:
«Пять десятков! Все за мною!»
Двадцать глаз горели злобой,
Как глаза волков голодных,
В тот момент, как По-Пок-Кивис
Встал и вышел из вигвама,
А за ним племянник Ягу,
Стройный юноша высокий,
Уносил оленьи кожи,
Горностаевые шубы,
Пояса и ожерелья,
Перья, трубки и оружье!
«Отнеси мою добычу
В мой вигвам на Нэго-Воджу!» —
Властно молвил По-Пок-Кивис,
Пышным веером играя.
От игры и от куренья
У него горели веки,
И отрадно грудь дышала
Летней утренней прохладой.
В рощах звонко пели птицы,
По лугам ручьи шумели,
А в груди у Йенадиззи
Пело сердце от восторга,
Пело весело, как птица,
Билось гордо, как источник.
Гордо шел он по деревне
В сером сумраке рассвета,
Пышным веером играя,
И прошел; по всей деревне
До последнего вигвама,
До жилища Гайаваты.
Тишина была в вигваме.
На порог никто не вышел
К По-Пок-Кивису с приветом;
Только птицы у порога
Пели, прыгали, порхали,
Там и сям сбирая зерна;
Только Кагаги с вигвама
Встретил гостя хриплым криком,
С криком крыльями захлопал,
Взором огненным сверкая.
«Все ушли! Жилище пусто! —
Так промолвил По-Пок-Кивис,
Замышляя злую шутку. —
Нет ни глупой Миннегаги,
Ни хозяина, ни бабки;
Тут теперь что хочешь делай!»
Стиснув ворона за горло,
Он вертел им, как трещоткой,
Как мешком с травой целебной,
Придушил его и бросил,
Чтоб висел он над вигвамом,
На позор его владельцу,
На позор для Гайаваты.
А потом вошел в жилище,
Раскидал кругом порога
Всю хозяйственную утварь,
Раскидал куда попало
Все котлы, горшки и миски,
Мех бобров и горностаев,
Шкуры буйволов и рысей,
На позор Нокомис старой,
На позор для Миннегаги.
Беззаботно напевая
И посвистывая белкам,
Шел он по лесу, а белки
Грызли желуди на ветках,
Шелухой в него кидали;
Беззаботно пел он птицам,
И за темною листвою
Так же весело и звонко
Отвечали пеньем птицы.
Со скалистого прибрежья
Он смотрел на Гитчи-Гюми,
Лег на самом видном месте
И с злорадством дожидался
Возвращенья Гайаваты.
На спине, раскинув руки,
Он дремал в полдневном зное.
Далеко под ним плескались,
Омывали берег волны,
Высоко над ним сияло
Голубою бездной небо,
А кругом носились птицы,
Стаи птиц носились с криком
И почти что задевали
По-Пок-Кивиса крылами.
Он убил их много-много,
Он десятками швырял их
Со скалистого прибрежья
Прямо в волны Гитчи-Гюми.
И Кайошк, морская чайка,
Наконец вскричала громко:
«Это дерзкий По-Пок-Кивис!
Это он нас избивает!
Где же брат наш, Гайавата?
Известите Гайавату!»
Погоня за По-Пок-Кивисом
Гневом вспыхнул Гайавата,
Возвратившись на деревню,
Увидав народ в смятенье,
Услыхавши, что наделал
Дерзкий, хитрый По-Пок-Кивис.
Задыхался он от гнева;
Злобно стискивая зубы,
Он шептал врагу проклятья,
Бормотал, гудел, как шершень.
«Я убью его, — сказал он, —
Я убью, найду злодея!
Как бы ни был путь мой долог,
Как бы ни был путь мой труден,
Гнев мой все преодолеет,
Месть моя врага настигнет!»
Тотчас кликнул он соседей
И поспешно устремился
По следам его в погоню, —
По лесам, где проходил он
На прибрежье Гитчи-Гюми;
Но никто врага не встретил:
Отыскали только место
На траве, в кустах черники,
Где лежал он, отдыхая,
И примял цветы и травы.
Вдруг на Мускодэ зеленой,
На долине под горами,
Показался По-Пок-Кивис:
Сделав дерзкий знак рукою,
На бегу он обернулся,
И с горы, ему вдогонку,
Громко крикнул Гайавата:
«Как бы ни был путь мой долог,
Как бы ни был путь мой труден,
Гнев мой все преодолеет,
Месть моя тебя настигнет!»
Через скалы, через реки,
По кустарникам и чащам
Мчался хитрый По-Пок-Кивис,
Прыгал, словно антилопа.
Наконец остановился
Над прудом в лесной долине,
На плотине, возведенной
Осторожными бобрами,
Над разлившимся потоком,
Над затоном полусонным,
Где в воде росли деревья,
Где кувшинчики желтели,
Где камыш шептал, качаясь.
Над затоном По-Пок-Кивис
Стал на гать из пней и сучьев;
Сквозь нее вода сочилась,
А по ней ручьи бежали;
И со дна пруда к плотине
Выплыл бобр и стал большими,
Удивленными глазами
Из воды смотреть на гостя.
Над затоном По-Пок-Кивис
Пред бобром стоял в раздумье,
По ногам его струились
Ручейки сребристой влагой,
И с бобром заговорил он,
Так сказал ему с улыбкой:
«О мой друг Амик! Позволь мне
Отдохнуть в твоем вигваме,
Отдохнуть в воде прохладной, —
Преврати меня в Амика!»
Осторожно бобр ответил,
Помолчал и так ответил:
«Дай я с прочими бобрами
Посоветуюсь сначала».
И, ответив, опустился,
Как тяжелый камень, в воду,
Скрылся в чаще темно-бурых
Тростников и листьев лилий.
Над затоном По-Пок-Кивис
Ждал бобра на зыбкой гати;
Ручейки с невнятным плеском
По ногам его бежали,
Серебристыми струями
С гати падали на камни
И спокойно разливались
Меж камнями по долине;
А кругом листвой зеленой
Лес шумел, качались ветви,
И сквозь ветви свет и тени,
По земле скользя, играли.
Не спеша, поодиночке
Собрались бобры к плотине;
Осторожно показалась
Голова, потом другая,
Наконец весь пруд широкий
Рыльца черные покрыли,
Лоснясь в ярком блеске солнца.
И к бобрам с улыбкой хитрой
Обратился По-Пок-Кивис:
«О друзья мои! Покойно,
Хорошо у вас в вигвамах!
Все вы опытны и мудры,
Все на выдумки искусны,
Превратите же скорее
И меня в бобра, Амика!»
«Хорошо! — Амик ответил,
Царь бобров, Амик, ответил.
Опускайся с нами в воду,
Опускайся в пруд с бобрами!»
Молча в тихий пруд с бобрами
Опустился По-Пок-Кивис.
Черной, гладкой и блестящей
Стала вся его одежда,
А хвосты лисиц на пятках
В толстый черный хвост слилися,
И бобром стал По-Пок-Кивис.
«О друзья мои, — сказал он, —
Я хочу быть выше, больше,
Больше всех бобров на свете».
«Хорошо, — Амик ответил, —
Вот когда придем в жилище,
В наш вигвам на дне потока,
В десять раз ты станешь больше».
Так под темною водою
Шел с бобрами По-Пок-Кивис,
Под водою, где лежали
Ветви, пни и груды корма,
И пришел с бобрами к арке,
Что вела в вигвам обширный.
Там опять он превратился,
В десять раз стал выше, больше,
И бобры ему сказали:
«Будь у нас вождем отныне,
Будь над нами властелином».
Но недолго По-Пок-Кивис
Мог почетом наслаждаться:
Бобр, поставленный на страже
В чаще шпажников и лилий,
Вдруг воскликнул: «Гайавата!
Гайавата на плотине!»
Вслед за этим раздалися
На плотине крики, говор,
Треск валежника и топот,
А вода заволновалась,
Стала падать, понижаться,
И бобры поняли в страхе,
Что плотина прорвалася.
С треском рухнула и крыша
Их просторного вигвама;
В щели крыши засверкало
Солнце яркими лучами,
И бобры поспешно скрылись
Под водой, где было глубже;
Но могучий По-Пок-Кивис
Не пролез за ними в двери:
Он от гордости и пищи,
Как пузырь, распух, раздулся.
В щели крыши Гайавата
На него смотрел и громко
Восклицал: «О По-Пок-Кпвис!
Тщетны все твои уловки,
Бесполезны превращенья, —
Не спасешься, По-Пок-Кивис!»
Без пощады колотили
По-Пок-Кивиса дубины,
Молотили, словно маис,
На куски разбили череп.
Шесть охотников высоких
Положили на носилки,
Понесли его в деревню;
Но не умер По-Пок-Кивис,
Джиби, дух его, не умер.
Он барахтался, метался,
Изгибаясь и качаясь,
Как дверные занавески
Изгибаются, качаясь,
Если ветер дует в двери,
И опять собрался с силой,
Принял образ человека,
Встал и в бегство устремился
По-Пок-Кивисом лукавым.
Но от взоров Гайаваты
Не успел в лесу он скрыться;
В голубой и мягкий сумрак
Под ветвями дальних сосен,
К светлой просеке за ними
Вихрем мчался По-Пок-Кивис,
Нагибая ветви с шумом,
Но сквозь шум ветвей он слышал,
Что его, как бурный ливень,
Настигает Гайавата.
Задыхаясь, По-Пок-Кивис,
Наконец, остановился
Перед озером широким,
По которому средь лилий,
В тростниках, меж островами,
Тихо плавали казарки,
То скрываясь в тень деревьев,
То сверкая в блеске солнца,
Подымая кверху клювы,
Глубоко ныряя в воду.
«Пишнэкэ! — воскликнул громко
По-Пок-Кивис. — Превратите
Поскорей меня в казарку,
Только в самую большую, —
В десять раз сильней и больше,
Чем другие все казарки!»
Но едва они успели
Превратить его в казарку —
В исполинскую казарку
С круглой лоснящейся грудью,
С парой темных мощных крыльев
И с большим широким клювом, —
Как из леса с громким криком
Стал пред ними Гайавата!
С громким криком поднялися
И казарки над водою,
Поднялися шумной стаей
Из озерных трав и лилий
И сказали: «По-Пок-Кивис!
Будь теперь поосторожней —
Берегись смотреть на землю,
Чтобы не было несчастья,
Чтоб беды не приключилось!»
Смело путь они держали,
Путь на дальний, дикий север,
Пролетали то в тумане,
То в сиянье ярком солнца,
Ночевали и кормились
В камышах болот пустынных
И с зарей пустились дальше.
Плавно мчал их южный ветер,
Дул свежо и сильно в крылья.
Вдруг донесся к ним неясный,
Отдаленный шум и говор,
Донеслись людские речи
Из селения под ними:
То народ с земли дивился
На невиданные крылья
По-Пок-Кивиса-казарки, —
Эти крылья были шире,
Чем дверные занавески.
По-Пок-Кивис слышал крики,
Слышал голос Гайаваты,
Слышал громкий голос Ягу,
Позабыл совет казарок,
С высоты взглянул на землю —
И в одно мгновенье ветер
Подхватил его, смял крылья
И понес, вертя, на землю.
Тщетно справиться хотел он,
Тщетно думал удержаться!
Вихрем падая на землю,
Он порой то землю видел,
То казарок в синем небе,
Видел, что земля все ближе,
А простор небес — все дальше,
Слышал громкий смех и говор,
Слышал крики все яснее,
Потерял из глаз казарок,
Увидал внизу вигвамы
И с размаху пал на землю, —
С тяжким стуком средь народа
Пала мертвая казарка!
Но его лукавый Джиби,
Дух его, в одно мгновенье
Принял образ человека,
По-Пок-Кивиса красавца,
И опять пустился в бегство,
И опять за ним в погоню
Устремился Гайавата,
Восклицая: «Как бы ни был
Путь мой долог и опасен,
Гнев мой все преодолеет,
Месть моя тебя настигнет!»
В двух шагах был По-Пок-Кивис,
В двух шагах от Гайаваты,
Но мгновенно закружился,
Поднял вихрем пыль и листья
И исчез в дупле дубовом,
Перекинулся змеею,
Проскользнул змеей под корни.
Быстро правою рукою
Искрошил весь дуб на щепки
Гайавата, — но напрасно!
Вновь лукавый По-Пок-Кивис
Принял образ человека
И помчался в бурном вихре
К Живописным Скалам красным,
Что с прибрежья озирают
Всю страну и Гитчи-Гюми.
И Владыка Гор могучий,
Горный Манито могучий
Распахнул пред ним ущелье,
Распахнул широко пропасть,
Скрыл его от Гайаваты
В мрачном каменном жилище,
Ввел его с радушной лаской
В тьму своих пещер угрюмых.
А снаружи Гайавата,
Пред закрытым входом стоя,
Рукавицей, Минджикэвон,
Пробивал в горе пещеры
И кричал в великом гневе:
«Отопри! Я Гайавата!»
Но Владыка Гор не отпер,
Не ответил Гайавате
Из своих пещер безмолвных,
Из скалистой мрачной бездны.
И простер он руки к небу,
Призывая Эннэмики
И Вэвэссимо на помощь,
И пришли они во мраке,
С ночью, с бурей, с ураганом,
Пронеслись по Гитчи-Гюми
С отдаленных Гор Громовых,
И услышал По-Пок-Кивис
Тяжкий грохот Эннэмики,
Увидал он блеск огнистый
Глаз Вэвэссимо и в страхе
Задрожал и притаился.
Тяжкой палицей своею
Скалы молния разбила
Над преддверием пещеры,
Грянул гром в ее средину,
Говоря: «Где По-Пок-Кивис?» —
И рассыпались утесы,
И среди развалин мертвым
Пал лукавый По-Пок-Кивис,
Пал красавец Йенадиззи.
Благородный Гайавата
Вынул дух его из тела
И сказал: «О По-Пок-Кивис!
Никогда уж ты не примешь
Снова образ человека,
Никогда не будешь больше
Танцевать с беспечным смехом,
Но высоко в синем небе
Будешь ты парить и плавать,
Будешь ты Киню отныне —
Боевым Орлом могучим!»
И живут с тех пор в народе
Песни, сказки и преданья
О красавце Йенадиззи;
И зимой, когда в деревне
Вихри снежные гуляют,
А в трубе вигвама свищет,
Завывает буйный ветер, —
«Это хитрый По-Пок-Кивис
В пляске бешеной несется!» —
Говорят друг другу люди.
Смерть Квазинда
Далеко прошел по свету
Слух о Квазинде могучем:
Он соперников не ведал,
Он себе не ведал равных.
И завистливое племя
Злобных Гномов и Пигмеев,
Злобных духов Пок-Уэджис,
Погубить его решило.
«Если этот дерзкий Квазинд,
Ненавистный всем нам Квазинд,
Поживет еще на свете,
Все губя, уничтожая,
Удивляя все народы
Дивной силою своею, —
Что же будет с Пок-Уэджис? ~
Говорили Пок-Уэджис. —
Он растопчет нас, раздавит,
Он подводным злобным духам
Всех нас кинет на съеденье!»
Так, пылая лютой злобой,
Совещались Пок-Уэджис
И убить его решили,
Да, убить его, — избавить
Мир от Квазинда навеки!
Сила Квазинда и слабость
Только в темени таилась:
Только в темя можно было
Насмерть Квазинда поранить,
Но и то одним оружьем —
Голубой еловой шишкой.
Роковая тайна эта
Не была известна смертным,
Но коварные Пигмеи,
Пок-Уэджис, знали тайну,
Знали, как врага осилить.
И они набрали шишек,
Голубых еловых шишек
По лесам над Таквамино,
Отнесли их и сложили
На ее высокий берег,
Там, где красные утесы
Нависают над водою.
Сами спрятались и стали
Поджидать врага в засаде.
Было это в полдень летом;
Тих был сонный знойный воздух,
Неподвижно спали тени,
В полусне река струилась;
По реке, блестя на солнце,
Насекомые скользили,
В знойном воздухе далеко
Раздавалось их жужжанье,
Их напевы боевые.
По реке плыл мощный Квазинд,
По теченью плыл лениво,
По дремотной Таквамино
Плыл в березовой пироге,
Истомленный тяжким зноем,
Усыпленный тишиною.
По ветвям, к реке склоненным,
По кудрям берез плакучих,
Осторожно опустился
На него Дух Сна, Нэпавин;
В сонме спутников незримых,
Во главе воздушной рати,
По ветвям сошел Нэпавин,
Бирюзовой Дэш-кво-ни-ши,
Стрекозою, стал он тихо
Над пловцом усталым реять.
Квазинд слышал чей-то шепот,
Смутный, словно вздохи сосен,
Словно дальний ропот моря,
Словно дальний шум прибоя,
И почувствовал удары
Томагауков воздушных,
Поражавших прямо в темя,
Управляемых несметной
Ратью Духов Сна незримых.
И от первого удара
Обняла его дремота,
От второго — он бессильно
Опустил весло в пирогу,
После третьего — окрестность
Перед ним покрылась тьмою:
Крепким сном забылся Квазинд.
Так и плыл он по теченью, —
Как слепой, сидел в пироге,
Сонный плыл по Таквамино,
Под прибрежными лесами,
Мимо трепетных березок,
Мимо вражеской засады,
Мимо лагеря Пигмеев.
Градом сыпалися шишки,
Голубые шишки елей
В темя Квазинда с прибрежья.
«Смерть врагу!» — раздался громкий
Боевой крик Пок-Уэджис.
И упал на борт пироги
И свалился в реку Квазинд,
Головою вниз, как выдра,
В воду сонную свалился,
А пирога, кверху килем,
Поплыла одна, блуждая
По теченью Таквамино.
Так погиб могучий Квазинд.
Но хранилось долго-долго
Имя Квазинда в народе,
И когда в лесах зимою
Бушевали, выли бури,
С треском гнули и ломали
Ветви стонущих деревьев, —
«Квазинд! — люди говорили. —
Это Квазинд собирает
На костер себе валежник!»
Привидения
Никогда хохлатый коршун
Не спускается в пустыне
Над пораненным бизоном
Без того, чтоб на добычу
И второй не опустился;
За вторым же в синем небе
Тотчас явится и третий,
Так что вскорости от крыльев
Собирающейся стаи
Даже воздух потемнеет.
И беда одна не ходит;
Сторожат друг друга беды;
Чуть одна из них нагрянет, —
Вслед за ней спешат другие
И, как птицы, вьются, вьются
Черной стаей над добычей,
Так что белый свет померкнет
От отчаянья и скорби.
Вот опять на хмурый север
Мощный Пибоан вернулся!
Ледяным своим дыханьем
Превратил он воды в камень
На реках и на озерах,
С кос стряхнул он хлопья снега,
И поля покрылись белой,
Ровной снежной пеленою,
Будто сам Владыка Жизни
Сгладил их рукой своею.
По лесам, под песни вьюги,
Зверолов бродил на лыжах;
В деревнях, в вигвамах теплых,
Мирно женщины трудились,
Молотили кукурузу
И выделывали кожи;
Молодежь же проводила
Время в играх и забавах,
В танцах, в беганье на лыжах.
Темным вечером однажды
Престарелая Нокомис
С Миннегагою сидела
За работою в вигваме,
Чутко слушая в молчанье,
Не идет ли Гайавата,
Запоздавший на охоте.
Свет костра багряной краской
Разрисовывал их лица,
Трепетал в глазах Нокомис
Серебристым лунным блеском,
А в глазах у Миннегаги —
Блеском солнца над водою;
Дым, клубами собираясь,
Уходил в трубу над ними,
По углам вигвама тени
Изгибалися за ними.
И открылась тихо-тихо
Занавеска над порогом;
Ярче пламя запылало,
Дым сильней заволновался —
И две женщины безмолвно,
Без привета и без зова,
Чрез порог переступили,
Проскользнули по вигваму
В самый дальний, темный угол,
Сели там и притаились.
По обличью, по одежде
Это были чужеземки;
Бледны, мрачны были обе,
И с безмолвною тоскою,
Содрогаясь, как от стужи,
Из угла они глядели.
То не ветер ли полночный
Загудел в трубе вигвама?
Не сова ли, Куку-кугу,
Застонала в мрачных соснах?
Голос вдруг изрек в молчанье:
«Это мертвые восстали,
Это души погребенных
К вам пришли из Стран Понима,
Из страны Загробной Жизни!»
Скоро из лесу, с охоты,
Возвратился Гайавата,
Весь осыпан белым снегом
И с оленем за плечами.
Перед милой Миннегагой
Он сложил свою добычу
И теперь еще прекрасней
Показался Миннегаге,
Чем в тот день, когда за нею
Он пришел в страну Дакотов,
Положил пред ней оленя,
В знак своих желаний тайных,
В знак своей любви сердечной.
Положив, он обернулся,
Увидал в углу двух женщин
И сказал себе: «Кто это?
Странны гостьи Миннегаги!»
Но расспрашивать не стал их,
Только с ласковым приветом
Попросил их разделить с ним
Кров его, очаг и пищу.
Гостьи бледные ни слова
Не сказали Гайавате;
Но когда готов был ужин
И олень уже разрезан,
Из угла они вскочили,
Завладели лучшей долей,
Долей милой Миннегаги,
Не спросясь, схватили дерзко
Нежный, белый жир оленя,
Съели с жадностью, как звери,
И опять забились в угол,
В самый дальний, темный угол.
Промолчала Миннегага,
Промолчал и Гайавата,
Промолчала и Нокомис;
Лица их спокойны были.
Только Миннегага тихо
Прошептала с состраданьем,
Говоря: «Их мучит голод;
Пусть берут, что им по вкусу,
Пусть едят, — их мучит голод».
Много зорь зажглось, погасло,
Много дней стряхнули ночи,
Как стряхают хлопья снега
Сосны темные на землю;
День за днем сидели молча
Гостьи бледные в вигваме;
Ночью, даже в непогоду,
В ближний лес они ходили,
Чтоб набрать сосновых шишек,
Чтоб набрать ветвей для топки,
Но едва светало, снова
Появлялися в вигваме.
И всегда, когда с охоты
Возвращался Гайавата,
В час, когда готов был ужин
И олень уже разрезан,
Гостьи бледные бесшумно
Из угла к нему кидались,
Не спросясь, хватали жадно
Нежный, белый жир оленя,
— Долю милой Миннегаги, —
И скрывались в темный угол.
Никогда не упрекнул их
Даже взглядом Гайавата,
Никогда не возмутилась
Престарелая Нокомис,
Никогда не показала
Недовольства Миннегага;
Все они терпели молча,
Чтоб права святые гостя
Не нарушить грубым взглядом,
Не нарушить грубым словом.
В полночь раз, когда печально
Догорал костер, краснея,
И мерцал дрожащим светом
В полусумраке вигвама,
Бодрый, чуткий Гайавата
Вдруг услышал чьи-то вздохи,
Чьи-то горькие рыданья.
С ложа встал он осторожно,
Встал с косматых шкур бизона
И, отдернувши над ложем
Из оленьей кожи полог,
Увидал, что это Тени,
Гостьи бледные, вздыхают,
Плачут в тишине полночной.
И промолвил он: «О гостьи!
Что так мучит ваше сердце?
Что рыдать вас заставляет?
Не Нокомис ли вас, гостьи,
Ненароком оскорбила?
Иль пред вами Миннегага
Позабыла долг хозяйки?»
Тени смолкли, перестали
Горько сетовать и плакать
И сказали тихо-тихо:
«Мы усопших, мертвых души,
Души тех, что жили с вами;
Мы пришли из Стран Понима,
С островов Загробной Жизни,
Испытать вас и наставить.
Вопли скорби достигают
К нам, в Селения Блаженных:
То живые погребенных
Призывают вновь на землю,
Мучат нас бесплодной скорбью;
И вернулись мы на землю,
Но узнали скоро, скоро,
Что везде мы только в тягость,
Что для всех мы стали чужды:
Нет нам места, — нет возврата
Мертвецам из-за могилы!
Помни это, Гайавата,
И скажи всему народу,
Чтоб отныне и вовеки
Вопли их не огорчали
Отошедших в мир Понима,
К нам, в Селения Блаженных.
Не кладите тяжкой ноши
С мертвецами в их могилы —
Ни мехов, ни украшений,
Ни котлов, ни чаш из глины, —
Эта ноша мучит духов.
Дайте лишь немного пищи,
Дайте лишь огня в дорогу.
Дух четыре грустных ночи
И четыре дня проводит
На пути в страну Понима;
Потому-то и должны вы
Над могилами усопших
С первой ночи до последней
Жечь костры неугасимо,
Освещать дорогу духам,
Озарять веселым светом
Их печальные ночлеги.
Мы идем, прости навеки,
Благородный Гайавата!
И тебя мы искушали,
И твое терпенье долго
Мы испытывали дерзко,
Но всегда ты оставался
Благородным и великим.
Не слабей же, Гайавата,
Не слабей, не падай духом:
Ждет тебя еще труднее
И борьба и испытанье!»
И внезапно тьма упала
И наполнила жилище,
Гайавата же в молчанье
Услыхал одежды шорох,
Услыхал, что кто-то поднял
Занавеску над порогом,
Увидал на небе звезды
И почувствовал дыханье
Зимней полночи морозной,
Но уже не видел духов,
Теней бледных и печальных
Из далеких Стран Понима,
Из страны Загробной Жизни.
Голод
О, зима! О, дни жестокой,
Бесконечной зимней стужи!
Лед все толще, толще, толще
Становился на озерах;
Снег все больше, больше, больше
Заносил луга и степи;
Все грозней шумели вьюги
По лесам, вокруг селенья.
Еле-еле из вигвама,
Занесенного снегами,
Мог пробраться в лес охотник;
В рукавицах и на лыжах
Тщетно по лесу бродил он,
Тщетно он искал добычи, —
Не видал ни птиц, ни зверя,
Не видал следов оленя,
Не видал следов Вабассо.
Страшен был, как привиденье,
Лес блестящий и пустынный,
И от голода, от стужи,
Потеряв сознанье, падал,
Погибал в снегах охотник.
О, Всесильный Бюкадэвин!
О, могучий Акозивин!
О, безмолвный, грозный Погок!
О, жестокие мученья,
Плач детей и вопли женщин!
Всю тоскующую землю
Изнурил недуг и голод,
Небеса и самый воздух
Лютым голодом томились,
И горели в небе звезды,
Как глаза волков голодных!
Вновь в вигваме Гайаваты
Поселилися два гостя:
Так же мрачно и безмолвно,
Как и прежние два гостя,
Без привета и без зова
В дом вошли они и сели
Прямо рядом с Миннегагой,
Не сводя с нее свирепых,
Впалых глаз ни на минуту.
И один сказал ей: «Видишь?
Пред тобою — Бюкадэвин».
И другой сказал ей: «Видишь?
Пред тобою — Акозивин!»
И от этих слов и взглядов
Содрогнулось, сжалось страхом
Сердце милой Миннегаги;
Без ответа опустилась,
Скрыв лицо, она на ложе
И томилась, трепетала,
Холодея и сгорая,
От зловещих слов и взглядов.
Как безумный, устремился
В лес на лыжах Гайавата;
Стиснув зубы, затаивши
В сердце боль смертельной скорби,
Мчался он, и капли пота
На челе его смерзались.
В меховых своих одеждах,
В рукавицах, Минджикэвон,
С мощным луком наготове
И с колчаном за плечами,
Он бежал все дальше, дальше
По лесам пустым и мертвым.
«Гитчи Манито! — вскричал он,
Обращая взоры к небу
С беспредельною тоскою. —
Пощади нас, о Всесильный,
Дай нам пищи, иль погибнем!
Пищи дай для Миннегаги —
Умирает Миннегага!»
Гулко в дебрях молчаливых,
В бесконечных дебрях бора,
Прозвучали вопли эти,
Но никто не отозвался,
Кроме отклика лесного,
Повторявшего тоскливо:
«Миннегага! Миннегага!»
До заката одиноко
Он бродил в лесах печальных,
В темных чащах, где когда-то
Шел он с милой Миннегагой,
С молодой женою рядом,
Из далеких стран Дакотов.
Весел был их путь в то время!
Все цветы благоухали,
Все лесные птицы пели,
Все ручьи сверкали солнцем,
И сказала Миннегага
С беззаветною любовью:
«Я пойду с тобою, муж мой!»
А в вигваме, близ Нокомис,
Близ пришельцев молчаливых,
Карауливших добычу,
Уж томилась пред кончиной,
Умирала Миннегага.
«Слышишь? — вдруг она сказала.
Слышишь шум и гул далекий
Водопадов Миннегаги?
Он зовет меня, Нокомис!»
«Нет, дитя мое, — печально
Отвечала ей Нокомис, —
Это бор гудит от ветра».
«Глянь! — сказала Миннегага. —
Вон — отец мой! Одиноко
Он стоит и мне кивает
Из родимого вигвама!»
«Нет, дитя мое, — печально
Отвечала ей Нокомис, —
Это дым плывет, кивает!»
«Ах! — вскричала Миннегага.
Это Погока сверкают
Очи грозные из мрака,
Это он мне стиснул руку
Ледяной своей рукою!
Гайавата, Гайавата!»
И несчастный Гайавата
Издалека, издалека,
Из-за гор и дебрей леса,
Услыхал тот крик внезапный,
Скорбный голос Миннегаги,
Призывающий во мраке:
«Гайавата! Гайавата!»
По долинам, по сугробам,
Под ветвями белых сосен,
Нависавшими от снега,
Он бежал с тяжелым сердцем,
И услышал он тоскливый
Плач Нокомис престарелой:
«Вагономин! Вагономин!
Лучше б я сама погибла,
Лучше б мне лежать в могиле!
Вагономин! Вагономин!»
И в вигвам он устремился
И увидел, как Нокомис
С плачем медленно качалась,
Увидал и Миннегагу,
Неподвижную на ложе,
И такой издал ужасный
Крик отчаянья, что звезды
В небесах затрепетали,
А леса с глубоким стоном
Потряслись до основанья.
Осторожно и безмолвно
Сел он к ложу Миннегаги,
Сел к ногам ее холодным,
К тем ногам, что никогда уж
Не пойдут за Гайаватой,
Никогда к нему из дома
Уж не выбегут навстречу.
Он лицо закрыл руками,
Семь ночей и дней у ложа
Просидел в оцепененье,
Без движенья, без сознанья:
День царит иль тьма ночная?
И простились с Миннегагой;
Приготовили могилу
Ей в лесу глухом и темном,
Под печальною цикутой,
Обернули Миннегагу
Белым мехом горностая,
Закидали белым снегом,
Словно мехом горностая, —
И простились с Миннегагой.
А с закатом на могиле
Был зажжен костер из хвои,
Чтоб душе четыре ночи
Освещал он путь далекий,
Путь в Селения Блаженных.
Из вигвама Гайавате
Видно было, как горел он,
Озаряя из-под низу
Ветви черные цикуты.
И не раз в час долгой ночи
Подымался Гайавата
На своем бессонном ложе,
Ложе милой Миннегаги,
И стоял, следил с порога,
Чтобы пламя не погасло,
Дух во мраке не остался.
«О, прости, прости! — сказал он.
О, прости, моя родная!
Все мое с тобою сердце
Схоронил я, Миннегага,
Вся душа моя стремится
За тобою, Миннегага!
Не ходи, не возвращайся
К нам на труд и на страданья,
В мир, где голод, лихорадка
Мучат душу, мучат тело!
Скоро подвиг свой я кончу,
Скоро буду я с тобою
В царстве светлого Понима,
Бесконечной, вечной жизни!»
След белого
Средь долины, над рекою,
Над замерзшею рекою,
Там сидел в своем вигваме
Одинокий, грустный старец.
Волоса его лежали
На плечах сугробом снега,
Плащ его из белой кожи,
Вобивайон, был в лохмотьях,
А костер среди вигвама
Чуть светился, догорая,
И дрожал от стужи старец,
Ослепленный снежной вьюгой,
Оглушенный свистом бури,
Оглушенный гулом леса.
Угли пеплом уж белели,
Пламя тихо умирало,
Как неслышно появился
Стройный юноша в вигваме.
На щеках его румянец
Разливался алой краской,
Очи кроткие сияли,
Как весенней ночью звезды,
А чело его венчала
Из пахучих трав гирлянда.
Улыбаясь и улыбкой
Все, как солнцем, озаряя,
Он вошел в вигвам с цветами,
И цветы его дышали
Нежным, сладким ароматом.
«О мой сын, — воскликнул старец, —
Как отрадно видеть гостя!
Сядь со мною на циновку,
Сядь сюда, к огню поближе,
Будем вместе ждать рассвета.
Ты свои мне порасскажешь
Приключения и встречи,
Я — свои: свершил я в жизни
Не один великий подвиг!»
Тут он вынул Трубку Мира,
Очень старую, чудную,
С красной каменной головкой,
С чубуком из трости, в перьях,
Наложил ее корою,
Закурил ее от угля,
Подал гостю-чужеземцу
И повел такие речи:
«Стоит мне своим дыханьем
Только раз на землю дунуть,
Остановятся все реки,
Вся вода окаменеет!»
Улыбаясь, гость ответил:
«Стоит мне своим дыханьем
Только раз на землю дунуть,
Зацветут цветы в долинах,
Запоют, заплещут реки!»
«Стоит мне тряхнуть во гневе
Головой своей седою, —
Молвил старец, мрачно хмурясь, —
Всю страну снега покроют,
Вся листва спадет с деревьев,
Все поблекнет и погибнет,
С рек и с тундр, с болотных топей
Улетят и гусь и цапля
К отдаленным, теплым странам;
И куда бы ни пришел я,
Звери дикие лесные
В норы прячутся, в пещеры,
Как кремень, земля твердеет!»
«Стоит мне тряхнуть кудрями, —
Молвил гость с улыбкой кроткой, —
Благодатный теплый ливень
Оросит поля и долы,
Воскресит цветы и травы;
На озера и болота
Возвратятся гусь и цапля,
С юга ласточка примчится,
Запоют лесные птицы;
И куда бы ни пришел я,
Луг колышется цветами,
Лес звучит веселым пеньем,
От листвы темнеют чащи!»
За беседой ночь минула;
Из далеких стран Востока,
Из серебряных чертогов,
Словно воин в ярких красках,
Солнце вышло и сказало:
«Вот и я! Любуйтесь солнцем,
Гизисом, могучим солнцем!»
Онемел при этом старец.
От земли теплом пахнуло,
Над вигвамом стали сладко
Опечи петь и Овейса,
Зажурчал ручей в долине,
Нежный запах трав весенних
Из долин в вигвам повеял,
И при ярком блеске солнца
Увидал Сэгвон яснее
Старца лик холодный, мертвый:
То был Пибоан могучий.
По щекам его бежали,
Как весенние потоки,
Слезы теплые струями,
Сам же он все уменьшался
В блеске радостного солнца —
Паром таял в блеске солнца,
Влагой всачивался в землю,
И Сэгвон среди вигвама,
Там, где ночью мокрый хворост
В очаге дымился, тлея,
Увидал цветок весенний,
Первоцвет, привет весенний,
Мискодит в зеленых листьях.
Так на север после стужи,
После лютой зимней стужи,
Вновь пришла весна, а с нею
Зацвели цветы и травы,
Возвратились с юга птицы.
С ветром путь держа на север,
В небе стаями летели,
Мчались лебеди, как стрелы,
Как большие стрелы в перьях,
И скликалися, как люди;
Плыли гуси длинной цепью,
Изгибавшейся, подобно
Тетиве из жил оленя,
Разорвавшейся на луке;
В одиночку и попарно,
С быстрым, резким свистом крыльев,
Высоко нырки летели,
Пролетали на болота
Мушкодаза и Шух-шух-га.
В чащах леса и в долинах
Пел Овейса синеперый,
Над вигвамами, на кровлях,
Опечи пел красногрудый,
Под густым наметом сосен
Ворковал Омими, голубь,
И печальный Гайавата,
Онемевший от печали,
Услыхал их зов веселый,
Услыхал — и тихо вышел
Из угрюмого вигвама
Любоваться вешним солнцем,
Красотой земли и неба.
Из далекого похода
В царство яркого рассвета,
В царство Вебона, к Востоку,
Возвратился старый Ягу,
И принес он много-много
Удивительных новинок.
Вся деревня собралася
Слушать, как хвалился Ягу
Приключеньями своими,
Но со смехом говорила:
«Уг! Да это точно — Ягу!
Кто другой так может хвастать!»
Он сказал, что видел море
Больше, чем Большое Море,
Много больше Гитчи-Гюми
И с такой водою горькой,
Что никто не пьет ту воду.
Тут все воины и жены
Друг на друга поглядели,
Улыбнулися друг другу
И шепнули: «Это враки!
Ко! — шепнули, — это враки!»
В нем, сказал он, в этом море,
Плыл огромный челн крылатый,
Шла крылатая пирога,
Больше целой рощи сосен,
Выше самых старых сосен.
Тут все воины и старцы
Поглядели друг на друга,
Засмеялись и сказали:
«Ко, не верится нам что-то!»
Из жерла ее, сказал он,
Вдруг раздался гром, в честь Ягу,
Стрелы молнии сверкнули.
Тут все воины и жены
Без стыда захохотали.
«Ко, — сказали, — вот так сказка!»
В ней, сказал он, плыли люди,
Да, сказал он, в этой лодке
Я сто воинов увидел.
Лица воинов тех были
Белой выкрашены краской,
Подбородки же покрыты
Были густо волосами.
Тут уж все над бедным Ягу
Стали громко издеваться,
Закричали, зашумели,
Словно вороны на соснах,
Словно серые вороны.
«Ко! — кричали все со смехом, —
Кто ж тебе поверит, Ягу!»
Гайавата не смеялся, —
Он на шутки и насмешки
Строго им в ответ промолвил:
«Ягу правду говорит нам;
Было мне дано виденье,
Видел сам я челн крылатый,
Видел сам я бледнолицых,
Бородатых чужеземцев
Из далеких стран Востока,
Лучезарного рассвета.
Гитчи Манито могучий,
Дух Великий и Создатель,
С ними шлет свои веленья,
Шлет свои нам приказанья.
Где живут они, — там вьются
Амо, делатели меда,
Мухи с жалами роятся.
Где идут они — повсюду
Вырастает вслед за ними
Мискодит, краса природы.
И когда мы их увидим,
Мы должны их, словно братьев,
Встретить с лаской и приветом.
Гитчи Манито могучий
Это мне сказал в виденье.
Он открыл мне в том виденье
И грядущее — все тайны
Дней, от нас еще далеких.
Видел я густые рати
Неизвестных нам народов,
Надвигавшихся на Запад,
Переполнивших все страны.
Разны были их наречья,
Но одно в них билось сердце,
И кипела неустанно
Их веселая работа:
Топоры в лесах звенели,
Города в лугах дымились,
На реках и на озерах
Плыли с молнией и громом
Окрыленные пироги.
А потом уже иное
Предо мной прошло виденье, —
Смутно, словно за туманом:
Видел я, что гибнут наши
Племена в борьбе кровавой,
Восставая друг на друга,
Позабыв мои советы;
Видел с грустью их остатки,
Отступавшие на Запад,
Убегавшие в смятенье,
Как рассеянные тучи,
Как сухие листья в бурю!»
Эпилог
На прибрежье Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
Тихим, ясным летним утром
Гайавата в ожиданье
У дверей стоял вигвама.
Воздух полон был прохлады,
Вся земля дышала счастьем,
А над нею, в блеске солнца,
На закат, к соседней роще,
Золотистыми роями
Пролетали пчелы, Амо,
Пели в ярком блеске солнца.
Ясно глубь небес сияла,
Тихо было Гитчи-Гюми;
У прибрежья прыгал Нама,
Искрясь в брызгах, в блеске солнца;
На прибрежье лес зеленый
Возвышался над водою,
Созерцал свои вершины,
Отраженные водою.
Светел взор был Гайаваты:
Скорбь с лица его исчезла,
Как туман с восходом солнца,
Как ночная мгла с рассветом;
С торжествующей улыбкой,
Полный радости и счастья,
Словно тот, кто видит в грезах
То, что скоро совершится,
Гайавата в ожиданье
У дверей стоял вигвама.
К солнцу руки протянул он,
Обратил к нему ладони,
И меж пальцев свет и тени
По лицу его играли,
По плечам его открытым;
Так лучи, скользя меж листьев,
Освещают дуб могучий.
По воде, в дали неясной,
Что-то белое летело,
Что-то плыло и мелькало
В легком утреннем тумане,
Опускалось, подымалось,
Подходя все ближе, ближе.
Не летит ли там Шух-шух-га?
Не ныряет ли гагара?
Не плывет ли Птица-баба?
Или это Во-би-вава
Брызги стряхивает с перьев,
С шеи длинной и блестящей?
Нет, не гусь, не цапля это,
Не нырок, не Птица-баба
По воде плывет, мелькает
В легком утреннем тумане:
То березовая лодка,
Опускаясь, подымаясь,
В брызгах искрится на солнце,
И плывут в той лодке люди
Из далеких стран Востока,
Лучезарного рассвета;
То наставник бледнолицых,
Их пророк в одежде черной,
По воде с проводниками
И с друзьями путь свой держит.
И, простерши к небу руки,
В знак сердечного привета,
С торжествующей улыбкой
Ждал их славный Гайавата,
Ждал, пока под их пирогой
Захрустит прибрежный щебень,
Зашуршит песчаный берег
И наставник бледнолицых
На песчаный берег выйдет.
И когда наставник вышел,
Громко, радостно воскликнув,
Так промолвил Гайавата:
«Светел день, о чужеземцы,
День, в который вы пришли к нам!
Все селенье наше ждет вас,
Все вигвамы вам открыты.
Никогда еще так пышно
Не цвела земля цветами,
Никогда на небе солнце
Не сияло так, как ныне,
В день, когда из стран Востока
Вы пришли в селенье наше!
Никогда Большое Море
Не бывало так спокойно,
Так прозрачно и свободно
От подводных скал и мелей:
Там, где шла пирога ваша,
Нет теперь ни скал, ни мелей!
Никогда табак наш не был
Так душист и так приятен,
Никогда не зеленели
Наши нивы так, как ныне,
В день, когда из стран Востока
Вы пришли в селенье наше!»
И наставник бледнолицых,
Их пророк в одежде черной,
Отвечал ему приветом:
«Мир тебе, о Гайавата!
Мир твоей стране родимой,
Мир молитвы, мир прощенья,
Мир Христа и свет Марии!»
И радушный Гайавата
Ввел гостей в свое жилище,
Посадил их там на шкурах
Горностаев и бизонов,
А Нокомис подала им
Пищу в мисках из березы,
Воду в ковшиках из липы
И зажгла им Трубку Мира.
Все пророки, Джосакиды,
Все волшебники, Вэбины,
Все врачи недугов, Миды,
С ними воины и старцы
Собралися пред вигвамом,
Чтоб почтить гостей приветом.
Тесным кругом у порога
На земле они сидели
И курили трубки молча,
А когда к ним из вигвама
Вышли гости, так сказали:
«Всех нас радует, о братья,
Что пришли вы навестить нас
Из далеких стран Востока!»
И наставник бледнолицых
Рассказал тогда народу,
Что пришел он им поведать
О святой Марии-Деве,
О ее предвечном Сыне.
Рассказал, как в дни былые
Он сошел на землю к людям,
Как он жил в посте, в молитве,
Как учил он, как евреи,
Богом проклятое племя,
На кресте его распяли,
Как восстал он из могилы,
Вновь ходил с учениками
И с земли вознесся в небо.
И народ ему ответил:
«Мы словам твоим внимали,
Мы внимали мудрой речи,
Мы должны о ней подумать.
Всех нас радует, о братья,
Что пришли вы навестить нас
Из далеких стран Востока!»
И, простясь, все удалились,
Разошлись к своим вигвамам,
Рассказали на деревне
Юным воинам и женам,
Что прислал Владыка Жизни
К ним гостей из стран Востока.
От жары, в затишье полдня,
Тяжким воздух становился;
В полусне шептались сосны
Позади вигвамов душных,
В полусне плескались волны
На песчаное прибрежье,
А на нивах, не смолкая,
Пел кузнечик, Па-пок-кина.
Спали гости Гайаваты,
Истомленные жарою,
В душном сумраке вигвама.
Тихо вечер приближался,
Освежая знойный воздух,
И метало солнце стрелы,
Пробивая чащи леса,
В тайники его врываясь,
Все осматривая зорко.
Спали гости Гайаваты
В тихом сумраке вигвама.
С мягких шкур встал Гайавата
И простился он с Нокомис,
Тихим шепотом сказал ей,
Чтоб гостей не потревожить:
«Ухожу я, о Нокомио,
Ухожу я в путь далекий,
Ухожу в страну Заката,
В край Кивайдина родимый.
Но гостей моих, Нокомис,
На тебя я оставляю:
Сохраняй их и заботься,
Чтоб ни страх, ни подозренье,
Ни печаль их не смущали;
Чтоб в вигваме Гайаваты
Им всегда готовы были
И приют, и кров, и пища».
Так сказав ей, он покинул
Отчий дом, пошел в селенье
И простился там с народом,
Говоря такие речи:
«Ухожу я, о народ мой,
Ухожу я в путь далекий:
Много зим и много весен
И придет и вновь исчезнет,
Прежде чем я вас увижу;
Но гостей моих оставил
Я в родном моем вигваме:
Наставленьям их внимайте,
Слову мудрости внимайте,
Ибо их Владыка Жизни
К нам прислал из царства света».
На прибрежье Гайавата
Обернулся на прощанье,
На сверкающие волны
Сдвинул легкую пирогу,
От кремнистого прибрежья
Оттолкнул ее на волны, —
«На закат!» — сказал ей тихо
И пустился в путь далекий.
И закат огнем багряным
Облака зажег, и небо,
Словно прерии, пылало;
Длинным огненным потоком
Отражался в Гитчи-Гюми
Солнца след, и, удаляясь
Все на запад и на запад,
Плыл по нем к заре огнистой,
Плыл в багряные туманы,
Плыл к закату Гайавата.
И народ с прибрежья долго
Провожал его глазами,
Видел, как его пирога
Поднялась высоко к небу
В море солнечного блеска —
И сокрылася в тумане,
Точно бледный полумесяц,
Потонувший тихо-тихо
В полумгле, в дали багряной.
И сказал: «Прости навеки,
Ты прости, о Гайавата!»
И лесов пустынных недра
Содрогнулись — и пронесся
Тяжкий вздох во мраке леса,
Вздох: «Прости, о Гайавата!»
И о берег волны с шумом
Разбивались и рыдали,
И звучал их стон печальный,
Стон: «Прости, о Гайавата!»
И Шух-шух-га на болоте
Испустила крик тоскливый,
Крик: «Прости, о Гайавата!»
Так в пурпурной мгле вечерней,
В славе гаснущего солнца,
Удалился Гайавата
В край Кивайдина родимый.
Отошел в Страну Понима,
К Островам Блаженных, — в царство
Бесконечной, вечной жизни!
Генри Уодсворт Лонгфелло «Песнь о Гайавате» часть I (главы I — IX) на английском и русском языках. Параллельный текст.
Поэма «Песнь о Гайавате» («The Song of Hiawatha») была издана в США в ноябре 1855 года и сразу принята широким кругом читателей. С тех пор она многократно переиздавалась и стала классическим памятником американской литературы.
Американский исследователь ирокезского фольклора X. Хейл, комментируя образ Гайаваты, созданный Лонгфелло, отмечает его «составляющие»: в нем слились воедино черты легендарного вождя ирокезов Хайонваты, Таронхайавагона (божество индейцев племени сенека) и мифологического героя индейцев оджибве Манабозо.
Есть суждение, что среди многочисленных «прототипов», повлиявших на создание образа Гайаваты, был и знакомый Лонгфелло, Джордж Копуэй (1818-1863) — вождь индейцев оджибве, а затем проповедник и литератор.
Документальным источником для поэмы явились индейские легенды, впервые собранные и исследованные американским этнографом Г.-Р. Скулкрафтом в книге «Algic Researches» (1839) и других трудах.
………
В России первый перевод отрывков из «Песни о Гайавате» был сделан Л. Л. Михайловским («Отечественные записки», ЭЭ 5, 6, 10, 11 за 1868 г. и Э 6 за 1869 г.). Полностью поэма Лонгфелло была переведена И. А. Буниным в 1896-1903 годах (СПб., 1903). С тех пор она переиздается по этому изданию вместе со словарем индейских слов, составленным И. А. Буниным.
А. Ващенко
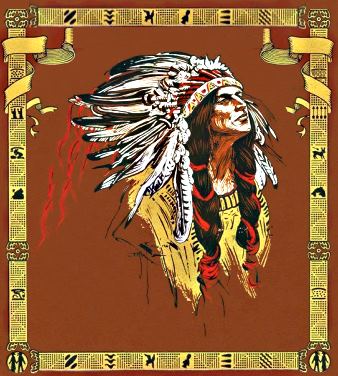
I. The Peace-Pipe
II. The Four Winds
III. Hiawatha’s Childhood
IV. Hiawatha and Mudjekeewis
V. Hiawatha’s Fasting
VI. Hiawatha’s Friends
VII. Hiawatha’s Sailing
VIII. Hiawatha’s Fishing
IX. Hiawatha and the Pearl-Feather
X. Hiawatha’s Wooing
XI. Hiawatha’s Wedding-Feast
XII. The Son of the Evening Star
XIII. Blessing the Corn-Fields
XIV. Picture-Writing
XV. Hiawatha’s Lamentation
XVI. Pau-Puk-Keewis
XVII. The Hunting of Pau-Puk-Keewis
XVIII. The Death of Kwasind
XIX. The Ghosts
XX. The Famine
XXI. The White Man’s Foot
XXII. Hiawatha’s Departure
Vocabulary
Introduction
Should you ask me, whence these stories?
Whence these legends and traditions,
With the odors of the forest
With the dew and damp of meadows,
With the curling smoke of wigwams,
With the rushing of great rivers,
With their frequent repetitions,
And their wild reverberations
As of thunder in the mountains?
I should answer, I should tell you,
«From the forests and the prairies,
From the great lakes of the Northland,
From the land of the Ojibways,
From the land of the Dacotahs,
From the mountains, moors, and fen-lands
Where the heron, the Shuh-shuh-gah,
Feeds among the reeds and rushes.
I repeat them as I heard them
From the lips of Nawadaha,
The musician, the sweet singer.»
Should you ask where Nawadaha
Found these songs so wild and wayward,
Found these legends and traditions,
I should answer, I should tell you,
«In the bird’s-nests of the forest,
In the lodges of the beaver,
In the hoofprint of the bison,
In the eyry of the eagle!
«All the wild-fowl sang them to him,
In the moorlands and the fen-lands,
In the melancholy marshes;
Chetowaik, the plover, sang them,
Mahng, the loon, the wild-goose, Wawa,
The blue heron, the Shuh-shuh-gah,
And the grouse, the Mushkodasa!»
If still further you should ask me,
Saying, «Who was Nawadaha?
Tell us of this Nawadaha,»
I should answer your inquiries
Straightway in such words as follow.
«In the vale of Tawasentha,
In the green and silent valley,
By the pleasant water-courses,
Dwelt the singer Nawadaha.
Round about the Indian village
Spread the meadows and the corn-fields,
And beyond them stood the forest,
Stood the groves of singing pine-trees,
Green in Summer, white in Winter,
Ever sighing, ever singing.
«And the pleasant water-courses,
You could trace them through the valley,
By the rushing in the Spring-time,
By the alders in the Summer,
By the white fog in the Autumn,
By the black line in the Winter;
And beside them dwelt the singer,
In the vale of Tawasentha,
In the green and silent valley.
«There he sang of Hiawatha,
Sang the Song of Hiawatha,
Sang his wondrous birth and being,
How he prayed and how be fasted,
How he lived, and toiled, and suffered,
That the tribes of men might prosper,
That he might advance his people!»
Ye who love the haunts of Nature,
Love the sunshine of the meadow,
Love the shadow of the forest,
Love the wind among the branches,
And the rain-shower and the snow-storm,
And the rushing of great rivers
Through their palisades of pine-trees,
And the thunder in the mountains,
Whose innumerable echoes
Flap like eagles in their eyries;—
Listen to these wild traditions,
To this Song of Hiawatha!
Ye who love a nation’s legends,
Love the ballads of a people,
That like voices from afar off
Call to us to pause and listen,
Speak in tones so plain and childlike,
Scarcely can the ear distinguish
Whether they are sung or spoken;—
Listen to this Indian Legend,
To this Song of Hiawatha!
Ye whose hearts are fresh and simple,
Who have faith in God and Nature,
Who believe that in all ages
Every human heart is human,
That in even savage bosoms
There are longings, yearnings, strivings
For the good they comprehend not,
That the feeble hands and helpless,
Groping blindly in the darkness,
Touch God’s right hand in that darkness
And are lifted up and strengthened;—
Listen to this simple story,
To this Song of Hiawatha!
Ye, who sometimes, in your rambles
Through the green lanes of the country,
Where the tangled barberry-bushes
Hang their tufts of crimson berries
Over stone walls gray with mosses,
Pause by some neglected graveyard,
For a while to muse, and ponder
On a half-effaced inscription,
Written with little skill of song-craft,
Homely phrases, but each letter
Full of hope and yet of heart-break,
Full of all the tender pathos
Of the Here and the Hereafter;
Stay and read this rude inscription,
Read this Song of Hiawatha!
Песнь о Гайавате
Вступление
Если спросите — откуда
Эти сказки и легенды
С их лесным благоуханьем,
Влажной свежестью долины,
Голубым дымком вигвамов,
Шумом рек и водопадов,
Шумом, диким и стозвучным,
Как в горах раскаты грома? —
Я скажу вам, я отвечу:
«От лесов, равнин пустынных,
От озер Страны Полночной,
Из страны Оджибуэев,
Из страны Дакотов диких,
С гор и тундр, с болотных топей,
Где среди осоки бродит
Цапля сизая, Шух-шух-га.
Повторяю эти сказки,
Эти старые преданья
По напевам сладкозвучным
Музыканта Навадаги».
Если спросите, где слышал,
Где нашел их Навадага, —
Я скажу вам, я отвечу:
«В гнездах певчих птиц, по рощам,
На прудах, в норах бобровых,
На лугах, в следах бизонов,
На скалах, в орлиных гнездах.
Эти песни раздавались
На болотах и на топях,
В тундрах севера печальных:
Читовэйк, зуек, там пел их,
Манг, нырок, гусь дикий, Вава,
Цапля сизая, Шух-шух-га,
И глухарка, Мушкодаза».
Если б дальше вы спросили:
«Кто же этот Навадага?
Расскажи про Навадагу», —
Я тотчас бы вам ответил
На вопрос такою речью:
«Средь долины Тавазэнта,
В тишине лугов зеленых,
У излучистых потоков,
Жил когда-то Навадага.
Вкруг индейского селенья
Расстилались нивы, долы,
А вдали стояли сосны,
Бор стоял, зеленый — летом,
Белый — в зимние морозы,
Полный вздохов, полный песен.
Те веселые потоки
Были видны на долине
По разливам их — весною,
По ольхам сребристым — летом,
По туману — в день осенний,
По руслу — зимой холодной.
Возле них жил Навадага
Средь долины Тавазэнта,
В тишине лугов зеленых.
Там он пел о Гайавате,
Пел мне Песнь о Гайавате, —
О его рожденье дивном
О его великой жизни:
Как постился и молился,
Как трудился Гайавата,
Чтоб народ его был счастлив,
Чтоб он шел к добру и правде».
Вы, кто любите природу —
Сумрак леса, шепот листьев,
В блеске солнечном долины,
Бурный ливень и метели,
И стремительные реки
В неприступных дебрях бора,
И в горах раскаты грома,
Что как хлопанье орлиных
Тяжких крыльев раздаются, —
Вам принес я эти саги,
Эту Песнь о Гайавате!
Вы, кто любите легенды
И народные баллады,
Этот голос дней минувших,
Голос прошлого, манящий
К молчаливому раздумью,
Говорящий так по-детски,
Что едва уловит ухо,
Песня это или сказка, —
Вам из диких стран принес я
Эту Песнь о Гайавате!
Вы, в чьем юном, чистом сердце
Сохранилась вера в бога,
В искру божью в человеке;
Вы, кто помните, что вечно
Человеческое сердце
Знало горести, сомненья
И порывы к светлой правде,
Что в глубоком мраке жизни
Нас ведет и укрепляет
Провидение незримо, —
Вам бесхитростно пою я
Эту Песнь о Гайавате!
Вы, которые, блуждая
По околицам зеленым,
Где, склонившись на ограду,
Поседевшую от моха,
Барбарис висит, краснея,
Забываетесь порою
На запущенном погосте
И читаете в раздумье
На могильном камне надпись,
Неумелую, простую,
Но исполненную скорби,
И любви, и чистой веры, —
Прочитайте эти руны,
Эту Песнь о Гайавате!
I. The Peace-Pipe
On the Mountains of the Prairie,
On the great Red Pipe-stone Quarry,
Gitche Manito, the mighty,
He the Master of Life, descending,
On the red crags of the quarry
Stood erect, and called the nations,
Called the tribes of men together.
From his footprints flowed a river,
Leaped into the light of morning,
O’er the precipice plunging downward
Gleamed like Ishkoodah, the comet.
And the Spirit, stooping earthward,
With his finger on the meadow
Traced a winding pathway for it,
Saying to it, «Run in this way!»
From the red stone of the quarry
With his hand he broke a fragment,
Moulded it into a pipe-head,
Shaped and fashioned it with figures;
From the margin of the river
Took a long reed for a pipe-stem,
With its dark green leaves upon it;
Filled the pipe with bark of willow,
With the bark of the red willow;
Breathed upon the neighboring forest,
Made its great boughs chafe together,
Till in flame they burst and kindled;
And erect upon the mountains,
Gitche Manito, the mighty,
Smoked the calumet, the Peace-Pipe,
As a signal to the nations.
And the smoke rose slowly, slowly,
Through the tranquil air of morning,
First a single line of darkness,
Then a denser, bluer vapor,
Then a snow-white cloud unfolding,
Like the tree-tops of the forest,
Ever rising, rising, rising,
Till it touched the top of heaven,
Till it broke against the heaven,
And rolled outward all around it.
From the Vale of Tawasentha,
From the Valley of Wyoming,
From the groves of Tuscaloosa,
From the far-off Rocky Mountains,
From the Northern lakes and rivers
All the tribes beheld the signal,
Saw the distant smoke ascending,
The Pukwana of the Peace-Pipe.
And the Prophets of the nations
Said: «Behold it, the Pukwana!
By the signal of the Peace-Pipe,
Bending like a wand of willow,
Waving like a hand that beckons,
Gitche Manito, the mighty,
Calls the tribes of men together,
Calls the warriors to his council!»
Down the rivers, o’er the prairies,
Came the warriors of the nations,
Came the Delawares and Mohawks,
Came the Choctaws and Camanches,
Came the Shoshonies and Blackfeet,
Came the Pawnees and Omahas,
Came the Mandans and Dacotahs,
Came the Hurons and Ojibways,
All the warriors drawn together
By the signal of the Peace-Pipe,
To the Mountains of the Prairie,
To the great Red Pipe-stone Quarry,
And they stood there on the meadow,
With their weapons and their war-gear,
Painted like the leaves of Autumn,
Painted like the sky of morning,
Wildly glaring at each other;
In their faces stem defiance,
In their hearts the feuds of ages,
The hereditary hatred,
The ancestral thirst of vengeance.
Gitche Manito, the mighty,
The creator of the nations,
Looked upon them with compassion,
With paternal love and pity;
Looked upon their wrath and wrangling
But as quarrels among children,
But as feuds and fights of children!
Over them he stretched his right hand,
To subdue their stubborn natures,
To allay their thirst and fever,
By the shadow of his right hand;
Spake to them with voice majestic
As the sound of far-off waters,
Falling into deep abysses,
Warning, chiding, spake in this wise:
«O my children! my poor children!
Listen to the words of wisdom,
Listen to the words of warning,
From the lips of the Great Spirit,
From the Master of Life, who made you!
«I have given you lands to hunt in,
I have given you streams to fish in,
I have given you bear and bison,
I have given you roe and reindeer,
I have given you brant and beaver,
Filled the marshes full of wild-fowl,
Filled the rivers full of fishes:
Why then are you not contented?
Why then will you hunt each other?
«I am weary of your quarrels,
Weary of your wars and bloodshed,
Weary of your prayers for vengeance,
Of your wranglings and dissensions;
All your strength is in your union,
All your danger is in discord;
Therefore be at peace henceforward,
And as brothers live together.
«I will send a Prophet to you,
A Deliverer of the nations,
Who shall guide you and shall teach you,
Who shall toil and suffer with you.
If you listen to his counsels,
You will multiply and prosper;
If his warnings pass unheeded,
You will fade away and perish!
«Bathe now in the stream before you,
Wash the war-paint from your faces,
Wash the blood-stains from your fingers,
Bury your war-clubs and your weapons,
Break the red stone from this quarry,
Mould and make it into Peace-Pipes,
Take the reeds that grow beside you,
Deck them with your brightest feathers,
Smoke the calumet together,
And as brothers live henceforward!»
Then upon the ground the warriors
Threw their cloaks and shirts of deer-skin,
Threw their weapons and their war-gear,
Leaped into the rushing river,
Washed the war-paint from their faces.
Clear above them flowed the water,
Clear and limpid from the footprints
Of the Master of Life descending;
Dark below them flowed the water,
Soiled and stained with streaks of crimson,
As if blood were mingled with it!
From the river came the warriors,
Clean and washed from all their war-paint;
On the banks their clubs they buried,
Buried all their warlike weapons.
Gitche Manito, the mighty,
The Great Spirit, the creator,
Smiled upon his helpless children!
And in silence all the warriors
Broke the red stone of the quarry,
Smoothed and formed it into Peace-Pipes,
Broke the long reeds by the river,
Decked them with their brightest feathers,
And departed each one homeward,
While the Master of Life, ascending,
Through the opening of cloud-curtains,
Through the doorways of the heaven,
Vanished from before their faces,
In the smoke that rolled around him,
The Pukwana of the Peace-Pipe!
Трубка мира
На горах Большой Равнины,
На вершине Красных Камней,
Там стоял Владыка Жизни,
Гитчи Манито могучий,
И с вершины Красных Камней
Созывал к себе народы,
Созывал людей отвсюду.
От следов его струилась,
Трепетала в блеске утра
Речка, в пропасти срываясь,
Ишкудой, огнем, сверкая.
И перстом Владыка Жизни
Начертал ей по долине
Путь излучистый, сказавши:
«Вот твой путь отныне будет!»
От утеса взявши камень,
Он слепил из камня трубку
И на ней фигуры сделал.
Над рекою, у прибрежья,
На чубук тростинку вырвал,
Всю в зеленых, длинных листьях;
Трубку он набил корою,
Красной ивовой корою,
И дохнул на лес соседний,
От дыханья ветви шумно
Закачались и, столкнувшись,
Ярким пламенем зажглися;
И, на горных высях стоя,
Закурил Владыка Жизни
Трубку Мира, созывая
Все народы к совещанью.
Дым струился тихо, тихо
В блеске солнечного утра:
Прежде — темною полоской,
После — гуще, синим паром,
Забелел в лугах клубами,
Как зимой вершины леса,
Плыл все выше, выше, выше, —
Наконец коснулся неба
И волнами в сводах неба
Раскатился над землею.
Из долины Тавазэнта,
Из долины Вайоминга,
Из лесистой Тоскалузы,
От Скалистых Гор далеких,
От озер Страны Полночной
Все народы увидали
Отдаленный дым Покваны,
Дым призывный Трубки Мира.
И пророки всех народов
Говорили: «То Поквана!
Этим дымом отдаленным,
Что сгибается, как ива,
Как рука, кивает, манит,
Гитчи Манито могучий
Племена людей сзывает,
На совет зовет народы».
Вдоль потоков, по равнинам,
Шли вожди от всех народов,
Шли Чоктосы и Команчи,
Шли Шошоны и Омоги,
Шли Гуроны и Мэндэны,
Делавэры и Могоки,
Черноногие и Поны,
Оджибвеи и Дакоты —
Шли к горам Большой Равнины,
Пред лицо Владыки Жизни.
И в доспехах, в ярких красках, —
Словно осенью деревья,
Словно небо на рассвете, —
Собрались они в долине,
Дико глядя друг на друга.
В их очах — смертельный вызов,
В их сердцах — вражда глухая,
Вековая жажда мщенья —
Роковой завет от предков.
Гитчи Манито всесильный,
Сотворивший все народы,
Поглядел на них с участьем,
С отчей жалостью, с любовью, —
Поглядел на гнев их лютый,
Как на злобу малолетних,
Как на ссору в детских играх.
Он простер к ним сень десницы,
Чтоб смягчить их нрав упорный,
Чтоб смирить их пыл безумный
Мановением десницы.
И величественный голос,
Голос, шуму вод подобный,
Шуму дальних водопадов,
Прозвучал ко всем народам,
Говоря: «О дети, дети!
Слову мудрости внемлите,
Слову кроткого совета
От того, кто всех вас создал!
Дал я земли для охоты,
Дал для рыбной ловли воды,
Дал медведя и бизона,
Дал оленя и косулю,
Дал бобра вам и казарку;
Я наполнил реки рыбой,
А болота — дикой птицей:
Что ж ходить вас заставляет
На охоту друг за другом?
Я устал от ваших распрей,
Я устал от ваших споров,
От борьбы кровопролитной,
От молитв о кровной мести.
Ваша сила — лишь в согласье,
А бессилие — в разладе.
Примиритеся, о дети!
Будьте братьями друг другу!
И придет Пророк на землю
И укажет путь к спасенью;
Он наставником вам будет,
Будет жить, трудиться с вами.
Всем его советам мудрым
Вы должны внимать покорно —
И умножатся все роды,
И настанут годы счастья.
Если ж будете вы глухи, —
Вы погибнете в раздорах!
Погрузитесь в эту реку,
Смойте краски боевые,
Смойте с пальцев пятна крови;
Закопайте в землю луки,
Трубки сделайте из камня,
Тростников для них нарвите,
Ярко перьями украсьте,
Закурите Трубку Мира
И живите впредь как братья!»
Так сказал Владыка Жизни.
И все воины на землю
Тотчас кинули доспехи,
Сияли все свои одежды,
Смело бросилися в реку,
Смыли краски боевые.
Светлой, чистою волною
Выше их вода лилася —
От следов Владыки Жизни.
Мутной, красною волною
Ниже их вода лилася,
Словно смешанная с кровью.
Смывши краски боевые,
Вышли воины на берег,
В землю палицы зарыли,
Погребли в земле доспехи.
Гитчи Манито могучий,
Дух Великий и Создатель,
Встретил воинов улыбкой.
И в молчанье все народы
Трубки сделали из камня,
Тростников для них нарвали,
Чубуки убрали в перья
И пустились в путь обратный —
В ту минуту, как завеса
Облаков заколебалась
И в дверях отверстых неба
Гитчи Манито сокрылся,
Окружен клубами дыма
От Йокваны, Трубки Мира.
II. The Four Winds
«Honor be to Mudjekeewis!»
Cried the warriors, cried the old men,
When he came in triumph homeward
With the sacred Belt of Wampum,
From the regions of the North-Wind,
From the kingdom of Wabasso,
From the land of the White Rabbit.
He had stolen the Belt of Wampum
From the neck of Mishe-Mokwa,
From the Great Bear of the mountains,
From the terror of the nations,
As he lay asleep and cumbrous
On the summit of the mountains,
Like a rock with mosses on it,
Spotted brown and gray with mosses.
Silently he stole upon him
Till the red nails of the monster
Almost touched him, almost scared him,
Till the hot breath of his nostrils
Warmed the hands of Mudjekeewis,
As he drew the Belt of Wampum
Over the round ears, that heard not,
Over the small eyes, that saw not,
Over the long nose and nostrils,
The black muffle of the nostrils,
Out of which the heavy breathing
Warmed the hands of Mudjekeewis.
Then he swung aloft his war-club,
Shouted loud and long his war-cry,
Smote the mighty Mishe-Mokwa
In the middle of the forehead,
Right between the eyes he smote him.
With the heavy blow bewildered,
Rose the Great Bear of the mountains;
But his knees beneath him trembled,
And he whimpered like a woman,
As he reeled and staggered forward,
As he sat upon his haunches;
And the mighty Mudjekeewis,
Standing fearlessly before him,
Taunted him in loud derision,
Spake disdainfully in this wise:
«Hark you, Bear! you are a coward;
And no Brave, as you pretended;
Else you would not cry and whimper
Like a miserable woman!
Bear! you know our tribes are hostile,
Long have been at war together;
Now you find that we are strongest,
You go sneaking in the forest,
You go hiding in the mountains!
Had you conquered me in battle
Not a groan would I have uttered;
But you, Bear! sit here and whimper,
And disgrace your tribe by crying,
Like a wretched Shaugodaya,
Like a cowardly old woman!»
Then again he raised his war-club,
Smote again the Mishe-Mokwa
In the middle of his forehead,
Broke his skull, as ice is broken
When one goes to fish in Winter.
Thus was slain the Mishe-Mokwa,
He the Great Bear of the mountains,
He the terror of the nations.
«Honor be to Mudjekeewis!»
With a shout exclaimed the people,
«Honor be to Mudjekeewis!
Henceforth he shall be the West-Wind,
And hereafter and forever
Shall he hold supreme dominion
Over all the winds of heaven.
Call him no more Mudjekeewis,
Call him Kabeyun, the West-Wind!»
Thus was Mudjekeewis chosen
Father of the Winds of Heaven.
For himself he kept the West-Wind,
Gave the others to his children;
Unto Wabun gave the East-Wind,
Gave the South to Shawondasee,
And the North-Wind, wild and cruel,
To the fierce Kabibonokka.
Young and beautiful was Wabun;
He it was who brought the morning,
He it was whose silver arrows
Chased the dark o’er hill and valley;
He it was whose cheeks were painted
With the brightest streaks of crimson,
And whose voice awoke the village,
Called the deer, and called the hunter.
Lonely in the sky was Wabun;
Though the birds sang gayly to him,
Though the wild-flowers of the meadow
Filled the air with odors for him;
Though the forests and the rivers
Sang and shouted at his coming,
Still his heart was sad within him,
For he was alone in heaven.
But one morning, gazing earthward,
While the village still was sleeping,
And the fog lay on the river,
Like a ghost, that goes at sunrise,
He beheld a maiden walking
All alone upon a meadow,
Gathering water-flags and rushes
By a river in the meadow.
Every morning, gazing earthward,
Still the first thing he beheld there
Was her blue eyes looking at him,
Two blue lakes among the rushes.
And he loved the lonely maiden,
Who thus waited for his coming;
For they both were solitary,
She on earth and he in heaven.
And he wooed her with caresses,
Wooed her with his smile of sunshine,
With his flattering words he wooed her,
With his sighing and his singing,
Gentlest whispers in the branches,
Softest music, sweetest odors,
Till he drew her to his bosom,
Folded in his robes of crimson,
Till into a star he changed her,
Trembling still upon his bosom;
And forever in the heavens
They are seen together walking,
Wabun and the Wabun-Annung,
Wabun and the Star of Morning.
But the fierce Kabibonokka
Had his dwelling among icebergs,
In the everlasting snow-drifts,
In the kingdom of Wabasso,
In the land of the White Rabbit.
He it was whose hand in Autumn
Painted all the trees with scarlet,
Stained the leaves with red and yellow;
He it was who sent the snow-flake,
Sifting, hissing through the forest,
Froze the ponds, the lakes, the rivers,
Drove the loon and sea-gull southward,
Drove the cormorant and curlew
To their nests of sedge and sea-tang
In the realms of Shawondasee.
Once the fierce Kabibonokka
Issued from his lodge of snow-drifts
From his home among the icebergs,
And his hair, with snow besprinkled,
Streamed behind him like a river,
Like a black and wintry river,
As he howled and hurried southward,
Over frozen lakes and moorlands.
There among the reeds and rushes
Found he Shingebis, the diver,
Trailing strings of fish behind him,
O’er the frozen fens and moorlands,
Lingering still among the moorlands,
Though his tribe had long departed
To the land of Shawondasee.
Cried the fierce Kabibonokka,
«Who is this that dares to brave me?
Dares to stay in my dominions,
When the Wawa has departed,
When the wild-goose has gone southward,
And the heron, the Shuh-shuh-gah,
Long ago departed southward?
I will go into his wigwam,
I will put his smouldering fire out!»
And at night Kabibonokka,
To the lodge came wild and wailing,
Heaped the snow in drifts about it,
Shouted down into the smoke-flue,
Shook the lodge-poles in his fury,
Flapped the curtain of the door-way.
Shingebis, the diver, feared not,
Shingebis, the diver, cared not;
Four great logs had he for firewood,
One for each moon of the winter,
And for food the fishes served him.
By his blazing fire he sat there,
Warm and merry, eating, laughing,
Singing, «O Kabibonokka,
You are but my fellow-mortal!»
Then Kabibonokka entered,
And though Shingebis, the diver,
Felt his presence by the coldness,
Felt his icy breath upon him,
Still he did not cease his singing,
Still he did not leave his laughing,
Only turned the log a little,
Only made the fire burn brighter,
Made the sparks fly up the smoke-flue.
From Kabibonokka’s forehead,
From his snow-besprinkled tresses,
Drops of sweat fell fast and heavy,
Making dints upon the ashes,
As along the eaves of lodges,
As from drooping boughs of hemlock,
Drips the melting snow in spring-time,
Making hollows in the snow-drifts.
Till at last he rose defeated,
Could not bear the heat and laughter,
Could not bear the merry singing,
But rushed headlong through the door-way,
Stamped upon the crusted snow-drifts,
Stamped upon the lakes and rivers,
Made the snow upon them harder,
Made the ice upon them thicker,
Challenged Shingebis, the diver,
To come forth and wrestle with him,
To come forth and wrestle naked
On the frozen fens and moorlands.
Forth went Shingebis, the diver,
Wrestled all night with the North-Wind,
Wrestled naked on the moorlands
With the fierce Kabibonokka,
Till his panting breath grew fainter,
Till his frozen grasp grew feebler,
Till he reeled and staggered backward,
And retreated, baffled, beaten,
To the kingdom of Wabasso,
To the land of the White Rabbit,
Hearing still the gusty laughter,
Hearing Shingebis, the diver,
Singing, «O Kabibonokka,
You are but my fellow-mortal!»
Shawondasee, fat and lazy,
Had his dwelling far to southward,
In the drowsy, dreamy sunshine,
In the never-ending Summer.
He it was who sent the wood-birds,
Sent the robin, the Opechee,
Sent the bluebird, the Owaissa,
Sent the Shawshaw, sent the swallow,
Sent the wild-goose, Wawa, northward,
Sent the melons and tobacco,
And the grapes in purple clusters.
From his pipe the smoke ascending
Filled the sky with haze and vapor,
Filled the air with dreamy softness,
Gave a twinkle to the water,
Touched the rugged hills with smoothness,
Brought the tender Indian Summer
To the melancholy north-land,
In the dreary Moon of Snow-shoes.
Listless, careless Shawondasee!
In his life he had one shadow,
In his heart one sorrow had he.
Once, as he was gazing northward,
Far away upon a prairie
He beheld a maiden standing,
Saw a tall and slender maiden
All alone upon a prairie;
Brightest green were all her garments,
And her hair was like the sunshine.
Day by day he gazed upon her,
Day by day he sighed with passion,
Day by day his heart within him
Grew more hot with love and longing
For the maid with yellow tresses.
But he was too fat and lazy
To bestir himself and woo her.
Yes, too indolent and easy
To pursue her and persuade her;
So he only gazed upon her,
Only sat and sighed with passion
For the maiden of the prairie.
Till one morning, looking northward,
He beheld her yellow tresses
Changed and covered o’er with whiteness,
Covered as with whitest snow-flakes.
«Ah! my brother from the North-land,
From the kingdom of Wabasso,
From the land of the White Rabbit!
You have stolen the maiden from me,
You have laid your hand upon her,
You have wooed and won my maiden,
With your stories of the North-land!»
Thus the wretched Shawondasee
Breathed into the air his sorrow;
And the South-Wind o’er the prairie
Wandered warm with sighs of passion,
With the sighs of Shawondasee,
Till the air seemed full of snow-flakes,
Full of thistle-down the prairie,
And the maid with hair like sunshine
Vanished from his sight forever;
Never more did Shawondasee
See the maid with yellow tresses!
Poor, deluded Shawondasee!
‘T was no woman that you gazed at,
‘T was no maiden that you sighed for,
‘T was the prairie dandelion
That through all the dreamy Summer
You had gazed at with such longing,
You had sighed for with such passion,
And had puffed away forever,
Blown into the air with sighing.
Ah! deluded Shawondasee!
Thus the Four Winds were divided
Thus the sons of Mudjekeewis
Had their stations in the heavens,
At the corners of the heavens;
For himself the West-Wind only
Kept the mighty Mudjekeewis.
Четыре ветра
«Слава, слава, Мэджекивис!» —
Старцы, воины кричали
В день, когда он возвратился
И принес Священный Вампум
Из далеких стран Вабассо —
Царства кролика седого,
Царства Северного Ветра.
У Великого Медведя
Он украл Священный Вампум,
С толстой шеи Мише-Моквы,
Пред которым трепетали
Все народы, снял он Вампум
В час, когда на горных высях
Спал медведь, тяжелый, грузный,
Как утес, обросший мохом,
Серым мохом в бурых пятнах.
Тихо он к нему подкрался,
Так подкрался осторожно,
Что его почти касались
Когти красные медведя,
А горячее дыханье
Обдавало жаром руки.
Осторожно снял он Вампум
По ушам, по длинной морде
Исполина Мише-Моквы;
Ничего не услыхали
Уши круглые медведя,
Ничего не разглядели
Глазки сонные — и только
Из ноздрей его дыханье
Обдавало жаром руки.
Кончив, палицей взмахнул он,
Крикнул громко и протяжно
И ударил Мише-Мокву
В середину лба с размаху,
Между глаз ударил прямо!
Словно громом оглушенный,
Приподнялся Мише-Моква,
Но едва вперед подался,
Затряслись его колени,
И со стоном, как старуха,
Сел на землю Мише-Моква.
А могучий Мэджекнвис
Перед ним стоял без страха,
Над врагом смеялся громко,
Говорил с пренебреженьем:
«О медведь! Ты — Шогодайя!
Всюду хвастался ты силой,
А как баба, как старуха,
Застонал, завыл от боли.
Трус! Давно уже друг с другом
Племена враждуют наши,
Но теперь ты убедился,
Кто бесстрашней и сильнее.
Уходите прочь с дороги,
Прячьтесь в горы, в лес скрывайтесь!
Если б ты меня осилил,
Я б не крикнул, умирая,
Ты же хнычешь предо мною
И свое позоришь племя,
Как трусливая старуха,
Как презренный Шогодайя».
Кончив, палицей взмахнул он,
Вновь ударил Мише-Мокву
В середину лба с размаху,
И, как лед под рыболовом,
Треснул череп под ударом.
Так убит был Мише-Моква,
Так погиб Медведь Великий,
Страх и ужас всех народов.
«Слава, слава, Мэджекивис! —
Восклицал народ в восторге. —
Слава, слава, Мэджекивис!
Пусть отныне и вовеки
Ветром Запада он будет,
Властелином над ветрами!»
И могучий Мэджекивис
Стал владыкой над ветрами.
Ветер Западный оставил
Он себе, другие отдал
Детям: Вебону — Восточный,
Шавондази — теплый Южный,
А Полночный Ветер дикий
Злому дал Кабибонокке.
Молод и прекрасен Вебон!
Это он приносит утро
И серебряные стрелы
Сыплет, сумрак прогоняя,
По холмам и по долинам;
Это Вебона ланиты
На заре горят багрянцем,
А призывный голос будит
И охотника и зверя.
Одинок на небе Вебон!
Для него все птицы пели,
Для него цветы в долинах
Разливали сладкий запах,
Для него шумели реки,
Рощи темные вздыхали,
Но всегда был грустен Вебон;
Одинок он был на небе.
Утром раз, на землю глядя,
В час, когда спала деревня
И туман, как привиденье,
Над рекой блуждал, белея,
Он увидел, что в долине
Ходит дева — собирает
Камыши и длинный шпажник
Над рекою по долине.
С той поры, на землю глядя,
Только очи голубые
Видел Вебон на рассвете:
Как два озера лазурных,
На него они смотрели,
И задумчивую деву,
Что к нему стремилась сердцем,
Полюбил прекрасный Вебон:
Оба были одиноки,
На земле — она, он — в небе.
Он возлюбленную нежил
И ласкал улыбкой солнца,
Нежил вкрадчивою речью,
Тихим вздохом, тихой песней,
Тихим шепотом деревьев,
Ароматом белых лилий.
К сердцу милую привлек он,
Ярким пурпуром окутал —
И она затрепетала
На груди его звездою.
Так доныне неразлучно
В небесах они проходят:
Вебон, рядом Вебон-Аннонг —
Вебон и Звезда Рассвета.
В ледяных горах, в пустыне,
В царстве кролика, Вабассо,
В царстве вечной снежной вьюги,
Обитая Кабибонокка.
Это он осенней ночью
Разрисовывает листья
Краской желтой и багряной,
Это он приносит вьюги,
По лесам шипит и свищет,
Покрывает льдом озера,
Гонит чаек острокрылых,
Гонит цаплю и баклана
В камыши, в морские бухты,
В гнезда их на теплом юге.
Вышел раз Кабибонокка
Из своих чертогов снежных
Меж горами ледяными,
Устремился с воем к югу
По замерзшим, белым тундрам.
И, осыпанные снегом,
Волоса его — рекою,
Черной, зимнею рекою
По земле за ним струились.
В тростниках, среди осоки,
На замерзших, белых тундрах
Жил там Шингебис, морянка.
Одиноко в белых тундрах
Проводил он зиму эту:
Братья Шингебиса были
В теплых странах Шавондази.
И вскричал Кабибонокка
В лютом гневе: «Кто дерзает
Презирать Кабибонокку?
Кто осмелился остаться
В царстве Северного Ветра,
Если Вава и Шух-шух-га,
Если дикий гусь и цапля
Уж давно на юг умчались?
Я пойду к его вигваму,
Я очаг его разрушу!»
И пришел во мраке ночи
Ко врагу Кабибонокка.
Он намел сугробы снега,
Завывал в трубе вигвама,
Потрясал его свирепо,
Рвал дверные занавески.
Шингебис не испугался,
Шингебис его не слушал!
В очаге его играло
Пламя яркое, и рыбу
Ел он с песнями и смехом.
Ворвался тогда в жилище
Дикий, злой Кабибонокка;
Шингебис, от стужи вздрогнул
В ледяном его дыханье,
Но по-прежнему смеялся,
Но по-прежнему пел громко;
Он костер поправил только,
Чтоб костер горел светлее,
Чтоб кидало пламя искры.
И с чела Кабибонокки,
С кос его в снегу холодном
Стали падать капли пота,
Как весною каплет с крыши
Иль с ветвей болиголова.
Побежденный этим жаром,
Раздраженный этим пеньем,
Он вскочил и из вигвама
В поле бросился, шагая
По рекам и по озерам:
На борьбу над белой тундрой
Вызывал врага коварно.
Но без страха, без боязни
Вышел Шингебис на битву;
До рассвета он боролся
С Ветром Северным над тундрой,
До утра когтями бился
Шингебис с Кабибоноккой.
И без сил Кабибонокка
Отступил в свои, владенья,
Со стыдом бежал по тундрам
В царство кролика, Вабассо,
А за ним все раздавались
Хохот, песни и насмешки.
Шавондази, тучный, сонный,
Обитал на дальнем юге,
Где в дремотном блеске солнца
Круглый год царило лето.
Это он шлет птиц весною,
Шлет к нам ласточку, шлет Шошо,
Шлет Овейсу, трясогузку,
Опечи шлет, реполова,
Гуся, Ваву, шлет на север,
Шлет табак душистый, дыни,
Виноград в багряных гроздьях.
Дым из трубки Шавондази
Небеса туманит паром,
Наполняет негой воздух.
Тусклый блеск дает озерам,
Очертанья гор смягчает,
Веет нежной лаской лета
В теплый Месяц Светлой Ночи,
В Месяц Лыж зимой холодной.
Беззаботный Шавопдази!
Лишь одно узнал он горе,
Лишь одну печаль изведал.
Раз, смотря на север с юга,
Далеко в степных равнинах
Он увидел утром деву,
Деву с гибким, стройным станом,
Одинокую в равнинах.
Был на ней наряд зеленый,
И как солнце были косы.
День за днем потом смотрел он,
День за днем вздыхал он страстно,
День за днем все больше сердце
Разгоралось в нем любовью
К деве нежной, златокудрой.
Но ленив и неподвижен
Был беспечный Шавондази,
Да, ленив и слишком тучен:
К милой он пойти все медлил,
Он сидел, вздыхая страстно,
И все только любовался
Златокудрой девой прерий.
Наконец однажды утром
Увидал он, что поблекли
Кудри русые у милой, —
Словно первый снег, белеют.
«О мой брат из Стран Полночных,
Из далеких стран Вабассо,
Царства Северного Ветра!
Ты украл мою невесту,
Завладел моею милой,
Обольстил ее своею
Сказкой Северного Ветра!»
Так несчастный Шавондази,
«Изливал свои страданья,
И бродил в равнинах знойный
Южный Ветер, полный вздохов,
Страстных вздохов Шавондази.
И наполнился весь воздух,
Словно снегом, белым пухом:
Погубили вздохи ветра
Деву с русыми кудрями,
И от взоров Шавондази
Навсегда сокрылась дева.
О мечтатель Шавондази!
Не по девушке вздыхал ты,
Не на женщину смотрел ты, —
На цветок, на одуванчик;
О цветке вздыхал ты страстно,
На цветок глядел все лето
День за днем с любовью томной
И сгубил его навеки,
В поле вздохами развеял.
Бедный, бедный Шавондази!
III. Hiawatha’s Childhood
Downward through the evening twilight,
In the days that are forgotten,
In the unremembered ages,
From the full moon fell Nokomis,
Fell the beautiful Nokomis,
She a wife, but not a mother.
She was sporting with her women,
Swinging in a swing of grape-vines,
When her rival the rejected,
Full of jealousy and hatred,
Cut the leafy swing asunder,
Cut in twain the twisted grape-vines,
And Nokomis fell affrighted
Downward through the evening twilight,
On the Muskoday, the meadow,
On the prairie full of blossoms.
«See! a star falls!» said the people;
«From the sky a star is falling!»
There among the ferns and mosses,
There among the prairie lilies,
On the Muskoday, the meadow,
In the moonlight and the starlight,
Fair Nokomis bore a daughter.
And she called her name Wenonah,
As the first-born of her daughters.
And the daughter of Nokomis
Grew up like the prairie lilies,
Grew a tall and slender maiden,
With the beauty of the moonlight,
With the beauty of the starlight.
And Nokomis warned her often,
Saying oft, and oft repeating,
«Oh, beware of Mudjekeewis,
Of the West-Wind, Mudjekeewis;
Listen not to what he tells you;
Lie not down upon the meadow,
Stoop not down among the lilies,
Lest the West-Wind come and harm you!»
But she heeded not the warning,
Heeded not those words of wisdom,
And the West-Wind came at evening,
Walking lightly o’er the prairie,
Whispering to the leaves and blossoms,
Bending low the flowers and grasses,
Found the beautiful Wenonah,
Lying there among the lilies,
Wooed her with his words of sweetness,
Wooed her with his soft caresses,
Till she bore a son in sorrow,
Bore a son of love and sorrow.
Thus was born my Hiawatha,
Thus was born the child of wonder;
But the daughter of Nokomis,
Hiawatha’s gentle mother,
In her anguish died deserted
By the West-Wind, false and faithless,
By the heartless Mudjekeewis.
For her daughter long and loudly
Wailed and wept the sad Nokomis;
«Oh that I were dead!» she murmured,
«Oh that I were dead, as thou art!
No more work, and no more weeping,
Wahonowin! Wahonowin!»
By the shores of Gitche Gumee,
By the shining Big-Sea-Water,
Stood the wigwam of Nokomis,
Daughter of the Moon, Nokomis.
Dark behind it rose the forest,
Rose the black and gloomy pine-trees,
Rose the firs with cones upon them;
Bright before it beat the water,
Beat the clear and sunny water,
Beat the shining Big-Sea-Water.
There the wrinkled old Nokomis
Nursed the little Hiawatha,
Rocked him in his linden cradle,
Bedded soft in moss and rushes,
Safely bound with reindeer sinews;
Stilled his fretful wail by saying,
«Hush! the Naked Bear will hear thee!»
Lulled him into slumber, singing,
«Ewa-yea! my little owlet!
Who is this, that lights the wigwam?
With his great eyes lights the wigwam?
Ewa-yea! my little owlet!»
Many things Nokomis taught him
Of the stars that shine in heaven;
Showed him Ishkoodah, the comet,
Ishkoodah, with fiery tresses;
Showed the Death-Dance of the spirits,
Warriors with their plumes and war-clubs,
Flaring far away to northward
In the frosty nights of Winter;
Showed the broad white road in heaven,
Pathway of the ghosts, the shadows,
Running straight across the heavens,
Crowded with the ghosts, the shadows.
At the door on summer evenings
Sat the little Hiawatha;
Heard the whispering of the pine-trees,
Heard the lapping of the waters,
Sounds of music, words of wonder;
«Minne-wawa!» said the Pine-trees,
«Mudway-aushka!» said the water.
Saw the fire-fly, Wah-wah-taysee,
Flitting through the dusk of evening,
With the twinkle of its candle
Lighting up the brakes and bushes,
And he sang the song of children,
Sang the song Nokomis taught him:
«Wah-wah-taysee, little fire-fly,
Little, flitting, white-fire insect,
Little, dancing, white-fire creature,
Light me with your little candle,
Ere upon my bed I lay me,
Ere in sleep I close my eyelids!»
Saw the moon rise from the water
Rippling, rounding from the water,
Saw the flecks and shadows on it,
Whispered, «What is that, Nokomis?»
And the good Nokomis answered:
«Once a warrior, very angry,
Seized his grandmother, and threw her
Up into the sky at midnight;
Right against the moon he threw her;
‘T is her body that you see there.»
Saw the rainbow in the heaven,
In the eastern sky, the rainbow,
Whispered, «What is that, Nokomis?»
And the good Nokomis answered:
«‘T is the heaven of flowers you see there;
All the wild-flowers of the forest,
All the lilies of the prairie,
When on earth they fade and perish,
Blossom in that heaven above us.»
When he heard the owls at midnight,
Hooting, laughing in the forest,
«What is that?» he cried in terror,
«What is that,» he said, «Nokomis?»
And the good Nokomis answered:
«That is but the owl and owlet,
Talking in their native language,
Talking, scolding at each other.»
Then the little Hiawatha
Learned of every bird its language,
Learned their names and all their secrets,
How they built their nests in Summer,
Where they hid themselves in Winter,
Talked with them whene’er he met them,
Called them «Hiawatha’s Chickens.»
Of all beasts he learned the language,
Learned their names and all their secrets,
How the beavers built their lodges,
Where the squirrels hid their acorns,
How the reindeer ran so swiftly,
Why the rabbit was so timid,
Talked with them whene’er he met them,
Called them «Hiawatha’s Brothers.»
Then Iagoo, the great boaster,
He the marvellous story-teller,
He the traveller and the talker,
He the friend of old Nokomis,
Made a bow for Hiawatha;
From a branch of ash he made it,
From an oak-bough made the arrows,
Tipped with flint, and winged with feathers,
And the cord he made of deer-skin.
Then he said to Hiawatha:
«Go, my son, into the forest,
Where the red deer herd together,
Kill for us a famous roebuck,
Kill for us a deer with antlers!»
Forth into the forest straightway
All alone walked Hiawatha
Proudly, with his bow and arrows;
And the birds sang round him, o’er him,
«Do not shoot us, Hiawatha!»
Sang the robin, the Opechee,
Sang the bluebird, the Owaissa,
«Do not shoot us, Hiawatha!»
Up the oak-tree, close beside him,
Sprang the squirrel, Adjidaumo,
In and out among the branches,
Coughed and chattered from the oak-tree,
Laughed, and said between his laughing,
«Do not shoot me, Hiawatha!»
And the rabbit from his pathway
Leaped aside, and at a distance
Sat erect upon his haunches,
Half in fear and half in frolic,
Saying to the little hunter,
«Do not shoot me, Hiawatha!»
But he heeded not, nor heard them,
For his thoughts were with the red deer;
On their tracks his eyes were fastened,
Leading downward to the river,
To the ford across the river,
And as one in slumber walked he.
Hidden in the alder-bushes,
There he waited till the deer came,
Till he saw two antlers lifted,
Saw two eyes look from the thicket,
Saw two nostrils point to windward,
And a deer came down the pathway,
Flecked with leafy light and shadow.
And his heart within him fluttered,
Trembled like the leaves above him,
Like the birch-leaf palpitated,
As the deer came down the pathway.
Then, upon one knee uprising,
Hiawatha aimed an arrow;
Scarce a twig moved with his motion,
Scarce a leaf was stirred or rustled,
But the wary roebuck started,
Stamped with all his hoofs together,
Listened with one foot uplifted,
Leaped as if to meet the arrow;
Ah! the singing, fatal arrow,
Like a wasp it buzzed and stung him!
Dead he lay there in the forest,
By the ford across the river;
Beat his timid heart no longer,
But the heart of Hiawatha
Throbbed and shouted and exulted,
As he bore the red deer homeward,
And Iagoo and Nokomis
Hailed his coming with applauses.
From the red deer’s hide Nokomis
Made a cloak for Hiawatha,
From the red deer’s flesh Nokomis
Made a banquet to his honor.
All the village came and feasted,
All the guests praised Hiawatha,
Called him Strong-Heart, Soan-ge-taha!
Called him Loon-Heart, Mahn-go-taysee!
Детство Гайаваты
В летний вечер, в полнолунье,
В незапамятное время,
В незапамятные годы,
Прямо с месяца упала
К нам прекрасная Нокомис,
Дочь ночных светил, Нокомис.
Как дитя, она играла,
На ветвях на виноградных
Меж подруг своих качалась,
И одна из них, сгорая
Злобой ревности и мести,
Эти ветви подрубила,
И на Мускодэ упала,
На цветущую долину,
Замирая от испуга,
Летним вечером Нокомис.
«Вон звезда упала с неба!» —
Говорил народ в селеньях.
Там, на мягких мхах и травах,
Там, среди стыдливых лилий,
В тихой Мускодэ, в долине,
В звездном блеске, в лунном свете,
Стала матерью Нокомис,
Назвала дочь первородной —
Назвала ее Веноной.
И, как лилия в долине,
Расцвела ее Венона:
Стала гибкой, стала стройной,
Точно лунный свет, прекрасной,
Точно звездный отблеск, нежной.
И Нокомис часто стала
Говорить, твердить Веноне:
«О, страшись, остерегайся
Мэджекивиса, Венона!
Никогда его не слушай,
Не гуляй одна в долине,
Не ложись в траве меж лилий!»
Но не слушалась Венона,
Не внимала мудрой речи,
И пришел к ней Мэджекивис,
Темным вечером подкрался,
С тихим шепотом склоняя
На лугу цветы и травы.
Там прекрасная Венона
Меж цветов одра лежала,
Там нашел ее коварный
Ветер Западный — и начал
Очаровывать Венону
Сладкой речью, нежной лаской —
И родился сын печали,
Нежной страсти и печали,
Дивной тайны — Гайавата.
Так родился, Гайавата;
А коварный Мэджекивис,
Бессердечный Мэджекивис
Уж покинул дочь Нокомис,
И недолго после билось
Сердце нежное Веноны:
Умерла она в печали.
Долго с криками рыдала,
Долго плакала Нокомис:
«О, зачем жестокий Погок
Не меня унес с собою?
Лучше б мне лежать в могиле!
Вагономин, вагономин!»
На прибрежье Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
С юных дней жила Нокомис,
Дочь ночных светил, Нокомис.
Позади ее вигвама
Темный лес стоял стеною —
Чащи темных, мрачных сосен,
Чащи елей в красных шишках,
А пред ним прозрачной влагой
На песок плескались волны,
Блеском солнца зыбь сверкала
Светлых вод Большого Моря.
Там, в тиши лесов и моря,
Внука нянчила Нокомис,
В люльке липовой качала,
Устланной кугой и мохом,
Крепко связанной ремнями,
И, качая, говорила:
«Спи! А то отдам медведю!»
Там, баюкая, певала:
«Эва-ия, мой совенок!
Что там светится в вигваме?
Чьи глаза блестят в вигваме?
Эва-ия, мой совенок!»
Много-много рассказала
О звездах ему Нокомис;
Показала хвост кометы —
Ишкуду в огнистых косах,
Показала Танец Духов,
Их блистающие рати
В небесах Страны Полночной,
В Месяц Лыж морозной ночью;
Показала серебристый
Путь всех призраков и духов —
Белый путь на темном небе,
Полном призраков и духов.
Вечерами, теплым летом,
У дверей сидел малютка,
Слушал тихий ропот сосен,
Слушал тихий плеск прибоя,
Звуки дивных слов и песен:
«Минни-вава!» — пели сосны,
«Мэдвэй-ошка!» -пели волны.
Видел мушку, Ва-ва-тэйзи,
Что, сверкая белой искрой,
Светит в сумраке вечернем
Над травою и кустами,
И тихонько пел ей песню,
Что Нокомис научила:
«Ва-ва-тэйзи, Ва-ва-тэйзи!
Крошка, огненная мушка,
Крошка, белый огонечек!
Потанцуй еще немножко,
Посвети мне, попрыгунья,
Белой искоркой своею:
Скоро я в постельку лягу,
Скоро я закрою глазки!»
Видел, как над Гитчи-Гюми,
Отражаясь в Гитчи-Гюми,
Подымался полный месяц,
Видел тень на нем и пятна
И шептал: «Что там, Нокомис?»
А Нокомис отвечала:
«Раз один сердитый войн
Подхватил старуху-бабку
И швырнул ее на небо,
Зашвырнул на месяц прямо.
Так она там и осталась».
Видел радугу на небе,
На востоке, и тихонько
Говорил: «Что там, Нокомис?»
А Нокомис отвечала:
«Это Мускодэ на небе;
Все цветы лесов зеленых,
Все болотные кувшинки,
На земле когда увянут,
Расцветают снова в небе».
Если сов он слышал в полночь —
Вой и хохот в чаще леса, —
Он, дрожа, кричал: «Кто это?»
Он шептал: «Что там, Нокомис?»
А Нокомис отвечала:
«Это совы собралися
И по-своему болтают,
Это ссорятся совята!»
Так малютка, внук Нокомис,
Изучил весь птичий говор,
Имена их, все их тайны:
Как они вьют гнезда летом,
Где живут они зимою;
Часто с ними вел беседы,
Звал их всех: «мои цыплята».
Всех зверей язык узнал он,
Имена их, все их тайны:
Как бобер жилище строит,
Где орехи белка прячет,
Отчего резва косуля,
Отчего труслив Вабассо;
Часто с ними вел беседы,
Звал их: «братья Гайаваты».
И рассказчик сказок Ягу,
Говорун, хвастун великий,
Много по свету бродивший,
Верный друг Нокомис старой,
Сделал лук для Гайаваты:
Лук из ясеня он сделал,
Стрелы сделал он из дуба,
Наконечники — из яшмы,
Тетиву — из кожи лани.
И сказал он Гайавате:
«Ну, мой сын, иди скорее
В лес, где держатся олени.
Застрели-ка там косулю
С разветвленными рогами».
Гордо взял свой лук и стрелы
Гайавата и отважно
В лес пустился; птицы звонко
Пели, по лесу порхая.
«Не стреляй в нас, Гайавата!» —
Опечи пел красногрудый;
«Не стреляй в нас, Гайавата!» —
Пел Овейса синеперый.
На дубу над Гайаватой
Вниз и вверх скакала белка,
Меж зеленых листьев дуба
С кашлем прыгала, смеялась
И, смеясь, пробормотала:
«Пощади, о Гайавата!»
И вприпрыжку белый кролик
Робко бросился с тропинки,
Стал вдали на задних лапках
И охотнику промолвил
Хоть и в шутку, но трусливо:
«Пощади, о Гайавата!»
Но не слушал Гайавата, —
Точно сонный, брел он лесом,
Думал только об олене,
След его искал глазами,
След, что вел к речному броду,
По тропе к речному броду.
За ольховыми кустами
Сел и выждал он оленя,
Увидал два глаза в чаще,
Увидал над ней два рога,
Ноздри, поднятые к ветру,
Увидал и морду зверя
Под листвою, в пятнах света,
И, как легкий лист березы,
Сердце в нем затрепетало,
Как ольха, весь задрожал он,
Увидав над бродом зверя.
На одно колено ставши,
Он прицелился в оленя.
Только ветка шевельнулась,
Только листик закачался,
Но олень уж встрепенулся,
Отшатнувшись, топнул в землю,
Чутко встал, подняв копыто,
Прыгнул, точно ждал удара.
Ах, он шел навстречу смерти!
Как оса, стрела запела,
Как оса, в него впилася!
Мертвый, он лежал у брода,
Меж деревьев, над рекою;
Сердце в нем уже не билось,
Но зато у Гайаваты
Сердце так и трепетало,
Как домой он нес оленя
И ему рукоплескали
Старый Ягу и Нокомис.
Из оленьей пестрой шкуры
Внуку плащ Нокомис сшила,
Созвала соседей в гости,
Пир дала в честь Гайаваты.
Вся деревня собралася,
Все соседи называли
Гайавату храбрым, сильным —
Сон-джи-тэгэ, Ман-го-тэйзи!
IV. Hiawatha and Mudjekeewis
Out of childhood into manhood
Now had grown my Hiawatha,
Skilled in all the craft of hunters,
Learned in all the lore of old men,
In all youthful sports and pastimes,
In all manly arts and labors.
Swift of foot was Hiawatha;
He could shoot an arrow from him,
And run forward with such fleetness,
That the arrow fell behind him!
Strong of arm was Hiawatha;
He could shoot ten arrows upward,
Shoot them with such strength and swiftness,
That the tenth had left the bow-string
Ere the first to earth had fallen!
He had mittens, Minjekahwun,
Magic mittens made of deer-skin;
When upon his hands he wore them,
He could smite the rocks asunder,
He could grind them into powder.
He had moccasins enchanted,
Magic moccasins of deer-skin;
When he bound them round his ankles,
When upon his feet he tied them,
At each stride a mile he measured!
Much he questioned old Nokomis
Of his father Mudjekeewis;
Learned from her the fatal secret
Of the beauty of his mother,
Of the falsehood of his father;
And his heart was hot within him,
Like a living coal his heart was.
Then he said to old Nokomis,
«I will go to Mudjekeewis,
See how fares it with my father,
At the doorways of the West-Wind,
At the portals of the Sunset!»
From his lodge went Hiawatha,
Dressed for travel, armed for hunting;
Dressed in deer-skin shirt and leggings,
Richly wrought with quills and wampum;
On his head his eagle-feathers,
Round his waist his belt of wampum,
In his hand his bow of ash-wood,
Strung with sinews of the reindeer;
In his quiver oaken arrows,
Tipped with jasper, winged with feathers;
With his mittens, Minjekahwun,
With his moccasins enchanted.
Warning said the old Nokomis,
«Go not forth, O Hiawatha!
To the kingdom of the West-Wind,
To the realms of Mudjekeewis,
Lest he harm you with his magic,
Lest he kill you with his cunning!»
But the fearless Hiawatha
Heeded not her woman’s warning;
Forth he strode into the forest,
At each stride a mile he measured;
Lurid seemed the sky above him,
Lurid seemed the earth beneath him,
Hot and close the air around him,
Filled with smoke and fiery vapors,
As of burning woods and prairies,
For his heart was hot within him,
Like a living coal his heart was.
So he journeyed westward, westward,
Left the fleetest deer behind him,
Left the antelope and bison;
Crossed the rushing Esconaba,
Crossed the mighty Mississippi,
Passed the Mountains of the Prairie,
Passed the land of Crows and Foxes,
Passed the dwellings of the Blackfeet,
Came unto the Rocky Mountains,
To the kingdom of the West-Wind,
Where upon the gusty summits
Sat the ancient Mudjekeewis,
Ruler of the winds of heaven.
Filled with awe was Hiawatha
At the aspect of his father.
On the air about him wildly
Tossed and streamed his cloudy tresses,
Gleamed like drifting snow his tresses,
Glared like Ishkoodah, the comet,
Like the star with fiery tresses.
Filled with joy was Mudjekeewis
When he looked on Hiawatha,
Saw his youth rise up before him
In the face of Hiawatha,
Saw the beauty of Wenonah
From the grave rise up before him.
«Welcome!» said he, «Hiawatha,
To the kingdom of the West-Wind
Long have I been waiting for you
Youth is lovely, age is lonely,
Youth is fiery, age is frosty;
You bring back the days departed,
You bring back my youth of passion,
And the beautiful Wenonah!»
Many days they talked together,
Questioned, listened, waited, answered;
Much the mighty Mudjekeewis
Boasted of his ancient prowess,
Of his perilous adventures,
His indomitable courage,
His invulnerable body.
Patiently sat Hiawatha,
Listening to his father’s boasting;
With a smile he sat and listened,
Uttered neither threat nor menace,
Neither word nor look betrayed him,
But his heart was hot within him,
Like a living coal his heart was.
Then he said, «O Mudjekeewis,
Is there nothing that can harm you?
Nothing that you are afraid of?»
And the mighty Mudjekeewis,
Grand and gracious in his boasting,
Answered, saying, «There is nothing,
Nothing but the black rock yonder,
Nothing but the fatal Wawbeek!»
And he looked at Hiawatha
With a wise look and benignant,
With a countenance paternal,
Looked with pride upon the beauty
Of his tall and graceful figure,
Saying, «O my Hiawatha!
Is there anything can harm you?
Anything you are afraid of?»
But the wary Hiawatha
Paused awhile, as if uncertain,
Held his peace, as if resolving,
And then answered, «There is nothing,
Nothing but the bulrush yonder,
Nothing but the great Apukwa!»
And as Mudjekeewis, rising,
Stretched his hand to pluck the bulrush,
Hiawatha cried in terror,
Cried in well-dissembled terror,
«Kago! kago! do not touch it!»
«Ah, kaween!» said Mudjekeewis,
«No indeed, I will not touch it!»
Then they talked of other matters;
First of Hiawatha’s brothers,
First of Wabun, of the East-Wind,
Of the South-Wind, Shawondasee,
Of the North, Kabibonokka;
Then of Hiawatha’s mother,
Of the beautiful Wenonah,
Of her birth upon the meadow,
Of her death, as old Nokomis
Had remembered and related.
And he cried, «O Mudjekeewis,
It was you who killed Wenonah,
Took her young life and her beauty,
Broke the Lily of the Prairie,
Trampled it beneath your footsteps;
You confess it! you confess it!»
And the mighty Mudjekeewis
Tossed upon the wind his tresses,
Bowed his hoary head in anguish,
With a silent nod assented.
Then up started Hiawatha,
And with threatening look and gesture
Laid his hand upon the black rock,
On the fatal Wawbeek laid it,
With his mittens, Minjekahwun,
Rent the jutting crag asunder,
Smote and crushed it into fragments,
Hurled them madly at his father,
The remorseful Mudjekeewis,
For his heart was hot within him,
Like a living coal his heart was.
But the ruler of the West-Wind
Blew the fragments backward from him,
With the breathing of his nostrils,
With the tempest of his anger,
Blew them back at his assailant;
Seized the bulrush, the Apukwa,
Dragged it with its roots and fibres
From the margin of the meadow,
From its ooze the giant bulrush;
Long and loud laughed Hiawatha!
Then began the deadly conflict,
Hand to hand among the mountains;
From his eyry screamed the eagle,
The Keneu, the great war-eagle,
Sat upon the crags around them,
Wheeling flapped his wings above them.
Like a tall tree in the tempest
Bent and lashed the giant bulrush;
And in masses huge and heavy
Crashing fell the fatal Wawbeek;
Till the earth shook with the tumult
And confusion of the battle,
And the air was full of shoutings,
And the thunder of the mountains,
Starting, answered, «Baim-wawa!»
Back retreated Mudjekeewis,
Rushing westward o’er the mountains,
Stumbling westward down the mountains,
Three whole days retreated fighting,
Still pursued by Hiawatha
To the doorways of the West-Wind,
To the portals of the Sunset,
To the earth’s remotest border,
Where into the empty spaces
Sinks the sun, as a flamingo
Drops into her nest at nightfall
In the melancholy marshes.
«Hold!» at length cried Mudjekeewis,
«Hold, my son, my Hiawatha!
‘T is impossible to kill me,
For you cannot kill the immortal
I have put you to this trial,
But to know and prove your courage;
Now receive the prize of valor!
«Go back to your home and people,
Live among them, toil among them,
Cleanse the earth from all that harms it,
Clear the fishing-grounds and rivers,
Slay all monsters and magicians,
All the Wendigoes, the giants,
All the serpents, the Kenabeeks,
As I slew the Mishe-Mokwa,
Slew the Great Bear of the mountains.
«And at last when Death draws near you,
When the awful eyes of Pauguk
Glare upon you in the darkness,
I will share my kingdom with you,
Ruler shall you be thenceforward
Of the Northwest-Wind, Keewaydin,
Of the home-wind, the Keewaydin.»
Thus was fought that famous battle
In the dreadful days of Shah-shah,
In the days long since departed,
In the kingdom of the West-Wind.
Still the hunter sees its traces
Scattered far o’er hill and valley;
Sees the giant bulrush growing
By the ponds and water-courses,
Sees the masses of the Wawbeek
Lying still in every valley.
Homeward now went Hiawatha;
Pleasant was the landscape round him,
Pleasant was the air above him,
For the bitterness of anger
Had departed wholly from him,
From his brain the thought of vengeance,
From his heart the burning fever.
Only once his pace he slackened,
Only once he paused or halted,
Paused to purchase heads of arrows
Of the ancient Arrow-maker,
In the land of the Dacotahs,
Where the Falls of Minnehaha
Flash and gleam among the oak-trees,
Laugh and leap into the valley.
There the ancient Arrow-maker
Made his arrow-heads of sandstone,
Arrow-heads of chalcedony,
Arrow-heads of flint and jasper,
Smoothed and sharpened at the edges,
Hard and polished, keen and costly.
With him dwelt his dark-eyed daughter,
Wayward as the Minnehaha,
With her moods of shade and sunshine,
Eyes that smiled and frowned alternate,
Feet as rapid as the river,
Tresses flowing like the water,
And as musical a laughter:
And he named her from the river,
From the water-fall he named her,
Minnehaha, Laughing Water.
Was it then for heads of arrows,
Arrow-heads of chalcedony,
Arrow-heads of flint and jasper,
That my Hiawatha halted
In the land of the Dacotahs?
Was it not to see the maiden,
See the face of Laughing Water
Peeping from behind the curtain,
Hear the rustling of her garments
From behind the waving curtain,
As one sees the Minnehaha
Gleaming, glancing through the branches,
As one hears the Laughing Water
From behind its screen of branches?
Who shall say what thoughts and visions
Fill the fiery brains of young men?
Who shall say what dreams of beauty
Filled the heart of Hiawatha?
All he told to old Nokomis,
When he reached the lodge at sunset,
Was the meeting with his father,
Was his fight with Mudjekeewis;
Not a word he said of arrows,
Not a word of Laughing Water.
Гайавата и Мэджекивис
Миновали годы детства,
Возмужал мой Гайавата;
Игры юности беспечной,
Стариков житейский опыт,
Труд, охотничьи сноровки —
Все постиг он, все изведал.
Резвы ноги Гайаваты!
Запустив стрелу из лука,
Он бежал за ней так быстро,
Что стрелу опережал он.
Мощны руки Гайаваты!
Десять раз, не отдыхая,
Мог согнуть он лук упругий
Так легко, что догоняли
На лету друг друга стрелы.
Рукавицы Гайаваты,
Рукавицы, Минджикэвон,
Из оленьей мягкой шкуры
Обладали дивной силой:
Сокрушать он мог в них скалы,
Раздроблять в песчинки камни.
Мокасины Гайаваты
Из оленьей мягкой шкуры
Волшебство в себе таили:
Привязавши их к лодыжкам,
Прикрепив к ногам ремнями,
С каждым шагом Гайавата
Мог по целой миле делать.
Об отце своем нередко
Он расспрашивал Нокомис,
И поведала Нокомис
Внуку тайну роковую:
Рассказала, как прекрасна,
Как нежна была Венона,
Как сгубил ее изменой
Вероломный Мэджекивис,
И, как уголь, разгорелось
Гневом сердце Гайаваты.
Он сказал Нокомис старой:
«Я иду к отцу, Нокомис,
Я хочу его проведать
В царстве Западного Ветра,
У преддверия Заката».
Из вигвама выходил он,
Снарядившись в путь далекий,
В рукавицах, Минджикэвон,
И волшебных мокасинах.
Весь наряд его богатый
Из оленьей мягкой шкуры
Зернью вампума украшен
И щетиной дикобраза.
Голова его — в орлиных
Развевающихся перьях,
За плечом его, в колчане, —
Из дубовых веток стрелы,,
Оперенные искусно
И оправленные в яшму.
А в руках его — упругий
Лук из ясеня, согнутый
Тетивой из жил оленя.
Осторожная Нокомис
Говорила «Гайавате:
«Не ходя, о Гайавата,
В царство Западного Ветра:
Он убьет тебя коварством,
Волшебством своим погубит».
Но отважный Гайавата
Не внимал ее советам,
Уходил он от вигвама,
С каждым шагом делал милю.
Мрачным лес ему казался,
Мрачным — свод небес над лесом,
Воздух — душным и горячим,
Полным дыма, полным гари,
Как в пожар лесов и прерий:
Словно уголь, разгоралось
Гневом сердце Гайаваты.
Так держал он путь далекий
Все на запад и на запад
Легче быстрого оленя,
Легче лани и бизона.
Переплыл он Эсконабо,
Переплыл он Миссисипи,
Миновал Степные Горы,
Миновал степные страны
И Лисиц и Черноногих
И пришел к Горам Скалистым,
В царство Западного Ветра,
В царство бурь, где на вершинах
Восседал Владыка Ветров,
Престарелый Мэджекивис.
С тайным страхом Гайавата
Пред отцом остановился:
Дико в воздухе клубились,
Облаками развевались
Волоса его седые,
Словно снег, они блестели,
Словно пламенные косы
Ишкуды, они сверкали.
С тайной радостью увидел
Мэджекивис Гайавату:
Это молодости годы
Перед ним воскресли к жизни,
Это встала из могилы
Красота Веноны нежной.
«Будь здоров, о Гайавата! —
Так промолвил Мэджекивис. —
Долго ждал тебя я в гости
В царство Западного Ветра!
Годы старости — печальны,
Годы юности — отрадны.
Ты напомнил мне былое,
Юность пылкую напомнил
И прекрасную Венону!»
Много дней прошло в беседе,
Долго мощный Мэджекивис
Похвалялся Гайавате
Прежней доблестью своею,
Приключеньями былыми,
Непреклонною отвагой;
Говорил, что дивной силой
Он от смерти заколдован.
Молча слушал Гайавата,
Как хвалился Мэджекивис,
Терпеливо и с улыбкой
Он сидел и молча слушал.
Ни угрозой, ни укором,
Ни одним суровым взглядом
Он не выказал досады,
Но, как уголь, разгоралось
Гневом сердце Гайаваты.
И сказал он: «Мэджекивис!
Неужель ничто на свете
Погубить тебя не может?»
И могучий Мэджекивис
Величаво, благосклонно
Отвечал: «Ничто на свете,
Кроме вон того утеса,
Кроме Вавбика, утеса!»
И, взглянув на Гайавату
Взором мудрости спокойной,
По-отечески любуясь
Красотой его и мощью,
Он сказал: «О Гайавата!
Неужель ничто на свете
Погубить тебя не может?»
Помолчал одну минуту
Осторожный Гайавата,
Помолчал, как бы в сомненье,
Помолчал, как бы в раздумье,
И сказал: «Ничто на свете.
Лишь один тростник, Эпоква,
Лишь вон тот камыш высокий!»
И как только Мэджекивис,
Встав, простер к Эпокве руку,
Гайавата в страхе крикнул,
В лицемерном страхе крикнул:
«Каго, каго! Не касайся!»
«Полно! — молвил Мэджекивис.
Успокойся, — я не трону».
И опять они беседу
Продолжали; говорили
И о Вебоне прекрасном,
И о тучном Шавондази,
И о злом Кабибонокке;
Говорили о Веноне,
О ее рожденье дивном,
О ее кончине грустной —
Обо всем, что рассказала
Внуку старая Нокомис.
И воскликнул Гайавата:
«О коварный Мэджекивис!
Это ты убил Венону,
Ты сорвал цветок весенний,
Растоптал его ногами!
Признавайся! Признавайся!»
И могучий Мэджекивис
Тихо голову седую
Опустил в тоске глубокой,
В знак безмолвного согласья.
Быстро встал тогда, сверкая
Грозным взором, Гайавата,
На утес занес он руку
В рукавице, Минджикэвон,
Разломил его вершину,
Раздробил его в осколки,
Стал в отца швырять свирепо:
Словно уголь, разгорелось
Гневом сердце Гайаваты.
Но могучий Мэджекивис
Камни гнал назад дыханьем,
Бурей гневного дыханья
Гнал назад, на Гайавату.
Он схватил руной Эпокву,
Вырвал с мочками, с корнями, —
Над рекой из вязкой тины
Вырвал бешено Эпокву
Он под хохот Гайаваты.
И начался бой смертельный
Меж Скалистыми Горами!
Сам Орел Войны могучий
На гнезде поднялся с криком,
С резким криком сел на скалы,
Хлопал крыльями над ними.
Словно дерево под бурей,
Рассекал Эпоква воздух,
Словно град, летели камни
С треском с Вавбика, утеса,
И земля окрест дрожала,
И на тяжкий грохот боя
По горам гремело эхо,
Отзывалося: «Бэм-Вава!»
Отступать стал Мэджекивис,
Устремился он на запад,
По горам на дальний запад
Отступал три дня, сражаясь,
Убегал, гонимый сыном,
До преддверия Заката,
До границ своих владений,
До конца земли, где солнце
В красном блеске утопает,
На ночлег в воздушной бездне
Опускаясь, как фламинго
Опускается зарею
На печальное болото.
«Удержись, о Гайавата! —
Наконец вскричал он громко, —
Ты убить меня не в силах,
Для бессмертного нет смерти.
Испытать тебя хотел я,
Испытать твою отвагу,
И награду заслужил ты!
Возвратись в родную землю,
К своему вернись народу,
С ним живи и с ним работай.
Ты расчистить должен реки,
Сделать землю плодоносной,
Умертвить чудовищ злобных,
Змей, Кинэбик, и гигантов,
Как убил я Мише-Мокву,
Исполина Мише-Мокву.
А когда твой час настанет
И заблещут над тобою
Очи Погока из мрака, —
Разделю с тобой я царство,
И владыкою ты будешь
Над Кивайдином вовеки!»
Вот какая разыгралась
Битва в грозные дни Ша-ша,
В дни далекого былого,
В царстве Западного Ветра.
Но следы той славной битвы
И теперь охотник видит
По холмам и по долинам:
Видит шпажник исполинский
На прудах и вдоль потоков,
Видит Вавбика осколки
По холмам и по долинам.
На восток, в родную землю,
Гайавата путь направил.
Позабыл он горечь гнева,
Позабыл о мщенье думы,
И вокруг него отрадой
И весельем все дышало.
Только раз он путь замедлил,
Только раз остановился,
Чтоб купить в стране Дакотов
Наконечников на стрелы.
Там, в долине, где смеялись,
Где блистали, низвергаясь
Меж зелеными дубами,
Водопады Миинегаги,
Жил старик, дакот суровый.
Делал он головки к стрелам,
Острия из халцедона,
Из кремня и крепкой яшмы,
Отшлифованные гладко,
Заостренные, как иглы.
Там жила с ним дочь-невеста,
Быстроногая, как речка,
Своенравная, как брызги
Водопадов Миннегаги.
В блеске черных глаз играли
У нее и свет и тени —
Свет улыбки, тени гнева;
Смех ее звучал как песня,
Как поток струились косы,
И Смеющейся Водою
В честь реки ее назвал он,
В честь веселых водопадов
Дал ей имя — Миннегага.
Так ужели Гайавата
Заходил в страну Дакотов,
Чтоб купить головок к стрелам,
Наконечников из яшмы,
Из кремня и халцедона?
Не затем ли, чтоб украдкой
Посмотреть на Миннегагу,
Встретить взор ее пугливый,
Услыхать одежды шорох
За дверною занавеской,
Как глядят на Миннегагу,
Что горит сквозь ветви леса,
Как внимают водопаду
За зеленой чащей леса?
Кто расскажет, что таится
В молодом и пылком сердце?
Как узнать, о чем в дороге
Сладко грезил Гайавата?
Все Нокомис рассказал он,
Возвратясь домой под вечер:
О борьбе и о беседе
С Мэджекивисом могучим,
Но о девушке, о стрелах
Не обмолвился ни словом!
V. Hiawatha’s Fasting
You shall hear how Hiawatha
Prayed and fasted in the forest,
Not for greater skill in hunting,
Not for greater craft in fishing,
Not for triumphs in the battle,
And renown among the warriors,
But for profit of the people,
For advantage of the nations.
First he built a lodge for fasting,
Built a wigwam in the forest,
By the shining Big-Sea-Water,
In the blithe and pleasant Spring-time,
In the Moon of Leaves he built it,
And, with dreams and visions many,
Seven whole days and nights he fasted.
On the first day of his fasting
Through the leafy woods he wandered;
Saw the deer start from the thicket,
Saw the rabbit in his burrow,
Heard the pheasant, Bena, drumming,
Heard the squirrel, Adjidaumo,
Rattling in his hoard of acorns,
Saw the pigeon, the Omeme,
Building nests among the pinetrees,
And in flocks the wild-goose, Wawa,
Flying to the fen-lands northward,
Whirring, wailing far above him.
«Master of Life!» he cried, desponding,
«Must our lives depend on these things?»
On the next day of his fasting
By the river’s brink he wandered,
Through the Muskoday, the meadow,
Saw the wild rice, Mahnomonee,
Saw the blueberry, Meenahga,
And the strawberry, Odahmin,
And the gooseberry, Shahbomin,
And the grape-vine, the Bemahgut,
Trailing o’er the alder-branches,
Filling all the air with fragrance!
«Master of Life!» he cried, desponding,
«Must our lives depend on these things?»
On the third day of his fasting
By the lake he sat and pondered,
By the still, transparent water;
Saw the sturgeon, Nahma, leaping,
Scattering drops like beads of wampum,
Saw the yellow perch, the Sahwa,
Like a sunbeam in the water,
Saw the pike, the Maskenozha,
And the herring, Okahahwis,
And the Shawgashee, the crawfish!
«Master of Life!» he cried, desponding,
«Must our lives depend on these things?»
On the fourth day of his fasting
In his lodge he lay exhausted;
From his couch of leaves and branches
Gazing with half-open eyelids,
Full of shadowy dreams and visions,
On the dizzy, swimming landscape,
On the gleaming of the water,
On the splendor of the sunset.
And he saw a youth approaching,
Dressed in garments green and yellow,
Coming through the purple twilight,
Through the splendor of the sunset;
Plumes of green bent o’er his forehead,
And his hair was soft and golden.
Standing at the open doorway,
Long he looked at Hiawatha,
Looked with pity and compassion
On his wasted form and features,
And, in accents like the sighing
Of the South-Wind in the tree-tops,
Said he, «O my Hiawatha!
All your prayers are heard in heaven,
For you pray not like the others;
Not for greater skill in hunting,
Not for greater craft in fishing,
Not for triumph in the battle,
Nor renown among the warriors,
But for profit of the people,
For advantage of the nations.
«From the Master of Life descending,
I, the friend of man, Mondamin,
Come to warn you and instruct you,
How by struggle and by labor
You shall gain what you have prayed for.
Rise up from your bed of branches,
Rise, O youth, and wrestle with me!»
Faint with famine, Hiawatha
Started from his bed of branches,
From the twilight of his wigwam
Forth into the flush of sunset
Came, and wrestled with Mondamin;
At his touch he felt new courage
Throbbing in his brain and bosom,
Felt new life and hope and vigor
Run through every nerve and fibre.
So they wrestled there together
In the glory of the sunset,
And the more they strove and struggled,
Stronger still grew Hiawatha;
Till the darkness fell around them,
And the heron, the Shuh-shuh-gah,
From her nest among the pine-trees,
Gave a cry of lamentation,
Gave a scream of pain and famine.
«‘T Is enough!» then said Mondamin,
Smiling upon Hiawatha,
«But tomorrow, when the sun sets,
I will come again to try you.»
And he vanished, and was seen not;
Whether sinking as the rain sinks,
Whether rising as the mists rise,
Hiawatha saw not, knew not,
Only saw that he had vanished,
Leaving him alone and fainting,
With the misty lake below him,
And the reeling stars above him.
On the morrow and the next day,
When the sun through heaven descending,
Like a red and burning cinder
From the hearth of the Great Spirit,
Fell into the western waters,
Came Mondamin for the trial,
For the strife with Hiawatha;
Came as silent as the dew comes,
From the empty air appearing,
Into empty air returning,
Taking shape when earth it touches,
But invisible to all men
In its coming and its going.
Thrice they wrestled there together
In the glory of the sunset,
Till the darkness fell around them,
Till the heron, the Shuh-shuh-gah,
From her nest among the pine-trees,
Uttered her loud cry of famine,
And Mondamin paused to listen.
Tall and beautiful he stood there,
In his garments green and yellow;
To and fro his plumes above him,
Waved and nodded with his breathing,
And the sweat of the encounter
Stood like drops of dew upon him.
And he cried, «O Hiawatha!
Bravely have you wrestled with me,
Thrice have wrestled stoutly with me,
And the Master of Life, who sees us,
He will give to you the triumph!»
Then he smiled, and said: «To-morrow
Is the last day of your conflict,
Is the last day of your fasting.
You will conquer and o’ercome me;
Make a bed for me to lie in,
Where the rain may fall upon me,
Where the sun may come and warm me;
Strip these garments, green and yellow,
Strip this nodding plumage from me,
Lay me in the earth, and make it
Soft and loose and light above me.
«Let no hand disturb my slumber,
Let no weed nor worm molest me,
Let not Kahgahgee, the raven,
Come to haunt me and molest me,
Only come yourself to watch me,
Till I wake, and start, and quicken,
Till I leap into the sunshine»
And thus saying, he departed;
Peacefully slept Hiawatha,
But he heard the Wawonaissa,
Heard the whippoorwill complaining,
Perched upon his lonely wigwam;
Heard the rushing Sebowisha,
Heard the rivulet rippling near him,
Talking to the darksome forest;
Heard the sighing of the branches,
As they lifted and subsided
At the passing of the night-wind,
Heard them, as one hears in slumber
Far-off murmurs, dreamy whispers:
Peacefully slept Hiawatha.
On the morrow came Nokomis,
On the seventh day of his fasting,
Came with food for Hiawatha,
Came imploring and bewailing,
Lest his hunger should o’ercome him,
Lest his fasting should be fatal.
But he tasted not, and touched not,
Only said to her, «Nokomis,
Wait until the sun is setting,
Till the darkness falls around us,
Till the heron, the Shuh-shuh-gah,
Crying from the desolate marshes,
Tells us that the day is ended.»
Homeward weeping went Nokomis,
Sorrowing for her Hiawatha,
Fearing lest his strength should fail him,
Lest his fasting should be fatal.
He meanwhile sat weary waiting
For the coming of Mondamin,
Till the shadows, pointing eastward,
Lengthened over field and forest,
Till the sun dropped from the heaven,
Floating on the waters westward,
As a red leaf in the Autumn
Falls and floats upon the water,
Falls and sinks into its bosom.
And behold! the young Mondamin,
With his soft and shining tresses,
With his garments green and yellow,
With his long and glossy plumage,
Stood and beckoned at the doorway.
And as one in slumber walking,
Pale and haggard, but undaunted,
From the wigwam Hiawatha
Came and wrestled with Mondamin.
Round about him spun the landscape,
Sky and forest reeled together,
And his strong heart leaped within him,
As the sturgeon leaps and struggles
In a net to break its meshes.
Like a ring of fire around him
Blazed and flared the red horizon,
And a hundred suns seemed looking
At the combat of the wrestlers.
Suddenly upon the greensward
All alone stood Hiawatha,
Panting with his wild exertion,
Palpitating with the struggle;
And before him breathless, lifeless,
Lay the youth, with hair dishevelled,
Plumage torn, and garments tattered,
Dead he lay there in the sunset.
And victorious Hiawatha
Made the grave as he commanded,
Stripped the garments from Mondamin,
Stripped his tattered plumage from him,
Laid him in the earth, and made it
Soft and loose and light above him;
And the heron, the Shuh-shuh-gah,
From the melancholy moorlands,
Gave a cry of lamentation,
Gave a cry of pain and anguish!
Homeward then went Hiawatha
To the lodge of old Nokomis,
And the seven days of his fasting
Were accomplished and completed.
But the place was not forgotten
Where he wrestled with Mondamin;
Nor forgotten nor neglected
Was the grave where lay Mondamin,
Sleeping in the rain and sunshine,
Where his scattered plumes and garments
Faded in the rain and sunshine.
Day by day did Hiawatha
Go to wait and watch beside it;
Kept the dark mould soft above it,
Kept it clean from weeds and insects,
Drove away, with scoffs and shoutings,
Kahgahgee, the king of ravens.
Till at length a small green feather
From the earth shot slowly upward,
Then another and another,
And before the Summer ended
Stood the maize in all its beauty,
With its shining robes about it,
And its long, soft, yellow tresses;
And in rapture Hiawatha
Cried aloud, «It is Mondamin!
Yes, the friend of man, Mondamin!»
Then he called to old Nokomis
And Iagoo, the great boaster,
Showed them where the maize was growing,
Told them of his wondrous vision,
Of his wrestling and his triumph,
Of this new gift to the nations,
Which should be their food forever.
And still later, when the Autumn
Changed the long, green leaves to yellow,
And the soft and juicy kernels
Grew like wampum hard and yellow,
Then the ripened ears he gathered,
Stripped the withered husks from off them,
As he once had stripped the wrestler,
Gave the first Feast of Mondamin,
And made known unto the people
This new gift of the Great Spirit.
Пост Гайаваты
Вы услышите сказанье,
Как в лесной глуши постился
И молился Гайавата:
Не о ловкости в охоте,
Не о славе и победах,
Но о счастии, о благе
Всех племен и всех народов.
Пред постом он приготовил
Для себя в лесу жилище, —
Над блестящим Гитчи-Гюми,
В дни весеннего расцвета,
В светлый, теплый Месяц Листьев
Он вигвам себе построил
И, в виденьях, в дивных грезах,
Семь ночей и дней постился.
В первый день поста бродил он
По зеленым тихим рощам;
Видел кролика он в норке,
В чаще выпугнул оленя,
Слышал, как фазан кудахтал,
Как в дупле возилась белка,
Видел, как под тенью сосен
Вьет гнездо Омими, голубь,
Как стада гусей летели
С заунывным криком, с шумом
К диким северным болотам.
«Гитчи Манито! — вскричал он,
Полный скорби безнадежной, —
Неужели наше счастье,
Наша жизнь от них зависит?»
На другой день над рекою,
Вдоль по Мускодэ бродил он,
Видел там он Маномони
И Минагу, голубику,
И Одамин, землянику,
Куст крыжовника, Шабомин,
И Бимагут, виноградник,
Что зеленою гирляндой,
Разливая сладкий запах,
По ольховым сучьям вьется.
«Гитчи Манито! — вскричал он,
Полный скорби безнадежной, —
Неужели наше счастье,
Наша жизнь от них зависит?»
В третий день сидел он долго,
Погруженный в размышленья,
Возле озера, над тихой,
Над прозрачною водою.
Видел он, как прыгал Нама,
Сыпля брызги, словно жемчуг;
Как резвился окунь, Сава,
Словно солнца луч сияя,
Видел щуку, Маскенозу,
Сельдь речную, Окагавис,
Шогаши, морского рака.
«Гитчи Манито! — вскричал он,
Полный скорби безнадежной. —
Неужели наше счастье,
Наша жизнь от них зависит?»
На четвертый день до ночи
Он лежал в изнеможенье
На листве в своем вигваме.
В полусне над ним роились
Грезы, смутные виденья;
Вдалеке вода сверкала
Зыбким золотом, и плавно
Все кружилось и горело
В пышном зареве заката.
И увидел он: подходит
В полусумраке пурпурном,
В пышном зареве заката,
Стройный юноша к вигваму.
Голова его — в блестящих,
Развевающихся перьях,
Кудри — мягки, золотисты,
А наряд — зелено-желтый.
У дверей остановившись,
Долго с жалостью, с участьем
Он смотрел на Гайавату,
На лицо его худое,
И, как вздохи Шавондази
В чаще леса, — прозвучала
Речь его: «О Гайавата!
Голос твой услышан в небе,
Потому что ты молился
Не о ловкости в охоте,
Не о славе и победах,
Но о счастии, о благе
Всех племен и всех народов.
Для тебя Владыкой Жизни
Послан друг людей — Мондамин;
Послан он тебе поведать,
Что в борьбе, в труде, в терпенье
Ты получишь все, что просишь.
Встань с ветвей, с зеленых листьев,
Встань с Мондамином бороться!»
Изнурен был Гайавата,
Слаб от голода, но быстро
Встал с ветвей, с зеленых листьев.
Из стемневшего вигвама
Вышел он на свет заката,
Вышел с юношей бороться, —
И едва его коснулся,
Вновь почувствовал отвагу,
Ощутил в груди усталой
Бодрость, силу и надежду.
На лугу они кружились
В пышном зареве заката,
И все крепче, все сильнее
Гайавата становился.
Но спустились тени ночи,
И Шух-шух-га на болоте
Издала свой крик тоскливый,
Вопль и голода и скорби.
«Кончим! — вымолвил Мондамин,
Улыбаясь Гайавате, —
Завтра снова приготовься
На закате к испытанью».
И, сказав, исчез Мондамин.
Опустился ли он тучкой
Иль поднялся, как туманы, —
Гайавата не заметил;
Видел только, что исчез он,
Истомив его борьбою,
Что внизу, в ночном тумане,
Смутно озеро белеет,
А вверху мерцают звезды.
Так два вечера, — лишь только
Опускалось тихо солнце
С неба в западные воды,
Погружалось в них, краснея,
Словно уголь, раскаленный
В очаге Владыки Жизни, —
Приходил к нему Мондамин.
Молчаливо появлялся,
Как роса на землю сходит,
Принимающая форму
Лишь тогда, когда коснется
До травы или деревьев,
Но невидимая смертным
В час прихода и ухода.
На лугу они кружились
В пышном зареве заката;
Но спустились тени ночи,
Прокричала на болоте
Громко, жалобно Шух-шух-га,
И задумался Мондамин;
Стройным станом и прекрасный,
Он стоял в своем наряде;
В головном его уборе
Перья веяли, качались,
На челе его сверкали
Капли пота, как росинки.
И вскричал он: «Гайавата!
Храбро ты со мной боролся,
Трижды стойко ты боролся,
И пошлет Владыка Жизни
Надо мной тебе победу!»
А потом сказал с улыбкой:
«Завтра кончится твой искус —
И борьба и пост тяжелый;
Завтра ты меня поборешь;
Приготовь тогда мне ложе
Так, чтоб мог весенний дождик
Освежать меня, а солнце —
Согревать до самой ночи.
Мой наряд зелено-желтый,
Головной убор из перьев
Оборви с меня ты смело,
Схорони меня и землю
Разровняй и сделай мягкой.
Стереги мой сон глубокий,
Чтоб никто меня не трогал,
Чтобы плевелы и травы
Надо мной не зарастали,
Чтобы Кагаги, Царь-Ворон,
Не летал к моей могиле.
Стереги мой сон глубокий
До поры, когда проснусь я,
К солнцу светлому воспряну!»
И, сказав, исчез Мондамин.
Мирным сном спал Гайавата;
Слышал он, как пел уныло
Полуночник, Вавонэйса,
Над вигвамом одиноким;
Слышал он, как, убегая,
Сибовиша говорливый
Вел беседы с темным лесом;
Слышал шорох — вздохи веток,
Что склонялись, подымались,
С ветерком ночным качаясь.
Слышал все, но все сливалось
В дальний ропот, сонный шепот:
Мирным сном спал Гайавата.
На заре пришла Нокомис,
На седьмое утро пищи
Принесла для Гайаваты.
Со слезами говорила,
Что его погубит голод,
Если пищи он не примет.
Ничего он не отведал,
Ни к чему не прикоснулся,
Лишь промолвил ей: «Нокомис!
Подожди со мной заката,
Подожди, пока стемнеет
И Шух-шух-га громким криком
Возвестит, что день окончен!»
Плача, шла домой Нокомис,
Все тоскуя, опасаясь,
Что его погубит голод.
Он же стал, томясь тоскою,
Ждать Мондамина. И тени
Потянулись от заката
По лесам и по долинам;
Опустилось тихо солнце
С неба в Западные Воды,
Как спускается зарею
В воду красный лист осенний
И в воде, краснея, тонет.
Глядь — уж тут Мондамин юный,
У дверей стоит с приветом!
Голова его — в блестящих,
Развевающихся перьях,
Кудри — мягки, золотисты,
А наряд — зелено-желтый.
Как во сне, к нему навстречу
Встал, измученный и бледный,
Гайавата, но бесстрашно
Вышел — и бороться начал.
И слились земля и небо,
Замелькали пред глазами!
Как осетр в сетях трепещет,
Бьется бешено, чтоб сети
Разорвать и прыгнуть в воду,
Так в груди у Гайаваты
Сердце сильное стучало;
Словно огненные кольца,
Горизонт сверкал кровавый
И кружился с Гайаватой;
Сотни солнцев, разгораясь,
На борьбу его глядели.
Вдруг один среди поляны
Очутился Гайавата,
Он стоял, ошеломленный
Этой дикою борьбою,
И дрожал от напряженья;
А пред ним, в измятых перьях
И в изорванных одеждах,
Бездыханный, неподвижный,
На траве лежал Мондамин,
Мертвый, в зареве заката.
Победитель Гайавата
Сделал так, как приказал он:
Снял с Мондамина одежды,
Снял изломанные перья,
Схоронил его и землю
Разровнял и сделал мягкой.
И среди болот печальных
Цапля сизая, Шух-шух-га,
Издала свой крик тоскливый,
Вопль и жалобы и скорби.
В отчий дом, в вигвам Нокомис
Возвратился Гайавата,
И семь суток испытанья
В этот вечер завершились.
Но запомнил Гайавата
Те места, где он боролся,
Не покинул без призора
Ту могилу, где Мондамин
Почивал, в земле зарытый,
Под дождем и ярким солнцем.
День за днем над той могилой
Сторожил мой Гайавата,
Чтобы холм ее был мягким,
Не зарос травою сорной,
Прогоняя свистом, криком
Кагаги с его народом.
Наконец зеленый стебель
Показался над могилой,
А за ним — другой и третий,
И не кончилося лето,
Как в своем уборе пышном,
В золотистых, мягких косах,
Встал высокий, стройный маис.
И воскликнул Гайавата
В восхищении: «Мондамин!
Это друг людей, Мондамин!»
Тотчас кликнул он Нокомис,
Кликнул Ягу, рассказал им
О своем виденье дивном,
О своей борьбе, победе,
Показал зеленый маис —
Дар небесный всем народам,
Что для них быть должен пищей.
А поздней, когда, под осень,
Пожелтел созревший маис,
Пожелтели, стали тверды
Зерна маиса, как жемчуг,
Он собрал его початки,
Сняв с него листву сухую,
Как с Мондамина когда-то
Снял одежды, — и впервые
«Пир Мондамина» устроил,
Показал всему народу
Новый дар Владыки Жизни.
VI. Hiawatha’s Friends
Two good friends had Hiawatha,
Singled out from all the others,
Bound to him in closest union,
And to whom he gave the right hand
Of his heart, in joy and sorrow;
Chibiabos, the musician,
And the very strong man, Kwasind.
Straight between them ran the pathway,
Never grew the grass upon it;
Singing birds, that utter falsehoods,
Story-tellers, mischief-makers,
Found no eager ear to listen,
Could not breed ill-will between them,
For they kept each other’s counsel,
Spake with naked hearts together,
Pondering much and much contriving
How the tribes of men might prosper.
Most beloved by Hiawatha
Was the gentle Chibiabos,
He the best of all musicians,
He the sweetest of all singers.
Beautiful and childlike was he,
Brave as man is, soft as woman,
Pliant as a wand of willow,
Stately as a deer with antlers.
When he sang, the village listened;
All the warriors gathered round him,
All the women came to hear him;
Now he stirred their souls to passion,
Now he melted them to pity.
From the hollow reeds he fashioned
Flutes so musical and mellow,
That the brook, the Sebowisha,
Ceased to murmur in the woodland,
That the wood-birds ceased from singing,
And the squirrel, Adjidaumo,
Ceased his chatter in the oak-tree,
And the rabbit, the Wabasso,
Sat upright to look and listen.
Yes, the brook, the Sebowisha,
Pausing, said, «O Chibiabos,
Teach my waves to flow in music,
Softly as your words in singing!»
Yes, the bluebird, the Owaissa,
Envious, said, «O Chibiabos,
Teach me tones as wild and wayward,
Teach me songs as full of frenzy!»
Yes, the robin, the Opechee,
Joyous, said, «O Chibiabos,
Teach me tones as sweet and tender,
Teach me songs as full of gladness!»
And the whippoorwill, Wawonaissa,
Sobbing, said, «O Chibiabos,
Teach me tones as melancholy,
Teach me songs as full of sadness!»
All the many sounds of nature
Borrowed sweetness from his singing;
All the hearts of men were softened
By the pathos of his music;
For he sang of peace and freedom,
Sang of beauty, love, and longing;
Sang of death, and life undying
In the Islands of the Blessed,
In the kingdom of Ponemah,
In the land of the Hereafter.
Very dear to Hiawatha
Was the gentle Chibiabos,
He the best of all musicians,
He the sweetest of all singers;
For his gentleness he loved him,
And the magic of his singing.
Dear, too, unto Hiawatha
Was the very strong man, Kwasind,
He the strongest of all mortals,
He the mightiest among many;
For his very strength he loved him,
For his strength allied to goodness.
Idle in his youth was Kwasind,
Very listless, dull, and dreamy,
Never played with other children,
Never fished and never hunted,
Not like other children was he;
But they saw that much he fasted,
Much his Manito entreated,
Much besought his Guardian Spirit.
«Lazy Kwasind!» said his mother,
«In my work you never help me!
In the Summer you are roaming
Idly in the fields and forests;
In the Winter you are cowering
O’er the firebrands in the wigwam!
In the coldest days of Winter
I must break the ice for fishing;
With my nets you never help me!
At the door my nets are hanging,
Dripping, freezing with the water;
Go and wring them, Yenadizze!
Go and dry them in the sunshine!»
Slowly, from the ashes, Kwasind
Rose, but made no angry answer;
From the lodge went forth in silence,
Took the nets, that hung together,
Dripping, freezing at the doorway;
Like a wisp of straw he wrung them,
Like a wisp of straw he broke them,
Could not wring them without breaking,
Such the strength was in his fingers.
«Lazy Kwasind!» said his father,
«In the hunt you never help me;
Every bow you touch is broken,
Snapped asunder every arrow;
Yet come with me to the forest,
You shall bring the hunting homeward.»
Down a narrow pass they wandered,
Where a brooklet led them onward,
Where the trail of deer and bison
Marked the soft mud on the margin,
Till they found all further passage
Shut against them, barred securely
By the trunks of trees uprooted,
Lying lengthwise, lying crosswise,
And forbidding further passage.
«We must go back,» said the old man,
«O’er these logs we cannot clamber;
Not a woodchuck could get through them,
Not a squirrel clamber o’er them!»
And straightway his pipe he lighted,
And sat down to smoke and ponder.
But before his pipe was finished,
Lo! the path was cleared before him;
All the trunks had Kwasind lifted,
To the right hand, to the left hand,
Shot the pine-trees swift as arrows,
Hurled the cedars light as lances.
«Lazy Kwasind!» said the young men,
As they sported in the meadow:
«Why stand idly looking at us,
Leaning on the rock behind you?
Come and wrestle with the others,
Let us pitch the quoit together!»
Lazy Kwasind made no answer,
To their challenge made no answer,
Only rose, and slowly turning,
Seized the huge rock in his fingers,
Tore it from its deep foundation,
Poised it in the air a moment,
Pitched it sheer into the river,
Sheer into the swift Pauwating,
Where it still is seen in Summer.
Once as down that foaming river,
Down the rapids of Pauwating,
Kwasind sailed with his companions,
In the stream he saw a beaver,
Saw Ahmeek, the King of Beavers,
Struggling with the rushing currents,
Rising, sinking in the water.
Without speaking, without pausing,
Kwasind leaped into the river,
Plunged beneath the bubbling surface,
Through the whirlpools chased the beaver,
Followed him among the islands,
Stayed so long beneath the water,
That his terrified companions
Cried, «Alas! good-by to Kwasind!
We shall never more see Kwasind!»
But he reappeared triumphant,
And upon his shining shoulders
Brought the beaver, dead and dripping,
Brought the King of all the Beavers.
And these two, as I have told you,
Were the friends of Hiawatha,
Chibiabos, the musician,
And the very strong man, Kwasind.
Long they lived in peace together,
Spake with naked hearts together,
Pondering much and much contriving
How the tribes of men might prosper.
Друзья Гайаваты
Было два у Гайаваты
Неизменных, верных друга.
Сердце, душу Гайаваты
Знали в радостях и в горе
Только двое: Чайбайабос,
Музыкант, и мощный Квазинд.
Меж вигвамов их тропинка
Не могла в траве заглохнуть;
Сплетни, лживые наветы
Не могли посеять злобы
И раздора между ними:
Обо всем они держали
Лишь втроем совет согласный,
Обо всем с открытым сердцем
Говорили меж собою
И стремились только к благу
Всех племен и всех народов.
Лучшим другом Гайаваты
Был прекрасный Чайбайабос,
Музыкант, певец великий,
Несравненный, небывалый.
Был, как воин, он отважен,
Но, как девушка, был нежен,
Словно ветка ивы, гибок,
Как олень рогатый, статен.
Если пел он, вся деревня
Собиралась песни слушать,
Жены, воины сходились,
И то нежностью, то страстью
Волновал их Чайбайабос.
Из тростинки сделав флейту,
Он играл так нежно, сладко,
Что в лесу смолкали птицы,
Затихал ручей игривый,
Замолкала Аджидомо,
А Вабассо осторожный
Приседал, смотрел и слушал.
Да! Примолкнул Сибовиша
И сказал: «О Чайбайабос!
Научи мои ты волны
Мелодичным, нежным звукам!»
Да! Завистливо Овэйса
Говорил: «О Чайбайабос!
Научи меня безумным,
Страстным звукам диких песен!»
Да! И Опечи веселый
Говорил: «О Чайбайабос!
Научи меня веселым,
Сладким звукам нежных песен!»
И, рыдая, Вавонэйса
Говорил: «О Чайбайабос!
Научи меня тоскливым,
Скорбным звукам скорбных песен!»
Вся природа сладость звуков
У него перенимала,
Все сердца смягчал и трогал
Страстной песней Чайбайабос,
Ибо пел он о свободе,
Красоте, любви и мире,
Пел о смерти, о загробной
Бесконечной, вечной жизни,
Воспевал Страну Понима
И Селения Блаженных.
Дорог сердцу Гайаваты
Кроткий, милый Чайбайабос,
Музыкант, певец великий,
Несравненный, небывалый!
Он любил его за нежность
И за чары звучных песен.
Дорог сердцу Гайаваты
Был и Квазинд, — самый мощный
И незлобивый из смертных;
Он любил его за силу,
Доброту и простодушье.
Квазинд в юности ленив был,
Вял, мечтателен, беспечен;
Не играл ни с кем он в детстве,
Не удил в заливе рыбы,
Не охотился за зверем, —
Не похож он был на прочих.
Но постился Квазинд часто,
Своему молился Духу,
Покровителю молился.
«Квазинд, — мать ему сказала, —
Ты ни в чем мне не поможешь!
Лето ты, как сонный, бродишь
Праздно по полям и рощам,
Зиму греешься, согнувшись
Над костром среди вигвама;
В самый лютый зимний холод
Я хожу на ловлю рыбы, —
Ты и тут мне не поможешь!
У дверей висит мой невод,
Он намок и замерзает, —
Встань, возьми его, ленивец,
Выжми, высуши на солнце!»
Неохотно, но спокойно
Квазинд встал с золы остывшей,
Молча вышел из вигвама,
Скинул смерзшиеся сети,
Что висели у порога,
Стиснул их, как пук соломы,
И сломал, как пук соломы!
Он не мог не изломать их:
Вот настолько был он силен!
«Квазинд! — раз отец промолвил, —
Собирайся на охоту.
Лук и стрелы постоянно
Ты ломаешь, как тростинки,
Так хоть будешь мне добычу
Приносить домой из леса».
Вдоль ущелья, по теченью
Ручейка они спустились,
По следам бизонов, ланей,
Отпечатанным на иле,
И наткнулись на преграду:
Повалившиеся сосны
Поперек и вдоль дороги
Весь проход загромождали.
«Мы должны, — промолвил старец, —
Ворочаться: тут не влезешь!
Тут и белка не взберется,
Тут сурок пролезть не сможет».
И сейчас же вынул трубку,
Закурил и сел в раздумье.
Но не выкурил он трубки,
Как уж путь был весь расчищен:
Все деревья Квазинд поднял,
Быстро вправо и налево
Раскидал, как стрелы, сосны,
Разметал, как копья, кедры.
«Квазинд! — юноши сказали,
Забавляясь на долине. —
Что же ты стоишь, глазеешь,
На утес облокотившись?
Выходи, давай бороться,
В цель бросать из пращи камни».
Вялый Квазинд не ответил,
Ничего им не ответил,
Только встал и, повернувшись,
Обхватил утес руками,
Из земли его он вырвал,
Раскачал над головою
И забросил прямо в реку,
Прямо в быструю Повэтин.
Так утес там и остался.
Раз по пенистой пучине,
По стремительной Повэтин,
Плыл с товарищами Квазинд
И вождя бобров, Амика,
Увидал среди потока:
С быстриной бобер боролся,
То всплывая, то ныряя.
Не задумавшись нимало,
Квазинд молча прыгнул в реку,
Скрылся в пенистой пучине,
Стал преследовать Амика
По ее водоворотам
И в воде пробыл так долго,
Что товарищи вскричали:
«Горе нам! Погиб наш Квазинд!
Не вернется больше Квазинд!»
Но торжественно он выплыл:
На плече его блестящем
Вождь бобров висел убитый,
И с него вода струилась.
Таковы у Гайаваты
Были верные два друга.
Долго с ними жил он в мире,
Много вел бесед сердечных,
Много думал дум о благе
Всех племен и всех народов.
VII. Hiawatha’s Sailing
«Give me of your bark, O Birch-tree!
Of your yellow bark, O Birch-tree!
Growing by the rushing river,
Tall and stately in the valley!
I a light canoe will build me,
Build a swift Cheemaun for sailing,
That shall float on the river,
Like a yellow leaf in Autumn,
Like a yellow water-lily!
«Lay aside your cloak, O Birch-tree!
Lay aside your white-skin wrapper,
For the Summer-time is coming,
And the sun is warm in heaven,
And you need no white-skin wrapper!»
Thus aloud cried Hiawatha
In the solitary forest,
By the rushing Taquamenaw,
When the birds were singing gayly,
In the Moon of Leaves were singing,
And the sun, from sleep awaking,
Started up and said, «Behold me!
Gheezis, the great Sun, behold me!»
And the tree with all its branches
Rustled in the breeze of morning,
Saying, with a sigh of patience,
«Take my cloak, O Hiawatha!»
With his knife the tree he girdled;
Just beneath its lowest branches,
Just above the roots, he cut it,
Till the sap came oozing outward;
Down the trunk, from top to bottom,
Sheer he cleft the bark asunder,
With a wooden wedge he raised it,
Stripped it from the trunk unbroken.
«Give me of your boughs, O Cedar!
Of your strong and pliant branches,
My canoe to make more steady,
Make more strong and firm beneath me!»
Through the summit of the Cedar
Went a sound, a cry of horror,
Went a murmur of resistance;
But it whispered, bending downward,
«Take my boughs, O Hiawatha!»
Down he hewed the boughs of cedar,
Shaped them straightway to a frame-work,
Like two bows he formed and shaped them,
Like two bended bows together.
«Give me of your roots, O Tamarack!
Of your fibrous roots, O Larch-tree!
My canoe to bind together,
So to bind the ends together
That the water may not enter,
That the river may not wet me!»
And the Larch, with all its fibres,
Shivered in the air of morning,
Touched his forehead with its tassels,
Slid, with one long sigh of sorrow.
«Take them all, O Hiawatha!»
From the earth he tore the fibres,
Tore the tough roots of the Larch-tree,
Closely sewed the hark together,
Bound it closely to the frame-work.
«Give me of your balm, O Fir-tree!
Of your balsam and your resin,
So to close the seams together
That the water may not enter,
That the river may not wet me!»
And the Fir-tree, tall and sombre,
Sobbed through all its robes of darkness,
Rattled like a shore with pebbles,
Answered wailing, answered weeping,
«Take my balm, O Hiawatha!»
And he took the tears of balsam,
Took the resin of the Fir-tree,
Smeared therewith each seam and fissure,
Made each crevice safe from water.
«Give me of your quills, O Hedgehog!
All your quills, O Kagh, the Hedgehog!
I will make a necklace of them,
Make a girdle for my beauty,
And two stars to deck her bosom!»
From a hollow tree the Hedgehog
With his sleepy eyes looked at him,
Shot his shining quills, like arrows,
Saying with a drowsy murmur,
Through the tangle of his whiskers,
«Take my quills, O Hiawatha!»
From the ground the quills he gathered,
All the little shining arrows,
Stained them red and blue and yellow,
With the juice of roots and berries;
Into his canoe he wrought them,
Round its waist a shining girdle,
Round its bows a gleaming necklace,
On its breast two stars resplendent.
Thus the Birch Canoe was builded
In the valley, by the river,
In the bosom of the forest;
And the forest’s life was in it,
All its mystery and its magic,
All the lightness of the birch-tree,
All the toughness of the cedar,
All the larch’s supple sinews;
And it floated on the river
Like a yellow leaf in Autumn,
Like a yellow water-lily.
Paddles none had Hiawatha,
Paddles none he had or needed,
For his thoughts as paddles served him,
And his wishes served to guide him;
Swift or slow at will he glided,
Veered to right or left at pleasure.
Then he called aloud to Kwasind,
To his friend, the strong man, Kwasind,
Saying, «Help me clear this river
Of its sunken logs and sand-bars.»
Straight into the river Kwasind
Plunged as if he were an otter,
Dived as if he were a beaver,
Stood up to his waist in water,
To his arm-pits in the river,
Swam and scouted in the river,
Tugged at sunken logs and branches,
With his hands he scooped the sand-bars,
With his feet the ooze and tangle.
And thus sailed my Hiawatha
Down the rushing Taquamenaw,
Sailed through all its bends and windings,
Sailed through all its deeps and shallows,
While his friend, the strong man, Kwasind,
Swam the deeps, the shallows waded.
Up and down the river went they,
In and out among its islands,
Cleared its bed of root and sand-bar,
Dragged the dead trees from its channel,
Made its passage safe and certain,
Made a pathway for the people,
From its springs among the mountains,
To the waters of Pauwating,
To the bay of Taquamenaw.
Пирога Гайаваты
«Дай коры мне, о Береза!
Желтой дай коры, Береза,
Ты, что высишься в долине
Стройным станом над потоком!
Я свяжу себе пирогу,
Легкий челн себе построю,
И в воде он будет плавать,
Словно желтый лист осенний,
Словно желтая кувшинка!
Скинь свой белый плащ, Береза!
Скинь свой плащ из белой кожи:
Скоро лето к нам вернется,
Жарко светит солнце в небе,
Белый плащ тебе не нужен!»
Так над быстрой Таквамино,
В глубине лесов дремучих
Восклицал мой Гайавата
В час, когда все птицы пели,
Воспевали Месяц Листьев,
И, от сна восставши, солнце
Говорило: «Вот я — Гизис,
Я, великий Гизис, солнце!»
До корней затрепетала
Каждым листиком береза,
Говоря с покорным вздохом:
«Скинь мой плащ, о Гайавата!»
И ножом кору березы
Опоясал Гайавата
Ниже веток, выше корня,
Так, что брызнул сок наружу;
По стволу, с вершины к корню,
Он потом кору разрезал,
Деревянным клином поднял,
Осторожно снял с березы.
«Дай, о Кедр, ветвей зеленых,
Дай мне гибких, крепких сучьев,
Помоги пирогу сделать
И надежней и прочнее!»
По вершине кедра шумно
Ропот ужаса пронесся,
Стон и крик сопротивленья;
Но, склоняясь, прошептал он:
«На, руби, о Гайавата!»
И, срубивши сучья кедра,
Он связал из сучьев раму,
Как два лука, он согнул их,
Как два лука, он связал их.
«Дай корней своих, о Тэмрак,
Дай корней мне волокнистых:
Я свяжу свою пирогу,
Так свяжу ее корнями,
Чтоб вода не проникала,
Не сочилася в пирогу!»
В свежем воздухе до корня
Задрожал, затрясся Тэмрак,
Но, склоняясь к Гайавате,
Он одним печальным вздохом,
Долгим вздохом отозвался:
«Все возьми, о Гайавата!»
Из земли он вырвал корни,
Вырвал, вытянул волокна,
Плотно сшил кору березы,
Плотно к ней приладил раму.
«Дай мне, Ель, смолы тягучей,
Дай смолы своей и соку:
Засмолю я швы в пироге,
Чтоб вода не проникала,
Не сочилася в пирогу!»
Как шуршит песок прибрежный,
Зашуршали ветви ели,
И, в своем уборе черном,
Отвечала ель со стоном,
Отвечала со слезами:
«Собери, о Гайавата!»
И собрал он слезы ели,
Взял смолы ее тягучей,
Засмолил все швы в пироге,
Защитил от волн пирогу.
«Дай мне, Еж, колючих игол,
Все, о Еж, отдай мне иглы:
Я украшу ожерельем,
Уберу двумя звездами
Грудь красавицы пироги!»
Сонно глянул Еж угрюмый
Из дупла на Гайавату,
Словно блещущие стрелы,
Из дупла метнул он иглы,
Бормоча в усы лениво:
«Подбери их, Гайавата!»
По земле собрал он иглы,
Что блестели, точно стрелы;
Соком ягод их окрасил,
Соком желтым, красным, синим,
И пирогу в них оправил,
Сделал ей блестящий пояс,
Ожерелье дорогое,
Грудь убрал двумя звездами.
Так построил он пирогу
Над рекою, средь долины,
В глубине лесов дремучих,
И вся жизнь лесов была в ней,
Все их тайны, все их чары:
Гибкость лиственницы темной,
Крепость мощных сучьев кедра
И березы стройной легкость;
На воде она качалась,
Словно желтый лист осенний,
Словно желтая кувшинка.
Весел не было на лодке,
В веслах он и не нуждался:
Мысль ему веслом служила,
А рулем служила воля;
Обогнать он мог хоть ветер,
Путь держать — куда хотелось.
Кончив труд, он кликнул друга,
Кликнул Квазинда на помощь,
Говоря: «Очистим реку
От коряг и желтых мелей!»
Быстро прыгнул в реку Квазинд,
Словно выдра, прыгнул в реку,
Как бобер, нырять в ней начал,
Погружаясь то по пояс,
То до самых мышек в воду.
С криком стал нырять он в воду,
Поднимать со дна коряги,
Вверх кидать песок руками,
А ногами — ил и травы.
И поплыл мой Гайавата
Вниз по быстрой Таквамино,
По ее водоворотам,
Через омуты и мели,
Вслед за Квазиндом могучим.
Вверх и вниз они проплыли,
Всюду были, где лежали
Корни, мертвые деревья
И пески широких мелей,
И расчистили дорогу,
Путь прямой и безопасный
От истоков меж горами
И до самых вод Повэтин,
До залива Таквамино.
VIII. Hiawatha’s Fishing
Forth upon the Gitche Gumee,
On the shining Big-Sea-Water,
With his fishing-line of cedar,
Of the twisted bark of cedar,
Forth to catch the sturgeon Nahma,
Mishe-Nahma, King of Fishes,
In his birch canoe exulting
All alone went Hiawatha.
Through the clear, transparent water
He could see the fishes swimming
Far down in the depths below him;
See the yellow perch, the Sahwa,
Like a sunbeam in the water,
See the Shawgashee, the craw-fish,
Like a spider on the bottom,
On the white and sandy bottom.
At the stern sat Hiawatha,
With his fishing-line of cedar;
In his plumes the breeze of morning
Played as in the hemlock branches;
On the bows, with tail erected,
Sat the squirrel, Adjidaumo;
In his fur the breeze of morning
Played as in the prairie grasses.
On the white sand of the bottom
Lay the monster Mishe-Nahma,
Lay the sturgeon, King of Fishes;
Through his gills he breathed the water,
With his fins he fanned and winnowed,
With his tail he swept the sand-floor.
There he lay in all his armor;
On each side a shield to guard him,
Plates of bone upon his forehead,
Down his sides and back and shoulders
Plates of bone with spines projecting
Painted was he with his war-paints,
Stripes of yellow, red, and azure,
Spots of brown and spots of sable;
And he lay there on the bottom,
Fanning with his fins of purple,
As above him Hiawatha
In his birch canoe came sailing,
With his fishing-line of cedar.
«Take my bait,» cried Hiawatha,
Dawn into the depths beneath him,
«Take my bait, O Sturgeon, Nahma!
Come up from below the water,
Let us see which is the stronger!»
And he dropped his line of cedar
Through the clear, transparent water,
Waited vainly for an answer,
Long sat waiting for an answer,
And repeating loud and louder,
«Take my bait, O King of Fishes!»
Quiet lay the sturgeon, Nahma,
Fanning slowly in the water,
Looking up at Hiawatha,
Listening to his call and clamor,
His unnecessary tumult,
Till he wearied of the shouting;
And he said to the Kenozha,
To the pike, the Maskenozha,
«Take the bait of this rude fellow,
Break the line of Hiawatha!»
In his fingers Hiawatha
Felt the loose line jerk and tighten,
As he drew it in, it tugged so
That the birch canoe stood endwise,
Like a birch log in the water,
With the squirrel, Adjidaumo,
Perched and frisking on the summit.
Full of scorn was Hiawatha
When he saw the fish rise upward,
Saw the pike, the Maskenozha,
Coming nearer, nearer to him,
And he shouted through the water,
«Esa! esa! shame upon you!
You are but the pike, Kenozha,
You are not the fish I wanted,
You are not the King of Fishes!»
Reeling downward to the bottom
Sank the pike in great confusion,
And the mighty sturgeon, Nahma,
Said to Ugudwash, the sun-fish,
To the bream, with scales of crimson,
«Take the bait of this great boaster,
Break the line of Hiawatha!»
Slowly upward, wavering, gleaming,
Rose the Ugudwash, the sun-fish,
Seized the line of Hiawatha,
Swung with all his weight upon it,
Made a whirlpool in the water,
Whirled the birch canoe in circles,
Round and round in gurgling eddies,
Till the circles in the water
Reached the far-off sandy beaches,
Till the water-flags and rushes
Nodded on the distant margins.
But when Hiawatha saw him
Slowly rising through the water,
Lifting up his disk refulgent,
Loud he shouted in derision,
«Esa! esa! shame upon you!
You are Ugudwash, the sun-fish,
You are not the fish I wanted,
You are not the King of Fishes!»
Slowly downward, wavering, gleaming,
Sank the Ugudwash, the sun-fish,
And again the sturgeon, Nahma,
Heard the shout of Hiawatha,
Heard his challenge of defiance,
The unnecessary tumult,
Ringing far across the water.
From the white sand of the bottom
Up he rose with angry gesture,
Quivering in each nerve and fibre,
Clashing all his plates of armor,
Gleaming bright with all his war-paint;
In his wrath he darted upward,
Flashing leaped into the sunshine,
Opened his great jaws, and swallowed
Both canoe and Hiawatha.
Down into that darksome cavern
Plunged the headlong Hiawatha,
As a log on some black river
Shoots and plunges down the rapids,
Found himself in utter darkness,
Groped about in helpless wonder,
Till he felt a great heart beating,
Throbbing in that utter darkness.
And he smote it in his anger,
With his fist, the heart of Nahma,
Felt the mighty King of Fishes
Shudder through each nerve and fibre,
Heard the water gurgle round him
As he leaped and staggered through it,
Sick at heart, and faint and weary.
Crosswise then did Hiawatha
Drag his birch-canoe for safety,
Lest from out the jaws of Nahma,
In the turmoil and confusion,
Forth he might be hurled and perish.
And the squirrel, Adjidaumo,
Frisked and chatted very gayly,
Toiled and tugged with Hiawatha
Till the labor was completed.
Then said Hiawatha to him,
«O my little friend, the squirrel,
Bravely have you toiled to help me;
Take the thanks of Hiawatha,
And the name which now he gives you;
For hereafter and forever
Boys shall call you Adjidaumo,
Tail-in-air the boys shall call you!»
And again the sturgeon, Nahma,
Gasped and quivered in the water,
Then was still, and drifted landward
Till he grated on the pebbles,
Till the listening Hiawatha
Heard him grate upon the margin,
Felt him strand upon the pebbles,
Knew that Nahma, King of Fishes,
Lay there dead upon the margin.
Then he heard a clang and flapping,
As of many wings assembling,
Heard a screaming and confusion,
As of birds of prey contending,
Saw a gleam of light above him,
Shining through the ribs of Nahma,
Saw the glittering eyes of sea-gulls,
Of Kayoshk, the sea-gulls, peering,
Gazing at him through the opening,
Heard them saying to each other,
«‘T is our brother, Hiawatha!»
And he shouted from below them,
Cried exulting from the caverns:
«O ye sea-gulls! O my brothers!
I have slain the sturgeon, Nahma;
Make the rifts a little larger,
With your claws the openings widen,
Set me free from this dark prison,
And henceforward and forever
Men shall speak of your achievements,
Calling you Kayoshk, the sea-gulls,
Yes, Kayoshk, the Noble Scratchers!»
And the wild and clamorous sea-gulls
Toiled with beak and claws together,
Made the rifts and openings wider
In the mighty ribs of Nahma,
And from peril and from prison,
From the body of the sturgeon,
From the peril of the water,
They released my Hiawatha.
He was standing near his wigwam,
On the margin of the water,
And he called to old Nokomis,
Called and beckoned to Nokomis,
Pointed to the sturgeon, Nahma,
Lying lifeless on the pebbles,
With the sea-gulls feeding on him.
«I have slain the Mishe-Nahma,
Slain the King of Fishes!» said he’
«Look! the sea-gulls feed upon him,
Yes, my friends Kayoshk, the sea-gulls;
Drive them not away, Nokomis,
They have saved me from great peril
In the body of the sturgeon,
Wait until their meal is ended,
Till their craws are full with feasting,
Till they homeward fly, at sunset,
To their nests among the marshes;
Then bring all your pots and kettles,
And make oil for us in Winter.»
And she waited till the sun set,
Till the pallid moon, the Night-sun,
Rose above the tranquil water,
Till Kayoshk, the sated sea-gulls,
From their banquet rose with clamor,
And across the fiery sunset
Winged their way to far-off islands,
To their nests among the rushes.
To his sleep went Hiawatha,
And Nokomis to her labor,
Toiling patient in the moonlight,
Till the sun and moon changed places,
Till the sky was red with sunrise,
And Kayoshk, the hungry sea-gulls,
Came back from the reedy islands,
Clamorous for their morning banquet.
Three whole days and nights alternate
Old Nokomis and the sea-gulls
Stripped the oily flesh of Nahma,
Till the waves washed through the rib-bones,
Till the sea-gulls came no longer,
And upon the sands lay nothing
But the skeleton of Nahma.
Гайавата и Мише-Нама
По заливу Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
С длинной удочкой из кедра,
Из коры крученой кедра,
На березовой пироге
Плыл отважный Гайавата.
Сквозь слюду прозрачной влаги
Видел он, как ходят рыбы
Глубоко под дном пироги;
Как резвится окунь, Сава,
Словно солнца луч сияя;
Как лежит на дне песчаном
Шогаши, омар ленивый,
Словно дремлющий тарантул.
На корме сел Гайавата
С длинной удочкой из кедра;
Точно веточки цикуты,
Колебал прохладный ветер
Перья в косах Гайаваты.
На носу его пироги
Села белка, Аджидомо;
Точно травку луговую,
Раздувал прохладный ветер
Мех на шубке Аджидомо.
На песчаном дне на белом
Дремлет мощный Мише-Нама,
Царь всех рыб, осетр тяжелый,
Раскрывает жабры тихо,
Тихо водит плавниками
И хвостом песок взметает.
В боевом вооруженье, —
Под щитами костяными
На плечах, на лбу широком,
В боевых нарядных красках —
Голубых, пурпурных, желтых, —
Он лежит на дне песчаном;
И над ним-то Гайавата
Стал в березовой пироге
С длинной удочкой из кедра.
«Встань, возьми мою приманку! —
Крикнул в воду Гайавата. —
Встань со дна, о Мише-Нама,
Подымись к моей пироге,
Выходи на состязанье!»
В глубину прозрачной влаги
Он лесу свою забросил,
Долго ждал ответа Намы,
Тщетно ждал ответа Намы
И кричал ему все громче:
«Встань, царь рыб, возьми приманку!»
Не ответил Мише-Нама.
Важно, медленно махая
Плавниками, он спокойно
Вверх смотрел на Гайавату,
Долго слушал без вниманья
Крик его нетерпеливый,
Наконец сказал Кенозе,
Жадной щуке, Маскенозе:
«Встань, воспользуйся приманкой,
Оборви лесу нахала!»
В сильных пальцах Гайаваты
Сразу удочка согнулась;
Он рванул ее так сильно,
Что пирога дыбом встала,
Поднялася над водою,
Словно белый ствол березы
С резвой белкой на вершине.
Но когда пред Гайаватой
На волнах затрепетала,
Приближаясь, Маскеноза, —
Гневом вспыхнул Гайавата
И воскликнул: «Иза, иза! —
Стыд тебе, о Маскеноза!
Ты лишь щука, ты не Нама,
Не тебе я кинул вызов!»
Со стыдом на дно вернулась,
Опустилась Маскеноза;
А могучий Мише-Нама
Обратился к Угудвошу,
Неуклюжему Самглаву:
«Встань, воспользуйся приманкой,
Оборви лесу нахала!»
Словно белый, полный месяц,
Встал, качаясь и сверкая,
Угудвош, Самглав тяжелый,
И, схватив лесу, так сильно
Закружился вместе с нею,
Что вверху в водовороте
Завертелася пирога,
Волны, с плеском разбегаясь,
По всему пошли заливу,
А с песчаных белых мелей,
С отдаленного прибрежья
Закивали, зашумели
Тростники и длинный шпажник.
Но когда пред Гайаватой
Из воды поднялся белый
И тяжелый круг Самглава,
Громко крикнул Гайавата:
«Иза, иза! — Стыд Самглаву!
Угудвош ты, а не Нама,
Не тебе я кинул вызов!»
Тихо вниз пошел, качаясь
И блестя, как полный месяц,
Угудвош прозрачно-белый,
И опять могучий Нама
Услыхал нетерпеливый,
Дерзкий вызов, прозвучавший
По всему Большому Морю.
Сам тогда он с дна поднялся,
Весь дрожа от дикой злобы,
Боевой блистая краской
И доспехами бряцая,
Быстро прыгнул он к пироге,
Быстро выскочил всем телом
На сверкающую воду
И своей гигантской пастью
Поглотил в одно мгновенье
Гайавату и пирогу.
Как бревно по водопаду,
По широким черным волнам,
Как в глубокую пещеру,
Соскользнула в пасть пирога.
Но, очнувшись в полном мраке,
Безнадежно оглянувшись,
Вдруг наткнулся Гайавата
На большое сердце Намы:
Тяжело оно стучало
И дрожало в этом мраке.
И во гневе мощной дланью
Стиснул сердце Гайавата,
Стиснул так, что Мише-Нама
Всеми фибрами затрясся,
Зашумел водой, забился,
Ослабел, ошеломленный
Нестерпимой болью в сердце.
Поперек тогда поставил
Легкий челн свой Гайавата,
Чтоб из чрева Мише-Намы,
В суматохе и тревоге,
Не упасть и не погибнуть.
Рядом белка, Аджидомо,
Резво прыгала, болтала,
Помогала Гайавате
И трудилась с ним все время.
И сказал ей Гайавата:
«О мой маленький товарищ!
Храбро ты со мной трудилась,
Так прими же, Аджидомо,
Благодарность Гайаваты
И то имя, что сказал я:
Этим именем все дети
Будут звать тебя отныне!»
И опять забился Нама,
Заметался, задыхаясь,
А потом затих — и волны
Понесли его к прибрежью.
И когда под Гайаватой
Зашуршал прибрежный щебень,
Понял он, что Мише-Нама,
Бездыханный, неподвижный,
Принесен волной к прибрежью.
Тут бессвязный крик и вопли
Услыхал он над собою,
Услыхал шум длинных крыльев,
Переполнивший весь воздух,
Увидал полоску света
Меж широких ребер Намы
И Кайошк, крикливых чаек,
Что блестящими глазами
На него смотрели зорко
И друг другу говорили:
«Это брат наш, Гайавата!»
И в восторге Гайавата
Крикнул им, как из пещеры:
«О Кайошк, морские чайки,
Братья, сестры Гайаваты!
Умертвил я Мише-Наму, —
Помогите же мне выйти
Поскорее на свободу,
Рвите клювами, когтями
Бок широкий Мише-Намы,
И отныне и вовеки
Прославлять вас будут люди,
Называть, как я вас назвал!»
Дикой, шумной стаей чайки
Принялися за работу,
Быстро щели проклевали
Меж широких ребер Намы,
И от смерти в чреве Намы,
От погибели, от плена,
От могилы под водою
Был избавлен Гайавата.
Возле самого вигвама
Стал на берег Гайавата;
Тотчас крикнул он Нокомис,
Вызвал старую Нокомис
Посмотреть на Мише-Наму:
Мертвый он лежал у моря,
И его клевали чайки.
«Умертвил я Мише-Наму,
Победил его! — сказал он. —
Вон над ним уж вьются чайки.
То друзья мои, Нокомис!
Не гони их прочь, не трогай:
Я от смерти в чреве Намы
Был сейчас избавлен ими.
Пусть они свой пир окончат,
Пусть зобы наполнят пищей;
А когда, с заходом солнца,
Улетят они на гнезда,
Принеси котлы и чаши,
Заготовь к зиме нам жиру».
И Нокомис до заката
Просидела на прибрежье.
Вот и месяц, солнце ночи,
Встал над тихою водою,
Вот и чайки с шумным криком,
Кончив пир свой, поднялися,
Полетели к отдаленным
Островам на Гитчи-Гюми,
И сквозь зарево заката
Долго их мелькали крылья.
Мирным сном спал Гайавата;
А Нокомис терпеливо
Принялася за работу
И трудилась в лунном свете
До зари, пока не стало
Небо красным на востоке.
А когда сменило солнце
Бледный месяц, — с отдаленных
Островов на Гитчи-Гюми
Воротились стаи чаек,
С криком кинулись на пищу.
Трое суток, чередуясь
С престарелою Нокомис,
Чайки жир срывали с Намы.
Наконец меж голых ребер
Волны начали плескаться,
Чайки скрылись, улетели,
И остались на прибрежье
Только кости Мише-Намы.
IX. Hiawatha and the Pearl-Feather
On the shores of Gitche Gumee,
Of the shining Big-Sea-Water,
Stood Nokomis, the old woman,
Pointing with her finger westward,
O’er the water pointing westward,
To the purple clouds of sunset.
Fiercely the red sun descending
Burned his way along the heavens,
Set the sky on fire behind him,
As war-parties, when retreating,
Burn the prairies on their war-trail;
And the moon, the Night-sun, eastward,
Suddenly starting from his ambush,
Followed fast those bloody footprints,
Followed in that fiery war-trail,
With its glare upon his features.
And Nokomis, the old woman,
Pointing with her finger westward,
Spake these words to Hiawatha:
«Yonder dwells the great Pearl-Feather,
Megissogwon, the Magician,
Manito of Wealth and Wampum,
Guarded by his fiery serpents,
Guarded by the black pitch-water.
You can see his fiery serpents,
The Kenabeek, the great serpents,
Coiling, playing in the water;
You can see the black pitch-water
Stretching far away beyond them,
To the purple clouds of sunset!
«He it was who slew my father,
By his wicked wiles and cunning,
When he from the moon descended,
When he came on earth to seek me.
He, the mightiest of Magicians,
Sends the fever from the marshes,
Sends the pestilential vapors,
Sends the poisonous exhalations,
Sends the white fog from the fen-lands,
Sends disease and death among us!
«Take your bow, O Hiawatha,
Take your arrows, jasper-headed,
Take your war-club, Puggawaugun,
And your mittens, Minjekahwun,
And your birch-canoe for sailing,
And the oil of Mishe-Nahma,
So to smear its sides, that swiftly
You may pass the black pitch-water;
Slay this merciless magician,
Save the people from the fever
That he breathes across the fen-lands,
And avenge my father’s murder!»
Straightway then my Hiawatha
Armed himself with all his war-gear,
Launched his birch-canoe for sailing;
With his palm its sides he patted,
Said with glee, «Cheemaun, my darling,
O my Birch-canoe! leap forward,
Where you see the fiery serpents,
Where you see the black pitch-water!»
Forward leaped Cheemaun exulting,
And the noble Hiawatha
Sang his war-song wild and woful,
And above him the war-eagle,
The Keneu, the great war-eagle,
Master of all fowls with feathers,
Screamed and hurtled through the heavens.
Soon he reached the fiery serpents,
The Kenabeek, the great serpents,
Lying huge upon the water,
Sparkling, rippling in the water,
Lying coiled across the passage,
With their blazing crests uplifted,
Breathing fiery fogs and vapors,
So that none could pass beyond them.
But the fearless Hiawatha
Cried aloud, and spake in this wise,
«Let me pass my way, Kenabeek,
Let me go upon my journey!»
And they answered, hissing fiercely,
With their fiery breath made answer:
«Back, go back! O Shaugodaya!
Back to old Nokomis, Faint-heart!»
Then the angry Hiawatha
Raised his mighty bow of ash-tree,
Seized his arrows, jasper-headed,
Shot them fast among the serpents;
Every twanging of the bow-string
Was a war-cry and a death-cry,
Every whizzing of an arrow
Was a death-song of Kenabeek.
Weltering in the bloody water,
Dead lay all the fiery serpents,
And among them Hiawatha
Harmless sailed, and cried exulting:
«Onward, O Cheemaun, my darling!
Onward to the black pitch-water!»
Then he took the oil of Nahma,
And the bows and sides anointed,
Smeared them well with oil, that swiftly
He might pass the black pitch-water.
All night long he sailed upon it,
Sailed upon that sluggish water,
Covered with its mould of ages,
Black with rotting water-rushes,
Rank with flags and leaves of lilies,
Stagnant, lifeless, dreary, dismal,
Lighted by the shimmering moonlight,
And by will-o’-the-wisps illumined,
Fires by ghosts of dead men kindled,
In their weary night-encampments.
All the air was white with moonlight,
All the water black with shadow,
And around him the Suggema,
The mosquito, sang his war-song,
And the fire-flies, Wah-wah-taysee,
Waved their torches to mislead him;
And the bull-frog, the Dahinda,
Thrust his head into the moonlight,
Fixed his yellow eyes upon him,
Sobbed and sank beneath the surface;
And anon a thousand whistles,
Answered over all the fen-lands,
And the heron, the Shuh-shuh-gah,
Far off on the reedy margin,
Heralded the hero’s coming.
Westward thus fared Hiawatha,
Toward the realm of Megissogwon,
Toward the land of the Pearl-Feather,
Till the level moon stared at him
In his face stared pale and haggard,
Till the sun was hot behind him,
Till it burned upon his shoulders,
And before him on the upland
He could see the Shining Wigwam
Of the Manito of Wampum,
Of the mightiest of Magicians.
Then once more Cheemaun he patted,
To his birch-canoe said, «Onward!»
And it stirred in all its fibres,
And with one great bound of triumph
Leaped across the water-lilies,
Leaped through tangled flags and rushes,
And upon the beach beyond them
Dry-shod landed Hiawatha.
Straight he took his bow of ash-tree,
On the sand one end he rested,
With his knee he pressed the middle,
Stretched the faithful bow-string tighter,
Took an arrow, jasperheaded,
Shot it at the Shining Wigwam,
Sent it singing as a herald,
As a bearer of his message,
Of his challenge loud and lofty:
«Come forth from your lodge, Pearl-Feather!
Hiawatha waits your coming!»
Straightway from the Shining Wigwam
Came the mighty Megissogwon,
Tall of stature, broad of shoulder,
Dark and terrible in aspect,
Clad from head to foot in wampum,
Armed with all his warlike weapons,
Painted like the sky of morning,
Streaked with crimson, blue, and yellow,
Crested with great eagle-feathers,
Streaming upward, streaming outward.
«Well I know you, Hiawatha!»
Cried he in a voice of thunder,
In a tone of loud derision.
«Hasten back, O Shaugodaya!
Hasten back among the women,
Back to old Nokomis, Faint-heart!
I will slay you as you stand there,
As of old I slew her father!»
But my Hiawatha answered,
Nothing daunted, fearing nothing:
«Big words do not smite like war-clubs,
Boastful breath is not a bow-string,
Taunts are not so sharp as arrows,
Deeds are better things than words are,
Actions mightier than boastings!»
Then began the greatest battle
That the sun had ever looked on,
That the war-birds ever witnessed.
All a Summer’s day it lasted,
From the sunrise to the sunset;
For the shafts of Hiawatha
Harmless hit the shirt of wampum,
Harmless fell the blows he dealt it
With his mittens, Minjekahwun,
Harmless fell the heavy war-club;
It could dash the rocks asunder,
But it could not break the meshes
Of that magic shirt of wampum.
Till at sunset Hiawatha,
Leaning on his bow of ash-tree,
Wounded, weary, and desponding,
With his mighty war-club broken,
With his mittens torn and tattered,
And three useless arrows only,
Paused to rest beneath a pine-tree,
From whose branches trailed the mosses,
And whose trunk was coated over
With the Dead-man’s Moccasin-leather,
With the fungus white and yellow.
Suddenly from the boughs above him
Sang the Mama, the woodpecker:
«Aim your arrows, Hiawatha,
At the head of Megissogwon,
Strike the tuft of hair upon it,
At their roots the long black tresses;
There alone can he be wounded!»
Winged with feathers, tipped with jasper,
Swift flew Hiawatha’s arrow,
Just as Megissogwon, stooping,
Raised a heavy stone to throw it.
Full upon the crown it struck him,
At the roots of his long tresses,
And he reeled and staggered forward,
Plunging like a wounded bison,
Yes, like Pezhekee, the bison,
When the snow is on the prairie.
Swifter flew the second arrow,
In the pathway of the other,
Piercing deeper than the other,
Wounding sorer than the other;
And the knees of Megissogwon
Shook like windy reeds beneath him,
Bent and trembled like the rushes.
But the third and latest arrow
Swiftest flew, and wounded sorest,
And the mighty Megissogwon
Saw the fiery eyes of Pauguk,
Saw the eyes of Death glare at him,
Heard his voice call in the darkness;
At the feet of Hiawatha
Lifeless lay the great Pearl-Feather,
Lay the mightiest of Magicians.
Then the grateful Hiawatha
Called the Mama, the woodpecker,
From his perch among the branches
Of the melancholy pine-tree,
And, in honor of his service,
Stained with blood the tuft of feathers
On the little head of Mama;
Even to this day he wears it,
Wears the tuft of crimson feathers,
As a symbol of his service.
Then he stripped the shirt of wampum
From the back of Megissogwon,
As a trophy of the battle,
As a signal of his conquest.
On the shore he left the body,
Half on land and half in water,
In the sand his feet were buried,
And his face was in the water.
And above him, wheeled and clamored
The Keneu, the great war-eagle,
Sailing round in narrower circles,
Hovering nearer, nearer, nearer.
From the wigwam Hiawatha
Bore the wealth of Megissogwon,
All his wealth of skins and wampum,
Furs of bison and of beaver,
Furs of sable and of ermine,
Wampum belts and strings and pouches,
Quivers wrought with beads of wampum,
Filled with arrows, silver-headed.
Homeward then he sailed exulting,
Homeward through the black pitch-water,
Homeward through the weltering serpents,
With the trophies of the battle,
With a shout and song of triumph.
On the shore stood old Nokomis,
On the shore stood Chibiabos,
And the very strong man, Kwasind,
Waiting for the hero’s coming,
Listening to his songs of triumph.
And the people of the village
Welcomed him with songs and dances,
Made a joyous feast, and shouted:
«Honor be to Hiawatha!
He has slain the great Pearl-Feather,
Slain the mightiest of Magicians,
Him, who sent the fiery fever,
Sent the white fog from the fen-lands,
Sent disease and death among us!»
Ever dear to Hiawatha
Was the memory of Mama!
And in token of his friendship,
As a mark of his remembrance,
He adorned and decked his pipe-stem
With the crimson tuft of feathers,
With the blood-red crest of Mama.
But the wealth of Megissogwon,
All the trophies of the battle,
He divided with his people,
Shared it equally among them.
Гайавата и Жемчужное перо
На прибрежье Гитчи-Гюми,
Светлых вод Большого Моря,
Вышла старая Нокомис,
Простирая в гневе руку
Над водой к стране заката,
К тучам огненным заката.
В гневе солнце заходило,
Пролагая путь багряный,
Зажигая тучи в небе,
Как вожди сжигают степи,
Отступая пред врагами;
А луна, ночное солнце,
Вдруг восстала из засады
И направилась в погоню
По следам его кровавым,
В ярком зареве пожара.
И Нокомис, простирая
Руку слабую к закату,
Говорила Гайавате:
«Там живет волшебник злобный
Меджисогвон, Дух Богатства,
Тот, кого Пером Жемчужным
Называют все народы;
Там озера смоляные
Разливаются, чернея,
До багряных туч заката;
Там, среди трясины мрачной,
Вьются огненные змеи,
Змеи страшные, Кинэбик!
То хранители и слуги
Меджисогвона-убийцы.
Это им убит коварно
Мой отец, когда на землю
Он с луны за мной спустился
И меня искал повсюду.
Это злобный Меджисогвон
Посылает к нам недуги,
Посылает лихорадки,
Дышит белой мглою с тундры,
Дышит сыростью болотных,
Смертоносных испарений!
Лук возьми свой, Гайавата,
Острых стрел возьми с собою,
Томагаук, Поггэвогон,
Рукавицы, Минджикэвон,
И березовую лодку.
Желтым жиром Мише-Намы
Смажь бока ее, чтоб легче
Было плыть ей по болотам,
И убей ты чародея,
Отомсти врагу Нокомис,
Отомсти врагу народа!»
Быстро в путь вооружился
Благородный Гайавата;
Легкий челн он сдвинул в воду,
Потрепал его рукою,
Говоря: «Вперед, пирога,
Друг мой верный и любимый,
К змеям огненным, Кинэбик,
К смоляным озерам черным!»
Гордо вдаль неслась пирога,
Грозно песню боевую
Пел отважный Гайавата;
А над ним Киню могучий,
Боевой орел могучий,
Вождь пернатых, с диким криком
В небесах кругами плавал.
Скоро он и змей увидел,
Исполинских змей увидел,
Что лежали средь болота,
Ежась, искрясь средь болота,
На пути сплетаясь в кольца,
Подымаясь, наполняя
Воздух огненным дыханьем,
Чтоб никто не мог проникнуть
К Меджисогвону в жилище.
Но бесстрашный Гайавата,
Громко крикнув, так сказал им:
«Прочь с дороги, о Кинэбик!
Прочь с дороги Гайаваты!»
А они, свирепо ежась,
Отвечали Гайавате
Свистом, огненным дыханьем:
«Отступи, о Шогодайя!
Воротись к Нокомис старой!»
И тогда во гневе поднял
Мощный лук свой Гайавата,
Сбросил с плеч колчан — и начал
Поражать их беспощадно:
Каждый звук тугой и крепкой
Тетивы был криком смерти,
Каждый свист стрелы певучей
Песнью смерти и победы!
Тяжело в воде кровавой
Змеи мертвые качались,
И победно Гайавата
Плыл меж ними, восклицая:
«О, вперед, моя пирога,
К смоляным озерам черным!»
Желтым жиром Мише-Намы
Он бока и нос пироги
Густо смазал, чтобы легче
Было плыть ей по болотам.
И до света одиноко
Плыл он в этом сонном мире,
Плыл в воде, густой и черной,
Вековой корой покрытой
От размытых и гниющих
Камышей и листьев лилий;
И безжизненно и мрачно
Перед ним вода блестела,
Озаренная луною,
Озаренная мерцаньем
Огоньков, что зажигают
Души мертвых на стоянках
В час тоскливой, долгой ночи.
Белым месячным сияньем
Тихий воздух был наполнен;
Тени ночи по болотам
Далеко кругом чернели;
А москиты Гайавате
Пели песню боевую;
Светляки, блестя, кружились,
Чтобы сбить его с дороги,
И в густой воде Дагинда
Тяжело зашевелилась,
Тупо желтыми глазами
Поглядела на пирогу,
Зарыдала — и исчезла;
И мгновенно огласилось
Все кругом стозвучным свистом,
И Шух-шух-га издалека
С камышового прибрежья
Возвестила громким криком
О прибытии героя!
Так держал путь Гайавата,
Так держал он путь на запад,
Плыл всю ночь, пока не скрылся
С неба бледный, полный месяц.
А когда пригрело солнце,
Стало плечи жечь лучами,
Увидал он пред собою
На холме Вигвам Жемчужный —
Меджисогвона жилище.
Вновь тогда своей пироге
Он сказал; «Вперед!» — и быстро,
Величаво и победно
Пронеслась она средь лилий,
Чрез густой прибрежный шпажник.
И на берег Гайавата
Вышел, ног не замочивши.
Тотчас взял он лук свой верный,
Утвердил в песке, коленом
Надавил посередине
И могучей тетивою
Запустил стрелу-певунью,
Запустил в Вигвам Жемчужный,
Как гонца с своим посланьем,
С гордым вызовом на битву:
«Выходи, о Меджисогвон:
Гайавата ожидает».
Быстро вышел Меджисогвон
Из Жемчужного Вигвама,
Быстро вышел он, могучий,
Рослый и широкоплечий,
Сумрачный и страшный видом,
С головы до ног покрытый
Украшеньями, оружьем,
В алых, синих, желтых красках,
Словно небо на рассвете,
В развевающихся перьях
Из орлиных длинных крыльев.
«А, да это Гайавата! —
Громко крикнул он с насмешкой,
И, как гром, тот крик раздался. —
Отступи, о Шогодайя!
Уходи скорее к бабам,
Уходи к Нокомис старой!
Я убью тебя на месте,
Как ее отца убил я!»
Но без страха, без смущенья
Отвечал мой Гайавата:
«Хвастовством и грубым словом
Не сразишь, как томагавком;
Дело лучше слов бесплодных
И острей насмешек стрелы.
Лучше действовать, чем хвастать!»
И начался бой великий,
Бой, невиданный под солнцем!
От восхода до заката —
Целый летний день он длился,
Ибо стрелы Гайаваты
Бесполезно ударялись
О жемчужную кольчугу.
Бесполезны были даже
Рукавицы, Минджикэвон,
И тяжелый томагаук:
Раздроблять он мог утесы,
Но колец не мог разбить он
В заколдованной кольчуге.
Наконец перед закатом,
Весь израненный, усталый,
С расщепленным томагавком,
С рукавицами, в лохмотьях
И с тремя стрелами только,
Гайавата безнадежно
На упругий лук склонился
Под старинною сосною;
Мох с ветвей ее тянулся,
А на пне грибы желтели —
Мертвецов печальных обувь.
Вдруг зеленый дятел, Мэма,
Закричал над Гайаватой:
«Целься в темя, Гайавата,
Прямо в темя чародея,
В корни кос ударь стрелою:
Только там и уязвим он!»
В легких перьях, в халцедоне,
Понеслась стрела-певунья
В тот момент, как Меджисогвон
Поднимал тяжелый камень,
И вонзилась прямо в темя,
В корни длинных кос вонзилась.
И споткнулся, зашатался
Меджисогвон, словно буйвол,
Да, как буйвол, пораженный
На лугу, покрытом снегом.
Вслед за первою стрелою
Полетела и вторая,
Понеслась быстрее первой,
Поразила глубже первой;
И колени чародея,
Как тростник, затрепетали,
Как тростник, под ним согнулись.
А последняя взвилася
Легче всех — и Меджисогвон
Увидал перед собою
Очи огненные смерти,
Услыхал из мрака голос,
Голос Погока призывный.
Без дыхания, без жизни
Пал могучий Меджисогвон
На песок пред Гайаватой.
Благодарный Гайавата
Взял тогда немного крови
И, позвав с сосны печальной
Дятла, выкрасил той кровью
На головке дятла гребень
За его услугу в битве;
И доныне Мэма носит
Хохолок из красных перьев.
После, в знак своей победы,
В память битвы с чародеем,
Он сорвал с него кольчугу
И оставил без призора
На песке прибрежном тело.
На песке оно лежало,
Погребенное по пояс,
Головой поникнув в воду,
А над ним кружился с криком
Боевой орел могучий,
Плавал медленно кругами,
Тихо, тихо вниз спускаясь.
Из вигвама чародея
Гайавата снес в пирогу
Все сокровища, весь вампум,
Снес меха бобров, бизонов,
Соболей и горностаев,
Нитки жемчуга, колчаны
И серебряные стрелы —
И поплыл домой, ликуя,
С громкой песнею победы.
Там к нему на берег вышли
Престарелая Нокомис,
Чайбайабос, мощный Квазинд;
А народ героя встретил
Пляской, пеньем, восклицая:
«Слава, слава Гайавате!
Побежден им Меджисогвон,
Побежден волшебник злобный!»
Навсегда остался дорог
Гайавате дятел, Мэма.
В честь его и в память битвы
Он свою украсил трубку
Хохолком из красных перьев,
Гребешком багровым Мэмы,
А богатство чародея
Разделил с своим народом,
Разделил, по равной части.
«Песнь о Гайавате» (англ. The Song of Hiawatha) — эпическая поэма Генри Лонгфелло, основанная на легендах индейцев оджибве. Впервые издана в США в ноябре 1855 года. Гайавата — собирательный образ[1].
Цитаты[править]
|
|
«Дай коры мне, о Берёза! <…> Восклицал так Гайавата <…>. Вёсел не было на лодке[К 1], |
|
“Give me of your bark, O Birch-tree! <…> Thus aloud cried Hiawatha <…>. |
|
|
Если девушке счастливой Если ж кто-нибудь на ниве |
|
Whene’er some lucky maiden And whene’er a youth or maiden |
|
|
Он барахтался, метался, |
|
And it fluttered, strove, and struggled, |
|
|
Никогда хохлатый коршун И беда одна не ходит; |
|
Never stoops the soaring vulture So disasters come not singly; |
|
|
Еле-еле из вигвама, |
|
Hardly from his buried wigwam |
Вступление[править]
|
|
Если спросите — откуда «От лесов, равнин пустынных, Если спросите, где слышал, Эти песни раздавались Там он пел о Гайавате, |
|
Should you ask me, whence these stories? I should answer, I should tell you, Should you ask where Nawadaha «All the wild-fowl sang them to him, There he sang of Hiawatha, |
I. Трубка мира[править]
-
- The Peace-Pipe
|
|
На горах Большой Равнины[1], От следов его струилась, От утёса взявши камень, От дыханья ветви шумно «Примиритеся, о дети! И придёт Пророк на землю[К 3] Погрузитесь в эту реку, Так сказал Владыка Жизни. |
|
On the Mountains of the Prairie, From his footprints flowed a river, From the red stone of the quarry “Therefore be at peace henceforward, I will send a Prophet to you, “Bathe now in the stream before you, Then upon the ground the warriors |
II. Четыре ветра[править]
-
- The Four Winds
|
|
«Слава, слава, Мэджекивис!» — У Великого Медведя Кончив, палицей взмахнул он, Словно громом оглушённый, «О медведь! Ты — Шогода́йя! Кончив, палицей взмахнул он, |
|
“Honor be to Mudjekeewis!” He had stolen the Belt of Wampum Then he swung aloft his war-club, With the heavy blow bewildered, “Hark you, Bear! you are a coward; Then again he raised his war-club, |
|
|
Молод и прекрасен Вебон! Одинок на небе Вебон! Утром раз, на землю глядя, <…> С той поры, на землю глядя, Он возлюбленную нежил |
|
Young and beautiful was Wabun; Lonely in the sky was Wabun; But one morning, gazing earthward, <…> Every morning, gazing earthward, And he wooed her with caresses, |
|
|
Вышел раз Кабибонокка |
|
Once the fierce Kabibonokka |
III. Детство Гайаваты[править]
-
- Hiawatha’s Childhood
|
|
Внука нянчила Нокомис, |
|
There the wrinkled old Nokomis |
|
|
Изучил весь птичий говор, Всех зверей язык узнал он, И рассказчик сказок Ягу, <…> |
|
Learned of every bird its language, Of all beasts he learned the language, Then Iagoo, the great boaster, <…> |
IV.Гайавата и Мэджекивис[править]
-
- Hiawatha and Mudjekeewis
|
|
Мощны руки Гайаваты! Рукавицы Гайаваты, |
|
Strong of arm was Hiawatha; He had mittens, Minjekahwun, |
|
|
До преддверия Заката, |
|
To the portals of the Sunset, |
V. Пост Гайаваты[править]
-
- Hiawatha’s Fasting
|
|
Так два вечера, — лишь только |
|
On the morrow and the next day, |
|
|
Встал, измученный и бледный, И слились земля и небо, |
|
Pale and haggard, but undaunted, Round about him spun the landscape, |
|
|
Не покинул без призора День за днём над той могилой Наконец зелёный стебель |
|
Nor forgotten nor neglected Day by day did Hiawatha Till at length a small green feather |
VIII. Рыболовство Гайаваты[править]
-
- Hiawatha’s Fishing[К 5]
|
|
На корме сел Гайавата |
|
At the stern sat Hiawatha, |
|
|
И в восторге Гайавата Дикой, шумной стаей чайки |
|
And he shouted from below them, And the wild and clamorous sea-gulls |
IX. Гайавата и Жемчужное перо[править]
-
- Hiawatha and the Pearl-Feather
|
|
В гневе солнце заходило, |
|
Fiercely the red sun descending |
|
|
А на пне грибы желтели — |
|
And whose trunk was coated over |
X. Сватовство Гайаваты[править]
-
- Hiawatha’s Wooing
|
|
Муж с женой подобен луку, |
|
As unto the bow the cord is, |
|
|
Не женись на чужеземке, |
|
Go not eastward, go not westward, |
|
| — Нокомис |
|
|
Солнце ласково глядело Месяц с неба в час полночный |
|
From the sky the sun benignant From the sky the moon looked at them, |
XI. Свадебный пир Гайаваты[править]
-
- Hiawatha’s Wedding-Feast
|
|
«Протанцуй нам, По-Пок-Кивис, И красавец По-Пок-Кивис, Ловок был он в плясках, в танцах, |
|
“O Pau-Puk-Keewis, Then the handsome Pau-Puk-Keewis, Skilled was he in sports and pastimes, |
|
|
Так прекрасный Чайбайабос Очень был хвастлив мой Ягу! |
|
Thus the gentle Chibiabos Very boastful was Iagoo; |
XII. Сын Вечерней Звезды[править]
-
- The Son of the Evening Star
|
|
То не солнце ли заходит |
|
Can it be the sun descending |
|
|
На пути их, в дебрях леса, Так вернулася к Оссэо Но Оссэо не смеялся, |
|
On their pathway through the woodlands Thus Osseo was transfigured, “But Osseo turned not from her, |
XV. Плач Гайаваты[править]
-
- Hiawatha’s Lamentation
|
|
К Чайбайабосу взывали, Там ему, в дверную щёлку, Из родимого селенья, Так четыре дня и ночи На пути он много видел Горько жаловались духи: |
|
They summoned Chibiabos Through a chink a coal they gave him, From the village of his childhood, Four whole days he journeyed onward On that journey, moving slowly, “Ay! why do the living,” said they, |
XVI. По-Пок-Кивис[править]
-
- Pau-Puk-Keewis
|
|
Ягу <…> забавлял гостей рассказом «Подскочила росомаха, <…> — и над нею «Слушай! — крикнул По-Пок-Кивис, Тут, торжественно раскрывши Положив фигуры в чашу, |
|
Iagoo <…> was telling them the story “Once he leaped, and lo! above him “Hark you!” shouted Pau-Puk-Keewis Then from out his pouch of wolf-skin In a wooden bowl he placed them, |
XVIII. Смерть Квазинда[править]
-
- The Death of Kwasind
|
|
Далеко прошёл по свету «Если этот дерзкий Квазинд, Сила Квазинда и слабость Только в темя можно было |
|
Far and wide among the nations “If this hateful Kwasind,” said they, Now this wondrous strength of Kwasind Even there the only weapon |
|
|
По реке плыл мощный Квазинд, По ветвям, к реке склонённым, Квазинд слышал чей-то шёпот, И от первого удара Так и плыл он по теченью <…> Градом сыпалися шишки, И упал на борт пироги Но хранилось долго-долго |
|
Down the river came the Strong Man, From the overhanging branches, To his ear there came a murmur At the first blow of their war-clubs, So he floated down the river, <…> There they stood, all armed and waiting, And he sideways swayed and tumbled, But the memory of the Strong Man |
XXI. След Белого[править]
-
- The White Man’s Foot
|
|
Из далёких стран Востока, Онемел при этом старец. Увидал Сэгвон яснее По щекам его бежали, |
|
From the distant realms of Wabun, Then the old man’s tongue was speechless And Segwun, the youthful stranger, From his eyes the tears were flowing, |
|
|
Вся деревня собралася Он сказал, что видел море В нём, сказал он, в этом море, Из жерла её, сказал он, В ней, сказал он, плыли люди, Гайавата не смеялся, — Гитчи Манито могучий, И когда мы их увидим, |
|
And the people of the village He had seen, he said, a water O’er it, said he, o’er this water From its mouth, he said, to greet him, In it, said he, came a people, Only Hiawatha laughed not, “Gitche Manito, the Mighty, “Let us welcome, then, the strangers, |
XXII. Уход Гайаваты[править]
-
- Hiawatha’s Departure[К 8]
|
|
И плывут в той лодке люди И наставник бледнолицых <…> Громко, радостно воскликнув, Никогда ещё так пышно |
|
And within it came a people The Black-Robe chief, the Pale-face, <…> Then the joyous Hiawatha “Never bloomed the earth so gayly, |
Перевод[править]
Иван Бунин, 1896—1903 (с некоторыми уточнениями)
О поэме[править]
|
|
… космогоническая поэма «Песнь о Гайавате», представляет крупную попытку отобразить сквозь призму современной впечатлительности первобытные сказания первородных сынов Земли, ведающих первый поцелуй Солнца и Луны. |
| — Константин Бальмонт, «Полярность», 1908 |
Комментарии[править]
- ↑ Из индейской легенды[1], возможно, эти строки — повтор аналогов, начиная с «Одиссеи».
- ↑ Бунин: «Пирога».
- ↑ Индейские легенды рассказывали о сверхъестественных существах, спускавшихся с небес к людям и помогавших им[1].
- ↑ Цыц! Медведь Голый тебя услышит!
- ↑ Бунин: «Гайавата и Мише-Нама».
- ↑ Бунин ошибочно перевёл hemlock тут и в гл. XX: «цикута», в II — «болиголов»[2], опустил в X, XIII и XXI.
- ↑ И, меж нами неизвестный, вырастает там цветок, — / То След Белого цветёт.
- ↑ Бунин: «Эпилог».
- ↑ Так называли канадские индейцы христианских миссионеров, большей частью это были католические священники[1].
- ↑ В индейском фольклоре подобного нет[1].
Примечания[править]
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 В. Ермолаева. Комментарий // Henry Longfellow. The Song of Hiawatha. — M.: Progress Publishers, 1967. — P. 214-224.
- ↑ kot_kamyshovyj, «Иль с ветвей болиголова…», livejournal.com, 2018-06-16.
Песнь
о Гайавате
Генри Лонгфелло
ВСТУПЛЕНИЕ
Если спросите
— откуда
Эти сказки
и легенды
С их лесным
благоуханьем,
Влажной
свежестью долины,
Голубым
дымком вигвамов,
Шумом рек и
водопадов,
Шумом, диким
и стозвучным,
Как в горах
раскаты грома? —
Я скажу вам,
я отвечу:
«От лесов,
равнин пустынных,
От озер Страны
Полночной,
Из страны
Оджибуэев,
Из страны
Дакотов диких,
С гор и тундр,
с болотных топей,
Где среди
осоки бродит
Цапля сизая,
Шух-шух-га.
Повторяю эти
сказки,
Эти старые
преданья
По напевам
сладкозвучным
Музыканта
Навадаги».
Если спросите,
где слышал,
Где нашел их
Навадага, —
Я скажу вам,
я отвечу:
«В гнездах
певчих птиц, по рощам,
На прудах, в
норах бобровых,
На лугах, в
следах бизонов,
На скалах, в
орлиных гнездах.
Эти песни
раздавались
На болотах
и на топях,
В тундрах
севера печальных:
Читовэйк,
зуек, там пел их,
Манг, нырок,
гусь дикий, Вава,
Цапля сизая,
Шух-шух-га,
И глухарка,
Мушкодаза».
Если б дальше
вы спросили:
«Кто же
этот Навадага?
Расскажи про
Навадагу», —
Я тотчас бы
вам ответил
На вопрос
такою речью:
«Средь
долины Тавазэнта,
В тишине
лугов зеленых,
У излучистых
потоков,
Жил когда-то
Навадага.
Вкруг
индейского селенья
Расстилались
нивы, долы,
А вдали стояли
сосны,
Бор стоял,
зеленый — летом,
Белый — в
зимние морозы,
Полный
вздохов, полный песен.
Те веселые
потоки
Были видны
на долине
По разливам
их — весною,
По ольхам
сребристым — летом,
По туману —
в день осенний,
По руслу —
зимой холодной.
Возле них
жил Навадага
Средь долины
Тавазэнта,
В тишине
лугов зеленых.
Там он пел о
Гайавате,
Пел мне Песнь
о Гайавате, —
О его рожденье
дивном
О его великой
жизни:
Как постился
и молился,
Как трудился
Гайавата,
Чтоб народ
его был счастлив,
Чтоб он шел
к добру и правде».
Вы, кто любите
природу —
Сумрак леса,
шепот листьев,
В блеске
солнечном долины,
Бурный ливень
и метели,
И стремительные
реки
В неприступных
дебрях бора,
И в горах
раскаты грома,
Что как
хлопанье орлиных
Тяжких крыльев
раздаются, —
Вам принес
я эти саги,
Эту Песнь о
Гайавате!
Вы, кто любите
легенды
И народные
баллады,
Этот голос
дней минувших,
Голос прошлого,
манящий
К молчаливому
раздумью,
Говорящий
так по-детски,
Что едва
уловит ухо,
Песня это
или сказка, —
Вам из диких
стран принес я
Эту Песнь о
Гайавате!
Вы, в чьем
юном, чистом сердце
Сохранилась
вера в бога,
В искру божью
в человеке;
Вы, кто
помните, что вечно
Человеческое
сердце
Знало горести,
сомненья
И порывы к
светлой правде,
Что в глубоком
мраке жизни
Нас ведет и
укрепляет
Провидение
незримо, —
Вам бесхитростно
пою я
Эту Песнь о
Гайавате!
Вы, которые,
блуждая
По околицам
зеленым,
Где, склонившись
на ограду,
Поседевшую
от моха,
Барбарис
висит, краснея,
Забываетесь
порою
На запущенном
погосте
И читаете в
раздумье
На могильном
камне надпись,
Неумелую,
простую,
Но исполненную
скорби,
И любви, и
чистой веры, —
Прочитайте
эти руны,
Эту Песнь о
Гайавате!
ТРУБКА МИРА
На горах
Большой Равнины,
На вершине
Красных Камней,
Там стоял
Владыка Жизни,
Гитчи Манито
могучий,
И с вершины
Красных Камней
Созывал к
себе народы,
Созывал людей
отвсюду.
От следов
его струилась,
Трепетала в
блеске утра
Речка, в
пропасти срываясь,
Ишкудой,
огнем, сверкая.
И перстом
Владыка Жизни
Начертал ей
по долине
Путь излучистый,
сказавши:
«Вот твой
путь отныне будет!»
От утеса
взявши камень,
Он слепил из
камня трубку
И на ней
фигуры сделал.
Над рекою, у
прибрежья,
На чубук
тростинку вырвал,
Всю в зеленых,
длинных листьях;
Трубку он
набил корою,
Красной
ивовой корою,
И дохнул на
лес соседний,
От дыханья
ветви шумно
Закачались
и, столкнувшись,
Ярким пламенем
зажглися;
И, на горных
высях стоя,
Закурил
Владыка Жизни
Трубку Мира,
созывая
Все народы
к совещанью.
Дым струился
тихо, тихо
В блеске
солнечного утра:
Прежде —
темною полоской,
После — гуще,
синим паром,
Забелел в
лугах клубами,
Как зимой
вершины леса,
Плыл все
выше, выше, выше, —
Наконец
коснулся неба
И волнами в
сводах неба
Раскатился
над землею.
Из долины
Тавазэнта,
Из долины
Вайоминга,
Из лесистой
Тоскалузы,
От Скалистых
Гор далеких,
От озер Страны
Полночной
Все народы
увидали
Отдаленный
дым Покваны,
Дым призывный
Трубки Мира.
И пророки
всех народов
Говорили:
«То Поквана!
Этим дымом
отдаленным,
Что сгибается,
как ива,
Как рука,
кивает, манит,
Гитчи Манито
могучий
Племена людей
сзывает,
На совет
зовет народы».
Вдоль потоков,
по равнинам,
Шли вожди от
всех народов,
Шли Чоктосы
и Команчи,
Шли Шошоны
и Омоги,
Шли Гуроны
и Мэндэны,
Делавэры и
Могоки,
Черноногие
и Поны,
Оджибвеи и
Дакоты —
Шли к горам
Большой Равнины,
Пред лицо
Владыки Жизни.
И в доспехах,
в ярких красках, —
Словно осенью
деревья,
Словно небо
на рассвете, —
Собрались
они в долине,
Дико глядя
друг на друга.
В их очах —
смертельный вызов,
В их сердцах
— вражда глухая,
Вековая жажда
мщенья —
Роковой завет
от предков.
Гитчи Манито
всесильный,
Сотворивший
все народы,
Поглядел на
них с участьем,
С отчей
жалостью, с любовью, —
Поглядел на
гнев их лютый,
Как на злобу
малолетних,
Как на ссору
в детских играх.
Он простер
к ним сень десницы,
Чтоб смягчить
их нрав упорный,
Чтоб смирить
их пыл безумный
Мановением
десницы.
И величественный
голос,
Голос, шуму
вод подобный,
Шуму дальних
водопадов,
Прозвучал
ко всем народам,
Говоря: «О
дети, дети!
Слову мудрости
внемлите,
Слову кроткого
совета
От того, кто
всех вас создал!
Дал я земли
для охоты,
Дал для рыбной
ловли воды,
Дал медведя
и бизона,
Дал оленя и
косулю,
Дал бобра
вам и казарку;
Я наполнил
реки рыбой,
А болота —
дикой птицей:
Что ж ходить
вас заставляет
На охоту друг
за другом?
Я устал от
ваших распрей,
Я устал от
ваших споров,
От борьбы
кровопролитной,
От молитв о
кровной мести.
Ваша сила —
лишь в согласье,
А бессилие
— в разладе.
Примиритеся,
о дети!
Будьте
братьями друг другу!
И придет
Пророк на землю
И укажет путь
к спасенью;
Он наставником
вам будет,
Будет жить,
трудиться с вами.
Всем его
советам мудрым
Вы должны
внимать покорно —
И умножатся
все роды,
И настанут
годы счастья.
Если ж будете
вы глухи, —
Вы погибнете
в раздорах!
Погрузитесь
в эту реку,
Смойте краски
боевые,
Смойте с
пальцев пятна крови;
Закопайте в
землю луки,
Трубки
сделайте из камня,
Тростников
для них нарвите,
Ярко перьями
украсьте,
Закурите
Трубку Мира
И живите
впредь как братья!»
Так сказал
Владыка Жизни.
И все воины
на землю
Тотчас кинули
доспехи,
Сияли все
свои одежды,
Смело бросилися
в реку,
Смыли краски
боевые.
Светлой,
чистою волною
Выше их вода
лилася —
От следов
Владыки Жизни.
Мутной,
красною волною
Ниже их вода
лилася,
Словно
смешанная с кровью.
Смывши краски
боевые,
Вышли воины
на берег,
В землю палицы
зарыли,
Погребли в
земле доспехи.
Гитчи Манито
могучий,
Дух Великий
и Создатель,
Встретил
воинов улыбкой.
И в молчанье
все народы
Трубки сделали
из камня,
Тростников
для них нарвали,
Чубуки убрали
в перья
И пустились
в путь обратный —
В ту минуту,
как завеса
Облаков
заколебалась
И в дверях
отверстых неба
Гитчи Манито
сокрылся,
Окружен
клубами дыма
От Йокваны,
Трубки Мира.
ЧЕТЫРЕ ВЕТРА
«Слава, слава,
Мэджекивис!» —
Старцы, воины
кричали
В день, когда
он возвратился
И принес
Священный Вампум
Из далеких
стран Вабассо —
Царства
кролика седого,
Царства
Северного Ветра.
У Великого
Медведя
Он украл
Священный Вампум,
С толстой
шеи Мише-Моквы,
Пред которым
трепетали
Все народы,
снял он Вампум
В час, когда
на горных высях
Спал медведь,
тяжелый, грузный,
Как утес,
обросший мохом,
Серым мохом
в бурых пятнах.
Тихо он к
нему подкрался,
Так подкрался
осторожно,
Что его почти
касались
Когти красные
медведя,
А горячее
дыханье
Обдавало
жаром руки.
Осторожно
снял он Вампум
По ушам, по
длинной морде
Исполина
Мише-Моквы;
Ничего не
услыхали
Уши круглые
медведя,
Ничего не
разглядели
Глазки сонные
— и только
Из ноздрей
его дыханье
Обдавало
жаром руки.
Кончив,
палицей взмахнул он,
Крикнул
громко и протяжно
И ударил
Мише-Мокву
В середину
лба с размаху,
Между глаз
ударил прямо!
Словно громом
оглушенный,
Приподнялся
Мише-Моква,
Но едва вперед
подался,
Затряслись
его колени,
И со стоном,
как старуха,
Сел на землю
Мише-Моква.
А могучий
Мэджекнвис
Перед ним
стоял без страха,
Над врагом
смеялся громко,
Говорил с
пренебреженьем:
«О медведь!
Ты — Шогодайя!
Всюду хвастался
ты силой,
А как баба,
как старуха,
Застонал,
завыл от боли.
Трус! Давно
уже друг с другом
Племена
враждуют наши,
Но теперь ты
убедился,
Кто бесстрашней
и сильнее.
Уходите прочь
с дороги,
Прячьтесь в
горы, в лес скрывайтесь!
Если б ты
меня осилил,
Я б не крикнул,
умирая,
Ты же хнычешь
предо мною
И свое позоришь
племя,
Как трусливая
старуха,
Как презренный
Шогодайя».
Кончив,
палицей взмахнул он,
Вновь ударил
Мише-Мокву
В середину
лба с размаху,
И, как лед
под рыболовом,
Треснул череп
под ударом.
Так убит был
Мише-Моква,
Так погиб
Медведь Великий,
Страх и ужас
всех народов.
«Слава,
слава, Мэджекивис! —
Восклицал
народ в восторге. —
Слава, слава,
Мэджекивис!
Пусть отныне
и вовеки
Ветром Запада
он будет,
Властелином
над ветрами!»
И могучий
Мэджекивис
Стал владыкой
над ветрами.
Ветер Западный
оставил
Он себе,
другие отдал
Детям: Вебону
— Восточный,
Шавондази —
теплый Южный,
А Полночный
Ветер дикий
Злому дал
Кабибонокке.
Молод и
прекрасен Вебон!
Это он приносит
утро
И серебряные
стрелы
Сыплет, сумрак
прогоняя,
По холмам и
по долинам;
Это Вебона
ланиты
На заре горят
багрянцем,
А призывный
голос будит
И охотника
и зверя.
Одинок на
небе Вебон!
Для него все
птицы пели,
Для него
цветы в долинах
Разливали
сладкий запах,
Для него
шумели реки,
Рощи темные
вздыхали,
Но всегда
был грустен Вебон;
Одинок он
был на небе.
Утром раз,
на землю глядя,
В час, когда
спала деревня
И туман, как
привиденье,
Над рекой
блуждал, белея,
Он увидел,
что в долине
Ходит дева
— собирает
Камыши и
длинный шпажник
Над рекою по
долине.
С той поры,
на землю глядя,
Только очи
голубые
Видел Вебон
на рассвете:
Как два озера
лазурных,
На него они
смотрели,
И задумчивую
деву,
Что к нему
стремилась сердцем,
Полюбил
прекрасный Вебон:
Оба были
одиноки,
На земле —
она, он — в небе.
Он возлюбленную
нежил
И ласкал
улыбкой солнца,
Нежил
вкрадчивою речью,
Тихим вздохом,
тихой песней,
Тихим шепотом
деревьев,
Ароматом
белых лилий.
К сердцу
милую привлек он,
Ярким пурпуром
окутал —
И она
затрепетала
На груди его
звездою.
Так доныне
неразлучно
В небесах
они проходят:
Вебон, рядом
Вебон-Аннонг —
Вебон и Звезда
Рассвета.
В ледяных
горах, в пустыне,
В царстве
кролика, Вабассо,
В царстве
вечной снежной вьюги,
Обитая
Кабибонокка.
Это он осенней
ночью
Разрисовывает
листья
Краской
желтой и багряной,
Это он приносит
вьюги,
По лесам
шипит и свищет,
Покрывает
льдом озера,
Гонит чаек
острокрылых,
Гонит цаплю
и баклана
В камыши, в
морские бухты,
В гнезда их
на теплом юге.
Вышел раз
Кабибонокка
Из своих
чертогов снежных
Меж горами
ледяными,
Устремился
с воем к югу
По замерзшим,
белым тундрам.
И, осыпанные
снегом,
Волоса его
— рекою,
Черной, зимнею
рекою
По земле за
ним струились.
В тростниках,
среди осоки,
На замерзших,
белых тундрах
Жил там
Шингебис, морянка.
Одиноко в
белых тундрах
Проводил он
зиму эту:
Братья
Шингебиса были
В теплых
странах Шавондази.
И вскричал
Кабибонокка
В лютом гневе:
«Кто дерзает
Презирать
Кабибонокку?
Кто осмелился
остаться
В царстве
Северного Ветра,
Если Вава и
Шух-шух-га,
Если дикий
гусь и цапля
Уж давно на
юг умчались?
Я пойду к его
вигваму,
Я очаг его
разрушу!»
И пришел во
мраке ночи
Ко врагу
Кабибонокка.
Он намел
сугробы снега,
Завывал в
трубе вигвама,
Потрясал его
свирепо,
Рвал дверные
занавески.
Шингебис не
испугался,
Шингебис его
не слушал!
В очаге его
играло
Пламя яркое,
и рыбу
Ел он с песнями
и смехом.
Ворвался
тогда в жилище
Дикий, злой
Кабибонокка;
Шингебис, от
стужи вздрогнул
В ледяном
его дыханье,
Но по-прежнему
смеялся,
Но по-прежнему
пел громко;
Он костер
поправил только,
Чтоб костер
горел светлее,
Чтоб кидало
пламя искры.
И с чела
Кабибонокки,
С кос его в
снегу холодном
Стали падать
капли пота,
Как весною
каплет с крыши
Иль с ветвей
болиголова.
Побежденный
этим жаром,
Раздраженный
этим пеньем,
Он вскочил
и из вигвама
В поле
бросился, шагая
По рекам и
по озерам:
На борьбу
над белой тундрой
Вызывал врага
коварно.
Но без страха,
без боязни
Вышел Шингебис
на битву;
До рассвета
он боролся
С Ветром
Северным над тундрой,
До утра
когтями бился
Шингебис с
Кабибоноккой.
И без сил
Кабибонокка
Отступил в
свои, владенья,
Со стыдом
бежал по тундрам
В царство
кролика, Вабассо,
А за ним все
раздавались
Хохот, песни
и насмешки.
Шавондази,
тучный, сонный,
Обитал на
дальнем юге,
Где в дремотном
блеске солнца
Круглый год
царило лето.
Это он шлет
птиц весною,
Шлет к нам
ласточку, шлет Шошо,
Шлет Овейсу,
трясогузку,
Опечи шлет,
реполова,
Гуся, Ваву,
шлет на север,
Шлет табак
душистый, дыни,
Виноград в
багряных гроздьях.
Дым из трубки
Шавондази
Небеса туманит
паром,
Наполняет
негой воздух.
Тусклый блеск
дает озерам,
Очертанья
гор смягчает,
Веет нежной
лаской лета
В теплый
Месяц Светлой Ночи,
В Месяц Лыж
зимой холодной.
Беззаботный
Шавопдази!
Лишь одно
узнал он горе,
Лишь одну
печаль изведал.
Раз, смотря
на север с юга,
Далеко в
степных равнинах
Он увидел
утром деву,
Деву с гибким,
стройным станом,
Одинокую в
равнинах.
Был на ней
наряд зеленый,
И как солнце
были косы.
День за днем
потом смотрел он,
День за днем
вздыхал он страстно,
День за днем
все больше сердце
Разгоралось
в нем любовью
К деве нежной,
златокудрой.
Но ленив и
неподвижен
Был беспечный
Шавондази,
Да, ленив и
слишком тучен:
К милой он
пойти все медлил,
Он сидел,
вздыхая страстно,
И все только
любовался
Златокудрой
девой прерий.
Наконец
однажды утром
Увидал он,
что поблекли
Кудри русые
у милой, —
Словно первый
снег, белеют.
«О мой брат
из Стран Полночных,
Из далеких
стран Вабассо,
Царства
Северного Ветра!
Ты украл мою
невесту,
Завладел
моею милой,
Обольстил
ее своею
Сказкой
Северного Ветра!»
Так несчастный
Шавондази,
«Изливал
свои страданья,
И бродил в
равнинах знойный
Южный Ветер,
полный вздохов,
Страстных
вздохов Шавондази.
И наполнился
весь воздух,
Словно снегом,
белым пухом:
Погубили
вздохи ветра
Деву с русыми
кудрями,
И от взоров
Шавондази
Навсегда
сокрылась дева.
О мечтатель
Шавондази!
Не по девушке
вздыхал ты,
Не на женщину
смотрел ты, —
На цветок,
на одуванчик;
О цветке
вздыхал ты страстно,
На цветок
глядел все лето
День за днем
с любовью томной
И сгубил его
навеки,
В поле вздохами
развеял.
Бедный, бедный
Шавондази!
ДЕТСТВО ГАЙАВАТЫ
В летний
вечер, в полнолунье,
В незапамятное
время,
В незапамятные
годы,
Прямо с месяца
упала
К нам прекрасная
Нокомис,
Дочь ночных
светил, Нокомис.
Как дитя, она
играла,
На ветвях на
виноградных
Меж подруг
своих качалась,
И одна из
них, сгорая
Злобой
ревности и мести,
Эти ветви
подрубила,
И на Мускодэ
упала,
На цветущую
долину,
Замирая от
испуга,
Летним вечером
Нокомис.
«Вон звезда
упала с неба!» —
Говорил народ
в селеньях.
Там, на мягких
мхах и травах,
Там, среди
стыдливых лилий,
В тихой
Мускодэ, в долине,
В звездном
блеске, в лунном свете,
Стала матерью
Нокомис,
Назвала дочь
первородной —
Назвала ее
Веноной.
И, как лилия
в долине,
Расцвела ее
Венона:
Стала гибкой,
стала стройной,
Точно лунный
свет, прекрасной,
Точно звездный
отблеск, нежной.
И Нокомис
часто стала
Говорить,
твердить Веноне:
«О, страшись,
остерегайся
Мэджекивиса,
Венона!
Никогда его
не слушай,
Не гуляй одна
в долине,
Не ложись в
траве меж лилий!»
Но не слушалась
Венона,
Не внимала
мудрой речи,
И пришел к
ней Мэджекивис,
Темным вечером
подкрался,
С тихим
шепотом склоняя
На лугу цветы
и травы.
Там прекрасная
Венона
Меж цветов
одра лежала,
Там нашел ее
коварный
Ветер Западный
— и начал
Очаровывать
Венону
Сладкой
речью, нежной лаской —
И родился
сын печали,
Нежной страсти
и печали,
Дивной тайны
— Гайавата.
Так родился,
Гайавата;
А коварный
Мэджекивис,
Бессердечный
Мэджекивис
Уж покинул
дочь Нокомис,
И недолго
после билось
Сердце нежное
Веноны:
Умерла она
в печали.
Долго с
криками рыдала,
Долго плакала
Нокомис:
«О, зачем
жестокий Погок
Не меня унес
с собою?
Лучше б мне
лежать в могиле!
Вагономин,
вагономин!»
На прибрежье
Гитчи-Гюми,
Светлых вод
Большого Моря,
С юных дней
жила Нокомис,
Дочь ночных
светил, Нокомис.
Позади ее
вигвама
Темный лес
стоял стеною —
Чащи темных,
мрачных сосен,
Чащи елей в
красных шишках,
А пред ним
прозрачной влагой
На песок
плескались волны,
Блеском
солнца зыбь сверкала
Светлых вод
Большого Моря.
Там, в тиши
лесов и моря,
Внука нянчила
Нокомис,
В люльке
липовой качала,
Устланной
кугой и мохом,
Крепко
связанной ремнями,
И, качая,
говорила:
«Спи! А то
отдам медведю!»
Там, баюкая,
певала:
«Эва-ия,
мой совенок!
Что там
светится в вигваме?
Чьи глаза
блестят в вигваме?
Эва-ия, мой
совенок!»
Много-много
рассказала
О звездах
ему Нокомис;
Показала
хвост кометы —
Ишкуду в
огнистых косах,
Показала
Танец Духов,
Их блистающие
рати
В небесах
Страны Полночной,
В Месяц Лыж
морозной ночью;
Показала
серебристый
Путь всех
призраков и духов —
Белый путь
на темном небе,
Полном
призраков и духов.
Вечерами,
теплым летом,
У дверей
сидел малютка,
Слушал тихий
ропот сосен,
Слушал тихий
плеск прибоя,
Звуки дивных
слов и песен:
«Минни-вава!»
— пели сосны,
«Мэдвэй-ошка!»
-пели волны.
Видел мушку,
Ва-ва-тэйзи,
Что, сверкая
белой искрой,
Светит в
сумраке вечернем
Над травою
и кустами,
И тихонько
пел ей песню,
Что Нокомис
научила:
«Ва-ва-тэйзи,
Ва-ва-тэйзи!
Крошка,
огненная мушка,
Крошка, белый
огонечек!
Потанцуй еще
немножко,
Посвети мне,
попрыгунья,
Белой искоркой
своею:
Скоро я в
постельку лягу,
Скоро я закрою
глазки!»
Видел, как
над Гитчи-Гюми,
Отражаясь в
Гитчи-Гюми,
Подымался
полный месяц,
Видел тень
на нем и пятна
И шептал:
«Что там, Нокомис?»
А Нокомис
отвечала:
«Раз один
сердитый войн
Подхватил
старуху-бабку
И швырнул ее
на небо,
Зашвырнул
на месяц прямо.
Так она там
и осталась».
Видел радугу
на небе,
На востоке,
и тихонько
Говорил: «Что
там, Нокомис?»
А Нокомис
отвечала:
«Это Мускодэ
на небе;
Все цветы
лесов зеленых,
Все болотные
кувшинки,
На земле
когда увянут,
Расцветают
снова в небе».
Если сов он
слышал в полночь —
Вой и хохот
в чаще леса, —
Он, дрожа,
кричал: «Кто это?»
Он шептал:
«Что там, Нокомис?»
А Нокомис
отвечала:
«Это совы
собралися
И по-своему
болтают,
Это ссорятся
совята!»
Так малютка,
внук Нокомис,
Изучил весь
птичий говор,
Имена их, все
их тайны:
Как они вьют
гнезда летом,
Где живут
они зимою;
Часто с ними
вел беседы,
Звал их всех:
«мои цыплята».
Всех зверей
язык узнал он,
Имена их, все
их тайны:
Как бобер
жилище строит,
Где орехи
белка прячет,
Отчего резва
косуля,
Отчего труслив
Вабассо;
Часто с ними
вел беседы,
Звал их:
«братья Гайаваты».
И рассказчик
сказок Ягу,
Говорун,
хвастун великий,
Много по
свету бродивший,
Верный друг
Нокомис старой,
Сделал лук
для Гайаваты:
Лук из ясеня
он сделал,
Стрелы сделал
он из дуба,
Наконечники
— из яшмы,
Тетиву — из
кожи лани.
И сказал он
Гайавате:
«Ну, мой
сын, иди скорее
В лес, где
держатся олени.
Застрели-ка
там косулю
С разветвленными
рогами».
Гордо взял
свой лук и стрелы
Гайавата и
отважно
В лес пустился;
птицы звонко
Пели, по лесу
порхая.
«Не стреляй
в нас, Гайавата!» —
Опечи пел
красногрудый;
«Не стреляй
в нас, Гайавата!» —
Пел Овейса
синеперый.
На дубу над
Гайаватой
Вниз и вверх
скакала белка,
Меж зеленых
листьев дуба
С кашлем
прыгала, смеялась
И, смеясь,
пробормотала:
«Пощади, о
Гайавата!»
И вприпрыжку
белый кролик
Робко бросился
с тропинки,
Стал вдали
на задних лапках
И охотнику
промолвил
Хоть и в
шутку, но трусливо:
«Пощади, о
Гайавата!»
Но не слушал
Гайавата, —
Точно сонный,
брел он лесом,
Лонгфелло Генри » Песнь о Гайавате — читать книгу онлайн бесплатно

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента
К сожалению, полный текст книги недоступен для бесплатного чтения в связи с жалобой правообладателя.
Оглавление:
-
ВСТУПЛЕНИЕ
1
-
ТРУБКА МИРА
1
-
ЧЕТЫРЕ ВЕТРА
2
-
ДЕТСТВО ГАЙАВАТЫ
4
-
ГАЙАВАТА И МЭДЖЕКИВИС
5
Настройки:
Ширина: 100%
Выравнивать текст
Вы, кто любите природу —
Сумрак леса, шепот листьев,
В блеске солнечном долины,
Бурный ливень и метели,
И стремительные реки
В неприступных дебрях бора,
И в горах раскаты грома,
Что как хлопанье орлиных
Тяжких крыльев раздаются, —
Вам принес я эти саги,
Эту Песнь о Гайавате!
http://www.xxlbook.ru/offerlab147960.aspx
ВСТУПЛЕНИЕ
Если спросите — откуда
Эти сказки и легенды
С их лесным благоуханьем,
Влажной свежестью долины,
Голубым дымком вигвамов,
Шумом рек и водопадов,
Шумом, диким и стозвучным,
Как в горах раскаты грома? —
Я скажу вам, я отвечу:
«От лесов, равнин пустынных,
От озер Страны Полночной,
Из страны Оджибуэев,
Из страны Дакотов диких,
С гор и тундр, с болотных топей,
Где среди осоки бродит
Цапля сизая, Шух-шух-га.
Повторяю эти сказки,
Эти старые преданья
По напевам сладкозвучным
Музыканта Навадаги».
Если спросите, где слышал,
Где нашел их Навадага, —
Я скажу вам, я отвечу:
«В гнездах певчих птиц, по рощам,
На прудах, в норах бобровых,
На лугах, в следах бизонов,
На скалах, в орлиных гнездах.
Эти песни раздавались
На болотах и на топях,
В тундрах севера печальных:
Читовэйк, зуек, там пел их,
Манг, нырок, гусь дикий, Вава,
Цапля сизая, Шух-шух-га,
И глухарка, Мушкодаза».
Если б дальше вы спросили:
«Кто же этот Навадага?
Расскажи про Навадагу», —
Я тотчас бы вам ответил
На вопрос такою речью:
«Средь долины Тавазэнта,
В тишине лугов зеленых,
У излучистых потоков,
Жил когда-то Навадага.
Вкруг индейского селенья
Расстилались нивы, долы,
А вдали стояли сосны,
Бор стоял, зеленый — летом,
Белый — в зимние морозы,
Полный вздохов, полный песен.
Те веселые потоки
Были видны на долине
По разливам их — весною,
По ольхам сребристым — летом,
По туману — в день осенний,
По руслу — зимой холодной.
Возле них жил Навадага
Средь долины Тавазэнта,
В тишине лугов зеленых.
Там он пел о Гайавате,
Пел мне Песнь о Гайавате, —
О его рожденье дивном
О его великой жизни:
Как постился и молился,
Как трудился Гайавата,
Чтоб народ его был счастлив,
Чтоб он шел к добру и правде».
Вы, кто любите природу —
Сумрак леса, шепот листьев,
В блеске солнечном долины,
Бурный ливень и метели,
И стремительные реки
В неприступных дебрях бора,
И в горах раскаты грома,
Что как хлопанье орлиных
Тяжких крыльев раздаются, —
Вам принес я эти саги,
Эту Песнь о Гайавате!
Вы, кто любите легенды
И народные баллады,
Этот голос дней минувших,
Голос прошлого, манящий
К молчаливому раздумью,
Говорящий так по-детски,
Что едва уловит ухо,
Песня это или сказка, —
Вам из диких стран принес я
Эту Песнь о Гайавате!
Вы, в чьем юном, чистом сердце
Сохранилась вера в Бога,
В искру Божью в человеке;
Вы, кто помните, что вечно
Человеческое сердце
Знало горести, сомненья
И порывы к светлой правде,
Что в глубоком мраке жизни
Нас ведет и укрепляет
Провидение незримо, —
Вам бесхитростно пою я
Эту Песнь о Гайавате!
Вы, которые, блуждая
По околицам зеленым,
Где, склонившись на ограду,
Поседевшую от моха,
Барбарис висит, краснея,
Забываетесь порою
На запущенном погосте
И читаете в раздумье
На могильном камне надпись,
Неумелую, простую,
Но исполненную скорби,
И любви, и чистой веры, —
Прочитайте эти руны,
Эту Песнь о Гайавате!
ЧИТАТЬ: http://thelib.ru/books/longfello_g/pesn_o_gayavate-read.html
СОВЕТСКИЙ ДИАФИЛЬМ
http://www.liveinternet.ru/users/3341029/post243954246/
27 февраля 1807 года в Портленде (шт. Мэн) родился англоязычный поэт США Генри Лонгфелло.
В первом поэтическом сборнике Лонгфелло «Ночные голоса» (1839) было опубликовано стихотворение «Псалом жизни», снискавшее ему славу во всех слоях общества.
Жизнь не грезы. Жизнь есть подвиг!
И умрет не дух, а плоть.
«Прах еси и в прах вернешься»,—
Не о духе рек господь.
Пер. Ивана Бунина
И. А. Бунин перевёл на русский также «Песнь о Гайавате» Лонгфелло.
Молодой американский индеец Гайавата, воспитанный в племени оджибве, в детстве изучил язык птиц и зверей. Волшебные рукавицы наделяют его сверхъестественной силой, волшебные мокасины позволяют делать с каждым шагом по миле. Они помогают ему воздать по заслугам отцу, Мэджекивису, олицетворению Западного Ветра, за зло, что тот причинил его матери, Веноне. Став вождем племени, Гайавата оберегает его на протяжении долгих лет безоблачного мира. Его женитьбу на деве Миннегага отмечают пиром и песнями, но в конце концов смерть, голод и белые люди губят индейцев. Умирают друзья Гайаваты, умирает Миннегага, а сам Гайавата, дав своему народу совет принять новую религию белых священников, отплывает на Острова Блаженных.
Генри Лонгфелло. СТИХИ
http://mudreishy.ru/stikhi/source/longfello-genri

