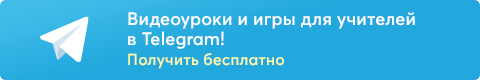I. 2012 год
О поэзии Сергея Гандлевского1
Наверное, чистый лист существует для того, чтобы на нём возникало нечто, не способное испортить ни белизны его, ни чистоты. А это бывает крайне редко. Каждый подобный случай — подарок.
Таким подарком являются для меня стихи Сергея Гандлевского. И как рано, в какие-то 20-ть лет, он стал писать совершенные и при этом абсолютно живые стихи.
Среди фанерных переборок
И дачных скрипов чердака
Я сам себе далёк и дорог,
Как музыка издалека.
Давно, сырым и нежным летом,
Когда звенел велосипед,
Жил мальчик — я, по всем приметам,
А, впрочем, может быть, и нет.
Способность с лёгкостью то удалять, то приближать события, эпоху, себя самого осталась у поэта на всю жизнь. Причём и в поэзии и в прозе. Недаром одно его эссе называется «Blow up» (фотоувеличение).
Чтобы понять почерк Гандлевского, достаточно зарыться с головой в приведённое выше стихотворение 1973 года. В нём есть всё, что характерно для лучших стихов и более позднего времени: раскованность, цепкий взгляд, выхватывающий из окружающего пространства, казалось бы, случайные, а на деле совсем не случайные детали — лишь те, через которые легче объясниться с пространством и с самим собой:
Чай, лампа, затеррасный сумрак,
Сверчок за тонкою стеной
Хранили бережный рисунок
Меня, непознанного мной.
«Сто лет свободы и любви», которыми кончается это стихотворение, ещё не истекли и, хочется надеяться, не истекут никогда. Они есть и в стихах, написанных спустя десять лет, в 1983 — ем.
Возьмите всё, но мне оставьте
Спокойный ум, притихший дом,
Фонарный контур на асфальте
Да сизый тополь под окном.
Тот же цепкий и влюблённый взгляд, что и десять лет назад. Та же способность ощутить «толчок сердечный» от самых простых рутинных вещей, заставив и нас испытать то же самое. И можно ли не почувствовать «толчок сердечный», если обыкновенная кирпичная стена «бежит» вокруг больницы, «худая скомканная птица» (вот ради какой детали стоит тревожить белый лист!) «кружит под небом», женский гомон «плутает», разговор «струится», невнятица «плещется». Не знаю как у кого, но у меня от этих скоростей и этих подвижных глаголов голова идёт кругом. За что я безмерно благодарна поэту.
Перелистнём ещё несколько страниц и, сбросив скорость, пойдём помедленней.
Было бы грустно, как если бы мы шаг за шагом
Хвойной тропинкой взошли на обветренный холм
И примостились бок о бок над самым оврагом —
Я под сосною, а ты на откосе сухом.
Здесь, как и в более ранних стихах, всё предметно, наглядно, но на сей раз поэт медленно переводит взгляд с закатного неба на сосняк, на поляны, на большие озёра, в одном из которых отразился лесной монастырь. Он вбирает в себя всё, что открылось «потемневшему взору» (за который ещё одна благодарность от не напрасно потревоженного листа бумаги). Здесь уже действительно не взгляд, а взор, вбирающий в себя огромное пространство. И снова головокружение. Но уже не от стремительности происходящего, а от беспредельности пространства.
Две-три поляны, сосняк и большие озёра,
В самом большом отразился большой монастырь.
Неужто нет других эпитетов, кроме «большой»? Есть, но они не нужны. Здесь нужен только этот, трижды повторенный в двух соседних строках, благодаря чему возникли глубь и ширь, и высь.
«Было так грустно…, — говорит автор, — да лёгкое сердце забыло». Разве это не пушкинское «печаль моя светла»?
Слова «легко, грустно, маяться» живут бок о бок и в следующем стихотворении и помогают «различить связующую ноту/ В расстроенном звучанье дней!»
«Я жив, но я другой, сохранно только имя». Конечно, другой. Потому и жив. И всё же «праздник всегда с тобой».
«Праздник. Всё на свете праздник/ Красный, чёрный, голубой». Да, и чёрный. Бывает и чёрный праздник, если уметь приподнять этот чёрный цвет и превратить в поэзию. Если превратить в поэзию и «чикиликанье галок в осеннем дворе», и «коммунальный зверинец», и «помойных кошек» которые «с вожделением делят какую-то дрянь».
В одном из разговоров Гандлевский обозвал меня «дитя добра и света». Именно обозвал, потому что в его устах это весьма сомнительная похвала. Я же хочу ему ответить так, как отвечают в детстве: «Сам такой». А иначе откуда эти разноцветные праздники? Откуда строка «зелёным взрывом тополя разбужен»? Откуда призыв «Давай живи, смотри не умирай»? Откуда постулат «Стихи не орудие мести,/А серебряной чести родник»? Откуда эта способность преображать всё, даже не самые аппетитные подробности нашего существования? Разве это не свидетельствует о мИроприятии (пользуясь словом Гандлевского)? А что до «кривой ухмылки» (опять его выражение), то я бы употребила более точное определение — «горькая усмешка», которая только льёт воду на мельницу мИроприятия. Ведь одно дело воскликнуть «Узнаю тебя, жизнь, принимаю/ И приветствую звоном щита», и совсем другое — сухо и буднично перечислять всё, что попалось на глаза: «Пруд, покрытый гусиною кожей, /семафор через силу горит, /Сеет дождь, и небритый прохожий /Сам с собой на ходу говорит». Но перечислять так, с таким обилием точных определений, что становится ясно: автор влюблён во всё вышеназванное.
Иначе он не был бы столь зорок и точен. И действует подобная любовь куда сильнее, чем признание типа «Я люблю тебя, жизнь./ Я люблю тебя снова и снова.» И я, заражённая этим чувством, перечитываю стихотворение в сотый раз и в сотый раз радуюсь тому, что «кружит ночь из семейства вороньих./ Расстояния свищут в кулак». Вот и получается, что во множестве безрадостных стихов Гандлевского вместо «нет», которое он, вроде бы, произносит, звучит «да». И такое «да» дорогого стоит. Гораздо дороже, чем «да» без примеси «нет».
То же самое происходит и в прозе. Я недавно перечитывала его прозу и покатывалась со смеху. Мои домашние с завистью спросили, что я такое читаю. «Трепанацию черепа», — ответила я. «Ну и что ж в этом смешного?», — последовал законный вопрос. И я принялась читать вслух. Теперь уже смеялись все. И когда среди всего этого появляются бесхитростные и пронзительные строки, то они действуют куда сильнее, чем если бы находились среди себе подобных: «Пару лет назад я вычитал у Клайва Стейплза Льюиса рассуждение, от которого у меня защемило сердце. Раз бессмертно только вещество любви, то спасение живности целиком зависит от нас. Если мы действительно любим собаку, кошку, хомяка или черепаху, то тем самым обессмерчиваем свою животину. Без нашего участия звери обречены. Даже если Льюис ошибся, Бог может прислушаться к этому мнению, одобрить его и внести кое-какие поправки в Свое мироздание, ведь Он — творец, а не догматик».
Я бы с радостью продолжила цитату, но обрываю её, чтоб привести ещё одну, без которой нельзя обойтись. Гандлевский пишет о смертельно больной матери, которую он навестил в больнице: «Подавленный её видом, не оставлявшим сомнений, я наспех поцеловал мать и ушёл, почти убежал. И только у метро меня ударило: ведь она наверняка стояла у окна палаты на втором этаже и махала мне в спину…. Маши мне всегда! Слабый, себялюбивый, обмирающий от нежности, заклинаю: ни на мгновенье не опускай руки, на каком бы ярусе мира ты сейчас ни была и чего бы это тебе ни стоило. Пока под твоим взглядом я не обернусь, содрогаясь от рыданий несбыточной встречи». Спасибо за эти строки. И спасибо за то, что они живут среди гомерически смешных сюжетов. И спасибо за способность видеть смешное там, где, как правило, ничего смешного видеть не принято.
И спасибо за блестящий ум. Хотя за это не благодарят. Ум или есть или его нет. Но в случае Гандлевского он настолько очевиден, что о нём нельзя не сказать отдельной строкой и нельзя не вспомнить характеристику, которую дал Пушкин Баратынскому: «Он у нас оригинален, ибо мыслит». Талант редок, но талант + ум — ещё большая редкость.
И спасибо за умение виртуозно менять регистры и с лёгкостью переходить с конкретных, подчас комических событий к метафизике, которая впрочем почти всегда просвечивает у него сквозь любые самые приземлённые реалии. Можно привести уйму примеров. За неимением места приведу один. Вот подросток Гандлевский — на подмосковной базе отдыха. Перед сном он читает Пастернака, которого на три дня дала ему учительница литературы: «И так неистовы на синем / Разбеги огненных стволов, / И мы так долго рук не вынем / Из-под заломленных голов…”. — Я поёжился от сырости казённого белья, предутреннего холода и грозного счастья подступившей вплотную жизни». Наверное, благодаря этому свойству не терять связи с метафизическим, у меня ни разу не возник недоумённый вопрос: «А почему, собственно, я должна вникать в чью-то жизнь? Пускай автор живёт „свою подробную“, а я — свою».
Можно говорить долго, но приходится закругляться.
Хочется добавить одно: пример Гандлевского показывает, что все разговоры об исчерпанности традиционного стихосложения — вздор. Важно только одно — кто это поле возделывает.
Как известно, «талант — единственная новость, которая всегда нова». С талантами всегда и везде напряжёнка, но пока они есть, не будем хоронить ни традицию, ни поэзию, даже если, по мнению Бродского, она нужна лишь одному проценту населения. И, когда я листаю сборник Гандлевского и набредаю на мрачные строки «Каждый сам себе отопри свой ад,/ Словно дверцу шкафчика в душевой», я попадаю — пусть не в рай — но туда, где мне очень хорошо и откуда я совсем не спешу уходить.
Запоздалый звонок2
(к 20-летию гибели Юрия Карабчиевского (14.10.1938 — 30.07.1992))
Юра, тебя очень не хватает сегодня. Как, впрочем, и вчера. Не хватает твоей честности, горячности, неравнодушия. Не хватает тебя, потому что сегодня огромный дефицит людей с низким болевым порогом, людей, способных боль других чувствовать так же остро, как свою собственную. Ты был болен и Сумгаитом, и Карабахом и Спитаком. Ты был ранен смертью А. Д. Сахарова. Это всё были события твоей личной жизни.
Ты впустил в себя так много чужой боли, что у тебя в те июльские дни двадцать лет назад, видимо, не хватило сил на свою собственную. И никого из друзей не оказалось рядом, чтобы подставить плечо. Никого не было в Москве: жара, лето. Вернувшись в Москву после отпуска, мы обнаружили в своём почтовом ящике множество твоих записок с одним словом: «Позвоните». Тебя уже не было в живых. Я тебе столько раз мысленно звонила с той поры. Мне столько надо было сказать тебе.
Окликаю тебя и сегодня, чтобы ещё раз повторить, что ты нужен. Нужен друзьям, читателям. Тем, кто любил тебя, и тем, кто мог бы полюбить. Ты нужен, потому что ты из немногочисленной ныне когорты писателей, не столько озабоченных самовыражением и формальными поисками, сколько тем, чтоб пробиться к душе читателя. И тебе это удавалось. Но, к сожалению, хоть тебя и щедро печатали в последние годы твоей жизни, твой полуавтобиографический роман «Жизнь Александра Зильбера» и сборник повестей «Тоска по дому», и блестяще остроумная проза «Всё ломается», и «Незабвенный Мишуня», и тем более стихи, — всё ушло в тень, когда вышла наделавшая много шума книга «Воскресение Маяковского».
При всём своём блеске, эта книга — беспощадная, жестокая и во многом несправедливая. Так нельзя писать о поэте, о чём мы (я и Боря) тебе сказали сразу, прочитав по твоей просьбе рукопись. Печаль в том, что ты согласился с нами гораздо позже, незадолго до смерти. «Мне всё меньше нравятся те, кому нравится мой „Маяковский“», — как-то признался ты. А своей последней весной сказал: «Маяковский тянет меня за собой». «Твой Маяковский» действительно сыграл с тобой злую штуку, намертво привязав тебя к себе. Ведь если кто и помнит тебя сегодня, то чаще всего за «Воскресение Маяковского». Разве ты этого хотел? Но что поделаешь? Твои недостатки суть продолжение твоих достоинств. В твоей излишне категоричной и жёсткой оценке Маяковского «виноваты» всё те же твои прекрасные свойства: неравнодушие, горячность и, в конечном счёте, любовь.
«Потому что любил», — назвала я свою рецензию на переизданную не столь давно книгу «Воскресение Маяковского». Помнишь, когда ты приходил к нам за очередным томиком Маяковского (ты как раз тогда задумал свою книгу), я тебя шутя спросила: «Ты что, телегу на Маяковского строчишь?», ты засмеялся: «Как догадалась?» и рассказал мне, как бредил им всю свою юность.
Да, тебя часто «заносило». Но «заносит» многих. А вот признать свою ошибку, изменить мнение могут единицы. У тебя есть это драгоценное свойство, потому что ты живой. Ты сам в одном из своих интервью сказал: «Человек — явление динамическое, в статике его просто нет. Он должен непрерывно осуществляться, как бы продолжать своё существование». Ты непростительно рано поставил окончательную точку, устав осуществляться. Но я то и дело окликаю тебя, желая узнать твоё мнение о том, об этом. И пусть мы с тобой не совпадём. Куда важнее то, что тебе всё интересно и что ты живой. А ведь жить ещё не значит быть живым. Это не даровое свойство. Оно присуще далеко не всем. Для меня и, наверное, многих других ты и сегодня, через двадцать лет после гибели, жив. Ты говорил, что жить надо там, где после твоего ухода останется луночка, как бывает, когда вырвут зуб.
Луночка осталась, Юра. И не только луночка. Остались твои книги. Хотя где они? Станут ли сегодня переиздавать что-нибудь, кроме скандального «Маяковского»? А мне бы так хотелось, чтоб прочитали твою «Тоску по Армении», твоего печально-весёлого «Незабвенного Мишуню», твой блестящий очерк о Мандельштаме, с которого началось моё заочное знакомство с тобой. Помнишь, я тебе рассказывала, что прочла его в 76-ом году в одном тамиздатском журнале и решила, что автор живёт за рубежом, а потом выяснилось, что мы живём рядом в Тёплом Стане и разделяет нас только пустырь? На мой взгляд, всё, что ты написал, абсолютно современно и сейчас. Но посчитают ли так издатели?
А судьба всё бежит за тобой по следу, «как сумасшедший с бритвою в руке». Через год после твоего самоубийства покончила с собой твоя Света. А совсем недавно скоропостижно скончался твой старший сын Аркан. Это был тот редкий случай, когда я благословила судьбу, что тебя нет на свете. Я помню, как ты однажды сказал: «Не дай Бог пережить своих детей». Впрочем, что мы знаем о постбытийном существовании. А вдруг вы все там встретились. Вдруг они просто хотели поскорее попасть к тебе.
Где-то на земле живёт твой младший сын Дима. Надеюсь, он по-прежнему пишет картины, которые ты так ценил. Помню, как ты шёл с Димкой мимо наших окон, и у каждого из вас была огромная поклажа — картины, которые вы везли на суд какого-то очередного мэтра. Наверное, если я наберу сегодня твой номер 3381729, ответит совершенно чужой голос. Лучше я поговорю с тобой вот так, с помощью этого письма. Как всё-таки важно, чтоб оставались на земле такие люди, как ты. Чтоб можно было крикнуть: «Есть кто живой?», и знать, что кто-нибудь ответит.
Я прожил жизнь, не хуже, чем пытался.
Все выжал из нее и все в ней выжил.
И кончился. И просьба не винить.
И нет меня. Но остаются дети.
Ночь на исходе, утром на работу.
Привычную напялив оболочку,
Я вновь прикинусь теплым и живым.
Мой внешний вид вне всяких подозрений
Ни зеркала, ни взгляды сослуживцев.
Но есть глаза, есть два таких зрачка, —
В которые вошла без искажений
Моя потусторонняя тоска…
***
Памяти Юры Карабчиевского
Кипень вся июльская, весь жасмин —
На помин души твоей, на помин,
На помин души того, кто устал,
И ушел, отчаявшись, и не стал
Срока ждать предельного. Ах, июль,
Что в тебе смертельного? Горсть пилюль
Да тоска бездонная всех ночей,
Да бессилье полное всех речей.
Лариса Миллер
«Конец света, говорите?»3 (Лев Рубинштейн, «Знаки внимания»)
Хотите жить лучше и веселее? Читайте новую книгу Льва Рубинштейна «Знаки внимания»4. Нет-нет, он не дает никаких рецептов и полезных советов, позволяющих улучшить качество жизни. Напротив, он нажимает на все наши болевые точки. Причем анестезией служит сам язык — веселый и игристый, чудесным образом позволяющий легко переносить боль. И не просто легко, а умирая со смеху. «Конец света, говорите? Ну-ну. Даже интересно. Не знаю, кто как, но я еще ни разу не видел…» Таково начало этой книги, состоящей из множества коротких эссе. О чем они? О наших фобиях, предрассудках, заблуждениях, ожиданиях, о нас в мировом контексте и в контексте домашнем. Много о чем. А посыл вот какой: пожалуйста, не ходите строем, сторонитесь толпы, думайте сами. И про конец света не надо. И про мировой заговор не надо. И про инородцев не надо. И, честное слово, есть что любить в этой жизни при любом раскладе.
А иногда и посыла нет — просто забавный эпизод. Кто сказал, что всегда должен быть месседж, вывод, мораль? Ведь потребность в них тоже может быть признаком несамостоятельности и привычки жить за чужой счет. «А при каком общественном устройстве лучше или хуже живется — так это дело сугубо индивидуальное. Кто-то хочет быть свободным, а потому должен быть готов к различным рискам, каковыми всегда сопровождается свобода». На вкус автора этот вариант куда лучше, чем наличие пахана, по которому у нас до сих пор тоскуют. И написано об этом без всякого обличительного пафоса. Пафоса в этой книге нет вообще. Зато есть юмор и, главное, точно поставленный диагноз. Рубинштейн — диагност от Бога. Прочтите хотя бы эссе «Зла хватает» о свойственной нам агрессивности или «После бала» о «застенчивом полумолчании», которым был отмечен недавний юбилей Льва Толстого. «Говорят, что на Толстого до сих пор дуется солидное и влиятельное учреждение, играющее в наши дни роль идеологического отдела правящей партии и именуемое РПЦ. Может быть, и так. А государство, а общество? Ну, видимо, такое у нас состояние общества, что не до Толстых теперь.
А еще автор может рассказать вам о вашем детстве. И неважно, сколько вам лет. Прочтите «Что хотелось бы забыть, но не получается», и вы убедитесь, что это и про вас. Одно странно, что, поставив нашему обществу точный диагноз — «вечный неизживаемый пубертат», автор, умиляясь на те «хорошие лица», что он увидел на недавних митингах и демонстрациях, не задается вопросом: «А не впадаем ли мы в ту же эйфорию, в какую впадали в начале 90-х?» Не нужна ли какая-то основательная, содержательная и понятная загнанным в угол людям социальная программа, без которой все эти протестные мероприятия часто превращаются в веселую прогулку с раздачей автографов? Не является ли такая ничем не обеспеченная эйфория тем самым «вечным детством», о котором автор говорит в своем эссе «В детском мире»? «Эх, птица-тройка! Кем, скажи, ты хочешь стать, когда вырастешь наконец? Да и вырастешь ли? Станешь ли взрослой? А?»
Конец ознакомительного фрагмента.
Постмодернистский контекст творчества Гандлевского (группа «Московское время», московский концептуализм) уже неоднократно становился предметом литературно-критической и филологической рефлексии1. В нашем сообщении хотелось бы коснуться других и, возможно, довольно субъективно ощущаемых интертекстуальных контекстов и парадигм, в которых живут стихотворения поэта, причем проследить их на конкретном примере осенне-зимней метафорики его элегий.
1. Конечно, Гандлевский был известен уже в 1970-е годы, но широкое признание пришло к нему, как и ко многим поэтам его поколения, с опозданием, уже в 1990-е годы, а по-настоящему в 2000-е, когда отхлынула волна поздней, интенсивной рецепции Бродского, в тени которого невольно оказались и многие открытия 1990-х. Первая книга стихотворений поэта вышла лишь в перестройку (1989), в 1990-е годы и в начале 2000-х в петербургском «Пушкинском фонде» и в провинции выходят поэтические и прозаические сборники Гандлевского, во многом дублирующие и дополняющие друг друга2. В конце 2000-х Гандлевский выпускает собрание своих сочинений с традиционными, нейтральными названиями «Опыты в прозе» (2007) и «Опыты в стихах» (2008)3.
За Гандлевским укрепилась репутация поэта, пишущего программно мало, но «томов премногих тяжелей». Критики, ценители и недоброжелатели гадают, то ли муза Гандлевского так скупа и взыскательна, то ли поэт на самом деле пишет больше, но для публикаций перфекционистски отбирает стихи по высшей мерке4. Если вспомнить цветаевскую классификацию («поэты с историей» и «поэты без истории»), то Гандлевский, подобно Тютчеву, оказывается классическим примером «поэта без истории». Стихов Гандлевского мало, и тем сильнее они семантически связаны между собой, тем интенсивнее воспринимаются читателем как целостный текст, определенное образно-интонационное единство. Количество образно-семантических гнезд5 намеренно или ненамеренно ограничено, стихи 1990-х и 2000-х варьируют и развивают мотивы стихотворений 1970-х и 1980-х.
Гандлевский начинает писать стихи, писать в стол, в лучшем случае для узкого круга друзей, в начале 1970-х; некоторые тексты выходят за границей и окончательно закрывают возможность публикации дома. К тому времени хо- лерическо-сангвинический энтузиазм «оттепельного письма» уже окончательно уступил место пессимистически-фаталистической, меланхолическо-флегматичной поэтике эпохи застоя, нарастающих год от года удушья и уныния, внешних и внутренних эмиграций. Если культура оттепели, будучи культурой открытия и воодушевления, была, по определению, социальной и коммуникативной, то сменившая ее культурно-поэтическая формация стимулировала возникновение своего рода частных островков, культурно-психологических ниш и укромных уголков. Писатели и поэты оказались задвинуты в спонтанно возникавшие субкультурные ареалы подпольно-элитарного дружества.
Одних изоляция толкала на дерзкие формальные эксперименты, контрастировавшие с конвенциальными клише официальной поэзии, другие же развивали поэтику приватности6. Знаковый для оттепели пафос индивидуализации, эмансипации от тоталитарной культурной коллективизации сталинской эры в 1970-е годы трансформируется в поэтический этос интимности, последней хрупкой личной лиричности мира и человека. Жанровым воплощением этого этоса в поэзии вновь становится элегия. Именно в пространстве элегии разворачиваются поэтические послания Гандлевского. В свою очередь, элегическая топика задумчивости и грусти, одиночества и разочарования традиционно работает с поэтико-культурными коннотациями времен года. Любимая пора Гандлевского — поздняя осень на границе зимы. Именно это время, обладая наибольшей мнемопоэтической силой, вызывает у поэта воспоминания об утраченном детстве:
Лишь сроки осени подходят,
И по участкам жгут листву,
Во мне звенит и колобродит
Второе детство наяву.
(«Среди фанерных переборок…» (1973); 2008:11)
Гандлевский остается в традиционной топике осенней элегии, но локализует ее в городском или дачном быте. А в стихотворении «Декабрь 1977 года»7 называет центральное для своей поэтики время года, а точнее, межвременье (безвременье) между осенью и зимой:
Кленовый лист на стареньком пюпитре.
Идет смычок, и слышится зима.
(«Декабрь 1977 года» (1977); 2008:20)
Переход от осени к зиме описывается художественными средствами, которые, говоря словами стихотворения «Портрет художника в отрочестве», можно было бы назвать поэтикой «замедленной съемки» (Гандлевский 2008:147); в этой поэтике приостановки, замирания жизни преломляется и художественно реабилитируется та атмосфера, та культура стагнации и ретардации, которая характеризует так называемую «эпоху застоя».
Один из центральных образов этого «замедленного письма» — первый снег, когда пейзаж стоит и только медленно падающий снег и связанные с ним световые изменения сообщают статичной картине особую динамику. Вот начало стихотворения «Сигареты маленькое пекло…», характерное для элегического письма Гандлевского:
Сигареты маленькое пекло.
Тонкий дым разбился об окно.
Сумерки прокручивают бегло
Кроткое вечернее кино.
(«Сигареты маленькое пекло.» (1973); 2008:12)
Курение (являющееся, в свою очередь, паузой, остановкой) и сигаретный дым здесь не только традиционные знаки-сигналы одиночества, меланхолического (со)стояния героя. Сигаретный дым — зимний эрзац, метонимия сжигаемой осенью листвы. Дымовая завеса тлеющих листьев на дачных участках из первой цитаты или сигарет из последней (обе являются при этом модифицированным эквивалентом оссианическо-элегического тумана) то рассеивается, то появляется вновь. Пейзаж за окном при этом также претерпевает модификацию — кинематографизируется. Кинометафорам сообщается поэтологическое, метаэлегическое измерение, при этом само «кино», которое прокручивает перед читателем Гандлевский, программно экфрастично:
С улицы вливается в квартиру
Чистая голландская картина —
Воздух пресноводный и сырой,
Зимнее свеченье ниоткуда,
Конькобежцы накануне чуда
Заняты подробною игрой.
(«Сигареты маленькое пекло.» (1973); 2008:12)
Впервые на брейгелевские сюжеты в стихах Гандлевского обратил внимание Глеб Шульпяков (1997): экфрастический интертекст приведенного пассажа — картина «Охотники на снегу»8. В «брейгелизации» меланхолического зимнего пейзажа Гандлевский не одинок9. Ландшафты Брейгеля и других нидерландских и немецких художников становятся поэтической темой как раз в интересующий нас период (от поэмы Новеллы Матвеевой «Питер Брейгель-старший» (1968) до стихотворения «В рождество все немного волхвы…» (1971) Иосифа Бродского10). Именно Брейгель и его «Охотники на снегу» становятся идентификационным образом целого поколения.
Кинематографическая «канонизация» «Охотников на снегу» происходит в фильмах Андрея Тарковского конца 1960-х — начала 1970-х годов. Завуалированные и эксплицитные смыслообразующие аллюзии к живописи северного Ренессанса вообще и картинам Брейгеля в частности намечаются уже в зимних сценах «Андрея Рублева» (1969)11. Позже по стопам Тарковского схожим приемом воспользуется Лариса Шепитько в фильме 1976 года «Восхождение». В том же, 1976-м на экраны выходит фильм А. Алова и В. Наумова «Легенда о Тиле» (1976), также «экранизирующий» средневеково-ренессансные полотна. До этого важнейшими вехами в использовании живописи северного Ренессанса в советском кинематографе были фильмы Григория Козинцева «Гамлет» (1964) и «Король Лир» (1970), во многом задавшие «шекспировское» прочтение ренессансно-средневековых экфрастических аллюзий в советском кино конца 1960-х — 1970-х. Влияние и использование шекспировских сюжетов на послеоттепельное самосознание трудно переоценить. Главным героем эры застоя (в литературе и кинематографе) становится модифицированный Гамлет (и, частично, король Лир). Харизматичными актерами—носителями этих шекспировских самопроекций эпохи оказываются В. Высоцкий и О. Даль, по-своему А. Солоницын, чуть позже — О. Янковский (примечательно, что именно он «заменил» умершего Солоницына в «Ностальгии» Тарковского). И если Шекспир дал эпохе героя, то Брейгель — ландшафт его экзистенциальной трагедии12.
Самым самобытным и авторитетным проводником брейгелевской эстетики для поколения 1970-х стал, как уже было отмечено выше, Андрей Тарковский. В 1972 году, то есть за год до создания цитируемого стихотворения Гандлевского, на экраны выходит «Солярис»: в круглой гостиной орбитальной станции висят репродукции Брейгеля, центральное место занимают «Охотники на снегу». Именно в этом образе для работников станции, мучаемых угрызениями совести и тоской, воплощено воспоминание о Земле, меланхолически-метафизическое и экзистенциально-элегическое воспоминание о доме и детстве. Мнемопоэтический аспект «Охотников на снегу», намеченный в «Солярисе», уже напрямую реализуется в автобиографическом фильме «Зеркало», создававшемся как раз во время написания цитируемого стихотворения (1973—1974)13.
В зимних стихотворениях Гандлевского настойчиво появляется образ зеркала14— образ, по определению, авторефлексивный, а значит, и имеющий автопоэтологическую составляющую:
Зеркало проточное померкло.
Тусклое бессмысленное зеркало,
Что, скажи, хоронишь от меня?
(«Сигареты маленькое пекло…» (1973); 2008:12)
Свет тускло мерцающего зеркала корреспондирует с приглушенным черно- белым цветом зимней картины. Зимний пейзаж оказывается отражением и ландшафтным воплощением души лирического героя, сокровенным посланием, в которое вчитывается поэт.
2. Экфрастическо-кинематографические зимние аллюзии наслаиваются на литературные. Не в последнюю очередь Гандлевский продолжает разрабатывать топику зимнего уныния, заданную в свое время Пушкиным:
Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю
Слугу, несущего мне утром чашку чаю…
(Пушкин 1959:255)
Пушкинскую тональность и образность подхватывает Гандлевский в целой веренице стихотворений. Вот характерный пример:
Что ж, зима. Белый улей распахнут.
Тихим светом насыщена тьма.
Спозаранок проснутся и ахнут,
И помедлят и молвят: «Зима».
Выпьем чаю за наши писанья,
За призвание весельчака.
Рафинада всплывут очертанья.
Так и тянет шепнуть: «До свиданья».
Вечер долог, да жизнь коротка.
(«Что ж, зима. Белый улей распахнут.» (1976); 2008:31)
Зимний свет, опять же, — тихий, приглушенный, унылый. «Зима» традиционно рифмуется с «тьмой». Гандлевский перманентно проговаривает метапоэтичность своей лирики. Так, «за наши писанья» вместо веселящего алкоголя пьется монотонный чай. С легкой, горькой, трагикомической самоиронией поэта-«весельчака» картина «опечатывается», останавливается, застывает15. Глеб Шульпяков (1997) убедительно замечает, что «в стихах Гандлевского — при всем разнообразии сюжетных поворотов — движения как будто нет: есть некая вечная экспозиция, вечное торможение, какое бывает только во сне». В качестве примера Шульпяков приводит, опять же, стихи с экфрасисом из Брейгеля:
Помнишь картину? Охотники лес покидают.
Жмутся собаки к ногам. Вечереет. Февраль.
Там в городишке и знать, вероятно, не знают
Всех приключений. Нам нравилась эта печаль.
(«Было так грустно, как если бы мы шаг за шагом…» (1976); 2008:35)
Стихотворение Гандлевского «Что ж, зима. Белый улей распахнут…», содержательно следуя Пушкину, ритмико-интонационно опирается на элегический семантический ореол трехстопного анапеста, разработанный Николаем Заболоцким:
Обрываются речи влюбленных,
Улетает последний скворец.
Целый день осыпаются с кленов
Силуэты багровых сердец.
Что ты, осень, наделала с нами!
В красном золоте стынет земля.
Пламя скорби свистит под ногами,
Ворохами листвы шевеля.
(Заболоцкий 1972:289)
Интертекстуальными ходами Гандлевский продолжает сдвигать осеннюю элегию в зиму16. Вышеуказанный осенний текст Заболоцкого, последнего крупного русского поэта, для которого пейзажная лирика стала главным местом добровольного и вынужденного поэтического изгнания17, оказался востребован 1970-ми. В 1977 году на экраны выходит трагикомическая мелодрама Эльдара Рязанова «Служебный роман»; одной из главных песен и любовно-осенне-элегических лейтмотивов фильма становится песня Андрея Петрова на стихотворение Заболоцкого.
В зимнем претексте Пушкина, на который косвенно опирается Гандлевский, следует перечень скучных (или призванных развеять скуку) зимних домашних «развлечений», в том числе игра в шашки («Когда за шашками сижу я в уголке…», Пушкин 1959:256). Гандлевский «по пушкинским местам» заземляет, одомашнивает элегию:
Кактусы величественно чахнут.
Время запираться и зевать.
Время чаепития и шахмат,
Кошек из окошек зазывать.
(«Сигареты маленькое пекло…» (1973); 2008:12)
Повторяются и тема чаепития (ср. созвучие чаепитие — чахнут), ставшего в русской литературе воплощением замедленной скуки бытия, и мотив шахмат-шашек18. Легкая и в то же время пронзительная самоирония наполняет и лексику Гандлевского («кактусы» — эрзац романтических цветов — чахнут «величественно»), и фонику: «кошек из окошек». Полудетская тавтологическая внутренняя рифма подчеркивает тавтологичность и монотонность зимней меланхолии.
В тексте Пушкина в русскую скуку зимнего сидения-уныния-ничего-не-делания вторгается элемент любовный. В деревню приезжают две сестры-красавицы, за которыми приударяет герой стихотворения. Стихотворение, начинавшееся зимним замедлением лирического действия (бездействия), загорается под самый финал:
И дева в сумерки выходит на крыльцо:
Открыты шея, грудь, и вьюга ей в лицо!
Но бури севера не вредны русской розе.
Как жарко поцелуй пылает на морозе!
Как дева русская свежа в пыли снегов!
(Пушкин 1959:256)
Точки и троеточия всего стихотворения, пунктуационно маркирующие зимний «застой», сменяются восклицательными знаками, рудиментами, предсмертными (или посмертными) криками оды в русской элегии. Сам прием эротизации и одновременно национализации (русской) зимы пародически подхвачен Пушкиным у Вяземского, автора парадигматичной элегии «Первый снег», в которой описывается поездка героя в санях по первому снегу с юной возлюбленной. Уже у Вяземского первый, эротизированный «девственный» снег России становится прообразом поэтического мгновения, условного знака призыва в поэты, метафорой (и метонимией) нового вдохновения русской поэзии, одический восторг ведет и венчает элегическую медитацию. По схожей и смежной схеме зимнего текста русской поэзии движется нередко и стих Гандлевского.
Если Андрей Тарковский разворачивает свой статичный и одновременно медленно-динамичный снежный пейзаж в рамках поэтизации проблематики материнства («Зеркало») или отцовства (ср. центральный для «Соляриса» мотив блудного сына19), то ностальгическая элегия Гандлевского обращается к другой константе элегической поэтики — любовной, с легкой самоиронией (чуждой для того же Тарковского) вводящей через дачно-городской антураж в элегию элемент городского любовного романса20:
Синий снег под ногами босыми.
От мороза в груди колотье.
Продвигаюсь на женское имя —
Наилучшее слово мое.
(«Сигареты маленькое пекло…» (1973); 2008:12)
Любовная тема оказывается традиционно напрямую связанной и с мотивом Музы, сообщающим стиху опять же поэтологическую ноту. Стихотворение начинает описывать свое возникновение и существование. Пушкинско- вяземское любовное волнение вызывает у Гандлевского следующий пласт тонких литературных аллюзий, в первую очередь на зимний текст у Мандель- штама21. Строки Гандлевского «Вскорости янтарные квадраты / Рухнут на пятнистые снега» (2008:13) отсылают к концовке зимнего стихотворения Мандельштама 1920 года из книги «Tristia» (то есть скорбных элегий) «Чуть мерцает призрачная сцена.»: «И живая ласточка упала / На горячие снега» (Мандельштам 1995:155). В образах смерти итальянской певицы Бозио в зимней России22 Мандельштам не только оплакал конец прекрасной эпохи; образ смерти в снегах имел для него и поэтологическое измерение; в нем Мандельштам образца 1920 года прощался с уходящим в небытие письмом, поэтическими голосами дореволюционной России23.
Так через мандельштамовскую женственно-любовную и певуче-поэтическую «ласточку», образ, воплощающий живую и смертную, смертельную хрупкость мира, а также через скорбную тревогу Тарковского и пушкинскую поэтизацию унылого быта стихотворения Гандлевского подспудно наполняются взаимно нюансирующими интертекстуальными полутонами. В личное элегическое воспоминание-состояние вписывается воспоминание о ключевых зимних моментах русской поэзии. Интертекстуальность выступает не столько проявлением постмодернистской цитатности, сколько автопоэтологическим зеркалом, в которое с греющей и играющей горькой улыбкой вглядывается поэт.
3. Другой современный интертекстуальный круг-контекст, в котором читается элегическое письмо Гандлевского, образует короткая проза Юрия Казакова. Гандлевский начинает писать первые элегии в то время, когда пишет последние рассказы Юрий Казаков, этот русский писатель ноября, скорбного суицидального уныния, посещающего его автобиографического героя на границе осени и зимы24. Лейтмотивом, образным воплощением этого самоубийственного приступа тоски и прощания-утраты становится выстрел из охотничьего ружья в ноябрьском лесу.
Гандлевскому отчасти свойствен «грех уныния» позднего Казакова или героев вампиловских «Утиной охоты» и «Прошлым летом в Чулимске»25, но характерного для Казакова и Вампилова последнего шага в роковую тоску, беспросветно-безутешную боль предзимний элегический герой Гандлевского, на мгновение пережив эту горечь и грусть, не делает даже тогда, когда обращается к мотиву ружейного выстрела:
Ружейный выстрел в роще голой.
Пригоршня птиц над головой.
Еще не речь, уже не голос26 —
Плотины клекот горловой.
Природа ужаса не знает.
Не ставит жизни смерть в вину.
Лось в мелколесье исчезает,
Распространяя тишину.
Пусть длится, только бы продлилась
Минута зренья наповал,
В запястьях сердце колотилось,
Дубовый желоб ворковал.
Ничем души не опечалим.
Весомей счастья не зови.
Да будет осень обещаньем,
Кануном света и любви.
(«Ружейный выстрел в роще голой…» (1975); 2008:24)
Гораздо ближе (пред)зимней любовности Гандлевского оказывается ранний Казаков с его мотивом любовного свидания на границе осени и зимы в рассказе «Осень в дубовых лесах» (с его, опять же, кульминационным мотивом первого снега). Гандлевский словно противопоставляет неизлечимой горечи позднего Казакова (а также Вампилова и многих героев Юрия Трифонова) вкрадчивую интимную лиричность раннего Казакова, на новом уровне возрождая «надежду» оттепельного письма, тускло и тихо тлевшую в литературе «застоя».
Заземление элегии — а в этом заземлении современный поэт вынужден спасать табуированный последний, главный пафос поэзии, пафос самого поэтического вдохновения — происходит у Гандлевского, с одной стороны, благодаря интертекстуальной игре с поэтическими опытами предшественников, когда сквозь обнаженную цитатность мерцает чудо поэтического вдохновения, с другой — путем бытовой банализации, «прозаизации» высказывания27. За этой мнимой самопрозаизацией тайно кроется и хранится последняя поэтичность. Не потому ли и Брейгель, с его сюжетным упором на приглушенный быт, так пришелся по душе заземленной советской культуре 1970-х?
Эта внешне ироническая прозаизация поэтического высказывания Гандлевского превращается в тонкую уловку, улыбку, алиби. При поэтическом прикосновении «прозаическое» поэтизируется. Ключевым объектом псевдопрозаизации у Гандлевского является детский, школьный быт. Вот характерный пример иронического развертывания пионерской зарисовки на зимнем фоне:
…Утоптанная снежная дорога.
Облупленная школьная скамья.
Как поплавок, дрожит и тонет сердце.
Крошится мел. Кусая заусенцы,
Пишу по буквам: «Я уже не я».
Смешливые надежные друзья —
Отличники, спортсмены, отщепенцы
Печалятся. Бреду по этажу,
Зеницы отверзаю, обвожу
Ладонью вдруг прозревшее лицо,
И мимо стендов, вымпелов, трапеций
Я выхожу на школьное крыльцо.
Пять диких чувств сливаются в шестое.
Январский воздух — лезвием насквозь.
Держу в руках, чтоб в снег не пролилось,
Грядущей жизни зеркало пустое.
(«Я был зверком на тонкой пуповине.» (1974); 2008: 26—27)
Мы опускаем парад реминисценций, наполняющий эти строки, от мотива выхода на крыльцо в зимний день в вышеупомянутом стихотворении Пушкина до «Шестого чувства» Гумилева и пастернаковского «Гамлета» с его подтекстами из лермонтовского «Выхожу один я на дорогу.»28. Автобиографическая локализация в школьном советском быту постмодернистски-контрастно оттеняет и одновременно парадоксальным, ироническим образом освещает тему, говоря словами Музиля, «иного состояния», провидческого прозрения («прозревшее лицо»), озарения от встречи с миром в момент (поэтического) вдохновения, призвания в поэты, рождения «шестого чувства». Эта тяга к мгновению нечаянной трансценденции обнажает сердцевину элегического мировосприятия Гандлевского.
Отправной точкой, поводом и конечной целью неооссианических дум Гандлевского оказываются не мшистые могилы, а детство — точнее, прощание с детством вообще и школьно-пионерским бытом в частности29. Школьный кинематографизированный сюжет опять же разворачивается в осенне-зимнем пейзаже:
Чикиликанье галок в осеннем дворе
И трезвон перемены в тринадцатой школе.
Росчерк ТУ-104 на чистой заре
И клеймо на скамье «Хабибулин + Оля».
Если б я был не я, а другой человек,
Я бы там вечерами слонялся доныне.
Все в разъезде. Ремонт. Ожидается снег.
Вот такое кино мне смотреть на чужбине […]
(«Чикиликанье галок в осеннем дворе.» (1981); 2008:64)
Спасение пафоса поэзии, пафоса возвышенного происходит у Гандлевского, с одной стороны, через его, пафоса, мнимое погашение, с другой — через тематизацию вдохновения и призвания в поэты. К воспоминаниям об иных состояниях, первых поэтических откровениях, впервые проговоренных уже в текстах 1970-х годов, Гандлевский будет неотступно возвращаться на протяжении всей своей поэтической жизни, как, например, в стихотворении 2006 года «Портрет художника в отрочестве», о котором мы уже говорили выше:
Первый снег, как в замедленной съемке,
На Сокольники падал, пока,
Сквозь очки озирая потемки,
Возвращался юннат из кружка.
<…>
И юннат был мечтательным малым —
Слава, праздность, любовь и т. п.
Он сказал себе: «Что как тебе
Стать писателем?» Вот он и стал им.
(«Портрет художника в отрочестве» (2006); 2008:147)
Тема воспоминания о поэтическом рождении сочетается с мотивом смерти поэта. При этом ландшафтом, пейзажем этой (собственной) смерти вновь становится безвременье между осенью и зимой. Интертекстуальной завязкой выбирается поэтологический мотив «хрестоматийного» «Шестого чувства» Гумилева:
Осенний снег упал в траву,
И старшеклассница из Львова
Читала первую строфу
«Шестого чувства» Гумилева.
А там и жизнь почти прошла,
С той ночи, как я отнял руки,
Когда ты с вызовом прочла
Строку о женщине и муке.
Пострел изрядно постарел,
И школьница хватила лиха,
И снег осенний запестрел,
И снова стало тихо-тихо.
С какою целью я живу,
Кому нужны ее печали,
Зачем поэта расстреляли
И первый снег упал в траву?
(«Осенний снег упал в траву…» (1997); 2008:124)
Если первый снег в первой строфе — это антураж пейзажа, то в конце он — олицетворение падающего на траву расстрелянного поэта30. Гумилев был расстрелян не поздней осенью: гибель Гумилева накладывается на главную, «зимнюю» смерть в истории русской поэзии — «убийство» Пушкина. Первый снег оказывается метафорой, а точнее, метонимией (потому что именно метонимия — фигура смежности и сопричастности) не только призыва-призвания в поэты, но и его трагической гибели. И вновь Гандлевский выбирает заземленную в школьный быт «любовную» привязку образа и мотив выстрела в осенне-зимнем пейзаже, после которого наступает устрашающая тишина. Тонкое, ненавязчивое сплетение этой метафорики поддерживается и внешне легкой, самоироничной и трагической фоносемантической игрой на созвучиях «пострел», «постарел» и «расстреляли», паронимически варьирующих мотив расстрела. Псевдопрозаизируется и тема женщины-подруги-музы, вместе с которой будущий поэт разделяет первое переживание поэзии; здесь ею оказывается «старшеклассница из Львова».
Образно-тематический круг осенне-зимней элегической поэтологии Гандлевского замыкается, мнемопоэтически возвращается и вращается. Не лишенная самоироничного мелодраматического сентиментализма, ностальгическая меланхолия элегии позволяет Гандлевскому (на новом, постмодернистском уровне подхватывая тоску метапоэтического расставания «Тристий» Мандельштама) интонационно прикоснуться к тому идеальному и императивному внутреннему голосу поэзии, который в эпоху постмодернизма, по известным причинам, «в чистом виде» стал невозможен. Пространство осенне-зимней элегии, жанра, уже в своих историко-литературных истоках программно те- матизировавшего внутренние процессы поэтического переживания, задает и предопределяет момент поэтологической рефлексии, центральный для Гандлевского. При этом зимний элегический городской или дачный пейзаж, с его поэтическими аллюзиями — от Пушкина до Заболоцкого — и кинематографическими и экфрастическими — от брейгелевских «Охотников на снегу» до зимних сцен Тарковского — из погодно-пейзажного антуража превращается в неотъемлемую поэтическую и одновременно поэтологическую составляющую высказывания. Эта автопоэтологическая рефлексия является знаком и залогом верности себе и поэзии, как в этом последнем опубликованном стихотворении Гандлевского (июль 2012-го):
Я знаю жизнь: музей с похмелья — мука,
осмотр шедевров через не могу.
И вдруг он замечает, бляха-муха,
охотников. Тех самых. На снегу.
(«Обычно мне хватает трех ударов…» (2012); 2012)
ПРИМЕЧАНИЯ
1) О поэзии Гандлевского в контексте «Московского времени» см.: Айзенберг 2005, Куллэ 1997. Рецензии и критические очерки в основном касались прозы Гандлевского (Губайловский 2002a и 2002b, Иваницкая 2002, Кузьмин 2002, Костырко 1995, Пустовая 2004, Шубинский 2002). Время от времени появляются и поэтоло- гические статьи и заметки, посвященные лирике Гандлевского (Бак 1996, Безродный 1996, Жолковский 2002, Костюков 2001, Ремизова 2001, Скворцов 2008, Шульпяков 1997, Popovic 2011).
2) Ср.: Гандлевский 1995, 1996, 1998, 1999, 2000a, 2000b, 2002b.
3) «Опыты в стихах и прозе» — так озаглавил собрание своих сочинений Константин Батюшков.
4) На замечание Варвары Бабицкой, что Гандлевский пишет «редко — зато сразу как бы избранное», поэт ответил следующим образом: «Я думаю, что я не пишу редко, я пишу как все. Скажем, «писал» ли я сегодня? Разумеется, «писал». Просто не записал. Я редко увлекаюсь. Мне вообще кажется, что для лирика я как-то подозрительно холоден. И я неизменно завидую многопишущим поэтам — просто потому, что у них жизнь насыщенней <…> весь тот словесный сор, который постоянно, просто уже в силу профессиональной привычки, кружит в голове, редко дает импульс к работоспособности. Когда искра все-таки проскакивает, тогда я берусь за дело. Объективно — да, это получается «избранным», но я к этому так не отношусь. Просто есть стихи, которые я пишу, и те, которые я не довожу до ума, потому что, как мне кажется, овчинка выделки не стоит: очередной гандлевский опус» (см.: Бабицкая 2010). В любом случае именно на фоне Гандлевского контрастом воспринимаются публикаторские стратегии А. Цветкова, Б. Херсонского и многих других современных поэтов, публикующих свои стихи чуть ли не ежемесячно, причем не только параллельно в самых различных литературных журналах, но и нередко в день написания в личных блогах. Особенности поэтики и восприятия таких блиц-публикаций свежего, неустоявшегося поэтического целого, когда «чернила еще не обсохли», ждет своего непредвзятого исследователя.
5) Термин Л.В. Пумпянского, примененный по отношению к Тютчеву (Пумпянский 1928:15—16).
6) Самой известной формулировкой этой личной и одновременно поколенческой позиции в неостоическом ключе является нобелевская лекция Бродского.
7) Напомним, что день рождения поэта, а значит, и регулярная точка рефлексии прошлого и происходящего приходится на декабрь.

9) У истоков послевоенной «брейгелемании» стоит оттепельная монография Р. Климова (1959), в конце — искусствоведческо-биографическая работа Н.М. Гершензон- Чегодаевой (1983).
10) Отдельного исследовательского разговора заслуживает позднесоветская рецепция творчества Иеронима Босха. В свою очередь, экфрасисы Брейгеля становятся насущными и для западной послевоенной литературы. В 1962 году выходит цикл стихов Уильяма Карлоса Уильямса «Картины из Брейгеля» («Pictures from Brueghel»). Поэтические интерпретации Брейгеля были популярны и в польской литературе 1960-х, особо значимой для советской альтернативной культуры. В 1963 году выходит стихотворение Станислава Гроховяка «Икар» («Ikar»). Эксплицитные экфрасисы (Брейгеля, Рубенса, Рембрандта, Дали и др.) — один из важнейших жанров Гроховяка. Уже по его стопам пишет свои экфрастические стихотворения Вислава Шимборска, в том числе и «Две обезьяны Брейгеля» («Dwie malpy Bruegla») (об экфрасисах в польской литературе см.: Dziadek 2011).
11) См. киноновеллу «Страсти по Андрею».
12) Деформация, а с точки зрения гамлетовского пафоса «авторского» искусства времен застоя — деградация, водевилизация трагического героя происходит (после смерти Высоцкого и Даля) с появлением героя нового, актерским воплощением которого становится А. Абдулов.
13) В наше время Брейгель переживает настоящее возрождение в европейском кинематографе. Свидетельства тому — недавний фильм Леха Маевского «Мельница и крест» (2011), кинематографически реконструирующий одно из полотен нидерландского живописца, а также инсталляция картины Брейгеля «Охотники на снегу» в «Меланхолии» Ларса фон Триера (2011). Причем фон Триер не столько применяет «чистого Брейгеля», сколько деконструирует использование полотна художника в кино, в первую очередь в фильмах Тарковского, столь важных для Триера.
14) Образ зеркала в русской поэзии, конечно, традиционный, фундаментальный (ср. стихотворение Гандлевского «Самосуд неожиданной зрелости…»: «Есть обычай у русской поэзии / С отвращением бить зеркала…»). В случае Гандлевского, внимательного читателя и продолжателя Ходасевича, образ зеркала интертекстуально — не без аллюзий к «Черному человеку» Есенина («Я один. / И разбитое зеркало…») — взаимодействует со стихотворением «Перед зеркалом» Ходасевича, которое вполне могло бы принадлежать перу Гандлевского: горькая и самоироничная ностальгия по детству и юности контрастирует с самоотчуждением стареющего повествователя.
15) Возможно, прием замедленной съемки Гандлевского имеет смысл назвать поэтикой запечатлевания: именно так — «Запечатленное время» — назвал свою автопоэтологическую книгу о кино Андрей Тарковский. Ср. также поэтику ретардации и приглушения света в фильмах Тарковского, близкую Гандлевскому. Кульминацией этой «антисветовой» поэтики явилась чрезмерная приглушенность и затемненность «Ностальгии», которая во время монтажа поразила самого режиссера.
16) Этот элегический размер Гандлевский использует и в других стихотворениях. Ср., например, «Самолеты летят в Симферополь.», «В Переделкино есть перекресток.», «Неудачник, поляк и истерик.» и др.
17) Не будет преувеличением назвать трехстопный анапест одним из главных размеров позднего Заболоцкого. См. стихотворения «Поздняя осень» («Осветив черепицу на крыше…»), «Сквозь волшебный прибор Левенгука…», «Тбилисские ночи» («Отчего, как восточное диво…»), «Старая сказка» («В этом мире, где наша особа…»), «Облетают последние маки…», «Я воспитан природой суровой…», «Ночное гулянье» («Расступились на площади зданья…»), «В кино» («Утомленная после работы…»), «Стирка белья» («В стороне от шоссейной дороги…»), «Петухи поют» («На сараях, на банях, на гумнах…») (Заболоцкий 1972: 252, 256—258, 265, 266, 274, 277, 285—286, 328); см. также вариации этого размера в стихотворениях «Приближался апрель к середине…», «Полдень» («Понемногу вступает в права…») и «Поэма весны» («Ты и скрипку с собой принесла…») (Заболоцкий 1972:250— 251,253, 298—299) и, конечно же, самый парадигматический текст, написанный трехстопным анапестом, — «Задрожала машина и стала…», образующий сердцевину цикла «Последняя любовь» (Заболоцкий 1972:302—303) с его интертекстуальными отсылками к Тютчеву. Семантический ореол трехстопного анапеста у Заболоцкого включает в себя характерным образом и поэтологическую ноту: см. стихотворение «Читая стихи» («Любопытно, забавно и тонко…) (Заболоцкий 1972:247). Гандлевский подхватывает разработанное Заболоцким образно-тематическое единство (элегический пейзаж с рудиментами оды, воспоминание о любви и размышление о поэзии). Мы намеренно цитируем Заболоцкого по двухтомнику 1972 года. Именно это издание вызвало новую волну прочтения Заболоцкого как поэтического опыта ухода в пейзаж.
18) О плотности элегического мира Гандлевского говорит одна рифменная деталь. В приведенном отрывке «чахнут» рифмуется с «шахмат». Одновременно «чахнут» «рифмуется» со словами «ахнут» и «распахнут» из стихотворения «Что ж, зима. Белый улей распахнут.». Едва заметными звуковыми ходами Гандлевский выстраивает автотекстуальное фоносемантическое поле зимней скуки.
19) Для поэтики поздней осени характерно, что расставание с Землей (и с отцом) главного героя (а в конце фильма — возвращение) происходит в осеннем пейзаже.
20) Ср., однако, запоминающееся исключение — стихотворение Гандлевского «W», в котором зимний дачный пейзаж становится местом воспоминания об отце (Гандлевский 2008:139). См. также мотив «звучания пурги» в стихотворении «памяти родителей» «Сначала мать, отец потом.» (Гандлевский 2008:107).
21) В 1973 году выходит томик Мандельштама с пресловутым предисловием Дымшица в «Библиотеке поэта». Воспоминание об этом издании — событии, фундаментальном для поколения 1970-х, Гандлевский проговорил в стихотворении «Элегия» 1986 года: «И разом вспомнишь, как там дышится, / Какая слышится там гамма./ И синий с предисловьем Дымшица / Выходит томик Мандельштама» (Гандлевский 2008:84). См. прямые мандельштамовские аллюзии в стихотворении Гандлевского «Еще далёко мне до патриарха…».
22) К мотиву смерти Бозио Мандельштам будет возвращаться в «Египетской марке». О коннотациях зимы в стихотворениях Мандельштама революционных годов нам уже приходилось писать (см.: Киршбаум 2010:85—110).
23) Мандельштам является перманентным объектом аллюзий и реминисценций Гандлевского. Вот еще один пример из зимнего текста: строка «Холодные созвездия горят» из стихотворения «Декабрь 1977 года» отсылает к холодным зимним звездам мандельштамовских «Тристий» (опять-таки с их музыкальной темой, близкой Гандлевскому).
24) Так, главная линия рассказа «Во сне ты горько плакал» — описанная с щемящей грустью прогулка рассказчика со своим маленьким сыном по лесу; во время дневного сна после прогулки мальчик горько плачет и становится другим человеком, новой личностью, связь между отцом и сыном прерывается; тема неминуемой утраты, смертоносной разлуки ведет повествование. История прощания с сыном дается параллельно с воспоминанием о самоубийстве лучшего друга рассказчика. Ср.: «Он застрелился поздней осенью, когда выпал первый снег <…> Ведь первый снег так умиротворяющ, так меланхоличен, так повергает нас в тягучие мирные думы» (Казаков 2003:559). Казаков реконструирует историю самоубийства друга, которому он оставил на даче патроны. Ощущение скорбно-тревожной безысходности пронизывает ноябрьскую поэтику Казакова.
25) См., кстати, мотив ружья и выстрела в обеих драмах Вампилова, семантически и интонационно смежный с мотивами позднего Казакова.
26) Ср. метапоэтический потенциал прочтения концовки этой строфы. Семантическое поле голоса, по определению, поэтологично. При обсуждении этой статьи Илья Кукулин справедливо указал нам на то, что подтекстом стиха «Еще не речь, уже не голос…» могла стать строка Бродского «Не музыка еще, уже не шум…» из стихотворения «Почти элегия» (sic!) (1968).
27) Ср., например, стихотворение «Скрипит? А ты лоскут газеты…»: «Порхает в каменном колодце / Невзрачный городской снежок» (Гандлевский 2008:106). Эпитет «невзрачный» в контексте урбанизации зимнего пейзажа дополнительно работает на «снижение».
28) Ср. опять же и «тарковский» мотив зеркала.
29) Ср. ностальгическое описание пионерского лагеря в стихотворении «Дай Бог памяти вспомнить работы мои…», где лирический герой, пионервожатый, прощается с самим собой в детстве (указано Ильей Кукулиным). Ср. также кинематографический мотив «пленки шосткинского комбината».
30) При обсуждении этой статьи Илья Кукулин точно подметил, что Гандлевский одновременно перефразирует строки стихотворения Гумилева «Рабочий»: «Упаду, смертельно затоскую, / Прошлое увижу наяву, / Кровь ключом захлещет на сухую, / Пыльную и мятую траву…» (Гумилев 1988:260).
ЛИТЕРАТУРА
Айзенберг 2005 — Айзенберг М. Минус тридцать по московскому времени // Знамя. 2005. № 8 (http://magazines.russ.ru/znamia/2005/8/aiz7.html).
Бабицкая 2010 — Бабицкая В. Гандлевский: «Для лирика я как-то подозрительно холоден». Интервью интернет-порталу OpenSpace: http://www.openspace.ru/literature/names/details/17433/page2/.
Бак 1996 — Бак Д. Законы жанра // Октябрь. 1996. № 9 (http://magazines.russ.ru/october/1996/9/vavil02.html).
Безродный 1996 — Безродный М. Конец цитаты. СПб., 1996. С. 71, 72—73.
Гандлевский 1989 — Гандлевский С. Рассказ: Книга стихотворений. М., 1989.
Гандлевский 1995 — Гандлевский С. Праздник: Книга стихов. СПб., 1995.
Гандлевский 1996 — Гандлевский С. Трепанация черепа. СПб., 1996.
Гандлевский 1998 — Гандлевский С. Поэтическая кухня. СПб., 1998.
Гандлевский 1999 — Гандлевский С. Конспект: Стихотворения. СПб., 1999.
Гандлевский 2000a — Гандлевский С. 29 стихотворений. Новосибирск, 2000.
Гандлевский 2000b — Гандлевский С. Порядок слов. Екатеринбург, 2000.
Гандлевский 2002а — Гадлевский С. <НРЗБ> // Знамя. 2012. № 1 (http://magazines.russ.ru/znamia/2002/1/gand.html).
Гандлевский 2002b — Гандлевский С. Найти охотника. СПб., 2002.
Гандлевский 2007 — Гандлевский С. Опыты в прозе. М., 2007.
Гандлевский 2008 — Гандлевский С. Опыты в стихах. М., 2008.
Гандлевский 2012 — Гандлевский С. «Обычно мне хватает.» // Знамя. 2012. № 6 (http://magazines.russ.ru/znamia/2012/6/g3.html).
Гершензон-Чегодаева 1983 — Гершензон-Чегодаева Н. Брейгель. М., 1983.
Губайловский 2002a — Губайловский В. Волна и камень: Поэзия и проза: Инна Кабыш. Анатолий Гаврилов. Сергей Гандлевский // Дружба народов. 2002. № 7 (http:// magazines.russ.ru/druzhba/2002/7/gub.html).
Губайловский 2002b — Губайловский В. Все прочее и литература // Новый мир. 2002. № 8 (http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2002/8/gubail.html).
Гумилев 1988 — Гумилев Н. Стихотворения и поэмы. Библиотека поэта. Л., 1998.
Есенин — Есенин С. Собрание сочинений: В 5 т. М., 1961 — 1962. Т. 3. С. 214.
Жолковский 2002 — Жолковский А. К проблеме инфинитивной поэзии (Об интертекстуальном фоне стихотворения С. Гандлевского «Устроиться на автобазу…») // Известия Академии наук. Т. 61. № 1. М., 2002. С. 34—42.
Заболоцкий 1972 — Заболоцкий Н. Избранные произведения в двух томах. Т. 1: Столбцы и поэмы. Стихотворения. М., 1972.
Иваницкая 2002 — Иваницкая Е. Акела промахнулся // Дружба народов. 2002. № 8 (http: // magazines.russ.ru/druzhba/2002/8/ivan.html).
Казаков 2003 — Казаков Ю. Осень в дубовых лесах. М., 2003.
Киршбаум 2010 — Киршбаум Г. «Валгаллы белое вино…»: Немецкая тема в поэзии О. Мандельштама. М., 2010.
Климов 1959 — Климов Р. Питер Брейгель. М., 1959.
Костырко 1995 — Костырко С. От первого лица: Три профиля на фоне поколения // Новый мир. 1995. № 6. С. 214—221.
Костюков 2001 — Костюков Л. Свидетельские показания // Дружба народов. 2001. № 7 (http://magazines.russ.ru/druzhba/2001 /7/kost-pr.html).
Кузьмин 2002 — Кузьмин Д. О нелюбви и неловкости // Дружба народов. 2002. № 8 (http://magazines.russ.ru/druzhba/2002/8/kuz.html).
Куллэ 1997 — Куллэ В. Сергей Гандлевский: «Поэзия… бежит ухищрений и лукавства» // Знамя. 1997. № 6. С. 213—219.
Мандельштам 1995 — Мандельштам О. Полное собрание стихотворений. СПб., 1995.
Пумпянский 1928 — Пумпянский Л. Поэзия Ф.И. Тютчева // Урания: Тютчевский альманах. 1803—1928. Л., 1928. С. 9—57.
Пустовая 2004 — Пустовая В. Новое «Я» современной прозы: об очищении писательской личности // Новый мир. 2004. № 8. С. 153—173.
Пушкин 1959 — Пушкин А. Собрание сочинений: В 10 т. М., 1959. Том II.
Ремизова 2001 — Ремизова М. Не напрасно // Новый мир. 2001. № 4 (http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2001/4/obz_rem.html).
Скворцов 2008 — Скворцов А. Музыка с улицы Орджоникидзержинского: Из наблюдений над поэтической стратегией Сергея Гандлевского // Вопросы литературы. 2008. № 6 (http://magazines.russ.ru/voplit/2008/6/sk6.html).
Шубинский 2002 — Шубинский В. Подробности письмом, или Нечто о реализме на двух нехарактерных примерах // Знамя. 2002. № 9. С. 210—219.
Шульпяков 1997 — Шульпяков Г. Сюжет Питера Брейгеля // Арион. 1997. № 15. С. 37—43 (http://magazines.russ.ru/arion/1997/3/shulp.html).
Dzaidek 2011 — Dzaidek A. Obrazy I wiersze. Z zadadnien interferecji struk w polskiej poe- zjiwspofczesnej. Katowice, 2011.
Popovic 2011 — Popovic D. A Generation That Has Squandered Its Men: The Late Soviet Crisis of Masculinity in the Poetry of Sergei Gandlevsky // Russian Review. 2011. № 70 (4). P. 663—676.
Williams 1962 — Williams W.C. Pictures from Brueghel and Other Poems. N.Y., 1962.


СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ
Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно
Скидки до 50 % на комплекты
только до
Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Был в сети 07.04.2022 09:44

Чалый Николай Степанович
…………………………
63 года
443 625
16
Местоположение
Россия, Воронеж,Бутурлиновка.
Среди фанерных переборок….Сергей Гандлевский
Среди фанерных переборок
И дачных скрипов чердака
Я сам себе далёк и дорог,
Как музыка издалека.
Давно, сырым и нежным летом,
Когда звенел велосипед,
Жил мальчик – я по всем приметам,
А, впрочем, может быть, и нет.
– Курить нельзя и некрасиво.
Всё выше старая крапива
Несёт зловещие листы.
Марина, если б знала ты,
Как горестно и терпеливо
Душа искала двойника!
Как музыка издалека,
Лишь сроки осени подходят,
И по участкам жгут листву,
Во мне звенит и колобродит
Второе детство наяву.
Чай, лампа, затеррасный сумрак,
Сверчок за тонкою стеной
Хранили бережный рисунок
Меня, не познанного мной.
С утра, опешивший спросонок,
Покрыв рубашкой худобу,
Под сосны выходил ребёнок
И продолжал свою судьбу.
На ветке воробей чирикал –
Господь его благослови!
И было до конца каникул
Сто лет свободы и любви!
Сергей Гандлевский
02.08.2019 15:02
Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей
Я вспоминаю лепет Пастернака.
Куда ты завела нас, болтовня?
И чертыхаюсь, и пугаюсь мрака,
И говорю упрямо: «Чур меня!»
В юности я любил читать энциклопедии и стихи. А поскольку винчестер еще не был особенно забит, запоминал валом и то, и другое, но конечно только стихи наизусть. К определенному моменту знал их уйму, включая, например, все целиком первое издание мандельштамовского «Камня», но с возрастом файлы стали дробиться, а время считывания возрастать.
Теперь, если что и приходит в голову, то лишь осколки, цитаты по случаю и без, иногда с затершимся именем автора, но не все – большинство из них принадлежит Сергею Гандлевскому. Почему?
Когда я впервые это заметил, я решил, что с этим надо что-то сделать. Неужели веселый спутник моей юности всех уложил на лопатки? Да, я куда лучше помню Блока и Есенина, но их-то – с детства, и положительно не знаю, что с ними теперь делать. В любом случае я замыслил об этом когда-то написать, но когда-то все не наступало, а сегодня я вдруг почувствовал, что пробило. Передержанные мысли подобны перележавшим в рассоле огурцам, дальше – плесень.
Это, помимо всего прочего, еще и уплата штрафа за собственную юношескую вспышку идиотизма. На заре нашей обоюдной молодости я, со всем авторитетом старшего на пару лет, напророчил ему, что он никогда не будет поэтом – да он, помнится, уже описал этот мой позор. Теперь пора сквитаться с самим собой.
Чего я точно не буду здесь объяснять, так это почему и каким образом Гандлевский такой замечательный поэт, на мой пристрастный взгляд – может быть лучший из всех, кто у нас был на протяжении десятилетий. Кто этого не понимает, может в лучшем случае принять мои соболезнования. Я просто хочу попытаться открыть капот и заглянуть в мотор: почему он не такой, как все остальные.
Нет, все-таки не могу не вернуться еще на секунду к этому винчестеру. Последним стихотворением, которое целиком впаялось в память с первого прочтения, было именно стихотворение Гандлевского: «Сегодня дважды в ночь я видел сон…» Он прислал мне его в Сан-Франциско в письме, выложив в сплошную строку, как мы обычно поступали тогда во взаимной переписке, уворачиваясь от лишних внимательных читателей. Я тогда подвизался в местной русской газетке, где и решил устроить другу первую зарубежную публикацию, правда под псевдонимом. Придя на работу, я понял, что забыл письмо дома, но тут же сел и записал по памяти. Автора я назвал Сергей Марков.
Как-то постепенно я понял, что Гандлевский откладывается у меня в ином месте, чем все остальные поэты, даже сравнимые с ним по мастерству и по яркости, и именно это стало главным искушением, которое провоцирует попытку анализа. В жизни его можно вставить в разные кадры: он был, и остался, одним из компании, которую теперь загробно именуют «Московским временем» (сами мы в ту пору не подозревали, что у нас есть название), потом это было «Личное дело» или что-то вроде временной гастрольной труппы, сегодня это живой классик, изредка являющийся молодежи с удивлением, что на его выступления упорно приходят.
Но ни в одном из этих множеств он ни на кого не похож и никому не родственник. Его не прищемить никакой классификаций, не вставить ни в какой групповой портрет, несмотря на все попытки.
Смехотворность моего древнего пророчества стала для меня очевидной еще до эмиграции. Сережа писал тогда аккуратные ученические стихи, которые, впрочем, мало вредили в наших глазах его образу подвыпившего ухаря, веселого охотника на сестер по разуму. Но однажды он явился в нашу переменную компания и прочитал стихотворение «Среди фанерных переборок…» Как я сейчас припоминаю, он был поражен не меньше нашего – ему вдруг сразу, на одном примере, открылось, что он, в сущности, может, что отныне он существует. И еще более странно, что как мне видится отсюда, все ровно так и произошло.
И в этом, если угодно, весь секрет Гандлевского, дальше можно уже не писать, хотя еще напишу, и есть что. Ему, что бы он об этом ни думал, не надо было мучиться вопросом, которым мучатся все: о чем писать на данном этапе времени. Данным этапом времени стал он сам.
О созвучности эпохе писали много и пусто, обычно это делают, когда о художнике толком сказать нечего и содержательные похвалы с языка легко не скатываются. Поэтому я хотел бы попытаться показать, что в случае Гандлевского эта созвучность – случай уникальный. За вычетом, может быть, Пушкина, я не знаю примера, когда бы поэт настолько слился со своим временем, что это время можно – и даже, наверное придется, хотя бы отчасти, – реконструировать по его стихам.
Да, был Маяковский, и вот уж кого, казалось бы, не отскребешь от эпохи. Но Маяковский лжет даже когда говорит искренне, он выполняет заказ и представляет одну ветку дихотомии. Собака – ненадежный источник объективной характеристики хозяина. Ему по-настоящему веришь лишь тогда, когда он пишет о своей любви, но мы в этой любви не участники, нас в ней меньше, чем советской власти, «товарищ правительство» отгоняет нас ледяным взглядом. Да и сам влюбленный, в романтические свои моменты, настолько эгоистичен и инфантилен, что как-то стыдно за него даже. Маяковский, при его несомненном таланте, покинул нас подростком, его приютила история литературы.
Наверное, удобнее всего сравнить Гандлевского с Иосифом Бродским – отчасти потому, что фигуры эти, как минимум, равновеликие (хотя нетрудно угадать, кто мне предпочтительнее), и по некоторым малозаметным, но важным чертам сходства.
Откуда Бродский? Да, мы все знаем про Васильевский остров, хотя он, как видно из дальнейшего, оказался – ну, не ложью, а, скажем, короткой прихотью поэта, которая быстро миновала, когда горизонт резко раздвинулся. То есть, он в конечном счете оказался островом Сан-Микеле. В промежутке была Америка, Италия, Швеция и т. п. — список можно продолжить, и совсем не в укор, просто это важно для определения терминов сравнения.
А вот с Гандлевским все без промаха: улица Орджоникидзержинского не вызывает сомнения ни у кого, ее упоминают без пафоса, и ее конкретное местоположение – скорее во времени, чем в пространстве, хотя я бы поместил ее где-нибудь в Сокольниках. И ему туда не надо возвращаться монументальным покойником, он там и живет, хотя с большими отлучками.
Был он молод. С лохматой собакой
Выходил в переулки Москвы.
Каждый вправе героя гулякой
Окрестить. Так и было, увы.
Отлучается он не в Америку, и тем более не в Швецию, хотя в реальных масштабах не ближе:
Опасен майский укус гюрзы.
Пустая фляга бренчит на ремне.
Тяжела слепая поступь грозы.
Электричество шелестит в тишине.
Бродский, надо сказать, тоже в юности отдал дань экспедициям, но об этом он молчит, потому что перспектива и обозрение у него шире. Он, что довольно странно, пишет об Америке с более пронзительным чувством, чем о России, но главное в этих взглядах – что они всегда извне, порой с высоты ястребиного полета. Вот этой перспективы у Гандлевского не найдешь: куда бы его не заносило, он всегда остается внутри описываемого им мира, он остается этим миром. Он настолько с ним спаян, что зазора не расковырять ногтем.
Но и такое сравнение – только ступенька к пониманию, а чтобы понять Гандлевского по-настоящему, его надо сравить с тем, на кого он, через посредство хитроумной системы линз, странным образом похож больше всего. Его надо сравнить (тут я уклоняюсь от возможной оплеухи) с Булатом Окуджавой.
Булата Окуджаву я не люблю, хотя и мне случалось, со стаканом внутри и дыркой в голове, повыть про комиссаров под елью. Его точное амплуа – Лука из горьковского «На дне», «безумец который навеет». В его песнях, которые завораживали нас в 60-х, не случалось ничего плохого, а только иногда менее хорошее, да и то с какими-то несусветными солдатиками, которых никто не видел, или с героями войны. Теоретически ничего дурного в Окуджаве нет (за исключением, может быть, той кинопобеды, за которую ему не было жалко чужой крови), но он обслуживал особый контингент: шестидесятников, потерянное поколение советской России, этих недоевреев, ушедших в пустыню, но так из нее и не выбравшихся, хотя сорок лет уже миновало. Окуджаве помешал остаться безвредным его реальный талант и благоговение этой аудитории: она развратила его, а он, ложный мессия, ответил фатальной взаимностью.
Подобно Окуджаве, Гандлевский сентиментален и романтичен. Вот опять «Среди фанерных переборок…» — для меня не только первое стихотворение поэта, но и стартовая черта для анализа.
Как музыка издалека,
Лишь сроки осени подходят,
И по участкам жгут листву,
Во мне звенит и колобродит
Второе детство наяву.
В этом стихотворении, как мне кажется, изложена идеальная картина мира, утопия, райское равновесие. Но поэт, о котором я веду речь, направлен противоположно Окуджаве. Для последнего, устроенного стандартно, идеал является центростремительным пунктом. Для Гандлевского – центробежным.
В сущности, по крайней мере изначально, он хочет быть хорошим, любимым и популярным. А поскольку это возможно и имеет смысл в прекрасном и уравновешенном мире, мир и должен быть таков. Но логика таланта ведет его совсем в другую сторону, и дыра в эту сторону уже светится: «бережный рисунок меня, не познанного мной». Дальше идут плоды познания: когда Окуджава строит кабинеты для друзей, авторский персонаж Гандлевского устраивается на автобазу и видит всю свою дальнейшую жизнь без малейшей примеси розового. Арбат Окуджавы всегда был и остается сладкой сказкой, Васильевский остров Бродского – почти красным словцом, хотя сказано и впрямь красиво. А вот в Сокольниках Гандлевского, вернее в их следующем историческом пласте, куда он нас и привел, многие живут до сих пор.
Процес самопознания осуществляется посредством некоторого частичного раздвоения автора, и у его истоков тоже, пожалуй, есть путевая застава:
Два облика, два лика женских,
Две жизни бережных моих.
Примерно с этого момента, хотя в самом стихотворении пока все мирно, Гандлевских, то бишь лирических героев, то бишь какая разница, становится два. Сентиментальному романтику, который, останься он в одиночестве, пересиропил бы Окуджаву, теперь неизменно сопутствует хмурый скептик и циник, и результат блистателен. Вот это, пожалуй, и есть главный авторский прием поэта, если можно называть приемом то, что возникает и существует предельно органично, в отличие, скажем, от надимперской позы Бродского, явно сознательно принятой. В Окуджаве лично я не вижу иного приема, кроме желания понравиться.
Эта романтическая инверсия, странным образом роднящая Гандлевского с поэтом предыдущего поколения и не в пример более узких возможностей, наверняка не осталась полной тайной для него самого, пусть и не всплывающей на поверхность сознания в виду своей очевидной неприятности. Мне вспоминается, что в день смерти Окуджавы я как раз случайно оказался в Москве, а на следующий день мы с Гандлевским по какой-то забытой надобности отправились через Арбат и столкнулись с огромной толпой, охраняемой почтительными ментами, один из которых ввел нас в курс дела: «Окуджаву хоронят». Таких слов, и в таком тоне, из уст правоблюстителя я не слыхал в жизни и больше не услышу – случается, как известно, раз в двести лет.
Тогда мы еще раз взглянули на толпу, и Гандлевский сказал: «Байдарочники».
Да, это были они, большей частью никогда не виденные люди с такими поразительно знакомыми и приятными лицами, в основном нашего возраста или старше, но была и молодежь, совершенно вперемежку со старшими, но не стеснявшаяся, в отличие от многих сверстников, общества замшелых родителей, на равных с ними, вскормленная у негасимых костров КСП. Это были они, потерявшие сбережения и некогда престижные профессии, рухнувшие в православие пополам с Рерихом, недоуехавшие в Израиль и Америку.
Это были дети, уведенные покойным дудочником в пустыню, а теперь пришедшие проводить его к единственному из нее выходу.
Я не помню интонацию, которую вложил тогда Гандлевский в свое единственное слово, у меня не было намерения ее анализировать, но, кажется, это была брезгливая ностальгия. Он увидел в них больше, чем рассчитывад.
Гандлевский пересекся с Окуджавой в одной точке, исключительно важной для всего культурного вектора России в прошлом веке, и я имею в виду, конечно, не похороны, в которых мы участия не приняли. Окуджава, более чем кто бы то ни было, воспитал поколение шестидесятых, людей, полагавших, что если прижмуриться, то все в сущности красиво. Гандлевский отдал команду, распустившую это поколение, хотя они тогда не услышали. В каком-то смысле он был последним байдарочником – в том самом, в каком Ницще был последним христианином.
Романтизм Гандлевского, впрочем, довольно странен. На первый взгляд все как положено, герой гуляка и повеса, его любимая женщина, и народный фон. Но гуляка неожиданно полон странных прозрений по поводу самого себя, любимая женщина порой предстает в самых неромантических ситуациях, а народ интересен особенно – неприятный с виду, но такой похожий на нас, почти любимый, зовущий слиться с собой в минуту простительной слабости:
Зверинец коммунальный вымер.
Но в семь утра на кухню в бигуди
Выходит тетя Женя и Владимир
Иванович с русалкой на груди.
Почесывая рыжие подмышки,
Вития замороченной жене
Отцеживает свысока излишки
Премудрости газетной.
Это ведь не филистеры какие-нибудь из Гофмана, с этими случалось и выпивать, и десятку стрельнуть. Вот уж не припомню у Окуджавы персонажа, у которого можно стрельнуть десятку. Хотя отдадим должное вполне романтичному океанологу Эдику Ажажа, который почти оттуда.
Романтизм, в любом случае, подвергается атаке, вернее наступлению по всему фронту. Это второй Гандлевский дает прикурить первому с его «музыкой издалека», это он крепчает в странствиях, во встречах с людьми, которые сильно отличаются от шестидесятников и мало прибегают к гитаре или байдарке.
Этот поразительный диалог, который вспыхивает внутри почти каждого стихотворения, выстроен по некоторой дуге через все творчество поэта, от «фанерных переборок» до автобазы. Диалог не остается статичным, один из полусобеседников постепенно одерживает верх – и это не романтик.
Здесь я положительно не могу удержаться от того, чтобы не ткнуть, наконец, пальцем в странное сходство двух художников, любимого поэта и любимого прозаика. «Бездельничают рыбаки у мертвой Яузы-реки» — это откуда? Нет, не из Саши Соколова, но все понятно.
Я уже отмечал, что прием раздвоения авторского сознания на романтика и циника у Гандлевского, скорее всего, не придуманный, а органичный, а у прозаика наверняка должен быть минимальный изначальный план. Кроме того, у Гандлевского реальной дихотомии все-таки нет, на нее не пытаются специально обратить наше внимание как на патологию. Но диалектичность метода бесспорна, и сходство с соколовским в том, что это – метод самопознания. Только в прозе в конце явно два человека, а в стихах остается один из двух, победитель.
Валерий Шубинский где-то отметил, если я не искажаю его мысль (упрощаю точно), что «Устроиться на автобазу» — это и есть настоящий Гандлевский, не дающий спуску и поблажки, а вот сентиментальное, вроде «Здесь когда-то ты жила» — угождение публике. Честно говоря, я не вижу, почему первое менее эффектно и поразительно. Интересно скорее, что в этих сравнительно поздних стихах циник и лирик все-таки разошлись на достаточную дистанцию, позволив нам увидеть их порознь и подтвердив теорию. Только лирик, как легко заметить, теперь весь в шрамах и ссадинах, даже при смерти. Но говорить, что один Гандлевский настоящий, а другой выставочный – неверно, друг без друга они просто не существуют.
Сказать осталось немного, и для некоторых это будет уже политика, но для меня, как раз, главное из всего, что просилось наружу. Стихи Гандлевского уникальны, на мой взгляд, не только в наше время, но и нашей литературе. Это микрокосм всего, что произошло со страной за время их написания, летопись катастрофы с упреждением, потому что герой всегда глядит в будущее: то у него любимая старится на глазах, то шофер автобазы укладывает всю предстоящую (и прошлую, «махаловку в Махачкале») жизнь в несколько строк, и даже смерть матери подана так, словно впереди она жива. Эта страна, Сокольники, пригородный пионерлагерь, Чимкент и Памир с сигаретной пачки – в процессе исчезновения, и хотя в стихах нет никакого прямого намека на события макрокосма (у Гандлевского вообще нет «гражданской» темы), только слепой не заметит, что происходящее выходит далеко за пределы человеческой души.
Речь, еще раз подчеркну, идет не о позиции поэта, а об уникальном даре. Если оставить за скобками прозу Соколова (тем более, что она была завершена довольно рано, даже если к «Школе» пристегнуть «Собаку»), среди поэтов я не помню ничего подобного. Сам я когда-то, в книге «Эдем», пытался изобразить покинутое время в виде некоей одновременной утопии-антиутопии, где тоже невольно раздвоился, а Владимир Гандельсман постоянно совершает туда экскурсии. Но и у него, и у меня, видна заданность и сделанность. А Гандлевский просто прожил свою жизнь в стихах.
Я вижу, что выходит как-то печально в конце, потому что история требует финальной точки, а поэт, к счастью, жив. Но в жизни есть сюжетные законы, и скептику, который одержал победу, уже некого переубеждать – музыка остановилась. Для меня очевидно, что сегодняшний Гандлевский, с его сухими, обглоданными до кости восьмистрочиями, потерял внутри себя партнера и не ищет его, потому что так не положено по логике его собственного творчества. Но я буду счастлив, если они все же найдут способ обрести общий язык, потому что любой другой вариант будет уже не Гандлевский.
Я помнится, завел разговор о Пушкине, шокировав, может быть, почитателей авторитетов. Теперь я выжму из этого сравнения все, что собирался. Если бы у нас не было Пушкина, он бы все равно возник так или иначе, не этот, так другой, потому что великая литература требует достойного старта. Он мог быть похуже фактического, или, как ни трудно себе представить, получше – откуда нам знать, если не с кем сравнивать? А вот Гандлевский, главный, на мой взгляд, свидетель эпохи слепых, ничего не был должен, и ничто его не предвещало – даже мне, глядящему на него в упор в минуту моего бездарного пророчества. И если бы он так и не явился, кто бы рассказал нам о нашей великой потере? В каком-то смысле он эманация всей эпохи, но мы привыкли не замечать эманаций, даже сидящих перед нами на столе. Иными словами, было бы все как в сегодняшней прозе, где шеренги посредственностей полагают себя гениями по той простой причине, что никаких других нет.
На мой взгляд, читателям, годами прозябавшим на спартанской поэтической диете, выпал неожиданный праздник, непредсказуемый выигрыш в лотерею. Заслужил, не заслужил – бери, теперь у нас есть миллион. И он навсегда, он неразменный.
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Сергей Гандлевский
Счастливая ошибка. Стихи и эссе о стихах
© С. Гандлевский, 2019
© ООО “Издательство АСТ”, 2019
Издательство CORPUS ®
* * *
Праздник
(1973 – 1994)
Стансы
Памяти матери
i
Говори. Что ты хочешь сказать? Не о том ли, как шла
Городскою рекою баржá по закатному следу,
Как две трети июня, до двадцать второго числа,
Встав на цыпочки, лето старательно тянется к свету,
Как дыхание липы сквозит в духоте площадей,
Как со всех четырех сторон света гремело в июле?
А что речи нужна позарез подоплека идей
И нешуточный повод – так это тебя обманули.
ii
Слышишь: гнилью арбузной пахнул овощной магазин,
За углом в подворотне грохочет порожняя тара,
Ветерок из предместий донес перекличку дрезин,
И архивной листвою покрылся асфальт тротуара.
Урони кубик Рубика наземь, не стоит труда,
Все расчеты насмарку, поешь на дожде винограда,
Сидя в тихом дворе, и воочью увидишь тогда,
Что приходит на память в горах и расщелинах ада.
iii
И иди, куда шел. Но, как в бытность твою по ночам,
И особенно в дождь, будет голою веткой упрямо,
Осязая оконные стекла, программный анчар
Трогать раму, что мыла в согласии с азбукой мама.
И хоть уровень школьных познаний моих невысок,
Вижу как наяву: сверху вниз сквозь отверстие в колбе
С приснопамятным шелестом сыпался мелкий песок.
Немудрящий прибор, но какое раздолье для скорби!
iv
Об пол злостью, как тростью, ударь, шельмовства не тая,
Испитой шарлатан с неизменною шаткой треногой,
Чтоб прозрачная призрачная распустилась струя
И озоном запахло под жэковской кровлей убогой.
Локтевым электричеством мебель ужалит – и вновь
Говори, как под пыткой, вне школы и без манифеста,
Раз тебе, недобитку, внушают такую любовь
Это гиблое время и Богом забытое место.
v
В это время вдовец Айзенштадт, сорока семи лет,
Колобродит по кухне и негде достать пипольфена.
Есть ли смысл веселиться, приятель, я думаю, нет,
Даже если он в траурных черных трусах до колена.
В этом месте, веселье которого есть питие,
За порожнею тарой видавшие виды ребята
За Серегу Есенина или Андрюху Шенье
По традиции пропили очередную зарплату.
vi
После смерти я выйду за город, который люблю,
И, подняв к небу морду, рога запрокинув на плечи,
Одержимый печалью, в осенний простор протрублю
То, на что не хватило мне слов человеческой речи.
Как баржа уплывала за поздним закатным лучом,
Как скворчало железное время на левом запястье,
Как заветную дверь отпирали английским ключом…
Говори. Ничего не поделаешь с этой напастью.
I
«Среди фанерных переборок…»
Среди фанерных переборок
И дачных скрипов чердака
Я сам себе далек и дорог,
Как музыка издалека.
Давно, сырым и нежным летом,
Когда звенел велосипед,
Жил мальчик – я по всем приметам,
А, впрочем, может быть, и нет.
– Курить нельзя и некрасиво…
Все выше старая крапива
Несет зловещие листы.
Марина, если б знала ты,
Как горестно и терпеливо
Душа искала двойника!
Как музыка издалека,
Лишь сроки осени подходят,
И по участкам жгут листву,
Во мне звенит и колобродит
Второе детство наяву.
Чай, лампа, затеррасный сумрак,
Сверчок за тонкою стеной
Хранили бережный рисунок
Меня, не познанного мной.
С утра, опешивший спросонок,
Покрыв рубашкой худобу,
Под сосны выходил ребенок
И продолжал свою судьбу.
На ветке воробей чирикал –
Господь его благослови!
И было до конца каникул
Сто лет свободы и любви!1973
«Сигареты маленькое пекло…»
Сигареты маленькое пекло.
Тонкий дым разбился об окно.
Сумерки прокручивают бегло
Кроткое вечернее кино.
С улицы вливается в квартиру
Чистая голландская картина –
Воздух пресноводный и сырой,
Зимнее свеченье ниоткуда,
Конькобежцы накануне чуда
Заняты подробною игрой.
Кактусы величественно чахнут.
Время запираться и зевать.
Время чаепития и шахмат,
Кошек из окошек зазывать.
К ночи глуше, к ночи горше звуки –
Лифт гудит, парадное стучит.
Твердая горошина разлуки
В простынях незримая лежит.
Милая, мне больше длиться нечем.
Потому с надеждой, потому
Всем лицом печальным человечьим
В матовой подушке утону.
…Лунатическим током пронизан,
По холодным снастям проводов,
Громкой кровельной жести, карнизам
Выхожу на отчетливый зов.
Синий снег под ногами босыми.
От мороза в груди колотье.
Продвигаюсь на женское имя –
Наилучшее слово мое.
Узнаю сквозь прозрачные веки,
Узнаю тебя, с чем ни сравни.
Есть в долинах великие реки –
Ты проточным просторам сродни.
Огибая за кровлею кровлю,
Я тебя воссоздам из ночей
Вороною бездомною кровью –
От улыбки до лунок ногтей.
Тихо. Половицы воровато
Полоснула лунная фольга.
Вскорости янтарные квадраты
Рухнут на пятнистые снега.
Электричество включат – и снова
Сутолока, город впереди.
Чье-то недослышанное слово
Бродит, не проклюнется в груди.
Зеркало проточное померкло.
Тусклое бессмысленное зеркало,
Что, скажи, хоронишь от меня?
Съежилась ночная паутина.
Так на черной крышке пианино
Тает голубая пятерня.1973
«До колючих седин доживу…»
До колючих седин доживу
И тогда извлеку понемножку
Сотню тысяч своих дежавю
Из расколотой глиняной кошки.
Народился и вырос большой,
Зубы резались, голос ломался,
Но зачем-то явился душой
Неприкаянный облик романса.
Для чего-то на оклик ничей
Зазывала бездомная сила
И крутила, крутила, крутила
Черно-белую ленту ночей.
Эта участь – нельзя интересней.
Горе, я ли в твои ворота
Не ломился с юродивой песней,
Полоумною песней у рта!1973
«Я смежу беспокойные теплые веки…»
Я смежу беспокойные теплые веки,
Я уйду ночевать на снегу Кызгыча,
Полуплач-полуимя губами шепча, –
Пусть гремят вертикальные реки.
Через тысячу лет я проснусь поутру,
Я очнусь через тысячу лет, будет тише
Грохот сизой воды. Так иди же, иди же!
Как я спал, как я плакал, я скоро умру!1973
«Есть старый флигель угловатый…»
Есть старый флигель угловатый
В одной неназванной глуши.
В его стенах живут два брата,
Два странных образа души.
Когда в ночной надмирный омут,
Робея, смотримся, как встарь,
Они идут в одну из комнат,
В руке у каждого фонарь.
В янтарных полукружьях света
Тогда в светелке угловой
Видны два женские портрета,
И каждый брат глядит на свой.
Легко в покоях деревенских.
Ответно смотрят на двоих
Два облика, два лика женских,
Две жизни бережных моих.
Будь будущее безымянным.
Будь прошлое светлым-светло.
Все не наскучит братьям странным
Смешное это ремесло.
Но есть и третий в доме том,
Ему не сторожить портрета,
Он запирает старый дом
И в путь берет котомку света.
Путем кибиток и телег
Идет полями и холмами,
Где голубыми зеркалами
Сверкают поймы быстрых рек.1973
«Как просто все: толпа в буфете…»
Как просто все: толпа в буфете,
Пропеллер дрогнет голубой, –
Так больше никогда на свете
Мы не увидимся с тобой.
Я сяду в рейсовый автобус.
Царапнет небо самолет –
И под тобой огромный глобус
Со школьным скрипом поплывет.
Что проку мямлить уверенья,
Божиться гробовой доской!
Мы твердо знаем, рвутся звенья
Кургузой памяти людской.
Но дни листая по порядку
В насущных поисках добра,
Увижу утлую палатку,
Услышу гомон у костра.
Коль на роду тебе дорога
Написана, найди себе
Товарища, пускай с тревогой,
Мой милый, помнит о тебе.1974
«Цыганскому зуду покорны…»
Цыганскому зуду покорны,
Набьем барахлом чемодан.
Однажды сойдем на платформы
Чужих оглушительных стран.
Метельным плутая окольным
Февральским бедовым путем,
Однажды над городом Кельном
Настольные лампы зажжем.
Потянутся дымные ночи –
Good bye, до свиданья, adieu.
Так звери до жизни охочи,
Так люди страшатся ее.
Под старость с баулом туристским
Заеду – тряхну стариной –
С лицом безупречно австрийским,
С турецкой, быть может, женой.
The sights необъятного края:
Байкал, Ленинград и Ташкент,
Тоскливо слова подбирая,
Покажет толковый студент.
Огромная русская суша.
Баул в стариковской руке.
О чем я спрошу свою душу
Тогда, на каком языке?1973
«Сотни тонн боевого железа…»
Сотни тонн боевого железа
Нагнетали под стены Кремля.
Трескотня тишины не жалела,
Щекотала подошвы земля.
В эту ночь накануне парада
Мы до часа ловили такси.
Накануне чужого обряда,
Незадолго до личной тоски.
На безлюдье под стать карантину
В исковерканной той тишине
Эта полночь свела воедино
Все, что чуждо и дорого мне.
Неудача бывает двуликой.
Из беды, где свежеют сердца,
Мы выходим с больною улыбкой,
Но имеем глаза в пол-лица.
Но всегда из батального пекла,
Столько тысяч оставив в гробах,
Возвращаются с привкусом пепла
На сведенных молчаньем губах.
Мать моя народила ребенка,
А не куклу в гремучей броне.
Не пытайте мои перепонки,
Дайте словом обмолвиться мне.
Колотило асфальт под ногою.
Гнали танки к Кремлевской стене.
Здравствуй, горе мое дорогое,
Горстка жизни в железной стране!1974
Декабрь 1977 года
Штрихи и точки нотного письма.
Кленовый лист на стареньком пюпитре.
Идет смычок, и слышится зима.
Ртом горьким улыбнись и слезы вытри,
Здесь осень музицирует сама.
Играй, октябрь, зажмурься, не дыши.
Вольно мне было музыке не верить,
Кощунствовать, угрюмо браконьерить
В скрипичном заповеднике души.
Вольно мне очутиться на краю
И музыку, наперсницу мою, –
Все тридцать три широких оборота –
Уродовать семьюдестью восьмью
Вращениями хриплого фокстрота.
Условимся о гибели молчать.
В застолье нету места укоризне
И жалости. Мне скоро двадцать пять,
Мне по карману праздник этой жизни.
Холодные созвездия горят.
Глухого мирозданья не корят
Остывшие Ока, Шексна и Припять.
Поэтому я предлагаю выпить
За жизнь с листа и веру наугад.
За трепет барабанных перепонок.
В последний день, когда меня спросонок
По имени окликнут в тишине,
Неведомый пробудится ребенок
И втайне затоскует обо мне.
Условимся – о гибели молчок.
Нам вечность беззаботная не светит.
А если кто и выронит смычок,
То музыка сама себе ответит.1977
Друзьям-поэтам
Подступал весенний вечер.
Ветер исподволь крепчал.
С ближней станции диспетчер
В рупор грубое кричал.
В лужах желтые ботинки
Пачкал модный пешеход.
В чистом небе, как чаинки,
Вился птичий хоровод.
В этот славный вечер длинный,
Праздник неба и земли,
Вдоль по улице старинной
Трое странные прошли.
Первый двигался улиткой,
Усом долог, ростом мал,
Злобной заячьей улыбкой
Небо кроткое пугал.
Рядом с первым неуклюже
Нечто женское брело,
Опрокидывалось в лужи,
В кулаке башмак несло.
Третий зверь, поросший мехом,
Был неряшлив и сутул.
Это он козлиным смехом
Смуглый воздух полоснул.
Трех уродцев мучил насморк –
Так и шмыгали втроем.
Переругивались наспех,
Каждый плакал о своем.
Три поэта ждали смерти,
Воду перчили тоской,
За собой на длинной жерди
Флаг тащили шутовской.
Боже! Я дышу неровно,
Глядя в реки и ручьи,
Я люблю беспрекословно
Все творения Твои.
Понимаю снег и иней,
Но понять не хватит сил,
Как Ты музыкою синей
Этих троллей наделил!1974
«Ружейный выстрел в роще голой…»
Ружейный выстрел в роще голой.
Пригоршня птиц над головой.
Еще не речь, уже не голос –
Плотины клекот горловой.
Природа ужаса не знает.
Не ставит жизни смерть в вину.
Лось в мелколесье исчезает,
Распространяя тишину.
Пусть длится, только бы продлилась
Минута зренья наповал,
В запястьях сердце колотилось,
Дубовый желоб ворковал.
Ничем души не опечалим.
Весомей счастья не зови.
Да будет осень обещаньем,
Кануном снега и любви.1975
«Чуть свет, пока лучи не ярки…»
Чуть свет, пока лучи не ярки,
Еще при утренней звезде,
Скользить в залатанной байдарке
По голой пасмурной воде.
Такая тихая погода
Лишь в этот час над головой,
И наискось уходит в воду
Блесна на леске голубой.
Здесь разве только эти громки
Удары сердца в тишине
Да две певучие воронки
Из-под весла на глубине.
Здесь жизнь в огрехах и ошибках
(Уже вчерашнюю на треть)
Легко, как озеро в кувшинках,
Из-под ладони оглядеть.
Она была не суетлива,
Не жестокá, не холодна.
Всего скорее справедлива
Была, наверное, она.1975
«Я был зверком на тонкой пуповине…»
Я был зверком на тонкой пуповине.
Смотрел узор морозного стекла.
Так замкнуто дышал посередине
Младенчества – медвежьего угла.
Струилось солнце пыльною полоской.
За кругом круг вершила кровь по мне.
Так исподволь накатывал извне
Вpемен и судеб гомон вавилонский,
Но маятник трудился в тишине.
Мы бегали по отмелям нагими –
Детей косноязычная орда, –
Покуда я в испарине ангины
Не вызубрил твой облик навсегда.
Я телом был, я жил единым хлебом,
Когда из тишины за слогом слог
Чудное имя Лесбия извлек,
Опешившую плоть разбавил небом –
И ангел тень по снегу поволок.
Младенчество! Повремени немного.
Мне десять лет. Душа моя жива.
Я горький сплав лимфоузлов и Бога –
Уже с преобладаньем божества…
…Утоптанная снежная дорога.
Облупленная школьная скамья.
Как поплавок, дрожит и тонет сердце.
Крошится мел. Кусая заусенцы,
Пишу по буквам: “Я уже не я”.
Смешливые надежные друзья –
Отличники, спортсмены, отщепенцы
Печалятся. Бреду по этажу,
Зеницы отверзаю, обвожу
Ладонью вдруг прозревшее лицо,
И мимо стендов, вымпелов, трапеций
Я выхожу на школьное крыльцо.
Пять диких чувств сливаются в шестое.
Январский воздух – лезвием насквозь.
Держу в руках, чтоб в снег не пролилось,
Грядущей жизни зеркало пустое.1974
«Без устали вокруг больницы…»
Без устали вокруг больницы
Бежит кирпичная стена.
Худая скомканная птица
Кружит под небом дотемна.
За изгородью полотняной
Белья, завесившего двор,
Плутает женский гомон странный,
Струится легкий разговор.
Под плеск невнятицы беспечной
В недостопамятные дни
Я ощутил толчок сердечный
Толчку подземному сродни.
Потом я сделался поэтом,
Проточным голосом – потом,
Сойдясь московским ранним летом
С бесцельным беличьим трудом.
…………………………………………
Возьмите все, но мне оставьте
Спокойный ум, притихший дом,
Фонарный контур на асфальте
Да сизый тополь под окном.
В конце концов, не для того ли
Мы знаем творческую власть,
Чтобы хлебнуть добра и боли –
Отгоревать и не проклясть!1973
II
«Что ж, зима. Белый улей распахнут…»
Что ж, зима. Белый улей распахнут.
Тихим светом насыщена тьма.
Спозаранок проснутся и ахнут,
И помедлят, и молвят: “Зима”.
Выпьем чаю за наши писанья,
За призвание весельчака.
Рафинада всплывут очертанья.
Так и тянет шепнуть: “До свиданья”.
Вечер долог, да жизнь коротка.1976
«Раздвину занавеси шире…»
Раздвину занавеси шире.
На кухню поутру войду.
Там медный маятник, и гири
Позвякивают на ходу.
Кукуй, кухонная кукушка!
Немало в жизни ерунды –
Пахнет приплюснутая кружка
Железом утренней воды,
И вроде не было в помине
Меня на свете никогда –
Такие блики на гардине,
Такая юная вода!
Пусть в небе музыка играет,
А над моею головой
Комичный клювик разевает
Подобье птицы роковой!1976
«Мы знаем приближение грозы…»
Мы знаем приближение грозы,
Бильярдного раскатистого треска –
Позвякивают ведра и тазы,
Кликушествует злая занавеска.
В такую ночь в гостинице меня
Оставил сон и вынудил к беседе
С самим собой. Педалями звеня,
Горбун проехал на велосипеде
В окне моем. Я не зажег огня.
Блажен, кто спит. Я встал к окну спиной.
Блажен, кто спит в разгневанном июле.
Я в сумерки вгляделся – предо мной
Сиделкою душа спала на стуле.
Давно ль, скажи, ты девочкой была?
Давно ль провинциалкой босоногой
Ступни впервые резала осокой,
И плакала, и пела? Но сдала
И, сидя, спишь в гостинице убогой.
Морщинки. Рта порочные углы.
Тяжелый сон. Виски в капели пота.
И страшно стало мне в коробке мглы –
Ужели это все моя работа?!
С тех пор боюсь: раскаты вдалеке
Поднимут за полночь настойчиво и сухо –
На стуле спит усталая старуха
С назойливою мухой на щеке.
Я закричу, умру – горбун в окне,
Испуганная занавесь ворвется.
Душа вздрогнёт, медлительно очнется,
Забудет все, отдаст усталость мне
И девочкой к кому-нибудь вернется.1976
«Было так грустно, как если бы мы шаг за шагом…»
Было так грустно, как если бы мы шаг за шагом
Хвойной тропинкой взошли на обветренный холм
И примостились бок о бок над самым оврагом –
Я под сосною, а ты на откосе сухом.
В то, что предстало тогда потемневшему взору,
Трудно поверить: закатная медная ширь,
Две-три поляны, сосняк и большие озера,
В самом большом отразился лесной монастырь.
Прежде чем тронуться в путь монастырской дорогой,
Еле заметной в оправе некошеных трав,
Мы битый час провели на поляне пологой,
Долго сидели, колени руками обняв.
Помнишь картину? Охотники лес покидают.
Жмутся собаки к ногам. Вечереет. Февраль.
Там в городишке и знать, вероятно, не знают
Всех приключений. Нам нравилась эта печаль.
Было так грустно, как будто бы все это было –
Две-три поляны, озера, щербатый паром.
Может, и было, да легкое сердце забыло.
Было и горше, но это уже о другом.1976
«Бывают вечера – шатается под ливнем…»
Бывают вечера – шатается под ливнем
Трава, и слышен водосточный хрип.
Легко бродить и маяться по длинным
Аллеям монастырских лип.
Сквозь жизнь мою доносится удушье
Московских лип, и хочется в жилье,
Где ты марала ватман черной тушью
И начиналось прошлое мое.
Дитя надменное с этюдником отцовским,
Скажи, едва ли не вчера
Нам по арбатским кухням стариковским
Кофейник звякал до утра?
Нет, я не о любви, но грустно старожилом
Вдруг ощутить себя. Так долго мы живем,
Что, кажется, не кровь идет по жилам,
А неуклюжий чернозем.
Я жив, но я другой, сохранно только имя.
Лишь обернись когда-нибудь –
Там двойники мои верстами соляными
Сопровождают здешний путь.
О если бы я мог, осмелился на йоту
В отвесном громыхании аллей
Вдруг различить связующую ноту
В расстроенном звучанье дней!1976
«Сегодня дважды в ночь я видел сон…»
Сегодня дважды в ночь я видел сон.
Загадочный, по существу, один
И тот же. Так цензура сновидений,
Усердная, щадила мой покой.
На местности условно городской
Столкнулись две машины. Легковую
Тотчас перевернуло. Грузовик
Лишь занесло немного. Лобовое
Стекло его осыпалось на землю,
Осколки же земли не достигали,
И звона не случилось. Тишина
Вообще определяла обстановку.
Покорные реакции цепной,
Автомобили, красные трамваи,
Коверкая железо и людей,
На площадь вылетали, как и прежде,
Но площадь не рассталась с тишиной.
Два битюга (они везли повозку
С молочными бидонами) порвали
Тугую упряжь и скакали прочь.
Меж тем из опрокинутых бидонов
Хлестало молоко, и желоба,
Стальные желоба трамвайных рельсов,
Полны его. Но кровь была черна.
Оцепенев, я сам стоял поодаль
В испарине кошмара. Стихло все.
Вращаться продолжало колесо
Какой-то опрокинутой “Победы”.
Спиною к телеграфному столбу
Сидела женщина. Ее черты,
Казалось, были сызмальства знакомы
Душе моей. Но смертная печать
Видна уже была на лике женском.
И тишина.
Так в клубе деpевенском
Киномеханик вечно пьян. Динамик,
Конечно, отказал. И в темноте
Кромешной знай себе стрекочет старый
Проектор. В золотом его луче
Пылинки пляшут. Действие без звука.
Мой тяжкий сон, откуда эта мука?
Мне чудится, что мы у тех времен
Без устали скитаемся на ощупь,
Когда под звук трубы на ту же площадь
Повалим валом с четырех сторон.
Кто скажет заключительное слово
Под сводами последнего Суда,
Когда лиловым сумеркам Брюллова
Настанет срок разлиться навсегда?
Нас смоет с полотняного экрана.
Динамики продует медный вой.
И лопнет высоко над головой
Пифагорейский воздух восьмигранный.1977
«Грешный светлый твой лоб поцелую…»
Грешный светлый твой лоб поцелую,
Тотчас хрипло окликну впустую,
Постою, ворочусь домой.
Вот и все. Отключу розетку
Телефона. Запью таблетку
Люминала сырою водой.
Спать пластом поверх одеяла.
Медленно в изголовье встала
Рама, полная звезд одних.
Звезды ходят на цыпочках около
Изголовья, ломятся в стекла –
Только спящему не до них.
Потому что до сумерек надо
Высоту навестить и прохладу
Льда, свободы, воды, камней.
Звук реки – или Терек снежный,
Или кран перекрыт небрежно.
О, как холодно крови моей!
Дальше, главное не отвлекаться.
Засветло предстоит добраться
До шоссе на Владикавказ,
Чтобы утром… Но все по порядку.
Прежде быть на почте. Тридцатку
Получить до закрытия касс.
Чтобы первым экспрессом в Тбилиси
Через нашатырные выси, –
О, как лоб твой светлый горяч!
Авлабар обойду, Окроканы…
Что за чушь! Не закрыты краны –
То ли смех воды, то ли плач –
Не пойму. Не хватало плакать.
Впереди московская слякоть.
На будильнике пятый час.
Ангел мой! Я тебя не неволю.
Для того мне оставлено, что ли,
Море Черное про запас!1978
«Когда волнуется желтеющее пиво…»
Когда волнуется желтеющее пиво,
Волнение его передается мне.
Но шумом лебеды, полыни и крапивы
Слух полон изнутри, и мысли в западне.
Вот белое окно, кровать и стул Ван Гога.
Открытая тетрадь: слова, слова, слова.
Причин для торжества сравнительно немного.
Категоричен быт и прост, как дважды два.
О, искуситель-змей, аптечная гадюка,
Ответь, пожалуйста, задачу разреши:
Зачем доверил я обманчивому звуку
Силлабику ума и тонику души?
Мне б летчиком летать и китобоем плавать,
А я по грудь в беде, обиде, лебеде,
Знай, камешки мечу в загадочную заводь,
Веду подсчет кругам на глянцевой воде.
Того гляди сгребут, оденут в мешковину,
Обреют наголо, палач расправит плеть.
Уже не я – другой – взойдет на седловину
Айлара, чтобы вниз до одури смотреть.
Храни меня, Господь, в родительской квартире,
Пока не пробил час примерно наказать.
Наперсница душа, мы лишнего хватили.
Я снова позабыл, что я хотел сказать.1979
«Здесь реки кричат, как больной под ножом…»
Здесь реки кричат, как больной под ножом,
Но это сравнение ложь, потому что
Они голосят на стократно чужом
Наречии. Это тебе не Алушта.
Здесь пара волов не тащила арбы
С останками пасмурного Грибоеда.
Суворовско-суриковские орлы
На задницах здесь не справляли победы.
Я шел вверх по Ванчу. Дневная резня
Реки с ледником выдыхалась. Зарница
Цвела чайной розой. Ущелье меня
Встречало недобрым молчаньем зверинца.
Снега пламенели с зарей заодно.
Нагорного неба неграмотный гений
Сам знал себе цену. И было смешно
Сушить эдельвейс в словаре ударений.
Зазнайка-поэзия, спрячем тетрадь:
Есть области мира, живые помимо
Поэзии нашей, – и нам не понять,
Не перевести хриплой речи Памира.1979
«Среди фанерных переборок…»
Среди фанерных переборок
И дачных скрипов чердака
Я сам себе далек и дорог,
Как музыка издалека.
Давно, сырым и нежным летом,
Когда звенел велосипед,
Жил мальчик — я по всем приметам,
А, впрочем, может быть, и нет.
— Курить нельзя и некрасиво…
Все выше старая крапива
Несет зловещие листы.
Марина, если б знала ты,
Как горестно и терпеливо
Душа искала двойника!
Как музыка издалека,
Лишь сроки осени подходят,
И по участкам жгут листву,
Во мне звенит и колобродит
Второе детство наяву.
Чай, лампа, затеррасный сумрак,
Сверчок за тонкою стеной
Хранили бережный рисунок
Меня, не познанного мной.
С утра, опешивший спросонок,
Покрыв рубашкой худобу,
Под сосны выходил ребенок
И продолжал свою судьбу.
На ветке воробей чирикал —
Господь его благослови!
И было до конца каникул
Сто лет свободы и любви!
1973
«Сигареты маленькое пекло…»
М. Т.
Сигареты маленькое пекло.
Тонкий дым разбился об окно.
Сумерки прокручивают бегло
Кроткое вечернее кино.
С улицы вливается в квартиру
Чистая голландская картина —
Воздух пресноводный и сырой,
Зимнее свеченье ниоткуда,
Конькобежцы накануне чуда
Заняты подробною игрой.
Кактусы величественно чахнут.
Время запираться и зевать.
Время чаепития и шахмат,
Кошек из окошек зазывать.
К ночи глуше, к ночи горше звуки —
Лифт гудит, парадное стучит.
Твердая горошина разлуки
В простынях незримая лежит.
Милая, мне больше длиться нечем.
Потому с надеждой, потому
Всем лицом печальным человечьим
В матовой подушке утону.
…Лунатическим током пронизан,
По холодным снастям проводов,
Громкой кровельной жести, карнизам
Выхожу на отчетливый зов.
Синий снег под ногами босыми.
От мороза в груди колотье.
Продвигаюсь на женское имя —
Наилучшее слово мое.
Узнаю сквозь прозрачные веки,
Узнаю тебя, с чем ни сравни.
Есть в долинах великие реки —
Ты проточным просторам сродни.
Огибая за кровлею кровлю,
Я тебя воссоздам из ночей
Вороною бездомною кровью —
От улыбки до лунок ногтей.
Тихо. Половицы воровато
Полоснула лунная фольга.
Вскорости янтарные квадраты
Рухнут на пятнистые снега.
Электричество включат — и снова
Сутолока, город впереди.
Чье-то недослышанное слово
Бродит, не проклюнется в груди.
Зеркало проточное померкло.
Тусклое бессмысленное зеркало,
Что, скажи, хоронишь от меня?
Съежилась ночная паутина.
Так на черной крышке пианино
Тает голубая пятерня.
1973
«До колючих седин доживу…»
До колючих седин доживу
И тогда извлеку понемножку
Сотню тысяч своих дежавю
Из расколотой глиняной кошки.
Народился и вырос большой,
Зубы резались, голос ломался,
Но зачем-то явился душой
Неприкаянный облик романса.
Для чего-то на оклик ничей
Зазывала бездомная сила
И крутила, крутила, крутила
Черно-белую ленту ночей.
Эта участь — нельзя интересней.
Горе, я ли в твои ворота
Не ломился с юродивой песней,
Полоумною песней у рта!
1973
Трудное удовольствие
В какой части человеческого тела возникает удовольствие от поэзии? Если судить по себе (а таков при всем его несовершенстве и вопреки трамвайной укоризне самый надежный способ суждения), это ощущение берет начало в дыхательных путях и полости рта. Никакие образные красоты и глубокомыслие не спасут стихотворения, если читателю просто-напросто не в радость произнесение строфы или даже строки. Один мой друг стал мне еще дороже после того, как ляпнул за бутылкой, что элегия «Редеет облаков летучая гряда…» написана Пушкиным именно ради этой первой строки. Я давно был того же мнения, но все робел высказаться вслух. Наслаждение, которое доставляет ее произнесение, невозможно объяснить — у меня, во всяком случае, не получается. Здесь нет и в помине пресловутой логопедически-нарочитой звукописи, вроде бальмонтовского «Чуждый чарам черный челн…» или пастернаковского «В волчцах волочась за чулками…» И вместе с тем последовательность ударных и безударных слогов, чередование согласных и гласных звуков настолько идеальны, что хочется вновь и вновь повторять четыре обыкновенных слова: «Редеет». «Облаков». «Летучая». «Гряда».
Эту, едва ли не физиологическую сторону воздействия лирики имел в виду английский поэт Альфред Хаусман (1859–1936), когда писал: «И вправду, поэзия представляется мне явлением скорее телесным, чем интеллектуальным… Я по опыту знаю, что, бреясь, мне лучше следить за своими мыслями, поскольку, если в память ко мне забредает поэтическая строка, волоски на моей коже встают дыбом, так что бритва с ними уже не справляется».
Пройдя такой первичный, как бы на ощупь, отсев, стихотворение отправляется прямо в душу — назовем ее для солидности «психикой». Теперь, в случае поэтической удачи, читатель, как на сеансе гипноза, подпадает под обаяние авторской речи о чем угодно, будь то любовь, грусть осеннего заката, умиление при виде младенца, угрызения совести и т. д. и т. п. Правда, от читателя требуются впечатлительность и развитое воображение. Совсем необязательно, чтобы любитель поэзии имел личный опыт житейских метаморфоз и треволнений, перечисляемых в стихотворении Пушкина, но, если он одарен способностью к сопереживанию, интонация отчаянной решимости растрогает его:
Всё в жертву памяти твоей:
И голос лиры вдохновенной,
И слезы девы воспаленной,
И трепет ревности моей,
И славы блеск, и мрак изгнанья,
И светлых мыслей красота,
И мщенье, бурная мечта
Ожесточенного страданья.
А ведь интонация, в сущности, — порядок слов, только и всего. Но порядок ничуть не менее таинственный, чем поэтическая звукопись, поминавшаяся выше. (Определение английского классика Сэмюэла Кольриджа (1772–1834), что поэзия — это «наилучшие слова в наилучшем порядке», представляется избыточным: всякое слово делается наилучшим, когда стоит в самой сильной позиции, то есть речь идет снова же о его местоположении.) И мы перечитываем в любимых стихах не содержание, а именно интонацию, которая, разумеется, подпитывается буквальным содержанием стихотворения, но не сводится к нему.
Ну, например. Есть у Тютчева такое уже поминавшееся мной лирическое изречение:
Природа — сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.
1869
Но пятью годами раньше и чуть ли не дословно ту же мысль высказал по-французски в частном письме И. С. Тургенев: «…сфинкс, который будет всегда перед всеми возникать, смотрел на меня своими неподвижными, пустыми глазами, тем более ужасными, что они отнюдь не стремятся внушить вам страх. Мучительно не знать разгадки; еще мучительнее, быть может, признаться себе в том, что ее вообще нет, ибо и самой загадки не существует вовсе».
Сопоставление двух цитат практически одного содержания наглядно иллюстрирует различие в восприятии fiction и non-fiction. Тургенев доносит до адресата мысль, Тютчев тоже делится мыслью, но главное — передает умонастроение, сопутствующее ее появлению. «Дьявольская разница!» И впрямь: вывод — он и есть вывод, но протяженное раздумье, которому мы делаемся как бы причастны, доставляет неизъяснимое удовольствие, и хочется снова и снова оказываться во власти этой иллюзии. Сколько можно перечитывать невеселую мысль Тургенева? Два-три раза от силы. А строфу Тютчева ценитель поэзии пробормочет за жизнь про себя и вслух десятки раз. И потребность в повторении, и удовольствие от него объясняются «всего лишь» способом поэтического изложения — звуками, размером, ритмом, рифмами, порядком слов. Вот какие чудеса иногда творит версификация!
(Заметим между делом, что на высказывание одной и той же мысли стихотворной речи понадобилось вдвое меньше слов, чем прозаической.)
Одно важное уточнение. Есть интонация и — интонация. Первая, словно какая-нибудь трасса флажками, помечена знаками препинания, чтобы не промахнуть поворот содержания и не прочесть сгоряча, допустим: «Несется в гору во весь дух на утренней заре пастух…» Профессиональные чтецы, исполняя стихи со сцены, согласуют модуляции своего голоса по преимуществу с этими вешками синтаксиса, — поэтому актерское чтение, как правило, маловыносимо. С таким же формальным идиотским «выражением» обычно учат декламировать стихи в школе. Все эти ужимки выразительности идут вразрез с глубинной лирической интонацией, для совпадения с которой нужно проявить подлинный артистизм и попасть в резонанс авторскому настроению. Разумеется, лучше всех дается лирическая интонация самим авторам, когда они воют стихи, как волки в полнолунье. Из некоторых особенно чувствительных читателей поэзии тоже иногда выходят неплохие оборотни.
Получать удовольствие от поэзии, оказывается, так непросто, что моя заметка больше похожа на предостережение, чем на агитацию. Как быть? А я еще обошел молчанием необходимую читателю стихов искушенность и начитанность, чтобы в полной мере наслаждаться мастерством, с каким автор обращается с приемом; кивать, будто старому знакомому, цитатам и заимствованиям; реагировать на остроумие и проч.
Чтение стихов — удовольствие одновременно сильное и трудное, и чем раньше пристраститься к этой радости, тем лучше. Как бы то ни было, любитель поэзии не останется внакладе хотя бы потому, что «поэзия утешает, не обманывая», — сказал один многоопытный старик.
Хорошо бы смолоду попасть под влияние старшего, который любит стихи; хорошо, если этим старшим будет учитель литературы, но вовсе необязательно. Для меня таким человеком стал отец — он помногу читал их наизусть и вслух, причем правильно читал: без этого казенного «выражения», зато с чувством и с толком — прикрыв глаза и самозабвенно подвывая.
2016
Эники-беники
Каждый из нас в младенчестве овладевает речью, чтобы выражать собственные желания и переживания, добиваться своего: боюсь жука, хочу на горшок, не буду кашу. Рано или поздно мы обращаем внимание на то, что некоторые слова забавно перекликаются друг с другом — иногда бессвязно (кошка/немножко), иногда — чуть ли не со смыслом (собака/кусака). Но это не всё. На слух мы различаем, что одно и то же сообщение может «идти» как по маслу — «В полдневный жар в долине Дагестана…», а может — будто через силу, волоком: «В долине Дагестана в полдневный жар…» Но в личной разговорной практике мы лишь изредка и случайно набредаем на рифму или стихотворный размер («Пойду-ка я пройдусь с собакой…») и в лучшем случае улыбнемся обмолвке, зная, что в обиходе размер и рифма — просто-напросто совпадение, что особая поэтическая складность не присуща речи изначально.
Поэтому профессиональный поэтический навык осмысленно говорить стихом всегда будет оставлять впечатление какого-то чудесного исключения из неукоснительных правил и норм земной жизни с ее гравитацией, трением, энтропией и прочими враждебными процессами, включая старение и самое смертность, требующими от нас неусыпных усилий по преодолению или хотя бы отсрочке этих неудобств и бед. На том же праздничном отрицании ежедневного опыта стои´т всякое трюкачество, например, фокус: мы готовы биться об заклад, что цилиндр пуст, ан нет — на наших глазах дядя во фраке извлекает за уши из цилиндрической пустоты и предъявляет публике живого кролика!
Словом, возвращаясь к теме моего рассуждения: изъясняться медленно и с трудом — естественно, говорить стихом — противоестественно, даже сверхъестественно.
И чем ближе регулярная, то есть обладающая как минимум стихотворным размером поэзия к разговорной речи, тем сильнее впечатление чуда. А с рифмой и подавно! Книжная речь и сама-то по себе довольно искусственна, так что эволюция ее в заведомо более искусственную стихотворную кажется чем-то довольно логичным и не так изумляет и веселит, как превращение в стихи общедоступной обиходной речи. Ведь знакомая женщина в ярком гриме удивляет сильнее модели с глянцевой обложки: у них там в их рекламно-гламурном зазеркалье все неправдоподобно эффектно — то ли дело у нас! Ровно поэтому, вероятно, и увлекает уже несколько поколений читателей стихотворный перечень всякой прозаической всячины, бегущей за окном кареты перед взором молодой провинциалки:
…вот уж по Тверской
Возок несется чрез ухабы.
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.
А какое сильное действие производит бытовое брюзжание лирического героя, клянущего свою рассеянность в шедевре Владислава Ходасевича! Бытовое брюзжание, но ямбом — и каким!
Перешагни, перескочи,
Перелети, пере- что хочешь —
Но вырвись: камнем из пращи,
Звездой, сорвавшейся в ночи…
Сам затерял — теперь ищи…
Бог знает, что себе бормочешь,
Ища пенсне или ключи.
Игровая складность поэзии может восприниматься автором как иго и надругательство над нешуточной драмой жизни и придать стихотворению надрывно-трагическое звучание. При внимательном чтении авторское бешенство на версификационную кабалу слышится в «Элегии» Александра Введенского, в которой ткань стиха намеренно, будто изнаночным швом наружу, вывернута кондовыми рифмами напоказ:
Летят божественные птицы,
их развеваются косицы,
халаты их блестят как спицы,
в полете нет пощады.
Они отсчитывают время,
Они испытывают бремя,
пускай бренчит пустое стремя —
сходить с ума не надо.
В говорении традиционным регулярным стихом (даже на неприятные темы) есть какая-то праздничная приподнятость, карнавальный привкус: ведь пересечь улицу пешком и надежней, и быстрей, чем пройти над ней по канату, однако только вовсе скучный человек не задерет голову, чтобы подивиться на канатоходца.
В пользу такого стихосложения Сергей Аверинцев приводил самые возвышенные доводы: «Что бы ни приключалось с героем… — но за одной хореической строкой непреложно последует другая, и так будет до конца драмы; примерно так, как после нашей смерти будут до конца мировой драмы продолжать сменяться времена года и возрасты поколений, каковое знание, утешая нас или не утешая, во всяком случае, ставит на место и учит мужеству».