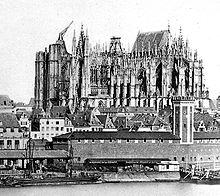First edition, published in 1844
Germany. A Winter’s Tale (German: Deutschland. Ein Wintermärchen) is a satirical epic poem by the German writer Heinrich Heine (1797–1856), describing the thoughts of a journey from Paris to Hamburg the author made in winter 1843. The title refers to Shakespeare’s Winter’s Tale, similar to his poem Atta Troll: Ein Sommernachtstraum («Atta Troll: A Midsummer Night’s Dream»), written 1841–46.
This poem was immediately censored in most of Germany, but ironically it became one of the reasons for Heine’s growing fame.[1]
Original publication[edit]
From the onset of the (Metternich) Restoration in Germany, Heine was no longer secure from the censorship, and in 1831 he finally migrated to France as an exile. In 1835 a decree of the German Federal Convention banned his writings together with the publications of the Young Germany literary group.
At the end of 1843 Heine went back to Germany for a few weeks to visit his mother and his publisher Julius Campe in Hamburg. On the return journey the first draft of Deutschland. Ein Wintermärchen took shape. The verse epic appeared in 1844 published by Hoffmann and Campe, Hamburg. According to the censorship regulations of the 1819 Carlsbad Decrees, manuscripts of more than twenty folios did not fall under the scrutiny of the censor. Therefore, Deutschland. Ein Wintermärchen was published together with other poems in a volume called ‘New Poems’. However, on 4 October 1844 the book was banned and the stock confiscated in Prussia. On 12 December 1844, King Frederick William IV issued a warrant of arrest against Heine. In the period following the work was repeatedly banned by the censorship authorities. In other parts of Germany it was certainly issued in the form of a separate publication, also published by Hoffmann and Campe, but Heine had to shorten and rewrite it.
Ironically, censorship of Heine’s works, particularly of the Winter Tale, became a major reason for Heine’s raising fame.[1]
Contents[edit]
The opening of the poem is the first journey of Heinrich Heine to Germany since his emigration to France in 1831. However it is to be understood that this is an imaginary journey, not the actual journey which Heine made but a literary tour through various provinces of Germany for the purposes of his commentary. The ‘I’ of the narrative is therefore the instrument of the poet’s creative imagination.
Wintermärchen and Winterreise
Heinrich Heine was a master of the natural style of lyrics on the theme of love, like those in the ‘Lyrisches Intermezzo’ of 1822-1823 in Das Buch der Lieder (1827) which were set by Robert Schumann in his Dichterliebe. A few of his poems had been set by Franz Schubert, not least for the great posthumously-collected series of songs known as the Schwanengesang. In such works Heine assumed the manner of Wilhelm Müller, whose son Professor Max Müller later emphasized[2] the fundamentally musical nature of these poems and the absolute congruity of Schubert’s settings of them, which are fully composed duos for voice and piano rather than merely ‘accompaniments’ to tunes. Yet Heine’s work addressed political preoccupations with a barbed and contemporary voice, whereas Müller’s melancholy lyricism and nature-scenery explored more private (if equally universal) human experience. Schubert’s Heine settings hardly portray the poet-philosopher’s full identity.
Schubert was dead by 1828: Heine’s choice of the winter journey theme certainly alludes to the Winterreise, Müller’s cycle of poems about lost love, which in Schubert’s song-cycle of the same name became an immortal work embodying some more final and tragic statement about the human condition. Winterreise is about the exile of the human heart, and its bitter and gloomy self-reconciliation. Deutschland. Ein Wintermärchen transfers the theme to the international European political scene, his exile as a writer from his own homeland (where his heart is), and his Heimatssehnsucht or longing for the homeland. Thus Heine casts his secret and ‘illegal thoughts’, so that the darts of his satire and humour fly out from the tragic vortex of his own exile. The fact that Heine’s poetry was itself so closely identified with Schubert was part of his armoury of ‘fire and weapons’ mentioned in the closing stanzas: he transformed Müller’s lament into a lament for Germany.
In Section III, full of euphoria he sets foot again on German soil, with only ‘shirts, trousers and pocket handkerchiefs’ in his luggage, but in his head ‘a twittering birds’-nest/ of books liable to be confiscated’. In Aachen Heine first comes in contact again with the Prussian military:
These people are still the same wooden types,
Spout pedantic commonplaces —
All motions right-angled — and priggishness
Is frozen upon their faces.
Unfinished Cologne Cathedral in 1856, the year of Heine’s death.
In Section IV on the winter-journey to Cologne he mocks the anachronistic German society, that more readily with archaic skills builds the Cologne Cathedral, unfinished since the Middle Ages, than addressing itself to the Present Age. That the anachronistic building works came to be discontinued in the course of the Reformation indicated for the poet a positive advance: the overcoming of traditional ways of thought and the end of spiritual juvenility or adolescence.
In Section V he comes to the Rhine, as ‘the German Rhine’ and ‘Father Rhine’, icon and memorial of German identity. The River-god however shows himself as a sorrowful old man, disgusted with the babble about Germanic identity. He does not long to go back among the French who, according to Heine, now drink beer and read ‘Fichte’ and Kant.
Section VI introduces the ‘Liktor’, the poet’s demon and ghostly doppelganger, always present, who follows him about carrying a hatchet under his cloak, waiting for a sign to execute the poet’s judicial sentences. The stanzas express Heine’s conviction that an idea once thought can never be lost. He confronts the shadowy figure, and is told:
In Rome an ax was carried before
A consul, may I remind you.
You too have your lictor, but nowadays
The ax is carried behind you.
I am your lictor: in the rear
You always hear the clink of
The headsman’s ax that follows you.
I am the deed you think of.
In Section VII the Execution begins in dream. Followed by his ‘silent attendant’ the poet wanders through Cologne. He marks the doorposts with his heart’s blood, and this gives the Liktor the signal for a death-sentence. At last he reaches the Cathedral with the Three Kings Shrine, and “smashes up the poor skeletons of Superstition.’
In Section VIII he travels further on to Hagen and Mülheim, places which bring to mind his former enthusiasm for Napoleon Bonaparte. His transformation of Europe had called awake in Heine the hope for universal freedom. However: the Emperor is dead. Heine had been an eye-witness in Paris of his burial in 1840 at Les Invalides.
Section IX brings culinary reminiscences of ‘homely Sauerkraut’ seasoned with satirical pointedness: Section X, Greetings to Westphalia.
In Section XI he travels through the Teutoburg Forest and fantasizes about it, what might have happened, if Hermann of the Cherusci had not vanquished the Romans: Roman culture would have permeated the spiritual life of Germany, and in place of the ‘Three Dozen Fathers of the Provinces’ should have been now at least one proper Nero. The Section is – in disguise – also an attack on the Culture-politics of the ‘Romantic on the Throne,’ Friedrich Wilhelm IV.; then pretty well all the significant individuals in this outfit (for example Raumer, Hengstenberg, Birch-Pfeiffer, Schelling, Maßmann, Cornelius) lived in Berlin.
Section XII contains the poet’s address on the theme: ‘Howling with the wolves,’ as the carriage breaks down in the forest at night, and he responds as the denizens of the forest serenade him. This Heine offers as a metaphoric statement of the critical distance occupied by himself as polemic or satirical poet, and of the sheepskin-costume appropriate for much of what was surrounding him.
I am no sheep, I am no dog,
No Councillor, and no shellfish –
I have remained a wolf, my heart
And all my fangs are wolfish.
Section XIII takes the traveller to Paderborn. In the morning mist a crucifix appears. The ‘poor jewish cousin’ had even less good fortune than Heine, since the kindly Censor had at least held back from having him crucified – until now, at any rate …
In Section XIV and Section XV the poet betakes himself in a dream to another memorable place: he visits Friedrich Barbarossa in Kyffhäuser. Not surprisingly the mythic German Emperor presents himself as a man become imbecile through senility, who is above all proud of the fact that his banner has not yet been eaten by moths. Germany in internal need? Pressing need of business for an available Emperor? Wake up, old man, and take your beard off the table! What does the most ancient hero mean by it?
He who comes not today, tomorrow surely comes,
But slowly doth the oak awaken,
And ‘he who goes softly goes well*’, so runs
The proverb in the Roman kingdom.
(*chi va piano va sano, Italian)
Section XVI brings the Emperor to the most recent state of affairs: between the Middle Ages and Modern Times, between Barbarossa and today stands and functions the guillotine. Emperors have worn out their usefulness, and seen in that light Monarchs are also superfluous. Stay up the mountain, Old Man! Best of all, the nobility, along with that ‘gartered knighthood of gothic madness and modern lie,’ should stay there too with you in Kyffhäuser (Section XVII). Sword or noose would do equally good service for the disposal of these superfluous toadies.
Dealings with the police remain unpleasant in Minden, followed by the obligatory nightmare and dream of revenge (Section XVIII).
In Section XIX he visits the house where his grandfather was born in Bückeburg:
At Bückeburg I went up into the town,
To view the old fortress, the Stammburg,
The place where my grandfather was born;
My grandmother came from Hamburg.
From there he went on to a meeting with King Ernest Augustus of Hanover in that place, who, «accustomed to life in Great Britain» detains him for a deadly length of time. The section refers above all to the violation of the constitution by Ernst August in the year 1837, who was opposed by the seven Göttingen professors.
Finally, in Section XX, he is at the limit of his journey: In Hamburg he goes in to visit his mother. She, equally, is in control of her responsibilities:
- 1. Are you hungry?
- 2. Have you got a wife?
- 3. Where would you rather live, here with me or in France?
- 4. Do you always talk about politics?
Section XXI and XXII shows the poet in Hamburg in search of people he knows, and memories, and in Section XXIII he sings the praises of the publisher Campe. Section XXIV describes a meeting with the genius loci of Hamburg, Hammonia. A solemn promise of the greatest secrecy must be made in Old Testament fashion, in which he places his hand under the thigh of the Goddess (she blushes slightly – having been drinking rum!). Then the Goddess promises to show her visitor the future Germany. Universal expectation. Then the Censor makes a cut at the critical place. Disappointment. (Section XXV and XXVI)
With Section XXVII the Winter’s Tale ends:
The Youth soon buds, who understands
The poet’s pride and grandeur
And in his heart he warms himself,
At his soul’s sunny splendour.
In the final stanzas Heine places himself in the tradition of Aristophanes and Dante and speaks directly to the King of Prussia:
Then do not harm your living bards,
For they have fire and arms
More frightful than Jove’s thunderbolt:
Through them the Poet forms.
With a warning to the King, of eternal damnation, the epic closes.
A critic for love of the Fatherland[edit]
Deutschland. Ein Wintermärchen shows Heine’s world of images and his folk-song-like poetic diction in a compact gathering, with cutting, ironic criticisms of the circumstances in his homeland. Heine puts his social vision into contrast with the grim ‘November-picture’ of the reactionary homeland which presented itself to his eyes:
A new song, a better song,
O friends, I speak to thee!
Here upon Earth we shall full soon
A heavenly realm decree.
Joyful we on earth shall be
And we shall starve no more;
The rotten belly shall not feed
On the fruits of industry.
Above all Heine criticized German militarism and reactionary chauvinism (i.e. nationalism), especially in contrast to the French, whose revolution he understood as a breaking-off into freedom. He admired Napoleon (uncritically) as the man who achieved the Revolution and made freedom a reality. He did not see himself as an enemy of Germany, but rather as a critic out of love for the Fatherland:
Plant the black, red, gold banner at the summit of the German idea, make it the standard of free mankind, and I will shed my dear heart’s blood for it. Rest assured, I love the Fatherland just as much as you do.
(from the Foreword).
The ‘Winter’s Tale’ today[edit]
Heine’s verse-epic was much debated in Germany right down to our own times. Above all in the century to which it belonged, the work was labelled as the ‘shameful writing’ of a homeless or country-less man, a ‘betrayer of the Fatherland’, a detractor and a slanderer. This way of looking at Deutschland. Ein Wintermärchen was carried, especially in the period of Nazism, into a ridiculous antisemitic caricature. Immediately after World War II a cheap edition of the poem with Heine’s Foreword and an introduction by Wolfgang Goetz was published by the Wedding-Verlag in Berlin in 1946.
Modern times see in Heine’s work – rather, the basis of a wider concern with nationalism and narrow concepts of German identity, against the backdrop of European integration – a weighty political poem in the German language: sovereign in its insight and inventive wit, stark in its images, masterly in its use of language. Heine’s figure-creations (like, for example, the ‘Liktor’) are skilful, and memorably portrayed.
A great deal of the attraction which the verse-epic holds today is grounded in this, that its message is not one-dimensional, but rather brings into expression the many-sided contradictions or contrasts in Heine’s thought. The poet shows himself as a man who loves his homeland and yet can only be a guest and visitor to it. In the same way that Antaeus needed contact with the Earth, so Heine drew his skill and the fullness of his thought only through intellectual contact with the homeland.
This exemplified the visible breach which the French July Revolution of 1830 signifies for intellectual Germany: the fresh breeze of freedom suffocated in the reactionary exertions of the Metternich Restoration, the soon-downtrodden ‘Spring’ of freedom yielded to a new winter of censorship, repression, persecution and exile; the dream of a free and democratic Germany was for a whole century dismissed from the realm of possibility.
Deutschland. Ein Wintermärchen is a high-point of political poetry of the Vormärz period before the March Revolution of 1848, and in Germany is part of the official educational curriculum. The work taken for years and decades as the anti-German pamphlet of the ‘voluntary Frenchman’ Heine, today is for many people the most moving poem ever written by an emigrant.
Recently, reference to this poem has been made by director Sönke Wortmann for his football documentary on the German male national team during the 2006 FIFA world cup. The movie is entitled «Deutschland. Ein Sommermärchen». The world cup in 2006 is often mentioned as a point in time which had a significant positive impact on modern Germany, reflecting a changed understanding of national identity which has been evolving continuously over the 50 years prior to the event.
References[edit]
- ^ a b Amey, L. J. (1997-01-01). Censorship: Gabler, Mel, and Norma Gabler-President’s Commission on Obscenity and Pornography. Salem Press. p. 350. ISBN 9780893564469.
Ironically, Heine became famous because of censorship, particularly after he wrote a political cycle of poems entitled Germany. A Winter’s Tale in 1 844 that was immediately banned throughout the confederation
- ^ Franz Schubert, Sammlung der Lieder kritisch revidirt von Max Friedlaender, Vol 1., Preface by F. Max Müller (Edition Peters, Leipzig)
Sources[edit]
Translation into English
- Deutschland: A Not So Sentimental Journey by Heinrich Heine. Translated (into English) with an Introduction and Notes by T. J. Reed (Angel Books, London 1986). ISBN 0-946162-58-1
- Germany. A Winter’s Tale in: Hal Draper: The Complete Poems of Heinrich Heine. A Modern English Version (Suhrkamp/Insel Publishers Boston Inc. 1982). ISBN 3-518-03062-0
German Editions
- Heinrich Heine. Historico-critical complete edition of the Works. Edited by Manfred Windfuhr. Vol. 4: Atta Troll. Ein Sommernachtstraum / Deutschland. Ein Wintermärchen. Revised by Winfried Woesler. (Hoffmann und Campe, Hamburg 1985).
- H. H. Deutschland. Ein Wintermärchen. Edited by Joseph Kiermeier-Debre. (Deutscher Taschenbuch Verlag, Munich 1997.) (Bibliothek der Erstausgaben.) ISBN 3-423-02632-4
- H. H. Deutschland. Ein Wintermärchen. Edited by Werner Bellmann. Revised Edition. (Reclam, Stuttgart 2001.) ISBN 3-15-002253-3
- H. H. Deutschland. Ein Wintermärchen. Edited by Werner Bellmann. Illustrations by Hans Traxler.(Reclam, Stuttgart 2005.) ISBN 3-15-010589-7 (Paperback: Reclam, Stuttgart 2011, ISBN 978-3-15-020236-4)
Research literature, Commentaries (German)
- Werner Bellmann: Heinrich Heine. Deutschland. Ein Wintermärchen. Illustrations and Documents. Revised Edition. (Reclam, Stuttgart 2005.) ISBN 3-15-008150-5
- Karlheinz Fingerhut: Heinrich Heine: Deutschland. Ein Wintermärchen. (Diesterweg, Frankfurt am Main 1992). (Grundlagen und Gedanken zum Verständnis erzählender Literatur) ISBN 3-425-06167-4
- Jost Hermand: Heines Wintermärchen – On the subject of the ‘deutsche Misere’. In: Diskussion Deutsch 8 (1977) Heft 35. p 234-249.
- Joseph A. Kruse: Ein neues Lied vom Glück? (A new song of happiness?) Heinrich Heines Deutschland. Ein Wintermärchen. In: J. A. K.: Heine-Zeit. (Stuttgart/München 1997) p 238-255.
- Renate Stauf: Heinrich Heine. Deutschland. Ein Wintermärchen. In: Renate Stauf/Cord Berghahn (Editors): Weltliteratur II. Eine Braunschweiger Vorlesung. (Bielefeld 2005). p 269-284.
- Jürgen Walter: Deutschland. Ein Wintermärchen. In: Heinrich Heine. Epoche — Werk — Wirkung. Edited by Jürgen Brummack. (Beck, München 1980). p 238-254.
External links[edit]
- German text at German Wikisource [1]
- German text at Project Gutenberg [2]
First edition, published in 1844
Germany. A Winter’s Tale (German: Deutschland. Ein Wintermärchen) is a satirical epic poem by the German writer Heinrich Heine (1797–1856), describing the thoughts of a journey from Paris to Hamburg the author made in winter 1843. The title refers to Shakespeare’s Winter’s Tale, similar to his poem Atta Troll: Ein Sommernachtstraum («Atta Troll: A Midsummer Night’s Dream»), written 1841–46.
This poem was immediately censored in most of Germany, but ironically it became one of the reasons for Heine’s growing fame.[1]
Original publication[edit]
From the onset of the (Metternich) Restoration in Germany, Heine was no longer secure from the censorship, and in 1831 he finally migrated to France as an exile. In 1835 a decree of the German Federal Convention banned his writings together with the publications of the Young Germany literary group.
At the end of 1843 Heine went back to Germany for a few weeks to visit his mother and his publisher Julius Campe in Hamburg. On the return journey the first draft of Deutschland. Ein Wintermärchen took shape. The verse epic appeared in 1844 published by Hoffmann and Campe, Hamburg. According to the censorship regulations of the 1819 Carlsbad Decrees, manuscripts of more than twenty folios did not fall under the scrutiny of the censor. Therefore, Deutschland. Ein Wintermärchen was published together with other poems in a volume called ‘New Poems’. However, on 4 October 1844 the book was banned and the stock confiscated in Prussia. On 12 December 1844, King Frederick William IV issued a warrant of arrest against Heine. In the period following the work was repeatedly banned by the censorship authorities. In other parts of Germany it was certainly issued in the form of a separate publication, also published by Hoffmann and Campe, but Heine had to shorten and rewrite it.
Ironically, censorship of Heine’s works, particularly of the Winter Tale, became a major reason for Heine’s raising fame.[1]
Contents[edit]
The opening of the poem is the first journey of Heinrich Heine to Germany since his emigration to France in 1831. However it is to be understood that this is an imaginary journey, not the actual journey which Heine made but a literary tour through various provinces of Germany for the purposes of his commentary. The ‘I’ of the narrative is therefore the instrument of the poet’s creative imagination.
Wintermärchen and Winterreise
Heinrich Heine was a master of the natural style of lyrics on the theme of love, like those in the ‘Lyrisches Intermezzo’ of 1822-1823 in Das Buch der Lieder (1827) which were set by Robert Schumann in his Dichterliebe. A few of his poems had been set by Franz Schubert, not least for the great posthumously-collected series of songs known as the Schwanengesang. In such works Heine assumed the manner of Wilhelm Müller, whose son Professor Max Müller later emphasized[2] the fundamentally musical nature of these poems and the absolute congruity of Schubert’s settings of them, which are fully composed duos for voice and piano rather than merely ‘accompaniments’ to tunes. Yet Heine’s work addressed political preoccupations with a barbed and contemporary voice, whereas Müller’s melancholy lyricism and nature-scenery explored more private (if equally universal) human experience. Schubert’s Heine settings hardly portray the poet-philosopher’s full identity.
Schubert was dead by 1828: Heine’s choice of the winter journey theme certainly alludes to the Winterreise, Müller’s cycle of poems about lost love, which in Schubert’s song-cycle of the same name became an immortal work embodying some more final and tragic statement about the human condition. Winterreise is about the exile of the human heart, and its bitter and gloomy self-reconciliation. Deutschland. Ein Wintermärchen transfers the theme to the international European political scene, his exile as a writer from his own homeland (where his heart is), and his Heimatssehnsucht or longing for the homeland. Thus Heine casts his secret and ‘illegal thoughts’, so that the darts of his satire and humour fly out from the tragic vortex of his own exile. The fact that Heine’s poetry was itself so closely identified with Schubert was part of his armoury of ‘fire and weapons’ mentioned in the closing stanzas: he transformed Müller’s lament into a lament for Germany.
In Section III, full of euphoria he sets foot again on German soil, with only ‘shirts, trousers and pocket handkerchiefs’ in his luggage, but in his head ‘a twittering birds’-nest/ of books liable to be confiscated’. In Aachen Heine first comes in contact again with the Prussian military:
These people are still the same wooden types,
Spout pedantic commonplaces —
All motions right-angled — and priggishness
Is frozen upon their faces.
Unfinished Cologne Cathedral in 1856, the year of Heine’s death.
In Section IV on the winter-journey to Cologne he mocks the anachronistic German society, that more readily with archaic skills builds the Cologne Cathedral, unfinished since the Middle Ages, than addressing itself to the Present Age. That the anachronistic building works came to be discontinued in the course of the Reformation indicated for the poet a positive advance: the overcoming of traditional ways of thought and the end of spiritual juvenility or adolescence.
In Section V he comes to the Rhine, as ‘the German Rhine’ and ‘Father Rhine’, icon and memorial of German identity. The River-god however shows himself as a sorrowful old man, disgusted with the babble about Germanic identity. He does not long to go back among the French who, according to Heine, now drink beer and read ‘Fichte’ and Kant.
Section VI introduces the ‘Liktor’, the poet’s demon and ghostly doppelganger, always present, who follows him about carrying a hatchet under his cloak, waiting for a sign to execute the poet’s judicial sentences. The stanzas express Heine’s conviction that an idea once thought can never be lost. He confronts the shadowy figure, and is told:
In Rome an ax was carried before
A consul, may I remind you.
You too have your lictor, but nowadays
The ax is carried behind you.
I am your lictor: in the rear
You always hear the clink of
The headsman’s ax that follows you.
I am the deed you think of.
In Section VII the Execution begins in dream. Followed by his ‘silent attendant’ the poet wanders through Cologne. He marks the doorposts with his heart’s blood, and this gives the Liktor the signal for a death-sentence. At last he reaches the Cathedral with the Three Kings Shrine, and “smashes up the poor skeletons of Superstition.’
In Section VIII he travels further on to Hagen and Mülheim, places which bring to mind his former enthusiasm for Napoleon Bonaparte. His transformation of Europe had called awake in Heine the hope for universal freedom. However: the Emperor is dead. Heine had been an eye-witness in Paris of his burial in 1840 at Les Invalides.
Section IX brings culinary reminiscences of ‘homely Sauerkraut’ seasoned with satirical pointedness: Section X, Greetings to Westphalia.
In Section XI he travels through the Teutoburg Forest and fantasizes about it, what might have happened, if Hermann of the Cherusci had not vanquished the Romans: Roman culture would have permeated the spiritual life of Germany, and in place of the ‘Three Dozen Fathers of the Provinces’ should have been now at least one proper Nero. The Section is – in disguise – also an attack on the Culture-politics of the ‘Romantic on the Throne,’ Friedrich Wilhelm IV.; then pretty well all the significant individuals in this outfit (for example Raumer, Hengstenberg, Birch-Pfeiffer, Schelling, Maßmann, Cornelius) lived in Berlin.
Section XII contains the poet’s address on the theme: ‘Howling with the wolves,’ as the carriage breaks down in the forest at night, and he responds as the denizens of the forest serenade him. This Heine offers as a metaphoric statement of the critical distance occupied by himself as polemic or satirical poet, and of the sheepskin-costume appropriate for much of what was surrounding him.
I am no sheep, I am no dog,
No Councillor, and no shellfish –
I have remained a wolf, my heart
And all my fangs are wolfish.
Section XIII takes the traveller to Paderborn. In the morning mist a crucifix appears. The ‘poor jewish cousin’ had even less good fortune than Heine, since the kindly Censor had at least held back from having him crucified – until now, at any rate …
In Section XIV and Section XV the poet betakes himself in a dream to another memorable place: he visits Friedrich Barbarossa in Kyffhäuser. Not surprisingly the mythic German Emperor presents himself as a man become imbecile through senility, who is above all proud of the fact that his banner has not yet been eaten by moths. Germany in internal need? Pressing need of business for an available Emperor? Wake up, old man, and take your beard off the table! What does the most ancient hero mean by it?
He who comes not today, tomorrow surely comes,
But slowly doth the oak awaken,
And ‘he who goes softly goes well*’, so runs
The proverb in the Roman kingdom.
(*chi va piano va sano, Italian)
Section XVI brings the Emperor to the most recent state of affairs: between the Middle Ages and Modern Times, between Barbarossa and today stands and functions the guillotine. Emperors have worn out their usefulness, and seen in that light Monarchs are also superfluous. Stay up the mountain, Old Man! Best of all, the nobility, along with that ‘gartered knighthood of gothic madness and modern lie,’ should stay there too with you in Kyffhäuser (Section XVII). Sword or noose would do equally good service for the disposal of these superfluous toadies.
Dealings with the police remain unpleasant in Minden, followed by the obligatory nightmare and dream of revenge (Section XVIII).
In Section XIX he visits the house where his grandfather was born in Bückeburg:
At Bückeburg I went up into the town,
To view the old fortress, the Stammburg,
The place where my grandfather was born;
My grandmother came from Hamburg.
From there he went on to a meeting with King Ernest Augustus of Hanover in that place, who, «accustomed to life in Great Britain» detains him for a deadly length of time. The section refers above all to the violation of the constitution by Ernst August in the year 1837, who was opposed by the seven Göttingen professors.
Finally, in Section XX, he is at the limit of his journey: In Hamburg he goes in to visit his mother. She, equally, is in control of her responsibilities:
- 1. Are you hungry?
- 2. Have you got a wife?
- 3. Where would you rather live, here with me or in France?
- 4. Do you always talk about politics?
Section XXI and XXII shows the poet in Hamburg in search of people he knows, and memories, and in Section XXIII he sings the praises of the publisher Campe. Section XXIV describes a meeting with the genius loci of Hamburg, Hammonia. A solemn promise of the greatest secrecy must be made in Old Testament fashion, in which he places his hand under the thigh of the Goddess (she blushes slightly – having been drinking rum!). Then the Goddess promises to show her visitor the future Germany. Universal expectation. Then the Censor makes a cut at the critical place. Disappointment. (Section XXV and XXVI)
With Section XXVII the Winter’s Tale ends:
The Youth soon buds, who understands
The poet’s pride and grandeur
And in his heart he warms himself,
At his soul’s sunny splendour.
In the final stanzas Heine places himself in the tradition of Aristophanes and Dante and speaks directly to the King of Prussia:
Then do not harm your living bards,
For they have fire and arms
More frightful than Jove’s thunderbolt:
Through them the Poet forms.
With a warning to the King, of eternal damnation, the epic closes.
A critic for love of the Fatherland[edit]
Deutschland. Ein Wintermärchen shows Heine’s world of images and his folk-song-like poetic diction in a compact gathering, with cutting, ironic criticisms of the circumstances in his homeland. Heine puts his social vision into contrast with the grim ‘November-picture’ of the reactionary homeland which presented itself to his eyes:
A new song, a better song,
O friends, I speak to thee!
Here upon Earth we shall full soon
A heavenly realm decree.
Joyful we on earth shall be
And we shall starve no more;
The rotten belly shall not feed
On the fruits of industry.
Above all Heine criticized German militarism and reactionary chauvinism (i.e. nationalism), especially in contrast to the French, whose revolution he understood as a breaking-off into freedom. He admired Napoleon (uncritically) as the man who achieved the Revolution and made freedom a reality. He did not see himself as an enemy of Germany, but rather as a critic out of love for the Fatherland:
Plant the black, red, gold banner at the summit of the German idea, make it the standard of free mankind, and I will shed my dear heart’s blood for it. Rest assured, I love the Fatherland just as much as you do.
(from the Foreword).
The ‘Winter’s Tale’ today[edit]
Heine’s verse-epic was much debated in Germany right down to our own times. Above all in the century to which it belonged, the work was labelled as the ‘shameful writing’ of a homeless or country-less man, a ‘betrayer of the Fatherland’, a detractor and a slanderer. This way of looking at Deutschland. Ein Wintermärchen was carried, especially in the period of Nazism, into a ridiculous antisemitic caricature. Immediately after World War II a cheap edition of the poem with Heine’s Foreword and an introduction by Wolfgang Goetz was published by the Wedding-Verlag in Berlin in 1946.
Modern times see in Heine’s work – rather, the basis of a wider concern with nationalism and narrow concepts of German identity, against the backdrop of European integration – a weighty political poem in the German language: sovereign in its insight and inventive wit, stark in its images, masterly in its use of language. Heine’s figure-creations (like, for example, the ‘Liktor’) are skilful, and memorably portrayed.
A great deal of the attraction which the verse-epic holds today is grounded in this, that its message is not one-dimensional, but rather brings into expression the many-sided contradictions or contrasts in Heine’s thought. The poet shows himself as a man who loves his homeland and yet can only be a guest and visitor to it. In the same way that Antaeus needed contact with the Earth, so Heine drew his skill and the fullness of his thought only through intellectual contact with the homeland.
This exemplified the visible breach which the French July Revolution of 1830 signifies for intellectual Germany: the fresh breeze of freedom suffocated in the reactionary exertions of the Metternich Restoration, the soon-downtrodden ‘Spring’ of freedom yielded to a new winter of censorship, repression, persecution and exile; the dream of a free and democratic Germany was for a whole century dismissed from the realm of possibility.
Deutschland. Ein Wintermärchen is a high-point of political poetry of the Vormärz period before the March Revolution of 1848, and in Germany is part of the official educational curriculum. The work taken for years and decades as the anti-German pamphlet of the ‘voluntary Frenchman’ Heine, today is for many people the most moving poem ever written by an emigrant.
Recently, reference to this poem has been made by director Sönke Wortmann for his football documentary on the German male national team during the 2006 FIFA world cup. The movie is entitled «Deutschland. Ein Sommermärchen». The world cup in 2006 is often mentioned as a point in time which had a significant positive impact on modern Germany, reflecting a changed understanding of national identity which has been evolving continuously over the 50 years prior to the event.
References[edit]
- ^ a b Amey, L. J. (1997-01-01). Censorship: Gabler, Mel, and Norma Gabler-President’s Commission on Obscenity and Pornography. Salem Press. p. 350. ISBN 9780893564469.
Ironically, Heine became famous because of censorship, particularly after he wrote a political cycle of poems entitled Germany. A Winter’s Tale in 1 844 that was immediately banned throughout the confederation
- ^ Franz Schubert, Sammlung der Lieder kritisch revidirt von Max Friedlaender, Vol 1., Preface by F. Max Müller (Edition Peters, Leipzig)
Sources[edit]
Translation into English
- Deutschland: A Not So Sentimental Journey by Heinrich Heine. Translated (into English) with an Introduction and Notes by T. J. Reed (Angel Books, London 1986). ISBN 0-946162-58-1
- Germany. A Winter’s Tale in: Hal Draper: The Complete Poems of Heinrich Heine. A Modern English Version (Suhrkamp/Insel Publishers Boston Inc. 1982). ISBN 3-518-03062-0
German Editions
- Heinrich Heine. Historico-critical complete edition of the Works. Edited by Manfred Windfuhr. Vol. 4: Atta Troll. Ein Sommernachtstraum / Deutschland. Ein Wintermärchen. Revised by Winfried Woesler. (Hoffmann und Campe, Hamburg 1985).
- H. H. Deutschland. Ein Wintermärchen. Edited by Joseph Kiermeier-Debre. (Deutscher Taschenbuch Verlag, Munich 1997.) (Bibliothek der Erstausgaben.) ISBN 3-423-02632-4
- H. H. Deutschland. Ein Wintermärchen. Edited by Werner Bellmann. Revised Edition. (Reclam, Stuttgart 2001.) ISBN 3-15-002253-3
- H. H. Deutschland. Ein Wintermärchen. Edited by Werner Bellmann. Illustrations by Hans Traxler.(Reclam, Stuttgart 2005.) ISBN 3-15-010589-7 (Paperback: Reclam, Stuttgart 2011, ISBN 978-3-15-020236-4)
Research literature, Commentaries (German)
- Werner Bellmann: Heinrich Heine. Deutschland. Ein Wintermärchen. Illustrations and Documents. Revised Edition. (Reclam, Stuttgart 2005.) ISBN 3-15-008150-5
- Karlheinz Fingerhut: Heinrich Heine: Deutschland. Ein Wintermärchen. (Diesterweg, Frankfurt am Main 1992). (Grundlagen und Gedanken zum Verständnis erzählender Literatur) ISBN 3-425-06167-4
- Jost Hermand: Heines Wintermärchen – On the subject of the ‘deutsche Misere’. In: Diskussion Deutsch 8 (1977) Heft 35. p 234-249.
- Joseph A. Kruse: Ein neues Lied vom Glück? (A new song of happiness?) Heinrich Heines Deutschland. Ein Wintermärchen. In: J. A. K.: Heine-Zeit. (Stuttgart/München 1997) p 238-255.
- Renate Stauf: Heinrich Heine. Deutschland. Ein Wintermärchen. In: Renate Stauf/Cord Berghahn (Editors): Weltliteratur II. Eine Braunschweiger Vorlesung. (Bielefeld 2005). p 269-284.
- Jürgen Walter: Deutschland. Ein Wintermärchen. In: Heinrich Heine. Epoche — Werk — Wirkung. Edited by Jürgen Brummack. (Beck, München 1980). p 238-254.
External links[edit]
- German text at German Wikisource [1]
- German text at Project Gutenberg [2]
I • II • III • IV • V • VI • VII • VIII • IX • X • XI • XII • XIII • XIV • XV • XVI • XVII • XVIII • XIX • XX • XXI • XXII • XXIII • XXIV • XXV • XXVI • XXVII
Германия
Зимняя сказка
Глава I
То было печальной ноябрьской порой;
Мрачнее день становился,
Рвал ветер поблёкшие листья с ветвей,
И я в дорогу пустился.
И чуть до границы доехал, в груди —
Почувствовал — застучало
Сильней, и кажется даже, в глазах
Мокренько будто бы стало.
И чуть я услышал немецкий язык,
В душе у меня ощутилось
Вдруг странное что-то: казалось, кровь
Из сердца нежно сочилась.
Малютка-артистка запела; она
И очень чувствительно пела,
И очень фальшиво, но тронуть меня
Игрой глубоко сумела.
Мне пела она про любовь, про её
Мученья, жертвы, свиданья —
Там, в выси небесной, в иной стране,
Где все исчезнут страданья.
Мне пела она о юдоли земной,
О счастьи, столь скоротечном,
О мире загробном, где дух, просветлён,
В блаженстве плавает вечном.
Мне пела она отреченья песнь,
Небесную эйапопейю;
Ребёнка-народ, чтоб унять его плач,
Давно баюкают ею.
Я знаю мелодию, знаю и текст,
И авторов знаю прекрасно;
Тайком они попивали вино,
Пить воду советуя гласно.
Нет, новую песнь, друзья, пропою
Для вас я — лучшего склада:
Устроить небесное царство здесь,
Уж здесь, на земле, нам надо.
Уж здесь, на земле, будем счастливы мы:
Про голод ни слуху, ни духу,
Того, что добыто прилежной рукой,
Не жрать ленивому брюху.
Достаточно хлеба растёт внизу,
Всем хватит милостью бога;
И миртов, и роз, красот и утех,
И сладких горошинок много.
Да, сладкий горошек, чуть лопнут стручки,
Для всякого здесь найдется;
А горнее царство пускай воробьям
И ангелам достается.
А вырастут крылья по смерти у нас, —
К вам, в горние ваши селенья,
Взлетим и вместе покушаем там
Блаженных тортов, варенья.
Да, новую песнь — прекраснее той!
С ней флейтам и скрипкам едва ли
Сравниться! Долой miserere! Звонить
По мертвым мы перестали.
Помолвлена дева Европа; ее
Ждет с богом свободы венчанье;
В объятья пали друг другу они,
Блаженствуют в первом лобзаньи.
И если венчались они без попа,
Отнюдь не ослаблен этим
Их брачный союз. Много лет жениху,
Невесте, будущим детям!
Да, новая, лучшая песня моя —
В честь брака их песнопенье!
В душе моей яркие звезды встают —
Небесное откровенье.
Восторгом диким пылают они,
Текут огневыми ручьями.
Я чую чудную силу в себе,
Я вырвал бы дубы с корнями.
Чуть стал я на землю родную, во мне
Волшебные соки струятся;
До матери вновь прикоснулся гигант,
И вновь в нем силы родятся.
Глава II
Меж тем как малютка про счастье в раю
Пускала под музыку трели,
Досмотрщики прусские мой чемодан
Внимательно осмотрели.
Всё перенюхали, рылись до дна
В рубашках и панталонах,
Искали кружев, вещей золотых,
А также книг запрещённых.
Глупцы! Чего в чемодане искать!
Ведь там ничего не найдётся.
Моя контрабанда в моей голове
Повсюду со мной везётся.
В ней тонкие кружева есть, до них
И брюссельским очень далёко:
Лишь стоит вынуть мне их, — и вас
Уколют они жестоко.
Я в ней драгоценные камни ношу,
Брильянты для дней грядущих,
Сокровища храма иных богов,
В великом Неведомом сущих.
И смею уверить, немало в ней
Есть также и книг схоронённых;
Моя голова — это птичье гнездо
Щебечущих книг запрещённых.
Поверьте, и в книжных шкапах сатаны
Зловреднее не бывает;
Гораздо опасней они и тех,
Что фон-Фаллерслебен слагает.
Стоявший рядом со мной пассажир
Заметил, что передо мною
Таможенный прусский союз, страну
Сковавший цепью одною.
«Таможенный прусский союз, — он сказал, —
Народности положит
Основу; раздробленым силам он
В едино слиться поможет.
Единство внешнее он принесёт,
Что мы зовём матерьяльным;
Цензура ж духовным единством снабдит —
И, значит, вполне идеальным.
Единство внутри принесёт она,
И в мыслях и в чувствах: нужно,
Чтоб родина наша единой была,
Единой внутри и наружно».
Глава III
В соборе ахенском погребен
Карл Magnus; пусть не смешает
Иной его с Карлом Майером — тем,
Что в Швабии проживает.
Я вовсе не склонен в соборе, в гробу
Лежать, как мертвец-император;
Согласен я лучше в Штуккерте жить,
Как самый плохой литератор.
На ахенских улицах скучно псам,
И молят они со смиреньем:
«Прохожий, дай нам пинка! Для нас
Послужит он развлеченьем».
Прошлялся я в этом скучном гнезде
Часок; на улице встретил
Военных прусских, и в них перемен
Особенных не заметил.
Всё серые те же плащи; воротник
Высокий и красный остался
(Сей цвет знаменует французскую кровь.
Как Кернер встарь выражался);
Всё тот же педантский, дубовый народ;
По-прежнему в каждом движеньи
Прямые углы; на каждом лице —
Застывшее самомненье.
Всё так же навытяжку ходят они
Шагами ходульно-прямыми,
Как будто тот фухтель, которым их встарь
Лупили, проглочен ими.
Да, фухтель ещё не исчез вполне,
В душе он у них пребывает,
И в дружеском «ты» старинное «он»
Сквозить ещё продолжает.
Усы — это новый лишь фазис косы
Старинного времени; косам,
Висевшим тогда на затылке, теперь
Висеть велели под носом.
Нашёл я довольно красивым костюм
Теперешний армии конной;
Шишак мне особо по вкусу — шлем
С верхушкой стальной, заострённой.
Тут рыцарством веет, и вспомнишь тут
Романтики милую пору;
Тик, Уланд, Фуке и мадам Монфокон
Являются нашему взору.
Тут вспомнишь прелести средних веков —
С ландскнехтами и пажами,
Что верность носили в своих сердцах,
А зад расшивали гербами.
Тут вспомнишь турниры, крестовый поход,
Культ женщин, богу обеты,
И веры век беспечатный, когда
Не издавались газеты.
Да, очень мне нравится этот шлем,
Он — знак остроумья на троне.
Его король изобрел. Остроты
Довольно в этом фасоне.
Я только боюсь, коль случится гроза,
В ваш мир романтики старой,
Пожалуй, притянутся тем острием
Новейших молний удары.
А вспыхнет война, — и убор головной
Полегче купить принудит:
Вам средневековый тяжёлый шлем
Помехою в бегстве будет.
На вывеске ахенской почты опять
Явилась мне птица, глубоко
Противная мне; вперила в меня
Свое ядовитое око.
Поганая птица! Ну, попадись
Мне в руки только, поверь, я
И когти хищные отрублю,
И выщиплю твои перья.
Потом у меня на высоком шесте
Ты в воздухе будешь качаться;
Я рейнских стрелков туда приглашу
В весёлой стрельбе упражняться.
Кто птицу сшибёт, тому молодцу
Корону и скиптр поднесу я;
Мы туш протрубим и «Ура, король!
Да здравствует!» — крикнем, ликуя.
Глава IV
Я к вечеру в Кёльн приехал, и тут
Услышал Рейна журчанье;
Немецкий воздух обвеял меня,
Тотчас оказав влиянье
На мой аппетит. Яичницы я
Поел с ветчиной; но соли
В ней было так много, что всё запить
Рейнвейном пришлось поневоле.
Как золото, в рюмках зелёных рейнвейн
Всё так же точно блистает;
Но если его ты не в меру хватил,
Он в нос тебе ударяет.
Щекочет сладко в носу у тебя,
С блаженством расстаться нет мочи.
И вот меня потянуло пройтись
По улицам, в сумрак ночи.
Ряд каменных зданий смотрел на меня.
Как будто хотел сказанья
Минувших веков поведать, открыть
Священного Кёльна преданья.
Здесь мир поповский в былые года
Своё благочестье правил;
Здесь было господство тех «тёмных людей»,
Которых Гуттен ославил.
Здесь в средневековом канкане монах
С монахиней изощрялись;
И Менделем кёльнским, Гохстратеном, здесь
Доносцы с ядом писались.
Здесь многое множество книг и людей
Пожары костров уносили,
Причем раздавался с церквей трезвон,
И «Кирье элейсон» гнусили.
Здесь глупость и злоба, сцепясь, как псы,
По улицам бегали блудно;
Их род, по слепой к иноверцам вражде,
Узнать доныне нетрудно.
Но что я вижу? Во мраке ночном
Встает, озарён луною,
Какой-то дьявольски чёрный колосс —
То кёльнский собор предо мною.
Бастилией духа он должен был стать
По мысли хитрого Рима:
«Зачахнет здесь немецкая мысль,
Тюрьмой гигантской теснима».
Но Лютер пришёл, и сказал своё
Великое «Стой!», — и скоро
Работу пришлось прекратить; с тех пор
Не стало больше собора.
Его незаконченность радует нас:
Нашли в ней себе оправданье
И памятник вечный — германская мощь,
И протестантства призванье.
О жалкий, глупый соборный совет!
Рукой бессильной вы мните
Достроить старую крепость, за труд
Неконченный взяться хотите!
Безумье! Пускай колокольчик в церквах
Звенит себе, сколько угодно,
Пусть вам подаянье дает еретик
И даже еврей — бесплодно!
Пусть в пользу собора великий Франц Лист
Играет, и пусть любезно
Король-декламатор читает стихи
Пред публикой, — бесполезно!
Не будет достроен кёльнский собор,
Хотя и доставлен глупцами
Из Швабии с этой целью большой
Корабль, гружёный камнями.
Не будет достроен, кричи не кричи
Вороны и филины — птица.
Которой любо, по старине,
В пыли церковной ютиться.
И даже такая придёт пора,
Что, вместо его окончанья,
В конюшню предпочтут обратить
Громаду этого зданья.
«Но если в конюшню его обратить,
То вот затрудненье какое:
Куда перенесть трёх царей, что там
В ковчеге лежат на покое?»
«Вот странный вопрос! В наше время нет
Нам нужды больше стесняться:
Не трудно трём восточным царям
В другую квартиру убраться.
Вы в Мюнстере можете их поместить —
Совет разумен, поверьте —
В трёх клетках железных, висящих там
На башне святого Ламберти.
Когда б оказалось, что нет одного
Из этого триумвирата, —
Ну, что ж! в замену восточному взять
На западе можно собрата».
Глава V
Я к рейнскому мосту, на самый вал
Пришёл, — и вот предо мною
Струит свои воды почтенный Рейн,
Светясь под мирной луною.
«Здорово, старый, почтенный Рейн!
Ну, как тебе поживалось?
Не раз я с тоской тебя вспоминал,
И сердце к тебе устремлялось!»
Сказал — и слышу в речной глубине
Сердитые, странные звуки,
Как будто бы кашель глухой старика,
Ворчанье и вздох докуки.
«Здорово, сынок! Приятно, что ты
Меня не забыл; примерно,
Тринадцать лет мы не виделись. Мне
Жилось это время прескверно.
Я в Бибрихе камни глотал, и они,
Признаться, невкусные были;
Но Никласа Беккера, друг, стихи
Желудок сильней отягчили.
Меня воспел он, как будто я
Ещё непорочная дева,
С которой никто не посмеет сорвать
Венка, страшась её гнева.
Когда мне эту глупую песнь
Услышать порой случится,
Готов я всю бороду вырвать свою,
В себе самом утопиться.
Что я не чистейшая дева — про то
Французы лучше узнали;
С моею водой они часто свои
Победные воды мешали.
Глупейшая песнь, глупейший поэт!
Меня он позорно ославил,
И политически тоже меня
В двусмысленном свете поставил:
Ведь если французы воротятся, мне
Придется краснеть от смущенья, —
Я часто у неба, в горячих слезах,
Просил об их возвращеньи.
Французов я очень любил всегда —
Такие, право, плутишки.
Что, всё ещё скачут они, поют?
Всё белые носят штанишки?
Весьма бы хотелось увидеть их,
Но только боюсь, пожалуй,
Насмешки пойдут из-за этих стихов
Проклятых, — и ради скандалу
Альфред де-Мюссе, эабияка-гамен,
Быть может, командуя ими,
Придёт барабанщиком и в меня
Ударит остротами злыми».
Так плакался бедный, почтенный Рейн,
Не мог остаться в покое.
Чтоб дух в нём поднять, в утешение я
Промолвил слово такое:
«Насмешки французов, мой славный Рейн,
Не бойся; французы былые
Исчезли, — не тот уж нынче народ;
Штаны у них тоже иные.
Штаны их не белы, а красны теперь,
Им пуговки новые дали;
Не скачут уж больше и не поют,
Задумчивы головы стали.
Они философствуют, темой бесед
Им служат Фихте и Гегель;
Охотно курят и пиво пьют,
И есть любители кегель.
Такие ж филистеры, как и мы,
Пожалуй, нас перегонят;
Меж них вольтерьянцев уж нет, они
Теперь к Генгстенбергу клонят.
Альфред де-Мюссе, это правда, гамен
По-прежнему, но напрасно
Не бойся: глумливый его язык
Сковать мы можем прекрасно.
Коль злой остротой его барабан
Ударит, мы свиснем другою,
Позлее — о том, что случалось с ним
У барынь красивых порою.
Итак, успокойся! И скверную песнь
Забудь до последнего слова.
Песнь лучшую скоро услышишь. Прощай.
С тобой увидимся снова!»
Глава VI
За Паганини повсюду ходил
Его spiritus familiaris
То в виде собаки, то в виде людском —
Поэта Георга Гаррис.
Пред важным событьем встречал Бонапарт
Фигуру красного цвета;
Свой демон был у Сократа; не бред
Людской фантазии это.
Я сам, за письменным сидя столом,
Ночною видел порою,—
Зловещий, замаскированный гость
Стоял у меня за спиною.
Он что-то скрывал под плащом, и когда
Случайно оно открывалось,
То странно блестело и топором,
Секирой смерти казалось.
Приземист и плотен он с виду был;
Глаза — как звёзды; в писаньи
Он не мешал мне и всегда
Держался на расстояньи.
Прошло много лет с той поры, как мне
Товарищ странный являлся, —
И вдруг в эту тихую лунную ночь
Он в Кёльне вновь повстречался.
Задумчиво шлялся по улицам я,
Вдруг вижу его за спиною;
Как тень — неотступен: иду — идёт;
Я стану, и он со мною.
Стоит и как будто чего-то ждёт;
Пойду умышленно скоро, —
Он тоже шаги ускоряет. И так
Пришли мы на площадь собора.
В досаде, к нему обратясь, я сказал;
«Тебя зову я к ответу:
С чего ты вздумал за мною ходить
В полночную пору эту?
Тебя я встречаю всегда в часы,
Когда мировые стремленья
Родятся в груди моей, а в мозгу
Проносятся озаренья.
В меня неподвижный и пристальный взгляд
Вперил ты. Что ты скрываешь
С таинственным блеском под плащом?
Кто ты, чего ты желаешь?»
Он сухо, почти флегматично мне
Ответил: «Брось заклинанья,
Прошу тебя очень; не к месту здесь
И громкие эти воззванья.
Отнюдь я не призрак и вовсе не встал,
Как пугало, из могилы;
Философ я слабый, и мне цветы
Риторики тоже не ми́лы.
Натурой я практик, спокоен всегда,
Молчание сохраняю;
Но знай, — что задумано в мыслях тобой,
Немедля я исполняю.
И если мне даже приходится ждать,
Ждать долго, — работе всецело
Я отдан, пока её не свершу.
Ты мыслишь, я делаю дело.
Ты — властный судья, я — немой палач;
Ты ставишь решенье, я же
Послушно исполнить спешу приговор,
Хотя б неправедный даже.
Пред консулом в Риме, бывало, несли
Секиру, порядка ради;
Ты ликтора тоже имеешь, но он
Тебя провожает сзади.
Да, знай, я — твой ликтор; везде за тобой
Хожу; в любое мгновенье
К услугам твоим мой блестящий топор;
Я — мысли твоей свершенье».
Глава VII
Пришёл я домой и уснул, точно был
Святым убаюкан духом.
В немецких постелях так сладко лежать, —
Они наполнены пухом.
Как часто в изгнаньи мечтал я с тоской
Про сладость родной перины,
Когда в бессонные ночи лежал
На жёстких матрацах чужбины.
Прекрасно спится и грезится нам
На нашей постели пуховой;
В минуты эти с немецкой души
Спадают земные оковы.
Она себя чует свободной и ввысь,
В небесные мчится селенья.
О, души немецкие! В грёзах ночных
Как горды ваши паренья!
Заслышав ваш полёт, в небесах
Дрожат бессмертные боги;
И крыльев размахом звезду за звездой
Сметаете вы с дороги.
Французам и русским подвластна земля,
Британцам море покорно,
Но в царстве воздушном мечтательных грёз
Немецкая мощь бесспорна.
Здесь в наших руках гегемония; здесь
Мы все нераздельно слились,
Не так, как другие народы, — они
На плоской земле развились.
Когда я заснул, мне привиделся сон:
По улицам древнего Кёльна,
Облитым ярким сияньем луны,
Я странствовал вновь бесцельно.
Мой чёрный таинственный спутник вновь
Со мной шёл рядом. Сгибались
Колени, отчаянно я устал,
Но мы вперёд подвигались,
Всё дальше. Сердце в груди моей
Разверстой раной зияло,
И, капля за каплею, алая кровь
Из раны этой бежала.
Порой я обмакивал пальцы в кровь
И — случаи были нередки —
На воротах домов по пути
Кровавые ставил метки.
И только что знак поставлю такой
На доме, звон погребальный
Раздастся издали, словно
Болезненный и печальный.
А в небе месяц тускнел, и тьма
Сгущалась; в дикой погоне
Зловещие тучи грядой неслись
За ним, как чёрные кони.
Мой тёмный товарищ с топором
По-прежнему шёл нераздельно
Со мной, и долго по улицам мы
Вдвоём бродили бесцельно.
Бродили, бродили — и вновь пришли
На площадь ту же; находим
В полночную пору собора дверь
Открытой настежь — и входим.
В громадном пространстве царили смерть
И ночь, и молчанье; горели
Местами лампады, как будто тьму
Чернее сделать хотели.
Я долго ходил вдоль высоких колонн,
И только шаги за спиною
Звенели: то спутник был; он и здесь
Шагал безмолвно за мною.
И вот мы в капелле восточных царей;
Свечами она пламенела
И массою драгоценных камней
И золотом ярко блестела.
Но чудо какое! Святые волхвы,
Что неподвижно лежали
Уж сколько веков, теперь на своих
Гробницах восседали.
Скелеты облёк фантастичный наряд;
Украшены гордо венцами
Их жёлтые черепы; держат скиптр
Они костяными руками.
И, как у кукол, их кости, давно
Иссохшие, шевелились,
И в воздухе запахи гнили, а с ней
И ладана проносились.
Один даже ртом шевельнул, и меня
Почтил своим объясненьем,
До крайности длинным, — за что я ему
Обязан высоким почтеньем:
Во-первых, за то, что он мёртв; во-вторых, —
Царём когда-то считался;
А в-третьих, — его признали святым…
Но я равнодушен остался.
И так, засмеявшись, ему сказал:
«Что проку в твоих разъясненьях?
Я вижу, что с прахом былых времен
Ты связан во всех отношеньях.
Ступайте отсюда! Вам место одно —
Во мраке сырой могилы;
Сокровища этой капеллы, возьмёт
Жизнь, полная власти, силы.
Грядущего конница — дайте срок —
В соборе, здесь поселится;
Не выйдете мирно, так палками вас
Заставлю в бегство пуститься».
Сказал и назад обернулся — и вдруг
Ужасное вижу сверканье
Ужасной секиры: мой спутник немой,
Поняв моё приказанье,
Приблизился с секирой своей
К былых суеверий скелетам
И начал несчастных рубить и рубить,
Рубить нещадно. Ответом
Ему отгрянуло эхо от стен,
От сводов! И вновь полился
Кровавый поток из груди моей,
И в ужасе я пробудился.
Глава VIII
До Гагена стоит из Кёльна проезд
Пять талеров прусских; достался
Билет мне в открытом возке: дилижанс
Уж занятым оказался.
Осенняя сырость; телега в грязи
Кряхтела. По скверной дороге
И скверной погоде, всему вопреки,
Я был в отрадной тревоге.
Ведь это воздух отчизны! Он жжёт
Своей живительной силой
Мне щёки, И эта дорожная грязь —
Ведь грязь моей родины милой!
Приветно кони махали хвостом,
Как будто я друг их старинный,
И мне Аталантовых яблок милей
Был круглый помёт лошадиный.
Вот Мюльгейм проехали. Город хорош,
Хорош и нрав у народа —
Прилежный, скромный. Я не был здесь
С весны тридцать первого года.
В ту пору на всём был цветочный наряд,
И птицы в ветвях щебетали,
И солнце смеялось, в игре лучей,
И люди, надеясь, мечтали —
Мечтали: «Ну, скоро уйдут теперь
И тощие рыцари наши;
Из длинных железных бутылок нальём
Питья им в прощальные чаши.
И с песнями, с пляской, с хоругвью своей
Трёхцветной свобода прибудет;
Пожалуй, что ею и Бонапарт
Из гроба к нам вызван будет!»
Ах, господи! Рыцари всё ещё здесь!
И сколько этих болванов,
Что, тощи как спички, явились к нам,
Теперь превратились в пузанов!
У бледных каналий, сиявших тогда
Надеждой, верой, любовью,
Теперь, в угощеньях нашим вином,
Носы как налиты кровью.
Свобода ногу свихнула себе,
Хромает, уж нет отваги;
На башнях парижских грустят, опустясь,
Её трёхцветные флаги.
Восстал меж тем император, но так
Задор его усмирили
Британские черви, что он допустил,
Чтоб вновь его схоронили.
Я сам погребение видел, когда
Златую везли колесницу;
На ней златые богини побед
Златую держали гробницу.
Медлительно вдоль Елисейских Полей,
Под аркою Триумфальной,
Сквозь снежные хлопья и сквозь туман
Тянулся хор погребальный.
В игре музыкантов был страшный разлад, —
От стужи они коченели;
Орлы со штандартов на меня
С печалью немой глядели.
Толпой привидений казался народ,
Ушедший в память былого;
Пред ним императорский сказочный сон
Был чарами вызван снова.
Я плакал в то утро печальное. Взор
Невольно слезой омрачился,
Когда предо мною забытый крик:
«Vive l’Empereur!» прокатился.
Глава IX
Из Кёльна в осьмого три четверти мы
Уехали; к трём уже были
На Гагенской станции; здесь в этот час
Обедом нас покормили.
Тут старогерманская кухня была
В её красе настоящей.
Привет мой кислой капусте! По мне
Твой запах всех прочих слаще.
Каштаны в зелёном салате! Ел
У матушки их я когда-то.
Привет и треске родимой! Умно
Ты плаваешь в масле!.. О, свято
Вовек остается для нежных сердец
Отечество!.. Да, признаться,
Люблю я и яйца и мелких сельдей,
Когда хорошо прокоптятся.
Как радостны в брызжущем жире своём
Сосиски! Смирно лежали,
Как ангелы, жареные дрозды
В компоте, и щебетали:
«Здорово, земляк! Давно тебя
Не видели мы! За границей
Ты проживал, и компанию там
Водил с нездешнею птицей».
Меж яств и гусыня была — существо
Чувствительной, кроткой породы.
Кто знает? Быть может, она меня
Любила в былые годы?
Смотрела она на меня тепло
И преданно, и уныло;
Душа в ней, наверно, нежна, мягка,
Но тело прежёстким было.
Свиную голову затем
Нам подали тоже на блюде;
Доселе рыла свиные у нас
Венчают лаврами люди.
Глава X
Сейчас же за Гагеном стало темно;
Я странный озноб всю дорогу
До Унны в кишках ощущал; лишь там,
В трактире, согрелся немного.
Здесь пуншу стакан получил я из рук
Приветливой юной красотки;
Как шёлк золотой — её кудри; глаза,
Как отблеск месяца, кротки.
Её шепелявый вестфальский акцент
С восторгом слушал опять я,
И память о прошлом в парах пуншевых
Воскресла: милые братья,
Я вспомнил вас, вестфальцы мои,
И Гёттинген, где напивались
Мы с вами и, нежно в объятьях сплетясь,
Под стол потом опускались.
Да, милых и добрых вестфальцев всегда
Любил я; такой это верный,
Надёжный и крёпкий народ, без следа
Бахвальства, лжи лицемерной.
Как славно, со львиной душой своей,
Стояли они на мензуре!
В их терцах и квартах блюлись
Согласно честной натуре.
Прекрасно фехтуют, прекрасно пьют;
Когда поцелуем их губы
Скрепляют дружбу, то плачут они —
Чувстительно-нежные дубы!
Пусть небо хранит тебя, славный народ,
И счастье тебе посылает,
От славы излишней, от войн тебя,
От всяких геройств спасает.
Сынам твоим пусть помогает оно
Сдавать успешно экзамен;
А дочек прилично и мило ведёт
К венцу желанному. — Amen!
Глава XI
Вот лес Тевтобургский; описан он
У Тацита; вот перед нами
Болото славное, то, где Вар
Завяз со своими полками.
Здесь Германа дланью он был сражён,
Херусского славного князя.
Победа немецкой народности здесь
Одержана, в этой гря́зи.
Когда бы с ордой белокурой своей
Не выиграл Герман сраженья,
Конец бы немецкой свободе, и нам
Под Римом быть, без сомненья.
Нам римские нравы и римский язык
Давно бы были привиты;
Весталки и в Мюнхене бы нашлись,
И швабы звались бы «квириты».
Гаруспексом Генгстенберг стал бы — в кишках
Бычачьих искать ответов;
Неандер бы авгуром стал — от птиц,
В полёте их, ждать советов.
Бирх-Пфейфер пила бы скипидар.
Подобно римлянкам знатным,
(У них, говорят, от того моча
Особо была ароматной).
И не был бы Paумep немецкая дрянь,
Он стал бы — римский Дрянаций,
Без рифм писал бы стихи Фрейлиграт,
Как некогда Флакк Гораций.
Грубьян-попрошайка, папаша Ян,
Звался б теперь Грубиянус;
Me Hercule! Масман беседы б вел
Латынью — Марк Туллий Масманус.
Поборники правды дрались бы лишь
С гиенами, тиграми, львами.
Сражаться бы им не пришлось теперь
В ничтожных журналах с псами;
На место трёх дюжин владык одного
Нерона имели б народы;
Себе мы бы резали жилы на зло
Презренным врагам свободы.
Haш Шеллинг, вторым Сенекою став,
Под этим пал бы конфликтом;
Корнелиус мог бы услышать от нас:
«Cacatum non est pictum».
Но Герман противника победил,
И изгнаны им иноземцы:
Вар пал со своими полками, и мы
По-прежнему, к счастью, немцы.
Мы — немцы, как прежде; опять говорим
Мы по-немецки; куда бы
Ни двинулись, Esel — названье осла,
Не asinus; швабы — швабы.
И Раумер, как прежде, немецкая дрянь,
Украшен орденским знаком;
Всё рифмами пишет стихи Фрейлиграт,
Не стал Горацием Флакком.
И Масман латынью речей не ведёт,
Бирх-Пфейфер творит лишь драмы,
Не пьёт скипидара дрянного она,
Как римские светские дамы.
О Герман, тебе мы обязаны всем!
Народ благодарным остался
И в Детмольде памятник ставим тебе, —
Я сам на днях подписался.
Глава XII
Ползёт наша бричка в лесной темноте.
Вдруг треск подо мной. Отлетело,
Сломавшись, у нас колесо. Стоим,
Совсем незабавное дело!
Слезает почтарь и в деревню спешит;
А я, одинокий, остался
Средь леса, в полночную пору. Вдруг
Отчаянный вой раздался.
То волки голодную глотку свою,
Сойдясь в кружок, разевают;
В ночной темноте огневые глаза,
Как свечи, горят и сверкают.
Наверно, узнав о приезде моём,
Почётный приём захотели
Устроить мне — осветили лес
И хором привет запели.
Да, ясно я вижу теперь: это мне
Устроили серенаду.
Я стал в позитуру и произнёс
С растроганным видом тираду:
«Товарищи волки! Я счастлив себя
Сегодня видеть в собраньи
Сердец благородных, от коих ко мне
С любовью летит завыванье.
Что в эту минуту чувствуя я,
Не выразить словом, конечно;
Прекраснейший этот час для меня
Останется памятным вечно.
Примите мою благодарность за то
Доверие, коим почтили
Меня и с которым вы мне не раз
Во дни невзгоды служили.
Товарищи волки! Из вас не один,
Во мне усомнясь, не попался
На удочку плутов, кричавших, что я
На сторону псов передался;
Что стал я отступником и вступлю
Гофратом в стадо овечье;
Считал унизительным я для себя
Оспаривать это злоречье.
Хоть шубой овечьей себя порой
В холодные дни я грею,
Но верьте, что счастье овец никогда
Мечтой не бывало моею.
Да, я не овца, не треска, не гофрат,
Не пёс, — мне волки лишь любы;
Я волком остался, как был, у меня
Всё волчье — сердце и зубы!
Я — волк и по-волчьи вою всегда;
Здесь каждый рассчитывать может
И впредь на меня; помогайте себе
Вы сами, — и бог вам поможет».
Такую-то речь я им произнёс,
Совсем не готовившись; эти
Слова, исказив их, Кольб поместил
Потом во «Всеобщей Газете».
Глава XIII
Вот Падерборн. Солнце сегодня взошло
С досадливым выраженьем,
Ведь занято скучной работой оно —
Дурацкой земли освещеньем.
Осветит одну половину её,
Полёт направит в другую,
А первая тою порою, глядь,
Во тьму погрузилась ночную.
Не может управиться с камнем Сизиф,
Данаевы дочери даром
Льют воду в бочку, и солнце вотще
Горит над земным нашим шаром!
Туман разошёлся, и алой зари
Лучи предо мной осветили
У края дорожного образ того,
Кого ко кресту пригвоздили.
Твой образ всегда мне внушает страх,
Несчастный мой прародитель,
Глупец, желавший мир искупить,
Человечества ты спаситель!
Плохую шутку люди с тобой,
Сыграли в своем коварстве!
Зачем без оглядки ты им говорил
О церкви, о государстве.
К несчастью, ещё не знаком был твой век
С печатным станком чудесным;
Наверное, книгу бы ты написал
По всем вопросам небесным.
Чтоб ею не был уколот никто,
В ней сделал бы цензор изъятья;
Любовно спасла бы цензура тебя
От крестного распятья.
Ах, если б нагорную проповедь ты,
Построил в словах пристойных!
С изрядным талантом твоим и умом
Ты мог бы щадить достойных.
Менял и даже банкиров бичом
Из храма ты гнал в ослепленьи —
Несчастный мечтатель! Теперь ты висишь,
Как предостереженье.
Глава XIV
По голой равнине при ветре сыром
В грязи плетёмся уныло.
Но в сердце моем звучит и поёт:
«Ты, солнце, каратель-светило!»
Так старая песня кончалась, — её
Мне нянька часто певала,
«Ты, солнце, каратель-светило!» — как зов
Лесного рожка звучало.
Та песня поёт об убийце; он жил
В довольстве, в весельи блестящем;
Но вот, наконец, был найден в лесу
На иве плакучей висящим.
И к дереву смертный его приговор
Гвоздём прибит был: свершило
Судилище фэмы свой мстительный суд —
Ты, солнце, каратель-светило!
Убийца был солнцем к суду привлечён,
Оно обвинить побудило;
Оттилия крикнула в смертный час:
«О солнце, каратель-светило!»
Чуть вспомню ту песню, — и няню свою
Старушку я вспоминаю:
Все складки, морщины на смуглом лице
Так живо себе представляю!
В деревне вестфальской родившись, она
Имела запас превосходный
Преданий, сказок, волшебных легенд
И песен в манере народной.
С каким я биением сердца внимал
Рассказу про королевну
Что, косы плетя золотые, в степи
Сидела одна ежедневно.
Гусей сторожила в степи она;
Когда ж вечерком загоняла
Их в город обратно, всегда у ворот
В глубокой скорби стояла.
Прибита была к ним коня голова, —
Она королевне знакома!
Ах, конь этот бедный её принес
В чужбину из отчего дома.
Вздыхает до слёз королевская дочь:
«О Фалада, ты повешен!»
И голова отвечает с ворот:
«Я за тебя безутешен!»
Вздыхает до слёз королевская дочь
«Когда бы мать это знала!»
И голова отвечает с ворот:
«Ей сердце б весть разорвала!»
Не смея дохнуть, я старухе внимал,
Когда, уж в тоне серьёзном,
О Ротбарте речь заводила она,
Об императоре грозном.
Она уверяла, что он не мёртв,
Как думает мир наш ученый:
Он жив и скрывается только в горе,
Дружиною окружённый.
Кифгейзер — гора та зовётся; внутри
Пещера; высоко аркады
Возносятся в залах, и там горят
Таинственным светом лампады.
И первая зала — конюшня; туда
Войди, — увидишь стоящих
У ясель тысячи тысяч коней
В серебряных сбруях блестящих.
Оседланы, взнузданы кони, но
Недвижны; не слышно ржанья
И стука копыт, точно здесь стоят
Чугунные изваянья.
А в зале второй на соломе лежат
Тысячами солдаты;
Воинственно грозны лица — народ
Здоровый и бородатый.
С оружьем, в броне с головы до ног
Вся армия; да, но тоже
Лежат храбрецы недвижно; сковал
Их сон непробудный на ложе.
Вдоль третьей залы громадный склад
Различных видов оружья —
Тут шлемы, секиры, брони, мечи
И старофранкские ружья.
Немного здесь собрано пушек, но их
Трофей построить достало,
И знамя воздвигнуто в высоте
Над ним, чёрно-золото-ало.
В четвёртой — сам император. Сидит
На каменном стуле, рукою
Могучей о каменный стол опершись,
С опущенной головою.
Сидит он много веков; борода,
Как пламя красна, достигает
Уже до земли; то глазом моргнет,
То брови мрачно сдвигает.
Он спит иль думает думу? Решить
Нельзя; но пусть лишь настанет
Желанный, давно ожидаемый час, —
И он могуче воспрянет.
Он схватит доброе знамя, и крик:
«Встать! на коня!» — пронесётся
По залам высоким: заслышав зов,
Вся конница вмиг проснется.
И вскочит, оружьем стуча, на коней,
Топочущих, ржущих ретиво;
Труба гремит, и в мир боевой
Помчались всадники живо.
Все выспались вдоволь, и бьются все
Отлично, ездят отлично;
Убийц покарать император решил
И судит их самолично;
Убийц, чьё коварство в былые дни
Германию осквернило —
Чистейшую деву в кудрях золотых…
О солнце, каратель-светило!
Пусть, в замках укрывшись, считают себя
В покое наглые трусы, —
От мстительной петли они не уйдут,
От гневной руки Барбаруссы!
Чудесные сказки старушки моей
Звучат так отрадно, мило!
И суеверное сердце поёт:
О солнце, каратель-светило!
Глава XV
Холодный, как лёд, как игла, колюч,
Льёт дождь; по грязной дороге
Лошадки, печально хвостом шевеля,
Усталые тянут ноги.
Почтарь на козлах трубит в свой рожок,
Я эту песенку знаю:
«Три всадника едут рядком из ворот!»
Я в смутные грёзы впадаю.
Клонила дремота меня, — я заснул,
И сон затем мне приснился,
Что я с императором Ротбартом вдруг
В его горе очутился.
На каменном стуле, на каменный стол
Склонившись, уж не сидел он,
И важного вида, в каком представлять
Привыкли его, не имел он.
По залам он спокойно гулял,
Болтал со мной откровенно,
И, как антикварий, показывал всё,
Что редкостно и что ценно.
В палате с оружьем он мне объяснил,
Как должен быть в дело пускаем
Бердыш; и ржавчину с древних мечей
Стирал своим горностаем.
Метёлкой из перьев павлиньих затем
От пыли чистил булаты,
Доспехи различного рода — щиты,
Забрала, шлемы и латы.
Смёл пыль со знамени он и сказал:
«Вот чем горжусь наиболе,
Что нет до сих пор червоточин в древке,
И шёлк не попорчен от моли».
Когда же в залу мы с ним перешли,
Где тысячи воинов, к бою
Готовых, лежали и спали, старик
Сказал, довольный собою:
«Здесь тише бы нам говорить и ходить,
Чтоб не проснулись солдаты;
Столетье опять истекло, и как раз
Сегодня выдача платы».
И вот он тихо приблизился к ним
И каждому — вижу — солдату
Украдкой, чтоб сон не нарушить его,
В карман кладёт по дукату.
Увидев, что я удивлён, он сказал:
«На каждого человека
Положен за службу дукат; я его
Плачу в последний день века».
При этом старик ухмылялся. А там,
Где кони безмолвные рядом
Стояли недвижно, он руки потёр
С особо радостным взглядом.
И стал лошадей поштучно считать
И хлопать по крупам руками;
Считал и считал, причем шевелил
Тревожно и быстро губами.
«Нет, всё ещё, вижу, неполон комплект, —
Сердясь, старик, замечает, —
Солдат и оружья достаточно мне,
А вот коней не хватает.
Скупать наилучших коней я давно
Своих ремонтёров отправил
По целому свету — и к прежним коням
Немало новых прибавил.
Жду только комплекта — тогда, на врага
Ударив, добуду свободу
Отчизне и ждущему с верой меня
Так долго уже народу».
Так мне говорил император, — а я:
«Ударь, старина почтенный,
Ударь, — коль не хватит коней у тебя,
Возьми ослов для замены».
Но Ротбарт с улыбкою возразил:
«Нет нужды нам торопиться;
Ведь Рим не в один же построен день,
И медленно дело спорится.
Что нынче не вышло, то завтра придёт;
Дуб крепнет не спешно, но рьяно;
И в Римской империи говорят:
Chi va piano, va sano».
Глава XVI
Толчок экипажа меня разбудил;
Но снова веки упали.
И скоро опять я заснул, и опять
Мне Ротбарт снился. Гуляли,
Как прежде, по залам пустынным мы,
Болтая; про то и про это
Расспрашивал он и желал узнать
Все новости нашего света,
Оттуда десятки уж целые лет
Старик не имел никакого
Известья, — почти с Семилетней войны
Хотя б единое слово!
«Что делает Каршин? Моисей Мендельсон? —
Расспрашивал он с интересом. —
Людовик Пятнадцатый как с Дюбарри —
Своей графиней-метрессой?»
«О, как, — я вскричал, — ты отстал, государь!
Моисея давно схоронили
С супругой Ревеккой, и сына их
Абрама косточки сгнили.
От брака Абрама и Лии рождён
Сын Феликс, мальчик проворный.
Ему в христианстве весьма повезло,
Он капельмейстер придворный.
И старая Каршин уж умерла,
И дочь её Кленке скончалась;
В живых, говорят, только внучка её,
Гельмина Чези, осталась.
Пока был Людовик Пятнадцатый жив,
Жилось Дюбарри превосходно;
На старости лет гильотинным ножом
Казнили её всенародно.
Людовик Пятнадцатый умер в своей
Постели мирной кончиной;
Шестнадцатый с супругою был
Публично казнён гильотиной.
На казнь королева бесстрашно пошла,
Как сану её подобало;
Когда ж Дюбарри на помост вели,
Кричала она и рыдала».
Тут император, как вкопанный, стал,
С весьма испуганной миной,
И говорит: «Бога ради, скажи,
Что значит: казнить гильотиной?»
«Казнить гильотиною… — я сказал, —
Новейшая это метода,
Которой в гроб отправляют людей
Всех званий, всякого рода.
При этой методе пускается в ход
Новейшая машина:
Её изобрёл господин Гильотэн,
Названье ей — гильотина.
Ремнями к доске ты привязан; её
Опустят; ты вдвинут в продольный
Проход меж бревен высоких; вверху
Висит топор треугольный.
Потянут за шнур, — и топор с высоты
Вниз живо, весело мчится;
При этом случае голова
В мешок под доской катится».
Но тут император меня перебил:
«Молчи! Об этой машине
И знать не хочу! Сохрани меня бог
Дать ход такой гильотине!
Король с королевой! Ремнями! К доске
Привязаны! Слыхано ль это?
Ведь тут нарушают почтенья закон,
Ведь гибель тут этикета!
Да ты-то кто такой, чтоб ко мне
Так смело на ты обращаться?
Постой, я до дерзостных крыльев твоих
Сумею скоро добраться.
Всю желчь твоя речь подымает во мне. —
Так страшно она дерзновенна!
Твоё уж дыханье преступно: оно
Отчизне, трону измена!»
Когда на меня раздражённый старик
Накинулся с бешеным шумом,
Я тоже вскипел, дав волю своим
Заветным чувствам и думам.
«Гер Ротбарт! — воскликнул я громко, — ты дух
Из сказок; ступай ложиться
И мирно усни, а уж мы без тебя
Свободы можем добиться.
Республики партия нас осмеёт,
Начнет колоть остротами,
Увидев, что призрак со скиптром в руках,
С короною, правит нами.
Не любо мне больше и знамя твоё;
Немецкое глупое рвенье
К цветам чёрно-красно-златому в меня
Уж буршем внесло отвращенье.
Всего бы лучше тебе навсегда
В Кифгейзере старом остаться;
Да нам вообще император теперь
Не нужен больше, признаться».
Глава XVII
Во сне с королём поссорился я —
Во сне, разумеется: въяве
Так грубо с монархами говорить
Считаем себя мы не в праве.
Во сне, в идеальных лишь грёзах своих,
Мы, немцы, князьям дерзаем
Немецкие чувства высказывать те,
Что в сердце таим, скрываем.
Проснувшись, себя я увидел в лесу.
Вид этих дерев и прозы,
Реально нагой, деревянной, тотчас
Рассеял прежние грёзы.
Вершинами качали дубы,
В киваньи берёз осужденье
Читал я — и крикнул: «Монарх дорогой,
Прости моё дерзновенье!
Прости, о Ротбарт, горячность мою!
Я знаю, ты много мудрее
Меня — я теряю терпенье легко.
Приди, император, скорее!
Коли гильотина не нравится, ты
Останься при старом: дворянству —
По-прежнему меч, а верёвку с петлей —
Мещанам, купцам, крестьянству.
Порой лишь меняй методу: повесь
Двух-трёх дворянского званья,
А граждан простых и крестьян обезглавь, —
Мы все господни созданья.
Вновь суд уголовный, суд плахи введи.
Что создал с немалым успехом
Карл Пятый, и снова народ раздели
По гильдиям, классам, цехам.
Священной империи римской опять
Дай жизнь и силу былую;
Верни, со всей обстановкой смешной,
Народу ветошь гнилую.
Да, средневековый порядок, какой
Действительно был в своё время,
Снесу я охотно; сними лишь с нас
Уродства двойного бремя —
Штиблетного рыцарства нашего, той
Противной смеси, где либо
Готический бред, либо новая ложь,
Где люди — ни мясо, ни рыба.
Гони комедьянтов, закрой балаган,
Конец положи затее —
Дела старины пародировать нам.
Приди, о Ротбарт, скорее!»
Глава XVIII
Мы в крепости Миндене. Славные в ней
Орудья и укрепленья;
Но с прусскою крепостью дело иметь
Не чувствую я влеченья.
Приехали под вечер мы, и когда
Подъёмный мост проезжали,
Зловеще стонал он под нами, а рвы,
Как тёмные пасти, зияли.
И ряд бастионов смотрел с высоты
С угрозой такой, сурово;
Большие ворота, железом звеня,
Раскрылись и заперлись снова.
И стало мрачно в душе у меня,
Как некогда было с душою
Улисса, когда завалил Полифем
Пещеры выход скалою.
Но вот к экипажу капрал подошёл.
«Как имя?» — спросил. Отвечаю:
«Никто — моё имя; я врач глазной
И бельма гигантам снимаю».
В гостинице стало ещё тяжелей,
Противно кушанье было:
В постель я тотчас же улёгся, но спать
Не мог, — одеяло давило.
Лежал я в пуховой постели; с боков —
По красной камчатной гардине,
Истёртый вверху золотой балдахин,
И грязная кисть посредине.
Проклятая кисть! Не давала всю ночь
Она минуты покою,
С угрозой, как меч Дамоклов, вися
Как раз над моей головою.
Порой головою змеиной она
Казалась; я слышал шипенье:
«Ты в крепости здесь и останешься в ней,
В пожизненном заточеньи».
«О, если б возможно мне было теперь, —
Вздыхал я с тоской унылой: —
Быть дома, в Париже, в Faubourg Poissoniere.
Сидеть с женой моей милой!»
Я чувствовал также — на лбу у меня
Как будто что-то черкали;
Мне чудился цензор с холодной рукой, —
И мысли вспять убегали.
Жандармы, укутавшись в саваны сплошь,
Как призраков белых собранье,
Постель окружили, и слышал я
Зловещей цепи бряцанье.
Ах, призраки схватили меня,
Куда-то с собой забрали, —
И вот на крутом я утёсе; к нему
Цепями меня приковали.
Опять балдахинная гадкая кисть
Висит надо мной! Теперь я
По виду за коршуна принял её —
И когти и чёрные перья.
В ней сходство увидел я с прусским орлом;
Меня схватил он когтями,
Стал печень из груди клевать, — и я
Стонал, обливался слезами.
И долго стонал я, — но крикнул петух,
И бред ночной прекратился,
Я в Миндене в потной постели лежал,
И коршун в кисть превратился.
Я с экстра-почтою поспешил
И только средь вольной природы
Вздохнул на земле Бюкебургской вновь
С отрадным чувством свободы.
Глава XIX
Ошибся ты, Дантон! — и за то,
Что было мнение ложно,
Потом поплатился! Отчизну унесть
С собой на подошвах можно.
Чуть-чуть что не княжество всё Бюкебург
К моим сапогам прилепилось;
По грязным дорогам таким ходить
Мне в жизни впервой случилось.
Я в город пошёл; на родное гнездо
Хотел взглянуть мимоходом;
Здесь дедушка мой появился на свет,
А бабка — из Гамбурга родом.
В Ганновер приехал я днём: с сапог
Дал счистить грязь; поспешаю
Осматривать город; поездки свои
Я с пользою совершаю.
Какая же, господи, чистота!
На улицах грязи не видно,
Роскошные зданья стоят кругом,
Всё так величаво, солидно.
Особенно площадь понравилась мне:
В прекрасных домах вся местность;
Живёт тут король, тут его дворец —
Красивая очень внешность
(Дворцовая, то есть). И у дверей
Две будки; с ружьями стражи
И в красных мундирах; они глядят
Свирепо и дико даже!
«Здесь, — объяснил чичероне, — живёт
Эрнст Аугустус, старый мужчина
Дворянского званья, тори и лорд,
Для лет своих молодчина.
Он идиллически здесь живёт;
Надёжней когорт железных
Его охраняет трусливый нрав
Сограждан наших любезных.
Мы видимся с ним; от него всегда
Я жалобы слышу о доле
Скучнейшей, ему присужденной судьбой, —
В Ганновере быть на престоле.
Он к жизни великобританской привык,
И здесь ему тесно, и гложет
Несчастного сплин; за него я боюсь —
С тоски повеситься может.
Я утром, третьего дня, застал
Его у камина сидевшим.
Он сам готовил клистир своим
Собакам заболевшим».
Глава XX
Из Гарбурга в Гамбург проехал я в час.
Был вечер. Дышала природа
Прохладой и негой, и звёзды мне
Кивали с небосвода.
Я к матушке поспешил; она
Почти испугалась сначала
От радости. «Ах, сынок дорогой! —
Всплеснув руками, вскричала. —
Дитя дорогое! Тринадцать лет
С тобой мы не виделись, знаешь;
Наверное, голоден ты, скажи,
Чего ты скушать желаешь?
Есть рыба, есть также жареный гусь
И сочные апельсины».
«Прекрасно, и рыбу, и гуся давай,
И сочные апельсины».
Я ел с аппетитом. У матушки вид
Был бодрый такой, счастливый.
Расспрашивать стала о том, о сём,
Иной был вопрос щекотливый.
«Хорош на чужбине уход за тобой?
Супруга твоя, сыночек,
Хозяйство ведёт умело? Чинит
Изъяны носков, сорочек?»
«Мамашенька, рыба твоя хороша,
Но надо есть осторожно;
Давай помолчим, — я боюсь костей;
Легко подавиться можно».
Покончил я с доброю рыбой, и гусь
Был подан. Матушка стала
Вопросы различные вновь задавать —
Меж них щекотливых немало.
«Где лучше живётся, мой милый? У нас?
Во Франции? Как твоё мненье?
Какому из двух народов, скажи,
Ты склонен отдать предпочтенье?»
«Немецкие гуси весьма хороши.
Мамашенька милая; всё же
Французы лучше шпигуют гyceй,
Вкусней подливки их тоже».
Откланялся тоже и гусь. За ним
Ко мне с заявленьем почтенья
Пришли апельсины; их сладость была
Достойная удивленья.
А матушка продолжала свои
Расспросы о сотнях предметов
С большим удовольствием; было меж них
Немало скользких сюжетов.
«Какого ты образа мыслей теперь?
Политикой продолжаешь,
Сынок, увлекаться? Какую своей
Ты партию нынче считаешь?»
«Мамашенька милая, очень вкусны
Твои апельсины; глотаю
С большим удовольствием сладкий их сок,
А корки всегда бросаю».
Глава XXI
Полгорода выжег пожар, но его
Тотчас отстраивать стали;
Как полуобстриженный пудель стоит
Мой Гамбург, в тихой печали.
Из улиц старинных уж многих найти
С прискорбием не могу я.
Где дом, где впервые узнал я любовь
И радости поцелуя?
Где та типография, где в печать
Мои «Reisebilder» сдавались?
Где погреб, в котором я устриц глотал,
Едва они появлялись?
А Дрекваль? Где Дрекваль? Напрасно его
Найти я старался. Не стало
Того павильона, где я съедал
Пирожных уйму, бывало.
Не стало и ратуши, где сенат
И бюргерство царили.
Огня добыча! Его языки
Святыню не пощадили!
От ужаса здесь до сих пор везде
Вздыхают; и в слёзной печали
Историю страшную мне они
Про бывший пожар рассказали.
«Вдруг разом со всех загорелось концов,
Всё скрылось под дымом и блеском
Пожарного пламени. Башни церквей
Пылали, падали с треском.
И старая биржа сгорела, куда
Уж столько веков непреложно
Шли наши отцы и вели дела
Так честно, как только можно.
Но банка, серебряной здешней души,
Не тронул огонь; сохранились
У нас, слава богу, те книги, куда
Расчёты наши вносились.
Для нас в самых дальних краях пошла
Подписка, и, слава богу,
Миллионов восемь — чем не гешефт! —
Собрали мы понемногу.
Раздачей пособий совет управлял —
Вполне христиане, лица
Из самых почтенных; и шуйца у них
Не знала, что брала десница.
В открытые руки к нам деньги текли
Из всех государств; нам слали
Съестные припасы, и мы и их
Признательно принимали.
Наслали нам вдоволь постелей, одежд
И мясо, хлеб, и бульоны;
А прусский король собирался прислать
К нам даже свои батальоны.
Ущерб материальный покрылся вполне,
Мы это ценим сердечно;
Но наш перепуг, перепуг — никогда
Не будет оплачен, конечно!» —
«Вам, милые люди, — я их ободрял,—
Стонать и плакать — не дело,
Ведь Троя был город получше, чем ваш,
А тоже она сгорела.
Постройте снова свои дома,
На улицах грязь осушите;
Пожарный обоз свой и с ним заодно
Законы свои обновите.
Не сыпьте в свой черепаховый суп
Кайенского перцу чрезмерно;
И карпов не нужно так жирно варить, —
От них заболеешь наверно.
Индейки вред принесут небольшой,
Но бойтесь беды несомненной
От птицы коварнейшей, снесшей яйцо
В парик бургомистра почтенный.
Назвать эту птицу фатальную вам,
Я полагаю, не надо.
Чуть вспомню о ней, повернётся в моём
Желудке пища с досады».
Глава XXII
Хоть город и изменился, но в нём
Народ изменился едва ли
Не больше. Подобье ходячих руин,
Все бродят в немой печали.
Худые ещё худощавей теперь,
А толстые растолстели;
Ребята — уже старики; старики
В ребячество впасть успели.
Из тех, что телятами были при мне,
Я многих застал быками;
Немало тоже смиренных гусят
Надменными стали гусями.
Я встретил старую Гудель; она
Накрашена, как сирена;
Фальшивые чёрные кудри у ней,
И зубы — белая пeнa.
Всех лучше успел сохраниться мой друг
Торговец бумагой; грива
Его пожелтела, и Иоанн
Креститель с ним схож надиво.
Я *** издали видел; шмыгнул
Он мимо, будто взволнован.
Я слышал, что ум погоревший его
У Бибера был застрахован.
Увидел и цензора я своего:
На рынке гусином со мною
Он встретился — одряхлевший такой,
С печалью согбенной спиною.
Мы руку друг другу пожали; в глазах
У старца блеснула слезинка;
Как счастлив он был, увидев меня!
Всех тронула б эта картинка.
Не всех, однако, найти привелось, —
Похитила многих могила;
Ах, даже с моим Гумпелино судьба
Мне встретиться не судила.
Недавно великий свой дух испустил
Навеки сей муж благородный;
У трона Иеговы, как серафим,
Парит он ныне, свободный.
И нет Адониса кривого, его
Напрасно искал я всюду;
На улицах он продавал фарфор —
Горшки, ночную посуду.
В живых ли маленький Мейер ещё, —
Совсем неизвестно мне это;
Досадно очень, что справиться я
О нём забыл у Корнета.
Скончался и преданный пудель Саррас.
Готов о заклад я биться,
Что Кампе приятней бы вместо него
Десятка поэтов лишиться.
С древнейших времен население здесь —
Евреи и христиане.
У первых с последними общее есть —
Придерживать грош в кармане.
Народ христиане не дурной:
Они обедают славно,
И платят всегда по своим векселям
В канун последний исправно.
Евреи делятся здесь опять
На партии: новая — богу
Молиться стекается в храм; старики
Идут, как встарь, в синагогу.
У новой — протесты: считают они
Свинину законным блюдом,
И — демократы; а те больны
Аристократическим зудом.
Люблю я и тех и других; но клянусь
Тобою, о праведный боже,
Что некая рыбка — названьем шпрот
Копчёный — мне их дороже!
Глава XXIII
Сравнить, как республику, Гамбург нельзя
С Венециею бесспорно,
Но в Гамбурге устрицы лучше; их сорт
У Лоренца — самый отборный.
Прекрасным вечером туда
Зашёл я с Кампе в компаньи;
Хотелось устриц поесть и свершить
Рейнвейна возлиянье.
Нашёл я милое общество там
И радостно принял в объятья
Старинных друзей, например Шофпье;
Тут были и новые братья.
Тут встретил я Вилле; лицо у него,
Ей богу, альбом настоящий,
Где академические враги
Вписались рукой разящей.
И Фуке был тут — язычник слепой.
Противник личный Иеговы;
Лишь в Гегеля верует он да ещё,
Чуть-чуть, в Венеру Кановы.
Хозяйничал Кампе; он раздавал,
Весьма довольный, поклоны,
Улыбки, и блаженством сиял,
Как взор пресветлой Мадонны.
С большим аппетитом я ел и пил,
В душе помышляя при этом:
«Действительно, Кампе великий муж,
Он стал издателей цветом.
Другой бы издатель мне дал пропасть
От голода бессердечно,
А этот, добрейший, меня поит;
Его не покину вечно!
Хвалу я тебе воздаю, творец,
Сей сок виноградный создавший
И Юлия Кампе с небесных высот
В издатели мне пославший.
Хвалу я тебе воздаю, творец,
Жизнь давший своим всемогущим
„Да будет!“ рейнвейну на твёрдой земле
И устрицам, в море сущим.
При этом ещё ты лимон создал,
Чтоб устрица им кропилась;
Дай, отче, теперь, чтоб сегодня во мне
Вся пища переварилась!»
Рейнвейн размягчает меня всегда,
Смиряет мой дух мятежный
И в нём зажигает огонь любви —
Любви к человечеству нежной.
Из комнат на улицу тянет меня —
Всю ночь прошляться: в объятья
Там ловишь душу чужую; следишь,
Мелькнет ли белое платье.
В такие часы расплываюсь весь,
И сердце томится кротко,
Все кошки кажутся серыми, и
Еленами — все красотки.
Гуляя, я в улицу Дребан зашёл
И вижу в лунном мерцаньи
Жену величавую пред собой, —
С высокой грудью созданье.
Лицо было кругло, здоровьем цвело,
Глаза с бирюзою схожи,
Ланиты — две розы, рот — вишня, нос
Слегка с краснотою тоже.
Главу покрывал полотняный колпак,
Весь белый, хитро скроённый —
Зубчатые стены и башенки, схож
По виду с стенной короной.
Края её туники белой до икр —
И что за икры! — спускались,
А самые ноги мне парой колонн
Дорических показались.
Лицо незнакомки носило в себе
Обычных свойств выраженье;
Но сверхчеловеческий зад её
Вещал о высшем рожденьи.
Ко мне подошла и сказала она:
«Привет на Эльбе! Скитался
Тринадцать ты лет, и вижу, таким,
Как прежде, и днесь остался.
Быть может, ты ищешь прекрасных душ,
С какими в прежние годы
Так часто всю ночь проводил в мечтах
Средь этой дивной природы?
Их всех поглотила чудовище-жизнь,
Стоглавая гидра. Былого
И милых твоих современниц, увы,
Тебе не найти уж снова.
Тебе не найти дорогих цветов,
Которым юной душою
Ты нёс поклоненье; увяли они,
Развеяны бурей злою.
Увяли, иссохли, пятой судьбы
Растоптаны жестоко…
Мой друг, уж таков неизменный удел
Всего, что чисто, высоко».
«Кто ты? — я вскричал, — на меня ты глядишь,
Как старой поры виденье!
Великая! Где ты живёшь? Получу ль
Тебя проводить дозволенье?»
С улыбкой она: «Ошибаешься ты,
Меня такою считая;
Я лучшего тона особа, вполне
Прилична, морально чиста я.
Нет, я не мамзель какая-нибудь,
Лоретка лёгкого веса.
Узнай: богиня Гаммония я
И Гамбурга патронесса.
Смутился ты, испуган, певец
С такой бесстрашной душою!
Что, всё-таки хочешь меня проводить?
Ну, следуй сейчас за мною!»
И с хохотом громким я ей отвечал:
«Идём! За тобой я смело
Последую всюду, хотя бы в ад
Меня ты свести хотела!»
Глава XXIV
Как узкою лестничкой я наверх
Попал, сказать не умею;
Быть может незримые духи меня
Внесли, незримо, за нею.
Здесь, в спальне Гаммонии, быстро часы
Прошли для меня; призналась
Богиня, что в ней неизменно ко мне
Симпатия сохранялась.
«Ты знаешь, — сказала она, — для меня,
Бывало, не было в мире
Певца драгоценней того, кто воспел
Мессию на скромной лире.
Вон там, на комоде, ты видишь, стоит
Клошптока бюст по сю пору;
Но я уж давно обратила его
В болван головному убору.
Любимец мой — ты; изголовье моё
Лишь твой портрет украшает,
И рамку лица дорогого всегда
Зелёный лавр обвивает.
Порою, однако, — признаться должна, —
Меня оскорблял ты больно,
Так зло над моими сынами глумясь;
Оставь их ныне, довольно!
Надеюсь, что время тебя от таких
Бесчинств теперь излечило
И больше терпимости даже к глупцам
В душе твоей поселило.
Скажи мне, однако, как вздумал ты
Во время столь позднее года
Поехать на север? Ведь скоро здесь
Уж зимняя станет погода».
Богиня! — ответил я ей: — на дне
Души человека таятся,
Сном скованы, мысли, и часто они
Не вовремя пробудятся.
Наружно мне недурно жилось.
Внутри же всё с большей силой
Тревога росла, и я занемог
Тоской по родине милой.
И воздух французский, столь лёгкий всегда,
Давить меня стал; всё яснее
Я чувствовал, — чтоб не задохнуться, мне
В Германию надо скорее.
Я запаха жаждал болот торфяных,
Родного табачного дыма;
Дрожала нога, нетерпеньем попрать
Немецкую землю томима.
Вздыхал по ночам я, душою летел
Туда, к „Плотинным Воротам“,
Где милая старушка живёт,
И в близком соседстве — Лотта.
Вздыхал и о славном моём старике,
Который меня беспрестанно
Журил, но зато и добрым моим
Защитником был постоянно.
Из уст его — „глупого мальчика“ мне
Услышать хотелось снова;
Бывало, звучали в душе у меня,
Как музыка, эти два слова.
Манили меня и немецкий дымок,
Струёю синей летящий,
И нижнесаксонских соловушек трель
В таинственной буковой чаще.
Стремился я душою в места
Страданий прошлых, готовый
Вновь чувство изведать, с каким тогда
Нёс крест и венец терновый.
Вновь плакать хотел я, где плакал встарь
Слезами горчайшими в жизни.
Мне кажется, глупая эта тоска
И есть ведь любовь к отчизне.
О ней я не очень люблю говорить,
По-моему, чувство это —
Болезнь, и не больше; я раны свои
Таю стыдливо от света.
Гадка мне та сволочь, что, с целью будить
В сердцах умиленья порывы,
Свой патриотизм напоказ несёт
И вместе — его нарывы.
Бесстыдные нищие, грязная дрянь!
У всякого просит подать ей
На грош популярности, ради Христа,
Для Менцеля с швабской братьей.
Богиня, ты видишь, сегодня я
Настроен как-то слезливо;
Я болен немного, но полечусь,
Здоровье вернётся живо.
Да, я нездоров, и ты помочь
Могла бы сердцу больному
Хорошею чашкою чаю, в неё
Подбавив немного рому».
Глава XXV
Богиня мне подала чаю, туда
Прибавив рому; сама же
Пить ром принялась, не разбавив его
И капелькой чаю даже.
К плечу моему прислонилась она
Своей головой (чем короне
У колпака причинила изъян),
И в кротком сказала тоне:
«Со страхом я думала часто о том,
Что ты один и далеко,
Средь этих фривольных французов живёшь,
В Париже, в гнезде порока.
По улицам бродишь, и нет близ тебя
Издателя-немца при этом,
Который, как ментор, тебе бы служил
Охраной, добрым советом.
А там искушениям нет числа,
На каждом шагу встречаешь
Сильфид нездоровых, и очень легко
Покой душевный теряешь.
Не езди обратно, останься у нас!
Царят здесь добрые нравы,
Цветут и в вашей тоже среде
Невинные игры, забавы.
Останься в Германии; всё ты найдешь
Здесь лучше, чем в прежнее время;
Прогресс ты, конечно, заметил сам:
Вперёд ушло наше племя.
Цензура тоже совсем не строга,
Стал Гофман мягче под старость,
Твои «Reisebilder» не будет впредь
Черкать его юная ярость.
И сам ты стал старше и мягче теперь,
Со многим начнешь мириться,
И прошлое даже должно тебе
В ином уж свете явиться.
Есть крайность в том мненьи, что шли дела
Так скверно в нашей отчизне;
От рабства, как некогда в Риме, спастись
Мог каждый, лишив себя жизни.
Свободою мысли народ обладал,
И в массах её поощряли;
Стесненье терпели немногие — те,
Кто книги печатать желали.
У нас никогда не царил произвол,
Закон соблюдался строго,
Чиновной кокарды лишить лишь суд
Мог даже врага-демагога.
Да, слишком скверно у нас не жилось,
Хоть годы тяжкие были:
Голодною смертью ещё никого
В немецкой тюрьме не убили.
В прошедшем Германии нашей есть
Немало прекрасных явлений
Незлобья и веры; теперь настал
Черёд отрицаний, сомнений.
Дух внешней, житейской свободы убьёт
Тот идеал, что носили
Мы в сердце своем искони, — идеал
Чистейший, как грёзы лилий.
Прекрасной поэзии гаснет огонь,
Пылавший ярко когда-то;
В числе князей остальных умрёт
И „Чёрный князь“ Фрейлиграта.
Внук будет кушать и пить, но уже
Не в благостном созерцаньи,
Как предок; готовится шумный спектакль;
Идиллии рухнет зданье.
О, будь ты способен к молчанью, печать
Я с книги судеб сорвала бы,
Грядущее в моих зеркалах
Волшебных узреть дала бы.
Да, то, что всегда я от смертных людей
Скрывала, тебе б я явила:
В грядущем близком отчизну твою.
Но — ах! — ты молчать не в силах!»
«Богиня? — в восторге я закричал, —
Мне даст наслажденье картина
Грядущей Германии! О, покажи!
Молчать я могу, я мужчина!
Какой бы ты клятвой молчанья меня
Связать ни хотела, любую
Я с полной охотою принесу.
Итак, назначай — какую?»
Она отвечала: «Клянись мне так,
Как некогда клясться заставил
Отец Авраам Эльязара, когда
В дорогу его отправил.
Подняв одеянье моё, положив
Ко мне под стегно свою руку,
Клянись ни в речах, ни в писаньях впредь
Не дать прорваться ни звуку!»
Торжественный миг! Точно древность меня
Дыханьем объяла ныне,
Когда по обычаю праотцов я
Дал клятву свою богине.
Подняв одежду её, положил
Я к ней под стегно свою руку
И клялся в речах и писаньях впредь
Не дать прорваться на звуку.
Глава XXVI
Румянцем пылало богини лицо
(Быть может, от рома к короне
Прихлынула кровь), и сказала она
В до крайности грустном тоне:
«Стара становлюсь я: в тот самый день,
Как Гамбург, я свет увидала;
Царицею рыбьей была моя мать,
И в устьи здесь проживала.
Отец мой был славный, великий монарх;
Carolus Magnus он звался.
Сам Фридрих Великий, пруссаков король,
С ним мощью, умом не сравнялся.
Тот стул, на котором венчанье приял
Он в Ахене, там и остался;
А стул, на котором он ночью сидел
Жене в наследство достался.
А матушка мне завещала его.
Он с виду невзрачен, но верьте —
Пусть Ротшильд все деньги свои мне даст,
Я с ним не расстанусь до смерти.
Вот, видишь старое кресло в углу,
Ободрана кожа со спинки,
А в мягкой подушке сиденья его
Моль выела волосинки.
Но ты подойди, подыми на нём
Подушку — и пред тобою
Отверстие круглое будет; котёл
Увидишь ты под дырою.
Волшебные силы в волшебном котле
Кипят; и, если ты вложишь
В отверстие голову, явственно в нём
Узреть грядущее можешь.
Увидишь Германии будущность; там
Вся бродит она, как фантазмы;
Но ты не пугайся, когда из котла
Начнут вздыматься миазмы!»
Улыбкою странной окончила речь
Богиня; я не смутился
И в страшную дыру головой
Пытливою опустился.
Что в ней я увидел, сказать не могу,
Молчать я клялся. Мне тоже
Позволено лишь чуть-чуть намекнуть,
Чего нанюхался… Боже!
Теперь ещё гадко, как вспомнится мне
Гнуснейший пролог — испаренье.
Казалось, это — кожи сырой
И старой капусты смешенье.
Когда же вослед за прологом бить
Пары настоящие стали,
Подумал я, боже! что здесь тридцать шесть
Навозных куч очищали.
Я знаю прекрасно — когда-то Сен-Жюст
Сказал в Комитете Спасенья,
Что в мускусе с розовым маслом нет
От недуга исцеленья.
Но эта грядущей Германии вонь
Превысила всё, что дотоле
Мой нос себе представлял. Наконец,
Не в силах сносить уж боле,
Лишился я чувств. А когда глаза
Открыл, то рядом со мною
Сидела богиня, и я припадал
К широкой груди головою.
Сверкал её взор, пылали уста,
Дрожали ноздри; горела
Вакхически вся и, поэта обняв,
В экстазе диком запела:
«Есть в Тулэ король; из сокровищ своих
Всех выше, ценнее считает
Он кубок один; хлебнёт из него, —
Тотчас сознанье теряет.
Идеями, трудно понятными нам,
Его наполняется разум;
В такие минуты упрятать тебя
Он может своим указом.
Не езди на север; не дайся тому,
Кто в Тулэ сидит на престоле,
Его полицейским, жандармам его
И исторической школе.
Останься со мною, тебя я люблю,
Мы пить здесь в Гамбурге будем
И устриц живой современности есть,
О тёмном грядущем забудем.
Закрой его крышкой, чтоб наших утех
Отныне вонь не мрачила;
Тебя я люблю, как поэта у нас
Ещё ни одна не любила.
Тебя я целую и чувствую, как
Вселяет в меня вдохновенье
Твой гений; чудесное душу мою
Овеяло опьяненье.
Я словно на улице, песня на ней
Ночных сторожей раздается.
О милый мой спутник в блаженстве моём,
То песнь Гименея поётся!
Вот едет служителей конных отряд;
Их факелы ярко пылают.
И факельный танец танцуют они,
Кружатся, скачут, играют.
Высокопочтенный и мудрый сенат.
Старейшины с ним для встречи;
Меж них бургомистр; откашлялся он,
Готовясь к приветственной речи.
Идут и посольства при дворе
В блестящем облаченьи,
И сдержанно от соседних держав
Приносят нам поздравленье.
Духовная депутация; в ней
Пасторы, раввины… боже! —
Я вижу и Гофмана в этой толпе,
С ним ножницы цензора тоже!
Они зазвенели в руках дикаря,
Он с ними к тебе устремился
И в самое мясо вонзил их вдруг, —
Ты лучшего места лишился!»
Глава XXVII
Что этой диковинной ночью потом
Ещё свершилось, об этом
Впоследствии я расскажу, когда
Теплей у нас будет, летом.
Притворщиков поколенье пошло
На убыль у нас, слава богу;
Болезнь лицемерия его
Сведёт во гроб понемногу.
И новый род народился; в нём
Грехов и лжи не найду я;
Свободная воля, свободная мысль!
Ему-то всё и скажу я.
Цветёт уж юность; оценит она
И честь и нежность поэта
И будет приветливо сердцем его,
Как солнцем жарким, согрета.
Как солнце, вселюбяще сердце моё,
Поспорит с огнём чистотою;
Настроили Грации лиру мою
Своей прекрасной рукою;
Та самая это лира, друзья,
На коей отец блаженный
Пел в годы минувшие — Аристофан,
Любимец Камен неизменный.
Та самая лира, на коей воспел
Он некогда Пайстетероса,
Который, вступив с Базилеей в брак,
В мир облачный с ней унёсся.
В последней главе я слегка подражал
Концу его «Птиц» — сочиненья,
Которое лучше всех прочих пьес
Отца моего, без сомненья.
Весьма хороши и «Лягушки». Их
Теперь решили поставить
На сцене в Берлине, чтоб короля
Потешить и позабавить.
Король их любит. В нём развит вкус
К античному. А, бывало
Отца его пенье новейших квакуш
Сильней подчас забавляло.
Король их любит. Однако ж, будь
В живых их автор поныне,
Ему б не советовал я — самому
Теперь явиться в Берлине.
Наверное очень бы плохо пришлось
Живому Аристофану;
Бедняге устроили бы у нас
Из хоров жандармских охрану.
Чернь, вместо вилянья хвостами, могла б
Ругать его, с дозволенья.
Полиции было бы велено взять
Певца под своё наблюденье.
Король! я желаю тебе добра,
Послушай благого совета:
Чти, сколько угодно, умерших певцов —
Живого не тронь поэта!
Живого поэта страшись оскорблять!
В руках его пламя и стрелы
Ужасней Зевеса громов, что создал
Его же вымысел смелый.
Ты волен, коль хочешь, весь мир оскорблять —
И древних носителей света
В полях олимпийских, и Иегову,
Но только не трогай поэта!
Я знаю, что боги казнят за грехи
Нещадно племя людское,
Что пламя в аду горячо весьма, —
Там нас превращают в жаркое.
Но есть и святые, — из ада они
Молитвами нас выводят;
Дары по церквам, панихиды порой,
Ходатаев в небе находят.
В день судный придёт, наконец, Христос,
Он ада врата одолеет,
Хоть будет строг его суд, — ускользнуть
Молодчиков много успеет.
Но есть другие геенны, из них
Уже невозможно спасенье;
Бесплодны молитвы, бессильно помочь
Спасителя всепрощенье.
О Дантовом «Аде», терцинах его
Ужасных слышал, быть может?
Тому, кто поэтом туда заточён,
Тому и бог не поможет.
От этих поющих огней не даст
Спаситель сам избавленья…
Смотри, чтоб нам не обречь тебя
На этого ада мученья!
Осень-зима 1843 г. Лирический герой поэта покидает весёлый Париж и любимую жену для того, чтобы совершить кратковременную поездку в родную Германию, по которой очень соскучился, и навестить старую больную мать, которую не видел уже тринадцать лет.
Вступил он на родную землю хмурой ноябрьской порой и невольно прослезился. Он услышал родную немецкую речь. Маленькая девочка с арфой пела заунывную песню о скорбной земной жизни и райском блаженстве. Поэт же предлагает завести новую радостную песню о рае на земле, который вскоре настанет, потому что на всех хватит хлеба и сладкого зелёного горошка и ещё любви. Эту радостную песнь он напевает оттого, что его жилы напоил живительный сок родной земли.
Малютка продолжала распевать фальшивым голосом сердечную песенку, а тем временем таможенники копались в чемоданах поэта, ища там запрещённую литературу. Но тщетно. Всю запрещённую литературу он предпочитает перевозить у себя в мозгу. Приедет — тогда напишет. Перехитрил таможенников.
Первый город, который он посетил, был Аахен, где в древнем соборе покоится прах Карла Великого. На улицах этого города царят сплин и хандра. Поэт встретил прусских военных и нашёл, что за тринадцать лет они нисколько не изменились — тупые и вымуштрованные манекены. На почте он увидел знакомый герб с ненавистным орлом. Почему-то ему не нравится орёл.
Поздно вечером поэт добрался до Кёльна. Там он съел омлет с ветчиной. Запил его рейнвейном. После этого пошёл бродить по ночному Кёльну. Он считает, что это город гнусных святош, попов, которые сгноили в темницах и сожгли на кострах цвет немецкой нации. Но дело спас Лютер, который не позволил достроить отвратительный Кёльнский собор, а вместо этого ввёл в Германии протестантизм. А потом поэт побеседовал с Рейном.
После этого он вернулся домой и уснул, как дитя в колыбели. Во Франции он частенько мечтал поспать именно в Германии, потому что лишь родные немецкие постели такие мягкие, уютные, пушистые. В них одинаково хорошо мечтать и спать. Он полагает, что немцам, в отличие от алчных французов, русских и англичан, свойственна мечтательность и наивность.
Наутро герой отправился из Кёльна в Гаген. Поэт не попал в дилижанс, и поэтому пришлось воспользоваться почтовой каретой. В Гаген приехали около трёх часов, и поэт сразу начал есть. Он съел свежий салат, каштаны в капустных листах с подливкой, треску в масле, копчёную селёдку, яйца, жирный творог, колбасу в жиру, дроздов, гусыню и поросёнка.
Но стоило ему выехать из Гагена, как поэт сразу же проголодался. Тут шустрая вестфальская девочка поднесла ему чашку с дымящимся пуншем. Он вспомнил вестфальские пиры, свою молодость и то, как часто оказывался в конце праздника под столом, где и проводил остаток ночи.
Тем временем карета въехала в Тевтобургский лес, где херусский князь Герман в 9 году до н. э. расправился с римлянами. А если бы он этого не сделал, в Германии были бы насаждены латинские нравы. Мюнхен имел бы своих весталок, швабы назывались бы квиритами, а Бирх-Пфейфер, модная актриса, пила бы скипидар, подобно знатным римлянкам, у которых от этого был очень приятный запах мочи. Поэт очень рад, что Герман победил римлян и всего этого не произошло.
В лесу карета сломалась. Почтарь поспешил в село за подмогой, а поэт остался один в ночи, и его окружили волки. Они выли. Утром карету починили, и она уныло поползла дальше. В сумерки прибыли в Минден — грозную крепость. Там поэт почувствовал себя очень неуютно. Капрал учинил ему допрос, а внутри крепости поэту все казалось, что он в заточении. В гостинице ему даже кусок за обедом в горло не полез. Так он и лёг спать голодный. Всю ночь его преследовали кошмары. Наутро он с облегчением выбрался из крепости и отправился в дальнейшую дорогу.
Днём он прибыл в Ганновер, пообедал и пошёл осматривать достопримечательности. Город оказался очень чистеньким и прилизанным. Там имеется дворец. В нем живёт король. По вечерам он готовит клистир своей престарелой собаке.
В сумерках поэт прибыл в Гамбург. Пришёл к себе домой. Двери ему открыла мать и просияла от счастья. Она стала кормить своего сыночка рыбой, гусем и апельсинами и задавать ему щекотливые вопросы о жене, Франции и политике. Поэт на все отвечал уклончиво.
За год до этого Гамбург пережил большой пожар и теперь отстраивался. В нем не стало многих улиц. Не стало дома, в котором, в частности, поэт впервые поцеловал девушку. Не стало типографии, в которой он печатал свои первые произведения. Не стало ни ратуши, ни сената, ни биржи, зато уцелел банк. Да и многие люди тоже умерли.
Поэт отправился с издателем Кампе в погребок Лоренца, чтобы отведать отменных устриц и выпить рейнвейна. Кампе — очень хороший, по мнению поэта, издатель, потому что редкий издатель угощает своего автора устрицами и рейнвейном. В погребке поэт напился и пошёл гулять по улицам. Там он увидел красивую женщину с красным носом. Она его приветствовала, а он спросил её, кто она и почему его знает. Она ответила, что она — Гаммония, богиня-покровительница города Гамбурга. Но он ей не поверил и отправился вслед за ней в её мансарду. Там они долго вели приятную беседу, богиня приготовила поэту чай с ромом. Он же, подняв богине юбку и положив руку на её чресла, поклялся быть скромным и в слове и в печати. Богиня раскраснелась и понесла полную ахинею, вроде того, что цензор Гофман вскоре отрежет поэту гениталии. А потом она его обняла.
О дальнейших событиях той ночи поэт предпочитает побеседовать с читателем в приватной беседе.
Слава Богу, старые ханжи гниют и постепенно дохнут. Растёт поколение новых людей со свободным умом и душою. Поэт полагает, что молодёжь его поймёт, потому что его сердце безмерно в любви и непорочно, как пламя.
Пересказала Е. Н. Лавинская.
Источник: Все шедевры мировой литературы в кратком изложении. Сюжеты и характеры. Зарубежная литература XIX века / Ред. и сост. В. И. Новиков. — М. : Олимп : ACT, 1996. — 848 с.
- Краткие содержания
- Разные авторы
- Гейне — Германия. Зимняя сказка
Основным персонажем произведения является лирический герой, длительное время живший в другой стране, решивший после долгих лет отсутствия повидать родные места и проведать престарелую больную мать.
Выйдя из вагона поезда, мужчина слышит грустную немецкую песню маленькой девочки, которая навевает в его душе ностальгические нотки и он начинает напевать веселый мотив.
На таможенном посту герой проходит тщательную проверку багажа на предмет поиска запрещенной литературы, но он понимает, что претензии таможенников беспочвенны, так как только в его голове существуют крамольные мысли.
Первым городом на его пути домой становится Аахен, в котором возвышается древний собор с покоившимся в нем прахом Карла Великого. Однако город навевает у героя ощущения тоски и хандры. Даже вид вымуштрованного прусского военного демонстрирует застой, поскольку нисколько не изменился за долгие годы отсутствия мужчины на родине.
Вечером герой прибывает на кельнскую землю, где совершает ночную прогулку по городу, в котором в древности погибло немало представителей великой немецкой национальности. Засыпает герой, чувствуя присущую немцам наивную мечтательность.
Следующим пунктом назначения становится Гаген, где герой вкусно и сытно лакомится традиционными немецкими блюдами. Затем, воспользовавшись услугами почтовой кареты, путешествие продолжается по дороге, пролегающем через Тевтобургский лес, знаменитый битвой германского князя с представителями римлян. Карета неожиданно ломается и герою приходится заночевать в лесу в окружении волчьей стаи, воюющей всю ночь.
Наутро мужчина прибывает в следующий немецкий город, славящийся своими достопримечательностями. Герой совершает неспешную прогулку по Ганноверу, восхищаясь чистотой городка, в котором проживает престарелый король.
Наконец герой добирается до родного Гамбурга и встречается с любимой матушкой, которая счастлива видеть сына после долгой разлуки. Мужчина с интересом осматривает изменившийся после случившегося пожара город, где уже не существуют многие здания, и понимает, что жизнь не стоит на месте, а движется вперед. В осознании героя появляются мысли о рождении нового молодого поколения, характеризующегося свободой разума и души, безмерным любящим сердцем, горящим в виде пламени.
Можете использовать этот текст для читательского дневника
История создания
Поэма «Германия. Зимняя сказка» была написана в 1844 г. Это живой отклик на путешествие в Германию 46-летнего поэта. В 30-м году Гейне, уроженец Дюссельдорфа, эмигрировал в Париж в связи с Июльской революцией, которую поэт поддержал, так как она была надеждой на ослабление цензурных запретов. Гейне посетил Германию только через 13 лет, в 1843 году. Он направлялся в Гамбург, где проведал родственников. По дороге поэт проехал через несколько немецких городов, свои эмоциональные переживания и рассуждения он отразил в поэме.
Гейне начал поэму ещё в путешествии, а завершил через месяц после его окончания, в Париже. Поэма была напечатана в сборнике «Новые стихотворения» осенью 1844 г. Гейне удалось обойти цензурные запреты, издав поэму вместе со стихами, так что вся книга превысила 20 печатных листов, а такие объёмные сборники не охватывались цензурой.
Исследователи считают, что сочетание романтического и сатирического в поэме – это предчувствие поэтом революции 1848 г., так называемой «Весны народов», приведшей к пробуждению национального самосознания и большей демократизации общества. Вот этот дух времени почувствовал и передал Гейне, создав «мир в пространственном и историческом масштабе».
Литературное направление и жанр
Русские исследователи считают Гейне последним немецким романтиком и первым немецким реалистом. Немецкие исследователи Гейне вообще не считают романтиком, а реалистом, представителем бидермайера. Поэма «Германия. Зимняя сказка» сочетает реалистические тенденции и фантастические приёмы, смешивает жанры, в основе которых – политическая сатира.
От романтизма в поэме фантастические приёмы, легенды и мифы, символы и аллегории. Реализм связан с жанром политической сатиры. Поэма претендует на ту же функцию, что и в своё время поэма Данте «Божественная комедия», недаром она упоминается на последней странице.
Связующий жанр всей поэмы, популярный в эпоху романтизма, – путевые картины в стихах. Жанр произведения определяют как сатирически-лирическая поэма с вкраплением мифов и легенд. По мнению исследователя Гиривенко, ритмический рисунок «Германии» тяготеет к балладе. Также для баллады характерны героические и фантастические элементы, которых немало в поэме.
Изучение немецкого языка
Генрих Гейне… Мало найдется в литературе имен, которые вызывают столь противоречивые ассоциации, как это. Оценка творчества Гейне простирается от высочайших похвал до полного отрицания. То же самое и в отношении его личности. Несмотря на то, что его значение как поэта, как родоначальника притязательного, глубокого и острого журнализма в наши дни повсеместно признано, споры о нем не утихали до сих пор. Далеко не каждому, кто имеет отношение к литературе, импонируют его поэтические „переломы», ирония, которая проглядывает почти после каждого серьезного оборота, типично гейневская мелодика. Гейне никогда не влекло „возвышенное», и если оно у него встречается, то в сочетании с „низким». Он был поэт, который черпал вдохновение в буднях, который не признавал окончательных ценностей. И как раз это делает его творчество для многих столь замечательным.
Знаменательна уже сама биография Гейне. Родился в 1797 году в Дюссельдорфе, на Рейне, в семье торговца сукном, еврея. Поначалу пытался стать коммерсантом одного гамбургского банкирского дома, владельцем которого был его дядя — Соломон Гейне. Последний основал для племянника комиссионное дело, но неодаренному в коммерции Генриху не удалось утвердиться. Тогда дядя в течение трех лет финансировал его учебу в университете. Гейне учился на юридическом факультете Боннского, Гёттингенского и Берлинского университетов, продлив занятия еще на два года. Поскольку у него не было аттестата зрелости, ему пришлось сдавать вступительные экзамены. Выдержал он их с большим трудом. Профессора-экзаменаторы, похоже, угадали в нем гения, ибо, отметив, что он почти не знаком с греческим, латынью и математикой и, по крайней мере, „не без некоторых познаний» по истории, пришли в выводу, что его работа по немецкому языку „хотя и написана в диковинной манере, но доказывает хорошие устремления». Здесь же впервые упоминается его „весьма значительная склонность к сатире».
Проблематика, сюжет и композиция
Подзаголовок поэмы – отсылка к одноименной пьесе Шекспира. Это пьеса о любви и ревности, которая учит тому, что нельзя делать поспешные выводы и обвинять тех, кого ты любишь, кто тебе дорог. Таково отношение лирического героя к родной и любимой Германии.
Проблематика поэмы связана с прошлым и будущим Германии. Лирический герой высмеивает разные области жизни родины и надеется на её счастливое будущее. В предисловии Гейне признаётся в своей любви к отечеству. Он мечтает о всемирном господстве Германии: «Вся Франция станет нашей, вся Европа, весь мир – весь мир будет немецким!» Поднимаются проблемы роли поэта в политической борьбе.
Поэма состоит из 27 глав. Они объединены сюжетом путешествия и зачастую связаны с определённым городом Германии. Гейне действительно начал путешествие поздней осеню 1843 и завершил его в начале 1844 г. Но порядок посещения городов Гейне отличается от описанного в поэме, в которой города расположены как будто в обратном порядке, по пути следования из Гамбурга в Париж, так что первый описанный город Ахен, а последний – всё-таки Гамбург.
Путешествие начинается «мрачной порой ноября». Вся первая глава проникнута лиризмом, не мешающим патриотизму: герою стало сладко и больно, защемило в груди, он прослезился. Героя обуревают смешанные чувства:
Казалось, что сердце кровоточит, Но сердцу было так чудно!
Герой услышал песню нищей арфистки о небесной награде для страждущих. Он противопоставляет этой песне свою песню:
Мы здесь, на земле, устроим жизнь На зависть небу и раю.
Лирический герой видит предназначение поэта в прославлении свободы для Европы:
С прекрасной Европой помолвлен теперь Свободы юный гений…
В каждой главе можно наблюдать соединение высокого и низкого, идеалов лирического героя и предмета его сатирического осмеяния. Так во второй главе герой высмеивает глупцов-таможенников, которые не найдут контрабанду в голове героя, идею таможенного союза, облечённого единым духом цензуры. При этом лирический герой верит в живительную силу родины:
Живительный сок немецкой земли Огнём напоил мои жилы…
Герой саркастически высмеивает прусских военных в Ахене, «смертельно тупой, педантичный народ».
Лирический герой обвиняет каждый немецкий город в прегрешениях прошлого. Так Кёльн очернил себя строительством собора, «гигантской тюрьмы», в которой святоши хотели сгноить немецкий разум.
В седьмой главе появляется излюбленный романтиками мотив сна. Лирический герой сладко засыпает в немецкой постели и чувствует себя так, будто с немецкой души сразу слетели земные цепи.
В этой главе Гейне рассуждает о немецком менталитете, объясняя идею духовного господства Германии над миром, высказанную в прозаическом предисловии:
Французам и русским досталась земля, Британец владеет морем. Зато в воздушном царстве грёз Мы с кем угодно поспорим. Там гегемония нашей страны, Единство немецкой стихии. Как жалко ползают по земле Все нации другие!
Герою приснилось, что он блуждает по Кёльну со своим чёрным спутником. Во власти героя отмечать кровью из зияющей раны дома тех, кто должен умереть. Так путники доходят до собора, в котором восстают три короля прошлого. Герой вынес им приговор, и его спутник «свалил и расколошматил в пыль Скелеты былых суеверий». За это во сне он поплатился жизнью!
Дорогу из Кёльна до Гагена герой проехал в почтовой карете (неудобный вид транспорта). Восторги от встречи с родной землёй снова смешиваются с циничными её характеристиками:
О, воздух отчизны! Я вновь им дышал. Я пил аромат его снова. А грязь на дорогах! То было дерьмо Отечества дорогого.
Трудно даже понять, где кончается лирика и начинается осуждение, ведь круглые комья лошадиного помёта милей для героя, чем райские яблоки.
Такой же контраст, издевка над высоким, умышленное стилистическое снижение достигается во время описания сытного обеда в Гагене:
Кто к чувству способен, тому всегда Аромат его родины дорог. Очень люблю копчёную сельдь, И яйца, и жирный творог.
Продолжа путь, лирический герой попадает в Тевтобургский лес, что пробуждает у него воспоминания о прошлом Германии. Карета сломалась, путникам угрожают волки, и поэт обращается к «Согражданам волкам», не надеясь на успех. Это аллегории общения Гейне с соотечественниками.
Путешествие вызывает у героя множество мыслей. Он рассуждает о жертве Иисуса, которую считает бесполезной: «Грехи людей ты хотел искупить – Дурак! – для людского блага». Жертву Иисуса он безбожно проецирует на жертву любого поэта: «И вот, мечтатель, висишь на кресте, В острастку фантазёрам!»
Герой вспоминает любимую няню и рассказанные ею сказки и легенды о справедливом наказании врагов Германии.
Ещё один сон описан в 15 главе. Герой уснул в почтовой карете и увидел, что приглашён в гости к Ротбарту в его волшебную гору. Это мечта о справедливом кайзере, заботящемся о своих солдатах и своём народе. Кайзер ждет момента, чтобы «освободить мой немецкий народ, Спасти отчизну от гнёта». Но в следующей главе восторг сменяется ядовитым сарказмом. Герой отказывается от «жалкого мифа», «старогерманского бреда о красно-золото-чёрном»: «На кой нам дьявол кайзер?»
Но лирический герой готов принять вернуть прошлое, настолько безрадостным ему кажется настоящее.
В грозной крепости Миндене герой переживает третий кошмарный сон, полный аллегорий и символов. Грязная кисть над кроватью подобна дамоклову мечу и превращается в змею, сам герой прикован к скале, как Прометей.
Коршун, грозящий герою, схож с прусским орлом.
Проехав родину деда Бюкебург, Ганновер и Гарбург, герой был принят матерью в родном Гамбурге. Старушка, не видевшая его 13 лет, как в сказке, задаёт ему три вопроса: о жене, о превосходстве немецкой нации и о политических партиях. Она получает три уклончивых остроумных ответа, аллегорически зашифрованных в образах сытного обеда.В 11 и 12 главах описаны последствия пожара в Гамбурге, похожем теперь на недостриженного пуделя, для зданий и для людей.
Герой отправляется в погреб Лоренца со своим издателем Кампе, чтобы поесть устриц с рейнтвейном. На улицах города он встретил защитницу города богиню Гаммонию. Она повела поэта к себе в мансарду, где спросила, как он решился суровой зимой ехать на родину. Гейне объяснил это любовью к родине. Богиня рассказала, что жизнь Германии изменилась к лучшему, и обещала открыть её будущее, если герой поклянётся быть скромным «и в слове и в печати». Иными словами, богиня запрещает поэту открыть то, что он увидит в будущем, можно только передать запах будущего. Эта чудовищная метафора передаёт опасения Гейне за свою родину.
Будущее Германии можно было увидеть в ночном горшке богини:
Но этот грядущий немецкий смрад – Я утверждаю смело – Превысил всю мне привычную вонь, В глазах у меня потемнело.
Встреча с богиней заканчивается ритуальным соитием. В свадебном шествии герой замечает цензора, который ножницами озверело вырезает лучшее место Гейне, кусок его живого тела.
В последней главе лирический герой указывает, что его поэма предназначена молодому поколению:
Растёт поколение новых людей Со свободным умом и душою, Без наглого грима и подлых грешков, – Я всё до конца им открою.
Лирический герой считает себя наследником древнегреческого комедиографа Аристофана, обличителя язв общества, а свою роль поэта в обществе – равной роли Данте, написавшего «Божественную комедию». Поэт, с точки зрения Гейне, близок к Богу:
Над буйно поющим пламенем строф Не властен никто во вселенной.
Краткое содержание: Германия. Зимняя сказка
События поэмы происходят осенью-зимой 1843 года. Лирический герой уезжает из Парижа, на время расставаясь со своей любимой женой, чтобы повидать знакомые места в родной Германии. Поэт очень соскучился по своей стране и не видел престарелую хворую мать почти тринадцать лет. Поздней ноябрьским днем поэт прибыл в Германию. Его охватила такая радость и одновременно печаль при сознании того, что вокруг все немецкое — музыка, родная речь. Рядом с ним свою унылую песню поет маленькая девочка. Песня звучит о том, как тяжела земная жизнь простого труженика, и как еще многим не доступно настоящее райское блаженство. Но поэт желает слышать другую песню: о скором благополучии всех людей, так как на земле тоже будет скоро рай, и у всех будет вдоволь хлеба и сладкого зеленого горошка. Родная земля вдохновила поэта на радостную песню. Малышка немного фальшивым голоском продолжала петь сладостную песенку. Упрямые таможенники делали свое дело, копошась в чемоданах поэта и стараясь найти в них запрещенные книги. Но тщетны их попытки! Все нужные книги поэт надежно схоронил в своих мыслях. Не добраться туда недальновидным блюстителям закона!
Аахен оказался первым городом, который посетил поэт. На улицах здесь царили хандра и сплин, а прусские военные по-прежнему поражали своей примитивностью и муштрой и за тринадцать лет вовсе не изменились. На почте поэт видит ненавистный герб орла. Почему -то это изображение особенно было неприятно лирическому герою. Поздним вечером поэт прибыл в Кельн. Здесь он поужинал омлетом с ветчиной, и запил его добротным рейнвейном. Прогулка по ночному городу навевает молодому человеку нехорошие мысли о том, что Кельн обрел репутацию города мнимых святош и непорядочных попов, замучивших в тюрьмах цвет немецкой нации. Благо, ситуацию спас Мартин Лютер, который не позволил достроить Кельнский собор, а утвердил в Германии протестантскую веру. После прогулки поэт возвращается домой и засыпает беззаботным детским сном. Так выспаться можно только на родной земле, где постели мягче и так сладко мечтать о лучшем будущем. Поэт подумал, что в отличие от нерадивых и грубоватых англичан, французов и других народов, немцам свойственна наивность и романтичность.
Утром герой отправляется из Кельна в Гаген. На дилижансе поехать не удалось, поэтому пришлось воспользоваться услугами почтовой кареты. Поэт приехал в Гаген в три часа и сразу принялся за трапезу. Его меню может позавидовать любой гурман. Он съел свежий салат, каштаны с капустой, приправленной ароматной подливкой, треску в масляном соусе, копченую сельдь, творог, колбасу и многое другое. Герой действительно обладал отменным аппетитом. После выезда из Гагена поэт снова почувствовал голод. Расторопная девочка из Вестфалии угостила поэта горячим пуншем. И тут герою вспомнились роскошные вестфальские пиры, с бурными возлияниями, после которых поэт часто коротал остаток ночи под столом. В это время карета оказалась в Тевтобургском лесу, где в 9 веке до н.э. немецкий вождь Герман разбил римлян. Поэт начинает думать о том, что случилось бы с Германией, если бы Герман тогда не побелил римлян. Везде бы царили порядки и нравы латинян. У Германии были бы свои весталки, швабы стали бы именоваться квиритами, а известной актрисе Бик-Пфейер был бы по вкусу скипидар — напиток знатных римлянок. Поэтому поэт безмерно рад исторической победе Германа над римлянами.
Но в лесу поэта ожидала неприятность. Сломалась его карета, на починку которой потребовалось достаточно много времени. К тому же он остался один в лесу, в окружении голодных волков, так как почтарь ушел за помощью. Поздней ночью поэт прибыл в грозную крепость Минден, комендант которой учинил молодому человеку настоящий допрос. Герою не нравится это, у него полностью пропадает аппетит. Он ложится спасть даже не поужинав. Утром поэт покидает крепость и едет дальше. Далее поэт посещает Ганновер, с великолепным королевским дворцом. Король Ганновер — очень заботливый монарх. Он каждый вечер готовит клистир своей престарелой бабушке. Поздней ночью поэт приезжает в Гамбург и идет к себе домой. Мать встречает сына с распростертыми объятиями. Она угощает его вкусной рыбой, изысканным гусем с апельсинами, не забывая при этом расспрашивать сына о политической обстановке во Франции, его личных делах. Но поэт явно не настроен на откровенный разговор.
После обеда поэт решил прогуляться по городу и осмотреть интересные места. Год назад в Гамбурге произошел большой пожар. Все вокруг давно изменилось. Многие улицы просто исчезли. Где тот дом, в котором поэт первый раз поцеловал девушку? Исчезла городская ратуша, торговая биржа, сенат. Зато банк по-прежнему остался целым и невредимым. Многих домов уже нет, да и многие люди давно уже умерли. Поэт с издателем Кампэ спускается в погреб Лоренца, чтобы угоститься отменными устрицами с рейнвейном. По мнению молодого человека, Кампэ — хороший человек, так как вряд ли какой-нибудь другой издатель будет угощать поэтов такими лакомствами. В погребе лирический герой чрезмерно хорошо угостился вином и вышел прогуляться по городу. Вдруг на улице он встречает красивую женщину с лиловатым носом. Поэт спрашивает ее имя. Женщина отвечает, что имя ее — Гаммония, богиня-покровительница города Гамбурга. Но он не поверил женщине и последовал за ней в ее мансарду. Здесь поэт выпил чаю с ромом — угощение от новой знакомой. Начинается приятная беседа. Во время разговора поэт явно настроен на фривольности с новой знакомой, уделяет чрезмерное любопытство ее юбке, обещая при этом быть скромным в своем поэтическом слоге на страницах печати. Женщина явно смущена и начинает шутливо пугать молодого человека расправой от издателя Гофмана, который может лишить героя его мужского достоинства. Но все же женщина обнимает поэта. Что потом произошло ночью — об этом автор поэмы беседует с читателями в частном порядке.
Бог всемогущ. Приходит конец старым ханжам и злодеям. На смену им приходит молодое поколение — благородное, чистое сердцем и душой. Поэт искренне верит в дальновидность молодежи, что именно молодые люди должны уверовать в чистое и пылкое как пламя сердце лирического героя.
Краткое содержание поэмы «Германия. Зимняя сказка» пересказала Осипова А. С.
Обращаем ваше внимание, что это только краткое содержание литературного произведения «Германия. Зимняя сказка». В данном кратком содержании упущены многие важные моменты и цитаты.
Глава третья. Портрет Родины
Глава третья. Портрет Родины
Поэма «Германия. Зимняя сказка» рождалась как глубоко современное, более того — злободневное произведение. Поэту удалось выразить в ней необходимость исторических перемен. Но актуальность поэмы не отошла в прошлое вместе с эпохой 40-х годов прошлого века, поскольку она была освещена светом извечной человеческой проблематики. Оттого и сам Гейне предсказывал, что его поэма обретет ценность классической поэзии. Тайна бессмертия главной книги Гейне заключена в этой ее особенности. Показательно мнение А. М. Горького о слитности в подлинном искусстве вечного и сиюминутного: «Любовь [и] голод, смерть, насилие над личностью, пошлость и невежество — темы, как Вы знаете, лежащие в основе величайших произведений литературы и в то же время это ежедневные темы публицистики. (Дело таланта, дело художника взять тему так или иначе.) «Германия» Гейне — разве не художественна? А «Сказка о золотом петушке» — не тенденциозна?»{8} Гейне отдавал себе отчет и в художественном новаторстве своей поэмы. Он создавал совершенно новый жанр — путевые картины в стихах, и если путевые зарисовки сами по себе были не новы для Гейне, то в стихах… «Дьявольская разница», как заметил Пушкин о «Евгении Онегине» — романе в стихах. Необычны были для эпического жанра исповедальность и импровизационность, ставшие программными для «Зимней сказки». Эта поэма и о Германии, и о самом поэте, она отражает и глубинные раздумья поэта, и его сиюминутные наблюдения.
Трудно найти в немецкой поэзии более неканоническую поэму. Ее свободная форма полностью отвечала поэтическому сознанию Гейне, всегда бурно пульсирующему, склонному к игре, импровизации, иронии, пародированию и самопародированию. Стих поэмы — с его разговорными интонациями, ритмикой в духе народных баллад — прекрасно выражал раскованность мысли. Гейне сам назвал истоки жанровой специфики своей поэмы. Подзаголовок поэмы «Зимняя сказка» прямо указывает на одноименную пьесу Шекспира и в то же время соотносится с шекспировским же подзаголовком поэмы «Атта Тролль» — «Сон в летнюю ночь». «Германия» — вторая сказка в творчестве Гейне, но если первая — летняя — заставляет вспомнить веселую шекспировскую комедию, «Германия» — сказка иного рода. Она ближе к тем, о каких говорит шекспировский герой, юный сицилийский принц Мамиллий: «Зиме подходит грустная. Я знаю одну, про ведьм и духов»{9}.
Похожую сказку, но уже про современную нечисть станет рассказывать и Гейне. Сам термин «сказка» — знак игры, которую Гейне ведет с читателем. «Сказка» оправдывает вторжение мифов и легенд в описание довольно обычной поездки.
Если Шекспир не назван прямо в числе учителей автора «Германии» (указания на него лишь косвенные), то Аристофану посвящено несколько строф. Аристофановская смелость в сочетании высокого и низкого («земли и облаков»), политической злободневности и поэтической игры вдохновляла Гейне в его новаторской поэме.
Поэма «Германия» состоит из отдельных глав, разновеликих и подчас нарочито между собой не связанных. На первый взгляд построение поэмы импровизационно. Сам Гейне делает вид, что поэма следует за реальным маршрутом поездки. Но это только на первый взгляд. Построение поэмы глубоко продумано, подчинено концепции, суть которой — портрет родины. Путевые картины должны слиться в портрет родины, и основное условие этого — цельная и глубокая авторская мысль.
Портрет родины четко очерчен во времени и пространстве. Пространство поэмы — это территория Германии, пересекаемая поэтом, каждая новая глава — обычно новое место, одновременно реальное и условное, как условно любое место действия в искусстве.
Время дано в поэме в трех естественных измерениях, постоянно сменяющих одно другое. В центре авторского внимания — время настоящее, как он сам подчеркивал, «современность». Но почти на равных выступает рядом недавнее прошлое — наполеоновская эпоха — и старина, уже оформившаяся в мифы и легенды. Гейне выдвигает свои проекты будущего, притом в разных формах в соответствии с различным уровнем сознания своих сограждан. Полемичность, обнаженная и скрытая, — примета всех созданий гейневского гения, — с особой силой проявилась в его главной книге. Времена сталкиваются между собой, спорят, опровергают друг друга. Внутренняя динамика пронизывает и изображение пространства. Гейне едет из новой Франции в старую Германию. Две страны постоянно соотносятся между собой, иногда контраст определяет самое построение глав. Наконец, столкновение противоположных чувств характерно для самоощущений поэта. «Германия» ведь не только эпическая поэма, исполненная сатирического пафоса, но и лирическая. Это своего рода лирический дневник, запечатлевший радость, гнев, боль автора, его «странную» любовь к отчизне.
Первая глава — своего рода пролог поэмы. Противоборство авторских чувств порождает подлинный драматизм. Встреча с родиной — радость:
И только к границе я стал подъезжать.
Почувствовал я: встрепенулось
Что-то в груди, а на глаза
Даже слеза навернулась.
И сейчас же — впечатление иное, вызывающее протест. Поэт слышит девочку-арфистку, поющую с истинным чувством и страшной фальшью. Ее песня отречения — старая песня смирения и терпения:
И пела она о юдоли земной,
О радостях преходящих,
О мире ином, где тает душа
В блаженствах настоящих.
Религия и разум, прошлое и будущее, классическая и современная новейшая литература сталкиваются в этом эпизоде.
Почему Гейне вывел на авансцену именно малютку-арфистку, откуда этот образ? Гете в «Путешествии в Италию» в самом начале путевого дневника рассказывает о примечательной встрече 7 сентября 1786 года: «К Вальхенскому озеру я прибыл в половине пятого. В расстоянии часа от этого места случилось со мною премилое приключение. Ко мне подошел арфист со своей дочерью, девочкой лет одиннадцати, и просил меня взять ребенка с собою. Он понес далее свой ин- [42] струмент; ее же я посадил к себе, и она бережно поставила у ног своих большой и новый ящик. Это было милое, развитое существо, уже довольно много постранствовавшее в мире. Она ходила со своей матерью пешком на богомолье в пустынь Св. Марии, и обе хотели уже отправиться в более далекое путешествие в Сант-Яго-де-Компостелло, когда мать скончалась, не успевши исполнить своего обета. Девочка находила, что нельзя достаточно много сделать, чтобы почтить богоматерь. Она рассказывала, что видела сама после большого пожара целый дом, сгоревший дотла, и над дверью за стеклом образ Богородицы, совершенно неповрежденный, — что было очевидным чудом»{10}. Далее говорится о том, что девочка-арфистка с успехом выступала перед царственными особами, умела предсказывать погоду на завтра: если дискант арфы настраивается выше, это признак хорошей погоды. Высоко чтя Гете, Гейне тем не менее позволял себе вступать с ним в спор. У него не вызывает восторга богомольность юного существа. Истовая набожность, отрешенность от земного реального счастья — это прошлое, с которым должно быть покончено. Песня арфистки у Гейне по содержанию повторяет рассказ арфистки у Гете, но переиначивая его смысл. Для Гейне ее наивная вера враждебна разуму, она бездумно твердит то, чему научили ее ханжи и лицемеры, обманывающие народ. И в сердце поэта из боли и гнева рождается новая, лучшая песня. В ней нарисовано будущее, рожденное отрицанием настоящего:
Хотим мы счастливыми быть на земле,
Довольно в бедности жили;
Пусть не глотает лентяйская пасть
Что руки трудом добыли.
Настоящее же предстает в главе II под знаком прусской государственности — самой омерзительной на немецких землях. Первое проявление этой власти — таможенный контроль над ввозом контрабанды: «бриллиантов, кружев и запрещенных книжек». Поэт издевается над дотошными таможенниками:
Что вы тут ищете, дураки.
Во всех углах, наудачу?
Ту контрабанду, что я везу,
Я в голове ее прячу.
Георг Брандес говорил, что Гейне, несомненно, самый остроумный из людей новой истории. Действительно, остроумие, а точнее, острота ума — характернейшая черта Гейне. На все привычные вещи Гейне глядит по-своему, в неожиданном ракурсе; он умеет видеть под внешней оболочкой внутреннюю суть, уловить подобие в предметах, вроде бы далеких. Особенно искусно Гейне возвращает привычным стертым образам их буквальный смысл. В главе XIX читаем:
Ты очень ошибся, о, Дантон,
И был наказан за промах!
Отечество можно унести
На подошвах, на подъемах.
Почти полкняжества Бюкенбург
К моим сапогам прилепилось;
По более вязким дорогам ходить
Мне в жизни не приходилось.
Эта насмешка Гейне над «карманным» государством, которых в ту пору в Германии было немало, может соперничать с шуткой Гофмана в романе «Житейские воззрения кота Мурра»: «Князь Ириней когда-то действительно правил живописным владеньицем близ Зигхартсвейлера. С бельведера своего дворца он мог при помощи подзорной трубы обозревать все свое государство от края до края, а потому благоденствие и страдания страны, как и счастье возлюбленных подданных, не могли ускользнуть от его взора. В любую минуту ему легко было проверить, уродилась ли пшеница у Петера в отдаленнейшем уголке страны, и с таким же успехом посмотреть, сколь заботливо обработали свои виноградники Ганс и Кунц»{11}.
Поэт не видел родину 13 лет, но все так же скучна и однообразна эта страна, кажется, в ней ничего не изменилось за все эти годы:
Все то же дерево этот народ,
Все тот же прямой угол
В каждом движении, а в глазах
Высокомерие пугал.
На всем лежит печать отживших средневековых законов, верований и обычаев. Теме средневековья в идейном замысле поэмы предстоит сыграть очень важную роль. Создание образа немецкого обывателя тоже входило в замысел поэмы. Он — воплощение настоящего, объект сатирического осмеяния.
Идейная вершина главы III — изображение «скверной птицы» — герба, символа Пруссии и всех ее государств. Намалеванная на вывеске птица со злобой косится вниз, ощущая поэта как личного врага. Символический образ злобной птицы становится лейтмотивом повествования, воплощая в себе политическое существо настоящего времени.
Духовный удел средневековой Германии в бурный XIX век — «сладкий сон в немецкой пуховой постели».
Французам и русским досталась земля.
Владеют морем бритты.
Но мы владеем царством сна,
Здесь мы пока не разбиты.
И в портрете родины, и a портрете немца грезы — средство характеристики прежде всего настоящего времени. Но в Германии настоящее — это во многом ее прошлое, так крепко страна приросла к средневековью. Изображение прошлого и спор с ним — содержание центральных глав поэмы.
Гейне избирает те эпизоды из прошлого Германии, которые стали опорными точками в миросозерцании рядового немца. Таковы: история Кельнского собора, сражение в Тевтобургском лесу, завоевательные походы Фридриха Барбароссы, наконец, недавняя борьба с Францией за Рейн. Каждая из национальных святынь осмысляется по-гейневски иронично, парадоксально, полемически. Автор создает исторический образ Германии, отличный от канонических сочинений официальных историков и литераторов. Естественно, что открытая и скрытая оппозиционность становится главной приметой повествования.
Так, Кельн и для Гейне — величественный город, но у него нет трепета перед громадой Кельнского собора, и он ничуть не сожалеет о том, что тот недостроен. Ведь сама немецкая история начиная с Лютера оспорила необходимость завершения этой «Бастилии духа», где церковные фанатики мечтали сгноить немецкий разум. Рождается типично гей невский парадокс: именно то, что сооружение собора многократно прерывалось, делает собор памятником немецкого долготерпения. Обратившись к истории, поэт вглядывается в самое существо немецкой духовной жизни: что же в ее основе — вера в святость старины или протест против нее? В понимании Гейне дух бунта неодолим, он верит, что собор не будет достроен.
Глава о встрече с Рейном столь же неожиданна в своей логике, как и глава о Кельне. Поэт на равных беседует со стариком Рейном, который в сознании обывателя воплощает величие и неподатливую патриархальность немецкого духа, отринувшего все иностранные влияния, в том числе наполеоновское французское воздействие.
Вслед за Кельном и Рейном вырастает Тевтобургский лес Рассказу о нем не случайно предшествуют главы о настоящем: во время остановок в Гагене, в Уине поэт радуется исконно немецкому уюту и старогерманской кухне. Казалось бы, огромен перепад от этого быта к величию исторического прошлого, но поэт, почти не переводя дыхания, произносит
Вот это есть Тевтобургский лес,
Который описывал Тацит…
По Гейне, это величие мало чего стоит. Привыкли думать, будто победа вождя древних германцев Арминия и его белокурой орды на века определила судьбу немецкой нации. Гейне тут же предлагает иронически поразмышлять, что было бы с нацией, не выиграй далекие предки эту легендарную битву:
И был бы у нас один Нерон
Вместо множества малых Неронов.
Мы открывали бы жилы себе,
Чтоб ускользнуть от шпионов.
Далее упоминаются исторические фигуры разного масштаба. Обозревается как бы вся немецкая культура — возникает ее карикатурный портрет. Сопоставление с великими римлянами подчеркивает малость деятелей немецкой культуры. Глава нацелена против вредного исторического мифотворчества и самодовольства современного Гейне общественного сознания.
Центральные главы XIV–XV «Германии» о Фридрихе Барбароссе — может быть, самые задиристые в поэме. Гейне замахнулся на самого кайзера и во всеуслышание заявил, что от короля никакого проку не было и не будет. Здесь, как и в главе о Тевтобургском лесе, сталкиваются два варианта легенды — традиционный и гейневский. Миф, входящий неизменно в немецкое народное самосознание, подан как рассказ няни и одновременно сквозь гейневское парадоксальное мировосприятие. В рассказе няни Барбаросса выступает как подлинный герой, защитник несчастных и обиженных. В легендах говорилось, что германский император Священной Римской империи почил в Тюрингии в горе Кифгейзер, но настанет час, он пробудится со своим войском и станет вновь справедливым правителем Германии. Образ Барбароссы у старушки-няни великолепен внешне, внутренне — значителен: «Много веков сидит он в каменном кресле, до самой земли его борода цвета огня и крови».
Совершенно иной образ Барбароссы возникает во сне поэта. Этот веселящийся старичок хлопотливо сует дукаты своим спящим солдатам и горюет о нехватке лошадок. Он благодушен, но впадает в ярость при рассказе о гильотине и гильотинировании французского короля и королевы. Излюбленный образ немецкой мифологии оказывается комически сниженным, насквозь устаревшим и совершенно дискредитированным. Не ему суждено спасти юную деву Германию. «Веселая [48] конница будущих дней» несет ей освобождение. Так прошлое сквозь настоящее взывает к будущему.
Гамбург — город юности поэта, у него свое место в системе национальных немецких «эмблем» — это торговый вольный город. Уж если есть прогресс в Германии, то он должен быть в Гамбурге. Новая гамбургская сказка Гейне посвящена уродливо громадной и любвеобильной хранительнице этого града, богине Гаммонии. Ее устами возносится хвала прогрессу Германии:
Тебе здесь гораздо больше теперь
Понравится, чем ранее,
Ты видел? Мы движемся вперед.
Останься здесь, в Германии.
Есть своя логика в том, что именно Гаммония, столь красноречиво расхваливающая прошлое и столь снисходительная к настоящему, дает возможность поэту представить будущее как чудовищное зловоние и гниение. Германию, признающую дикое прошлое нормой, а жалкий прогресс в настоящем — благом, может ждать в будущем только мерзость. Прошлое отравит и будущее. Очиститься от скверны прошлого страстно призывает поэт.
Принципиально важно, что этой ужасающей картиной грядущего поэма не заканчивается. Последняя глава XXVII рисует иное будущее, перекликающееся с «новой песней» главы I. Поэт верит:
И новое племя растет теперь,
Без всяких грехов, лицемерья,
Свободна их радость, свободен дух,—
К нему обращаюсь теперь я.
«Обращаюсь теперь я…» Авторское «я» прямо заявляет о себе. Это органично для «Зимней сказки», но уже как лирической, исповедальной поэмы с героем-поэтом. Кроме портрета родины, постепенно вырисовывается в поэме и портрет поэта. С ним входит своя тема — тема искусства и человека-творца. Гейне рисует поэта как личность глубоко эмоциональную, ранимую, но не желающую обнаруживать свои чувства перед людьми. Кроме того, его взгляд на мир ироничен по сути: «Тоской по родине я был охвачен», — признается поэт, но тут же добавляет:
Любовь к отечеству — так ведь зовут
Все эти глупые грезы?
Так дает о себе знать всеобщность его иронии. Нарочитая легкомысленность — лишь внешняя манера поведения поэта, подлинного борца, принципиального и смелого, умного и самокритичного. Этому посвящены резкие строки главы XII: поэт признается, что иной раз ему приходилось идти на компромиссы, порой он «во время ненастья укрывался овечьей шкурой», но по самой своей природе он волк, и сердце, и зубы у него волчьи. Гейне позаимствовал этот образ из древнегерманской мифологии, где говорится о гибели богов, о светопреставлении и появлении волка Фенриса, пожирающего старого владыку мира бога Одина. «Волки» в системе символов Гейне по контрасту с рабами-овцами означают те мятежные силы, которые сметут и уничтожат старый и несправедливый мир. Очевидно, для Гейне грядущие силы истории представлялись туманно и, несомненно, в жестоком ореоле. Тем не менее он считал необходимым заявить о своей принадлежности к волчьей стае, а не к овечьему стаду.
В самом конце «Зимней сказки» тема искусства выходит на первый план. Искусство поэта оценивается очень высоко: «Настроены струны лиры моей благороднейших граций руками». Суд искусства — высший суд:
Но есть и ад, которого пасть
Не даст освобожденья;
Молитва бессильна; не спасет
Спасителя прощенье.
Ты знаешь, может быть, Дантов ад.
Терцины роковые?
Кого поэт туда заключил,
Тому не помогут святые.
Предсказанное в финале поэмы бессмертие подлинного искусства воплотилось в судьбе этой главной книги Гейне.
Читайте также
«Остро чувствуется нужда в познании Родины»
«Остро чувствуется нужда в познании Родины»
Изучая «малую Родину», краеведы сегодня нередко обращаются к опыту своих предшественников – к тому периоду в нашей истории, который исследователи называют «золотым десятилетием» отечественного краеведения. Продолжался он
Глава третья
Глава третья
О волостном управлении69. Волостям управление составляют:1) волостной сход;2) волостной старшина с волостным правлением и3) волостной крестьянский суд.70. Местом сбора волостного схода и пребывания волостных правления и суда назначается: когда волость состоит
Глава третья
Глава третья
Об обеспечении исправного выполнения крестьянами казенных и мирских повинностей187. Каждое сельское общество как при общинном, так и при участковом или подворном (наследственном) пользовании землею отвечает круговою порукою за каждого из своих членов в
Глава 5 Портрет с натуры
Глава 5
Портрет с натуры
Жизнь в России во все времена складывалась своеобразно: она протекала «вне слов»: слова были сами по себе, жизнь шла по своим тропам, проложенным среди болот, ухабов и крутых спусков, хотя «на словах» могла бы бодро мчаться по прекрасной
Глава третья
Глава третья
Так я прожил недели три и начал уже тяготиться своим отдыхом. И Женичка, и Варя, и Барбарисик, и все это общество мне надоели. Меня тянуло к прежней жизни. К этому времени, когда я уже собирался, к отчаянью Женички, вновь исчезнуть из общества Кремневых,
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТИТУЦИИ В КЛАССИЧЕСКОЙ ДРЕВНОСТИВыше мы проследили в истории первичные корни проституции. Это дало нам возможность объяснить ее мировой характер, то есть одинаковую сущность и одинаковое происхождение у диких и у культурных народов. В
Глава 9. Портрет
Глава 9. Портрет
Определение. Структура портрета. «Холодное» и «теплое» написание. Статичная и динамичная беседа. На что обращать внимание во время разговора. GOSS-метод. Формула характера. «Барьеры» и «каталист». Виды героев: «наши знакомые», «андердог», «потерянные души»,
Глава третья
Глава третья
Так я прожил недели три и начал уже тяготиться своим отдыхом. И Женичка, и Варя, и Барбарисик, и все это общество мне надоели. Меня тянуло к прежней жизни. К этому времени, когда я уже собирался к отчаянью Женички вновь исчезнуть из общества Кремневых, относится
Е. А. Попова. Реставрация картин «Портрет императора Петра I» и «Портрет императрицы Екатерины I»
Е. А. Попова. Реставрация картин «Портрет императора Петра I» и «Портрет императрицы Екатерины I»
«Портрет императора Петра I» и «Портрет императрицы Екатерины I» кисти неизвестного художника принадлежат собранию Егорьевского историко-художественного музея.При