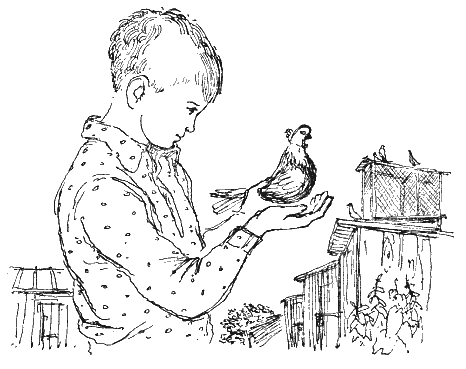Николай Воронов
Голубиная охота
Повести
Голубиная охота
Петька Крючин был счастливчиком! Во-первых, он держал голубей. Во-вторых, жил на конном дворе, в доме, крытом пластинами шифера. В-третьих, у него был отец, да вдобавок к отцу — старший брат, тоже заступник и взрослый человек. Я не завидовал Петьке. Хотя с той мальчишечьей поры прошло много лет, я точно помню, что не завидовал. Просто становилось обидно, когда он гонял голубей, а калитка и ворота были заперты, и ты, отираясь возле них, страдал, как от большого горя, а над твоей маетой издевался какой-нибудь Федька Печерников, у которого уже растут усы, и так допекал, что ты кидался на Федьку драться, но не мог его одолеть. Вот тогда и становилось обидно, что у Петьки столько всего: и голуби, и лошади, и отец, и старший брат, а ты — безотцовщина, и что мать и бабушка не разрешают заводить голубей, уповая на то, что барак против этого и что совсем плохо буду учиться.
Я назвал Петьку счастливчиком не потому, что раньше считал его счастливчиком: я назвал его так теперь. Тогда я жил с постоянным чувством счастья, поэтому только изредка обнаруживал различие между Петькиным и собственным положением, но и оно тотчас забывалось: вспоминал о матери. Для меня никто и ничто ни в чем не могло быть равнозначно ей. Если бы мне отдали все голубятни и конные дворы города, а для защиты приставили борцов Госцирка, лишь бы я согласился жить порознь с матерью, то я, сколько бы ни уговаривали, не пошел бы на это.
Вероятно, еще потому мои обиды были короткими, что Петька обычно пускал меня во двор, правда, со строгим предупреждением, чтобы я смирно стоял в сторонке вместе с другими мальчишками, которых он выделял, покуда не понадоблюсь.
Поднимался Петька на зорьке. Покамест въезжают во двор, сидя перед своими грохочущими бочками, те золотари, что работали ночью, да выезжают со двора те, которым днем орудовать черпаками, он проснется, а потом уж и не улежит в постели: чуть свет заядлые голубятники обганивают молодых и новых голубей, тут самый раз и ловить чужаков. И мы, конечно, поднимаемся рано. Он привечает нас, но мы ему и нужны. Если не появишься вслед за солнцем, то он будет покрикивать на тебя, а когда проспишь часов до восьми, то не станет замечать. Прогнал бы, куда было бы легче. А то и прогонять не прогоняет и словно тебя нет во дворе.
Но обычно было иначе. Ты входишь во двор — Петька подметает землю перед будкой, поглядывая на небо. Он разноглазый, чуточку раскосый, а на редкость зорок. Время от времени он посылает кого-нибудь из нас: меня, Саню Колыванова (он, чуть пригибаясь за нашими спинами, курит, выпуская дым под рубашку). Петька ненавидит куряк: Колесника, по прозвищу Генка Надень Малахай, сивого Тюлю (он полуспит, и его синеватые веки закрываются, будто вечером у курицы) посылает сбегать то к голубятне татаренка Мирхайдара, то к голубятне Жоржика Мингани, отец которого был на строительстве металлургического комбината в группе техспецов, приехавших из Италии, было остался в городе, женившись на Кате Иванцовой, но, как повторяла она, в самый раз спохватился и улизнул.
Прибежав обратно, мы сообщали Петьке о том, что происходит возле их будок. Если нам удавалось подслушать, что либо тот, либо другой собирается шугать нового голубя или пискунов из свежего выводка, мы стремглав мчались на конный двор. Петька давал нам турманов, лебедей, рябых, краснохвостых, желтых, бусых, и мы подтаскивали их, то есть, выдернув подол рубахи из-под ремня, выпускали их под стаю Мирхайдара и Жоржика. Когда голуби уводили с собой чужака и он вместе с ними кружил над конным двором, тут хмуроватый, медлительный Петька становился проворным. Он швырял из будки нелётных голубей, засидевшихся — выводили птенцов, отяжелели, отвыкли летать, — обдерганных, связанных в крыльях, даже пискунов, у которых еще не совсем отросли костыши. Потом он хватал их с земли, подбрасывал, они падали, треща перьями. Этот треск напоминал распадение молниевых разрядов. Наверно, из-за этого и казалось, что сам Петька, шуруя, выделяет электрический ток. Голуби, соскучившиеся за ночь о полете, тянули вверх. Но в конце концов на них действовало то, что Петька беспрестанно давал осадку, они начинали снижаться и садились рядом на пол — на подметённую землю. Петька бросал горсти зерна поближе к порогу, туда устремлялись голуби, чужак, поозиравшись, семенил к пшенице (и он не прочь полакомиться) и оказывался в будке, куда Петька загонял его вместе со своими голубями или забивал ладонью, когда он, вспорхнув с порога, хотел рвануть в высокую синь.
Однажды унесли Петькиных голубей. Тихо унесли. Запора не срывали, досок не выламывали. Отомкнули пудовый амбарный замок и опять закрыли, сложив голубей в мешок. Аккуратисты! Никто из голубятников не мог припомнить таких чисто работающих воров.
От зари до зари он топтался возле будки: лицо вскинуто вверх, кепка валяется на полу. Ждет, что придут его голуби — умные, натасканные, — везде выбрасывал их на дальних окраинах, и отовсюду прилетали. Связывай не связывай, обрывай не обрывай — придут. Пискуны и те наверняка придут. Неделя миновала, однако голуби не появлялись. Ни старые, ни молодые. А он все смотрел в небо от рассвета до заката. И тогда мы, кого презрительно дразнили «Петькиными шестерками», стали ездить и бродить по городу. Повезло лишь мне: я обнаружил пару краснохвостых и лебедей на Туковом поселке у голубятника по кличке Банан За Ухом (в действительности у него за ухом было родимое пятно, крупное и продолговатое). Ни слова не говоря, я достал из гнезд краснохвостых и лебедей и сунул за пазуху. Выйдя из балагана, я схватил стальной прут, и, покамест с оглядкой шагал до трамвая, мне пришлось отмахиваться от самого Банана За Ухом и от его приспешников.
Петька плакал, говорил, что разрешает мне в его отсутствие брать ключ от будки и выпускать голубей, а назавтра, когда мы осадили сахарно-белого чужака и попробовали схватить с пола: на пшеницу не позарился, а как только теснили к открытой двери, взлетел на конек будки, — но не сумели, то Петька обвинил в этом меня и толкнул плечом, чего раньше не позволял. Я ушел. Даже у барака слышался его несправедливый ор.
Вечером я выцыганил у матери червонец. Пришлось пообещать, что в новом учебном году добьюсь хорошей успеваемости и дисциплины, что не буду камнями спугивать голубей с барачной крыши и переплывать пруд том месте, где ширина около двух километров.
Поутру бабушка забрала меня и Саню Колыванова на могилки, где покоился ее сын Александр Иванович, доводившийся мне дядей, а Сане отцом. Мы переплыли пруд на катере и двинулись в гору. До того как Урал перегородили плотиной, кладбище находилось недалеко от воды; чтобы не залило, его перенесли на холм. Куда закопали прах Александра Ивановича, бабушка не знала, но всегда садилась рядом с бугорком, на котором рос паслен. Тут она кормила нас и, прежде чем спуститься к Уралу, выкладывала из корзины в ровик возле могилы крендели, шаньги, яички, конфеты — для нищих, для детей и для всякой божьей твари. Все это она посыпала серебром, вынутым из кармана фартука, который по-деревенски назывался запоном.
Читать дальше
Николай Воронов
Голубиная охота
Повести
Голубиная охота
Петька Крючин был счастливчиком! Во-первых, он держал голубей. Во-вторых, жил на конном дворе, в доме, крытом пластинами шифера. В-третьих, у него был отец, да вдобавок к отцу — старший брат, тоже заступник и взрослый человек. Я не завидовал Петьке. Хотя с той мальчишечьей поры прошло много лет, я точно помню, что не завидовал. Просто становилось обидно, когда он гонял голубей, а калитка и ворота были заперты, и ты, отираясь возле них, страдал, как от большого горя, а над твоей маетой издевался какой-нибудь Федька Печерников, у которого уже растут усы, и так допекал, что ты кидался на Федьку драться, но не мог его одолеть. Вот тогда и становилось обидно, что у Петьки столько всего: и голуби, и лошади, и отец, и старший брат, а ты — безотцовщина, и что мать и бабушка не разрешают заводить голубей, уповая на то, что барак против этого и что совсем плохо буду учиться.
Я назвал Петьку счастливчиком не потому, что раньше считал его счастливчиком: я назвал его так теперь. Тогда я жил с постоянным чувством счастья, поэтому только изредка обнаруживал различие между Петькиным и собственным положением, но и оно тотчас забывалось: вспоминал о матери. Для меня никто и ничто ни в чем не могло быть равнозначно ей. Если бы мне отдали все голубятни и конные дворы города, а для защиты приставили борцов Госцирка, лишь бы я согласился жить порознь с матерью, то я, сколько бы ни уговаривали, не пошел бы на это.
Вероятно, еще потому мои обиды были короткими, что Петька обычно пускал меня во двор, правда, со строгим предупреждением, чтобы я смирно стоял в сторонке вместе с другими мальчишками, которых он выделял, покуда не понадоблюсь.
Поднимался Петька на зорьке. Покамест въезжают во двор, сидя перед своими грохочущими бочками, те золотари, что работали ночью, да выезжают со двора те, которым днем орудовать черпаками, он проснется, а потом уж и не улежит в постели: чуть свет заядлые голубятники обганивают молодых и новых голубей, тут самый раз и ловить чужаков. И мы, конечно, поднимаемся рано. Он привечает нас, но мы ему и нужны. Если не появишься вслед за солнцем, то он будет покрикивать на тебя, а когда проспишь часов до восьми, то не станет замечать. Прогнал бы, куда было бы легче. А то и прогонять не прогоняет и словно тебя нет во дворе.
Но обычно было иначе. Ты входишь во двор — Петька подметает землю перед будкой, поглядывая на небо. Он разноглазый, чуточку раскосый, а на редкость зорок. Время от времени он посылает кого-нибудь из нас: меня, Саню Колыванова (он, чуть пригибаясь за нашими спинами, курит, выпуская дым под рубашку). Петька ненавидит куряк: Колесника, по прозвищу Генка Надень Малахай, сивого Тюлю (он полуспит, и его синеватые веки закрываются, будто вечером у курицы) посылает сбегать то к голубятне татаренка Мирхайдара, то к голубятне Жоржика Мингани, отец которого был на строительстве металлургического комбината в группе техспецов, приехавших из Италии, было остался в городе, женившись на Кате Иванцовой, но, как повторяла она, в самый раз спохватился и улизнул.
Прибежав обратно, мы сообщали Петьке о том, что происходит возле их будок. Если нам удавалось подслушать, что либо тот, либо другой собирается шугать нового голубя или пискунов из свежего выводка, мы стремглав мчались на конный двор. Петька давал нам турманов, лебедей, рябых, краснохвостых, желтых, бусых, и мы подтаскивали их, то есть, выдернув подол рубахи из-под ремня, выпускали их под стаю Мирхайдара и Жоржика. Когда голуби уводили с собой чужака и он вместе с ними кружил над конным двором, тут хмуроватый, медлительный Петька становился проворным. Он швырял из будки нелётных голубей, засидевшихся — выводили птенцов, отяжелели, отвыкли летать, — обдерганных, связанных в крыльях, даже пискунов, у которых еще не совсем отросли костыши. Потом он хватал их с земли, подбрасывал, они падали, треща перьями. Этот треск напоминал распадение молниевых разрядов. Наверно, из-за этого и казалось, что сам Петька, шуруя, выделяет электрический ток. Голуби, соскучившиеся за ночь о полете, тянули вверх. Но в конце концов на них действовало то, что Петька беспрестанно давал осадку, они начинали снижаться и садились рядом на пол — на подметённую землю. Петька бросал горсти зерна поближе к порогу, туда устремлялись голуби, чужак, поозиравшись, семенил к пшенице (и он не прочь полакомиться) и оказывался в будке, куда Петька загонял его вместе со своими голубями или забивал ладонью, когда он, вспорхнув с порога, хотел рвануть в высокую синь.
Однажды унесли Петькиных голубей. Тихо унесли. Запора не срывали, досок не выламывали. Отомкнули пудовый амбарный замок и опять закрыли, сложив голубей в мешок. Аккуратисты! Никто из голубятников не мог припомнить таких чисто работающих воров.
От зари до зари он топтался возле будки: лицо вскинуто вверх, кепка валяется на полу. Ждет, что придут его голуби — умные, натасканные, — везде выбрасывал их на дальних окраинах, и отовсюду прилетали. Связывай не связывай, обрывай не обрывай — придут. Пискуны и те наверняка придут. Неделя миновала, однако голуби не появлялись. Ни старые, ни молодые. А он все смотрел в небо от рассвета до заката. И тогда мы, кого презрительно дразнили «Петькиными шестерками», стали ездить и бродить по городу. Повезло лишь мне: я обнаружил пару краснохвостых и лебедей на Туковом поселке у голубятника по кличке Банан За Ухом (в действительности у него за ухом было родимое пятно, крупное и продолговатое). Ни слова не говоря, я достал из гнезд краснохвостых и лебедей и сунул за пазуху. Выйдя из балагана, я схватил стальной прут, и, покамест с оглядкой шагал до трамвая, мне пришлось отмахиваться от самого Банана За Ухом и от его приспешников.
Петька плакал, говорил, что разрешает мне в его отсутствие брать ключ от будки и выпускать голубей, а назавтра, когда мы осадили сахарно-белого чужака и попробовали схватить с пола: на пшеницу не позарился, а как только теснили к открытой двери, взлетел на конек будки, — но не сумели, то Петька обвинил в этом меня и толкнул плечом, чего раньше не позволял. Я ушел. Даже у барака слышался его несправедливый ор.
Вечером я выцыганил у матери червонец. Пришлось пообещать, что в новом учебном году добьюсь хорошей успеваемости и дисциплины, что не буду камнями спугивать голубей с барачной крыши и переплывать пруд том месте, где ширина около двух километров.
Поутру бабушка забрала меня и Саню Колыванова на могилки, где покоился ее сын Александр Иванович, доводившийся мне дядей, а Сане отцом. Мы переплыли пруд на катере и двинулись в гору. До того как Урал перегородили плотиной, кладбище находилось недалеко от воды; чтобы не залило, его перенесли на холм. Куда закопали прах Александра Ивановича, бабушка не знала, но всегда садилась рядом с бугорком, на котором рос паслен. Тут она кормила нас и, прежде чем спуститься к Уралу, выкладывала из корзины в ровик возле могилы крендели, шаньги, яички, конфеты — для нищих, для детей и для всякой божьей твари. Все это она посыпала серебром, вынутым из кармана фартука, который по-деревенски назывался запоном.
Теперь, едва она начала спускаться к перевозу, мы упросили ее отпустить нас в станицу Магнитную. Здесь было много голубей, и продавали их дешевле, чем в городе. На околице стоял пятистенник бородатого взрывника, рвавшего железную руду на горе Атач. Мы застали дома взрывника, и он продал нам пару турманов: чубарую голубку, по серому — рыжий крап, и голубя, белого в черных пятнах, как бы разрисованных коричневыми зигзагами, за свою масть носившего кличку Страшной, но совсем не страшного, а наоборот — красавца: розовые лапки в светлых чулочках, вокруг головы — кудрявый воротник, на груди — темное жабо, и по тому жабо пересыпаются зеленые сполохи.
Я совершил покупку на выгодных условиях: с отдачей голубей после первого прилета, с выкупом за половинную цену — после второго. Хотя у меня было впечатление, что взрывник добр, я опасался и обмана, и подвоха: вдруг да спрячет прилетевших голубей, да так турнёт из станицы, что ноги впереди тебя будут бежать.
Когда голубятник не надеется, что голуби быстро приживутся к его дому, то он обрывает их: выдергивает из крыльев маховые перья. Кто обрывает на одно крыло, кто — на оба крыла. Расчет прост: пока перья вырастут — голуби привыкнут к новому дому. Я собрался обдергивать Страшного на одно крыло, но раздумал: вырастая, маховые перья становятся короче, и Страшной станет косокрылить — другое крыло у него будет длинней. Я решил держать голубей в связках. Связки портят крылья, и голуби маятся в них. Да что поделаешь? Саня развернул крыло Страшного. Нитку, сложенную вчетверо, я завязал на крайнем маховом пере и поочередно притянул к нему остальные маховые перья. Связали мы и Чубарую. Перед тем как выпустить голубей на пол, Саня и я сбегали на базар за коноплей, пожарив ее на сковороде, высыпали на фанерное сиденье, вышибленное из венского стула. В жестяную банку с водой подмешали меду. Из разговоров голубятников я знал: чтобы приучить умных голубей, их надо кормить жареной коноплей, а поить подслащенной водичкой. Страшной и Чубарая наперегонки клевали коноплю и воду пили охотно и жадно и все-таки после этого расстроили нас: тянули вверх головы, выбирая, куда бы взлететь, а также упорно сдвигали клювами связки, намереваясь освободиться от них.
Пришел Петька, весело ухмылялся. Потом его лицо стало жалостливым. Мучительно вертелись турманы, каждый топыря свое стянутое крыло. Однако едва я спросил его: «Петь, как будем жить?» — он ответил настолько жестко, что не оставил никакой надежды на упрашивания: «Жить будем без отдачи».
— Хорошо! — с вызовом сказал я.
— Краснохвостая снесла яйцо, — вдруг сказал он, вероятно решив идти на попятную. — Договор утвердим такой: на молодняков с отдачей, на старичков — без отдачи.
— Нет.
— Почему?
— Обойдемся без пункта. Без отдачи так без отдачи.
— Не дам я тебе развести голубей, Колька, раз ты такой гордый.
— Смотри, как бы я не переловил твою дичь.
— До моей дичи у тебя нос не дорос.
— Еще как дорос! Хвальбушка…
— Мои откуда хочешь прилетят, хоть из Троицка, хоть из Челябы.
— Ни один не прилетел. Ежели б не я, сидел бы с пустой голубятней.
— У тебя ноги повыдергивать, ты придешь?
— Банан За Ухом и не обдергивал их. И в связках они не были.
— Он их держал в гнездах, в темноте. Понял?
— Да не знаешь ты… Ты струсил к нему сходить. Может, у него там остальная твоя дичь. «Держал в гнездах…»
— Мы это запомним, Кольта. Буду ловить и головы рвать. Ни тебе. Ни себе.
— Голуби не виноваты. Ты мне рви башку, ежели я виноват, а их не трогай.
— Пашке скажу — он тебя через колено переломит.
— А я на Пашку поджиг сделаю.
— Конопельки нажарил…
— Иди, покуда есть на чем ходить.
Внезапно мне сделалось смешно: уж больно я рассвирепел. Я прыснул, Саня подхватил мой смех. А Петька почему-то растерялся и юркнул за угол барака. Скоро на другом конце барака появились Тюля и Генка Надень Малахай. Балаганы, будки, сараи тянулись вдоль барака; между ними и бараком было расстояние длиной в телеграфный столб. Почти от завалинки тянулись полоски грядок чуть шире комнатных окон. Тропкой между огородиками и хозяйственными строениями повел Генка к своему шпальному сараю сивого Тюлю. Я не углядел, что руки у них за спиной, потому что приготовился, чтобы схватить в воздухе Страшного: метил взлететь на стальную трубу, вогнанную в землю вместо кола.
Когда я услышал хлопанье крыльев и обернулся, то увидел Лебедя с Лебедкой, летевших прямо на меня. Если бы я сам таким дерзким образом не подкидывал голубей, то пригнулся бы невольно от испуга, что голуби врежутся в меня. Но теперь я лишь восхитился: ловко, черти, подкинули.
Лебеди промчались над моей головой. И как только утянулся за ними ветерок, я услышал взлет Страшного. Саня прыгнул, чтобы поймать его на трубе, но промахнулся, и Страшной пестрым взрывом перекинулся на будку. Сидя на ней, Страшной снимет полусдвинутые связки и улетит. Этого я не мог допустить. Я полез на крышу и порвал об гвоздь брюки. Страшной, когда я, вытянув руки, двинулся к нему, не захотел спуститься вниз, несмотря на то, что там сидела, охорашиваясь, Чубарая, а невероятными усилиями, казалось, кувыркаясь, дотянул до крыши барака. Я давал матери слово, что не буду лазить на барак, и сел на порог будки, хотя мысленно уже ступал по гребню крыши. Саня хотел выручить меня, но я приказал ему вернуться. Он плохо поддерживает равновесие, будет оступаться со швов между листами железа на сами листы. Крыша загрохочет. Повыскакивают на улицу женщины, начнут его честить, а то и выбежит отец Тоньки Трехгубого, и ему взбрендится кидать по Сане камнями… Скандал. И прощай, голуби.
Страшной стал чиститься. Он расправил клювом перья на груди, выбирал и вытеребливал пылинки-соринки. О связках он забыл, чем и обнадежил меня в том, что слетит на землю к голубке. Но это было поспешное наблюдение. Потом я заметил, что, обираясь, он осматривал местность. Он видел крыши бараков, стоявших в одной линии с нашим, и тех, что находились ниже его на подошве горы. Поверх нижних бараков был обзор на три стороны света. Правда, на юг, туда, где за прудом лежала, как бы скатываясь в лог, станица Магнитная, даль была заперта Третьей Сосновой горой и горой-полуостровом. Зато западней горы-полуострова, за прудом, она кончалась в дымке, сквозь которую чеканился Уральский хребет черными, синими, лиловыми, голубыми отрогами. Северный угол небосклона, загруженный трубами мартенов, кубастым зданием воздуходувки, домнами, угольными башнями, галереями коксохима, терялся в бурой заводской гари.
Приглядываясь к местности, Страшной, конечно, нашел знакомые ориентиры, потому и побежал рысью на гребень крыши, а там весело принялся за сдирку связок, и, едва освободил крыло, тотчас взлетел, и напрямик ударился по направлению к Третьей Сосновой горе, и скоро перескользнул через ее макушку.
Пока мы следили за Страшным, то не обращали внимания на Чубарую. И когда, поникло вздохнув, я хотел ее загнать в будку, она вспорхнула на дверь, а оттуда на саму будку. Связки уже были на конце ее маховых перьев, и лишь только она потянула в сторону учительского барака, они спали. В отличие от Страшного, Чубарая с полчаса петляла над нашим участком — на языке голубятников шалалась — и улетела на Магнитную.
Саша и я понуро брели к переправе. И хотя всегда мы с удовольствием ступали по дороге, пуховой от пыли, теперь нас не обрадовала ее мягкота. И с парома ни разу не спрыгнули за время его полутораверстового пути. А обычно — бултых с кормы. Вынырнешь — паром уж, по первому впечатлению, далековато. Припустишься за ним. Догонишь. Запыхался, а норовишь показать и выносливость, и храбрость. Заплывешь в прорез между баржами. Темно: корпуса смоленые, вода чернолаковая, лишь кое-где в настиле, который заставлен грузовиками, бричками, таратайками, ручными тележка-ми башкирок-ягод ниц, светятся щели. Испытывая робость, все-таки преодолеешь этот мрак, нырнешь и появишься впереди парома. Затем выскочишь из воды, будто бы хочешь ухватиться за стальной канат; за него катер тянет паром. Заохают женщины: дескать, руку озорник распорет — из каната торчат жилы, под паромное дно угодит. Заругается мужчина. Ты сверкнешь ягодицами. Через минуту кто-нибудь из ребят, держась за якорь, выдернет тебя на корму.
Неужели это опять когда-нибудь будет?
Обманутыми, беззащитными, бесприютными мы чувствовали себя, всходя на холм. На косогорах, любопытствуя, что за мальчишки объявились, встают на задние лапы суслики. Мы почти не замечаем их, и они ласково посвистывают, привлекая наше внимание. Они, как маленькие дети, доверчивы и не соображают, что бывает не до них. И вдруг во мне поднимается такая жалость к сусликам. Мы им интересны. А мы, случается, выгоняем их из нор и убиваем, чтобы обменять шкурки на крючки — заглотыши, на акварельные «пуговки», прилепленные к картонкам, на губные гармошки.
— Постоим возле папки? — спрашивает Саша.
Я не отвечаю, чтобы не пустословить. В ровике возле могилы уже нет ни серебра, ни снеди. Под ветром клонит паслен; звездчатки его белых, розовых по краю цветов весело глазеют в небо, где кружат канюки. Дядя Шура любил голубей. В детстве у него была их огромная стая. Если бы он не умер, то мы попросили бы его пойти с нами в Магнитную, и тогда наверняка взрывник возвратил бы Страшного и Чубарую.
Взрывник был дома. Он сидел с гостями в палисаднике. Когда мы остановились за акациями, он рассказывал, как начальник рудника целый день водил Ворошилова по горе Атач, показывая месторождения железняка.
— В те поры было много настоящего магнитного железняка: он еще не успел размагнититься от взрывов. Жалко. Эдакую фантазию порушили. И я участвовал… Кабы знал, не стал бы. А то не знал… Водил, водил, значится, начальник, показывал, показывал, а тот к вечеру внезапно и говорит: мол, как все же, есть руда в Магнитной или нет? Разработки на Атаче едва начинались. Он хоть и вождь, а сквозь землю не видел. Начальник рудника с год как сообразил, что имеются люди, из руководства, из инженеров, какие вводят в сумление верха: железа-де в Магнитной мало, угрохает государство большие мильоны на строительство завода, а варить чугун и сталь будет не из чего. Смекнул он и то — Ворошилову поручено развязать это сумление. Комиссий наезжало видимо-невидимо. Чтоб убедить их в богачестве горы, начальник приказал выбить штольню сажен на двести и водил туда комиссию. Повел и Ворошилова. Как завел, да как включил там электричество, да как засверкала руда, так Ворошилов и взвеселел. Бают: успокоил он верха. Молва, похоже, верная. Припоминается, дело на строительстве ходче пошло — поехало!
Взрывник огладил бороду, заметив нас за акациями. Мне даже почудилось, что в его глазах блеснула радость.
— Погодите маненько, — сказал он гостям, — пришли мои товарищи по голубиной охоте. Вы пейте, закусывайте, а я отлучусь. Задержусь, так не поимейте обиды. Товарищи ведь!
Я опасался, как бы он не рассердился, что мы торчим за штакетником. Возьмет и под этим видом велит проваливать. С осторожностью я отнесся к тому, что он назвал нас ласково, неожиданно, без покровительственности — товарищи по голубиной охоте. Некоторые взрослые из рабочих стеснялись, что занимаются голубями, и подтрунивали над собой, а то и грубовато выкручивались, оправдывая свою слабость тем, что не уважают ни рыбалки, ни водки, ни карт. Взрывник, прося гостей не посетовать на его отсутствие, не выразил пренебрежения к нашему голубятничанию. Вероятно, считал, что в этом нет для нас ничего зазорного. И это меня насторожило.
— Братовья, — сказал взрывник, обогнув палисадник, — что ж вы? А Терпения не хватило? Обганивать вздумали? Чубарую связали, Страшного нет? Страшной от голубки завсегда удует. У него имеется понятие о доме. У человека понятие о родине, у голубя — о доме. Я души не чаял в жене и детишках. Временное правительство как смахнули, я у-лю-лю с германское фронта. Посколь я был за народ и у меня было понятие о родине, вот о Магнитной, о степи и холмах вокруг нее, я поворотил и в Питер… Ну, выкладывайте, что у вас подеялось?
Мы рассказали. Он посоветовал связывать голубей на два крыла, ввел нас во двор и велел лезть на чердак. Мы робко прошли по гранитным плитам, накаленным солнцем. За углом Саша мне шепнул:
— Вдруг да лестницу уберет? — и подкрепил свой страх бабушкиной мудростью: — Мягко стелет — жёстко спать.
— Дура! — осадил его я и прикинул, что с чердака можно уцепиться одной рукой за край крыши, затем ухватиться другой, выбраться на скат оттуда спрыгнуть на каменный забор, чуть пробежать по нему и сигануть в полынь.
На турнике, подтягиваясь, я легко выжимался до пояса. Саша этого не умел. И я отменил свой ловкий побег и мараковал, как бы нам в случае чего удрать вместе.
Я приказал Саше остаться у лестницы, сам поднялся на чердак. Разыскивая в сумраке гнездо Страшного и Чубарой, прислушивался, не происходит ли чего внизу. На чердаке было полно голубей. Они ворковали, пищали, укали, а те, которых спугивал, перелетывали, звеня крыльями, при посадке хлестали ими по балкам. Я думал, что из-за этого шума мне кажется, будто во дворе все тихо. И действительно, там ничего ожидаемого не случилось. Саша, когда я выглянул из чердачного лаза, стоял на прежнем месте: взрывник баловался с цепной собакой, похожей на медведя.
Он проводил нас до околицы и уж вдогон наказал до тех пор держать голубей в связках, покамест они не начнут высиживать птенцов.
Паром отчалил от пристани, едва мы стали спускаться к переправе. Хотя мы ждали его долго и появились домой в темноте, мы чувствовали себя счастливыми. Бабушка подняла ругань, грозясь оставить нас голодными, но Саша сцепился с нею наперекрик (ему она прощала все); и она угомонилась и дала нам по тарелке горошницы, и полезла под кровать, чтобы выпить рюмочку за хорошего человека со старой Магнитки. По разумению моей матери, гораздо удобней было держать водку в шкафу, притом в отделении на уровне души: протяни руку — налей, и через мгновение выпьешь. Однако бабушка хранила бутылку с водкой под кроватью, подле стены. Достав из шкафа прямую граненую рюмку и поддев ложкой сливочного масла, она полезла под кровать. Опиралась бабушка не на ладони, а на локти: в правой руке рюмка, в левой — ложка с маслом, — поэтому вздымала кровать со всем ее чугунным весом, с толстой периной, стеганым одеялом и с тремя сугробами подушек. Бульканье наливаемой в рюмку водки обычно слышалось из-под кровати, а вот как бабушка выпивала эту водку, не было слышно! И выпивала она ее насухо, если не считать единственной капли, которая выпадала на язык бабушки, когда она, выпятившись из-под кровати и стоя на коленях, переворачивала рюмку над ртом, прежде чем поцеловать в лучистое донце. В студенческие годы полушутя-полусерьезно я пытался понять, как она умудрялась пить под кроватью, но всякий раз захлебывался водкой, а рюмку опоражнивал всего лишь наполовину.
Саша и я так проголодались, что, кроме горошницы, которую мы наперегонки уплетали, для нас ничего на свете не существовало, и все-таки мы покосились под кровать, откуда бабушка напомнила, что пьет за хорошего человека из Магнитной. Она чокнула рюмкой в поллитровку и поползла обратно, благодаря бога за то, что он дал талант тому, кто придумал электричество, и тому, кто придумал водку.
…Хотя Страшной и Чубарая один раз от меня улетели, я, однако, не потерял веры в чудодейственность жареной конопли. Утром я насыпал в карман конопли и навел в блюдце сахарной водички. Бабушка ушла в магазин. Я воспользовался ее отсутствием и подлил в блюдце водки. Голубятники утверждали, чтобы умная дичь забыла прежний дом, ее надо напоить пьяной.
Как и вчера, связки Страшному и Чубарой не понравились. Они кособочились, топырили крылья, пытались ссовывать нитки маленькими розовыми носами. Мы мешали их раздраженным и откровенным попыткам освободиться от связок.
Перед приходом Петьки Крючина голуби немного смирились со своей неволей, да и есть захотели, и дружно набросились на коноплю. Петька пришел смирный. Сколько ни подсматривал за взглядом его раскосых глаз, в них подвоха я не улавливал. Чтобы подчеркнуть, что я оттаял после нашей вчерашней ссоры, а также в знак «цеховой» доверительности, я сказал ему, что вода в блюдце разбавлена водкой и подслащена. Он одобрил это. И я испытал довольство собой. Ведь поддерживал меня не какой-нибудь задрипанный голубятник, а серьезный, неисправимый, знаменитый Петька Крючин, который к тому же до позавчера был моим благосклонным покровителем. Зная, что Петька тут, не утерпели и пришли с конного двора Генка Надень Малахай (опять он был без фуражки) и сивый Тюля. Они двигались к моей будке сторожко, словно подбирались, неуверенные в том, что я их не турну. Саша махнул им рукой:
— Да вы не трусьте, лунатики.
Они быстро подошли, стояли позади Петьки, еще не совсем надеясь, что им не перепадет за вчерашнюю подброску лебедей.
Страшной наклевался раньше Чубарой. Ему стало скучно, и он принялся ворковать, отвлекая ее от конопли, и едва она взглядывала на него, как он распускал хвост и, прижав кончики перьев к полу, делал к ней рывок. Поклонившись Страшному, Чубарая опять хватала с торопливым постуком зеленоватое, эмалевое на вид зерно, и снова он, надувая зоб и потрясывая загривком, выговаривал свое гулкое: «Ув-ва-ва-вва» — и то и дело как бы посыпал эти звуки, напоминающие дыхание ретивого паровоза, урчащими рокотами.
Генка Надень Малахай восхитился:
— А ворковистый, черт!
Не оглядываясь, Петька отодвинул его локтем. Главным ценителем судьей здесь был он, и то, что Генка Надень Малахай вылепил свое мнение об одной из статей Страшного, возмутило его. Да и я воспринял восхищение Генки Надень Малахай как нарушение приличия, принятого среди голубятников. Я повернул на него глаза. Он мелко заколебался из стороны в сторону. Ему хотелось испариться, и оттого, что никак никуда не мог деваться, он угнулся и запеленал руки в подол рубахи.
Петька выждал, покуда кощунство, совершенное Генкой Надень Малахай и как бы оставшееся в воздухе, рассеется, и уже тогда сказал, но таким тоном, словно совсем не было замечания о ворковистости Страшного:
— Красиво бушует! Настоящая мужская порода!
Раз бушует у тебя на дворе — значит, начинает признавать твой двор. Вполне вероятно — удастся удержать.
Явно у Страшного пересохло в горле. Он подбежал к блюдцу и напился глубокими пульсирующими глотками. После этого собственное мозговое состояние показалось ему каким-то необычным — насторожило горячение в зобу, — и он потряс головой и помахал кургузыми из-за связок крыльями. Обычное самоощущение не возвратилось к нему, но он не потерял бодрости, размашистыми шажками вернулся к голубке и долбанул ее в темя. Саша захохотал, потом воскликнул:
— Ну, мужик! Права качает. А то он к ней на хвосте, а она равнодушная.
Петька попробовал осечь Сашу:
— Ты, прикрой…
— Что?
— Хлебало.
— Ты не на конном дворе. Ты там командуй… У меня маленький рот, а вот у тебя в действительности хлебальник: поварёшка пройдет.
— Замолчи, Сашок, — сказал я.
Чубарая, отскочившая от Страшного, таращилась, куда бы взлететь. Страшной, видно, сообразил, что допустил оплошность, и заукал. Однако его призывное жалобное постанывание не произвело на нее впечатления. Он заворковал и, повышая гул своего голоса, вращался, понемногу подступая к Чубарой. Она заворковала с негромкой, неумелой картавинкой, свойственной голубкам, и сердито клюнула по направлению к нему, но не достала. Страшной принял ее мстительный клевок за поклон и пошел колесить вокруг нее, мел хвостом землю, взгогатывал.
— Вот бушует! — и в другой раз не удержался Генка Надень Малахай. — Ни у кого не встречал!
— Мой Лебедь, что, — грозно спросил его Петька, — хуже бушует?
— Нет, Петя. Они одинаково.
Сожаление появилось на лице Петьки.
— Что значит не голубятник, — проговорил он, обращаясь ко мне. — У каждого голубя свой голос. — И уже к Генке Надень Малахай: — Надо различать…
— Он тугой на ухо, — подсказал Саша.
Чубарая все еще тянула вверх голову. Страшной перестал ворковать. Задумался. Какой-то непорядок был в нем самом, а также в норове голубки. Над этим он и задумался. Навряд ли он додумался до того, что с ним стряслось, а может, расхотел додумываться: дескать, зачем нам, голубям, вдаваться во всякие там сложные перемены в организме? И было направился к Чубарой, чтобы выяснить ее каприз, но его качнуло, и он чуть не свалился набок, да вовремя успел подпереться крылом.
Саша рьяно ждал потехи. Он залился хохотом и никак не мог сдержаться. Легкие у Саши были малообъемные, в них не хватало воздуха на длинные выдохи, поэтому он все ниже сгибался, удушливо кашляя и взвизгивая. И меня, и Тюлю, и Генку Надень Малахай тоже разбирал смех, но крепились: останавливала строгая прихмурь в Петькином лице. Вскоре, когда Страшной, напряженно поддерживая равновесие, подошел к Чубарой и попытался поцеловать ее, а она увильнула и отбежала к огуречной грядке, он, остановившись на месте, стал браниться на нее, тут и мы не выдержали и захохотали, потому что в том, как он ругал Чубарую, было почти все человеческое: и поза, и повадки, и упрек, и обещание взбучки.
Чубарая пригорюнилась возле грядки. Конечно, Страшной решил, ему кое-что удалось ей втолковать и что уж сейчас-то она не должна пренебречь его ухаживанием, и готовно подбежал к ней, а Чубарая хлестанула его крылом и через огуречную грядку улизнула в картофельную ботву. Он искал ее среди ботвы, то обидчиво укая, то сердито бормоча. Затем вдруг прытко выскочил оттуда и прибежал к блюдцу. Я уже пожалел, что раз вил водкой воду, и хотел отогнать его от блюдца, но он даже не отпрянул него. И когда я загородил воду руками, он начал клевать мои ладони, и их пробивал, и так в них впивался, что выступала кровь. Я отнес Страшного в будку. Он и в будке продолжал буянить — долбил в березовую поленницу и врезывал по ней крыльями.
Я испытывал и растерянность, и огорчение. Я никак не предполагал такой бедовой реакции Страшного на водочную разбавку и такой дикой непокладистости, проявившейся в Чубарой. Петька понял это, однако не ушел. И я увидел, что он мне сочувствует и, пожалуй, чем-то собирается помочь. Он сказал, что нам нужно потолковать. Я догадался: у него нет желания говорить при Саше, Надень Малахае и Тюле. Эти, мол, пацаны так себе для голубиной охоты. В «шестерки», еще куда ни шло, они годятся, а серьезный разговор при них вести бесполезно: он им ни к чему.
Я попросил ребят взглянуть, не собирается ли пугать голубей Мирхайдар. Они отошли, и Петька сразу заговорил. Вода с водкой? Вода с водкой? Нельзя давать Страшному. Позабыть, наверное, позабудет старый дом, но может и шалавым сделаться. А голубь он умный, красавец, бушуй и, похоже, приживется. А Чубарая не приживется. Она из тех голубей, какие не изменяют своему первому дому. Здесь Страшному ее не потоптать. И если она даже снесется, то голубят не станет высиживать.
Чем раньше она улетит, тем лучше. Он бы советовал сейчас же ее развязать и выпустить. Вчера вечером он поймал молоденькую голубочку. Носик — зернышко, веслокрылая, как и Страшной, в чулочках, вся черная, а грудь и плечи в белой косынке, и хвост белый. Мастью, как говорится, Цыганка. Он готов подарить мне Цыганку. Держать Чубарую — пустые хлопоты. Ее надо выкинуть, а Цыганку спаривать со Страшным.
Я согласился. В груди у меня отворилась тоскливая пустота, когда я схватил Чубарую в картошке, освободил от связок и зашвырнул в небо. Чубарая, немного покружив над участком, улетела в Магнитную.
Петька ушел на конный двор.
Петька был безобманным голубятником. Если о чем-нибудь условился, то не нарушит договора. Хотя он куда-то надолго запропал и хотя, по уверениям Саши, уговорил меня выпустить Чубарую не для того, чтобы нанести урон голубятне, возникающей по соседству с ним, я надеялся — Петька не падёт до вероломства.
Солнце склонилось за полдень. Петька не показывался. Я топтался у стального кола, глядя на угол барака: оттуда Петька должен был прийти. Саша сходил к нам. Он возвратился с маслеными губами. Бабушка накормила его. Она любила из этого делать тайну. Кроме того, она почему-то придумала, будто бы я против того, чтобы она поддерживала его питанием, поэтому и запрещала ему говорить, что он поел у нас. Вот он теперь и помалкивал. Но скрытничать Саше не нравилось, и он, придерживаясь правила: «После сытного обеда по закону Архимеда нужно закурить», зашел в будку. Торопливыми, со вкусным причмоком затяжками садил папиросу и убеждал меня, что Страшной ни за что не станет спариваться с новой голубкой и не сегодня завтра усвистит. Наверняка он переживал улет Чубарой и Петькино исчезновение, и все-таки он не столько переживал, сколько радовался тому, что у него есть повод помитинговать насчет хваленой честности Крючина, а меня пообличать в том, что я простофиля.
Его смутило мое молчание. Он сел на кирпич, строгал из сосновой коры лодочку, залихватски циркал слюной. Он наслаждался состоянием сытости. За сытостью он забывал обо всем. Чувство довольства было для него как солнце для кутенка, налакавшегося мясного супа. Он запустил куском металлургического шлака в петуха. Петух не заметил, откуда прилетел шлак, и шел вдоль завалинки крупными шагами, не потерявшими обычной щеголеватости.
Из-за этого и было особенно потешно его опасливое верчение головой. Саша стал надрываться от хохота. Потом, покашляв, запел «Любушку». Он помнил мотив песни, а из слов знал понаслышке всего две строчки. Их он и повторял, горланя на все длинное огородное пространство между бараком и вилючей, в зазорах стеной будок, балаганов, коровников, стаек:
Люба, Любушка, Любушка-голубушка,
Я тебя не в силах прокормить…
В другом настроении я подгорланил бы ему, а теперь обиделся и прогнал его. Отчасти я и разозлился на Сашу. Вместо «прокормить», как я узнал недавно и сказал ему об этом, надо было петь «позабыть». Но Саша, уходя, мне в отместку опять пропел, как привык:
Люба, Любушка, Любушка-голубушка,
Я тебя не в силах прокормить.
Я погнался за ним. Он упал на мураву и, лежа на спине, смеялся, по-щенячьи дрыгал ногами. Разве захочешь лупить такого несерьезного человека?
Когда я возвращался, ко мне подбежал Генка Надень Малахай. Известие, которое он принес, объяснило Петькино исчезновение. Оказывается, его брата, Пашку, под хмельком вошедшего в стойло, сильно покусал жеребец по кличке Архаровец. Петька запряг иноходца и повез Пашку в больницу на Соцгород.
В сумерках, едва я, уставший стоять у стального кола, сел на порожек будки, появился Петька. Он подал мне маленькую голубку и пошел. Ноги у него почему-то косолапили. Да и весь он был не всегдашний: пониклая спина, руки растопырены наподобие крыльев у замученного голубя.
Я посадил Цыганку в гнездо к Страшному. Страшной уже плохо видел. Голуби плохо видят в сумерках. Он тревожно заукал и вжался в угол.
Я замер возле клетки, закрыв дверцу. Тишина в гнезде. Ни шевеления, ни звука. Битва начнется завтра, за восходом. Я вспомнил глянцевито-гладкую, легкую, как из воздуха, Цыганку и пожалел: задолбит ее Страшной. С похмелья он будет, наверно, лютый.
Утром я чуть не заревел. Страшной до того буйствовал, что повыщипывал много перьев из голубкиной головки и шеи. Растерзанный вид Цыганки и особенно эти безобразные плешины на ее головке и шее подействовали на меня убийственно. Я не разрешил Саше заходить в будку. Надо же обладать такой бессовестностью! Пришел как ни в чем не бывало да еще невинно улыбается… И если увидит, что натворил Страшной, то будет от восторга кататься по земле. В отчаянии я прилег на поленницу, но тотчас бросился к клетке, потому что Страшной защемил крыло в локте и сдавливал его так свирепо, что прогибались створки клюва. Я отобрал Цыганку у Страшного и посадил в нижнее гнездо. Страшной без промедления нырнул в это гнездо и начал вышибать ее оттуда. Я настегал его соломинкой по ногам. Однако он не только не унялся, а даже сильней рассвирепел, как и вчера, до крови расклевал мою руку.
Вошел Петька. Сразу обо всем догадался. Велел, дабы я попусту не маялся и голубям не мешал, оставить Страшного и Цыганку на несколько суток одних. Дважды в день приносить корму и воды и тут же убираться вон. Да, может убить. По-умному спаривают иначе. Голуби должны обзнакомиться друг с дружкой, облетаться над домом, а потом уж их можно сажать вместе. Ну, коль такой случай, пусть дальше вместе сидят. Убьет так убьет. А ежели спарится, держа в памяти прежнюю голубку, то шибко будет любить и никуда не улетит от нее.
Вечером я не обнаружил Цыганку в клетке, обыскался, пока ее нашел. Бедняжка так спряталась за дрова, что сама бы не смогла выбраться. На следующий день я воспрянул духом: она таскала Страшного за воротник, а едва он вырвался, то сиганул из гнезда. Правда, моментом позже он вернулся в гнездо и задал ей трепку, но вскоре, опять схваченный за воротник, жалко шнырял под зобом у Цыганки.
Эта их взаимная таска, предваряемая и завершаемая обоюдным воркованием, в котором выражались возмущение, призыв к покладистости, нежелание сближаться по прихоти людей, продолжалась еще три дня.
После, день-два, приткнувшись в разных углах гнезда, они мелко подрагивали крыльями и кланялись, кланялись друг дружке. Потом я застал их в одном углу. Спрятав воротникастую голову под грудь Цыганки, Страшной укал. Всегда почему-то мне слышалась в голубином уканье невыносимая жалоба, и я еле-еле сдерживал слезы. А тут услышал такое лучистое уканье, что тотчас посветлело на душе. Но когда я замер и вник в него, то начал улавливать в нем и то и другое, от чего время от времени щемило сердце. И вдруг мне стало казаться, что я понимаю, о чем его уканье. Ему тепло, ему гладко, ему нежно. И он проклинает свою беспощадную драчливость и обещает быть смирным и ласковым. Ему удивительно, что он был спарен с Чубарой. В это ему как-то даже не верится. Но это все-таки было, но ему каяться не за что. Ведь он не знал об ее, Цыганкином, существовании. Как хорошо, что мальчишка проявил упорство и заставил их спариться: ему тоже хорошо, он любит нас и от радости совсем не моргает, и уши его торчат и пристальны, как звукоулавливатели на военной машине.
Голубь, которого долго держат в связках, может засидеться. Он растолстеет, сделается ленивым, будет таскаться на низких кругах. Никак не обойтись без расшуровки, чтобы стая с таким голубем поднялась в вышину. И хотя во время расшуровки грохот, крик и свист стоит, не всякого сидня это погонит в полет. Иной из якобинцев, веерохвостов или дутышей променяет небо на черное жерло печной трубы.
Неугомонность Страшного указывала на то, что он не засидится. И вместе с тем пугали перемены в его поведении: обираясь, не тронет клювом связок, словно они совсем его не тяготят, не заглядится на голубей, кружащих под облаками, даже не возникнет в нем невольное желание взлететь, когда он спорхнет с Цыганки.
Петька Крючин полагал, что Страшной притворился: только ты развяжешь его — он сразу упорет.
У меня тоже было подозрение, что Страшной хитрован, но не в такой мере, как думал Петька. По уверениям Петьки получалось, что умный голубь может притворно спариться. Я так не думал и никак не мог поверить, что Страшной выбирает удобный случай, чтобы улететь. И все-таки я боялся развязывать Страшного и решился на это лишь тогда, когда куда больше стал бояться того, что навсегда загублю в нем прекрасного лётного голубя.
Хотя он как будто и не понял, что его освободили, и совсем не расправлял маховых перьев, он мгновенно взвился, потоптав Цыганку. Как звонко он хлопал крыльями, как гордо кораблил ими, потрепанными на вид! Как весело переворачивался через спину!
Совершив торжественный облет над бараком, он сел возле огуречной грядки и, торжественно бушуя, вертелся волчком, а Цыганка, выгибая грудь и приспустив хвост, толчками скользила вокруг него.
Наши опасения не отпали, и все-таки то, что Страшной вернулся на пол, было причиной для обнадеживающей радости.
Но каких-то полчаса спустя он повел себя иначе. Не стал заходить в будку, хотя Цыганка и зазывала его в гнездо тревожным уканьем. Тут-то он и расправил перья, аккуратно подогнав волоконце к волоконцу, а потом взлетел. И теперь он колотил крылом в крыло, описывая круг, но это были настораживающие хлопки. Я бросился в будку: как только выкину оттуда Цыганку — Страшной заметит ее и сядет.
Цыганка металась по гнезду. Чтобы не раздавить яйцо — вчера нащупал его в голубке, к своей и Сашиной радости, — я дал ей успокоиться и лишь тогда взял в ладони. А когда выскочил из будки, то Страшной уже тянул к горе, за которой были переправа и мордовский земляночный «шанхай».
Неужели Страшной не вспомнит о Цыганке и не повернет обратно?
На мгновение мне показалось, что он надумал повернуть: начал отклоняться ко Второй Сосновой горе. Скоро стало ясно: его просто сносило боковым ветром; сделав крюк, он преодолел напор ветра и канул за перевалом.
Без надежды на согласие я попросил Сашу съездить на Магнитную. Он боялся одиночества, безлюдной дороги по холмам, станичных собак, которые встречали путника далеко за окраиной, молча шли по пятам, изредка рыча и пощелкивая зубами. В этой повадке магнитских собак была какая-то хитрая острастка, когда испытываешь полную беззащитность из-за того, что они не собираются нападать, только припугивают, а ты все-таки сомневаешься в этом, а сам, однако, не смеешь взять палку на изготовку, чтобы не разъярить их. Из-за этих собак, пожалуй, я бы не решился идти один в Магнитную. А едва Саша согласился, то забоялся за него и стал уговаривать, чтобы он передумал. Он рассердился и побежал за башкирскими таратайками и сел на бегу в самую последнюю, которой правил старик в зеленом бархатном камзоле.
В полдень над маяком Второй Сосновой горы я углядел движущуюся точку. На всякий случай я пошел в будку за Цыганкой и когда достал ее, то обнаружил в пуховом углублении гнезда яичко. Если бы она снеслась утром — не улетел бы голубь и сейчас наверняка уже бы грел это яичко. Теперь оно пропадет. Парить без Страшного Цыганка не будет. Редко голубки парят одиночку.
Точка, двигавшаяся над маяком, приближалась, оборачивалась голубем. Мои глаза еще не привыкли к очертаниям Страшного, поэтому не угадали его.
Я выпустил Цыганку на землю, и голубь, словно там, в вышине, его крыло перебила пуля, начал отвесно падать. Падая, он вращался воронкой. Я оцепенел, какая-то минута — и он разобьется. Но он вдруг прекратил движение вниз — сделал горизонтальный рывок и потянул по кольцу. По перьям в хвосте, составлявшимся в черную вилку, я узнал Страшного и опять дал ему осадку. Он снизился. Цыганка, заметив его, стала порывисто вспархивать. Здесь бы ему и сесть: ее вспархивания своей мучительностью и стремлением к нему больше походили на биение в сетке. А он не проявил сострадания и с разворота прямиком улетел в Магнитную.
Перед закатом возвратился Саша. Собаки, как и следовало ожидать, его не тронули. Правда, он думал, что они не тронули его не сами по себе, а потому, что, стоя у могилы с кустиком паслена, он попросил папку оборонить его от опасности.
Саша знал о том, что Страшной улетел к Цыганке, и опять вернулся в станицу. Он сидит на крыше и, к удивлению бородатого взрывника, гонит от себя Чубарую — она лезет к нему с поцелуями. Саша утаил от взрывника, что Страшной спарился с другой голубкой: еще возьмет да и застрелит его за измену.
В сумерках я пил чай, придумывая, как выпросить у матери денег на выкуп голубей. Без Чубарой взрывник не отдаст Страшного. Мать никогда не скупилась для меня, однако она была против голубей, боясь, что из-за них я запушу учение. До моего соображения, зачумленного, по словам бабушки, голубиной охотой, доходило и то, что я собираюсь разорить семейную мошну: до получки придется влезать в долги. Но я не мог жить без собственной дичи и заставлял свой загрустивший ум метаться в поисках жалобных уловок.
За окном что-то вроде бы промелькнуло. Я потянулся к стеклу. Возле порожка будки, тычась клювом в доски, бегал Страшной. Наверно, Цыганка слыхала, как он садился, и невыносимо заукала. Страшной взлетел, и ударился в дверь, и упал, и снова взлетел.
Когда я примчался к будке, он лежал на боку и трудно раскрывал клюв. В смертельной тревоге я поднял Страшного. Во рту у него, под стреловидным язычком, алела кровь, он захлебывался ею. Я сунул Страшного за пазуху, весь дрожа, отпер будку, а потом клетку и приткнул его к Цыганке. Цыганка привстала с гнезда. Он повалился на крыло и, пытаясь встать, откатывал яичко. Цыганка испуганно пятилась из гнезда.
Я посадил голубей рядом. Ушел. Ночью бесконечно просыпался. «Неужели умрет?» Едва рассвело, подался на улицу. С крыльца прислушался: не воркует ли Страшной? Так громко, так бурно он ворковал прежними утрами! Как назло, на заводе раздался гогот пневматического молотка, производившего клёпку в огромном резервуаре. Этот металлический гогот перекрыл газовый выхлоп из домны, равносильный взрыву на горе Магнитной. Где-то на прокате плоско грохнулась оземь кипа стальных листов. И уже не очень далеко, на краю огромного рельсового пространства, где вчера образовалось скопище поездов, груженных коксом, рудой, блюмами, проволокой, чугунными болванками, начал симфонить «Феликс Дзержинский» и, набирая ход, сильней раздувал свой настырный паровой звук. «Феликс Дзержинский» все симфонил, когда я медленно заглянул в гнездо. Цыганка трепала перышки на голове Страшного. Глаза Страшного были закрыты. В первый момент мне показалось, что он мертв. И стало жутко… Но тут он, вероятно, почувствовал мой взгляд и приоткрыл веки.
Не меньше недели Страшной был слаб и сам не мог ни пить, ни клевать. Я поил и кормил его изо рта. Как только он окреп, то садился мне на плечо и совался клювом в губы. Я прекратил кормить его таким образом, зато приучил есть с ладони. Сердитый, он, очищая от пшеницы ладонь, больно прихватывал кожу. Я стал осаживать Страшного вытянутой рукой. Он падал с подоблачной высоты, как мы говорили, колом, стоило мне несколько раз выбросить перед собой руку во всю длину.
К старому дому он не перестал летать. Поднявшись высоко, уводил стаю — у меня быстро создалась стая из наловленных чужаков — через Урал и, покружив над Магнитной, приходил обратно. Здесь он сразу спускался и сменял Цыганку на гнезде: ей необходимо было подкормиться и тоже полетать. Плешинки на голове и шее, портившие ее вид, заросли перышками, и стало явственно, несмотря на ее усталость, что она красавица. Мне нравилось смотреть на Цыганку в те минуты, когда она беззаботно прогуливалась. Ступает твердо, четко. Малиновые лапки просвечивают сквозь чулочки. Поступи и всему боковому очертанию придает гордую статность высокий изгиб груди, хвост, развернутый веером, и веслокрылость. Летала она легко. Быстро набирала высоту, но быстро и снижалась. Она беспокоилась, как бы куда-нибудь не делся ее Страшной, и, убедившись, что он на месте, опять пускалась в полет.
Как раз во время Цыганкиной разминки вывелся первый голубенок. Когда она спустилась вниз для своей обычной проверки, то обнаружила возле поленницы яичную скорлупу, а потом услыхала капельное попискивание из клетки. Она ворвалась в гнездо и клюнула Страшного: дескать, убирайся, раздавишь малыша. Он успокоительно укнул. Это не уняло ее новой тревоги. Она попыталась подобраться ему под зоб, чтобы сдвинуть его с птенца. Тогда он возмутился, вытолкнул Цыганку из клетки, а возвратясь на место, долго ворковал, выговаривая ей за панику и за то, что она недооценивает его отцовскую заботу, за то, что рвалась на гнездо до наступления своей смены.
Цыганка, хотя и усовестилась, однако не возвратилась на круг. Она сидела на дровах, не спуская глаз с насупленного Страшного. Едва он покинул клетку, бормотнув: садись, мол, давай, торопыга, она рванулась в гнездо и картавила оттуда, будто он слушал, о том, вероятно, что право опекать птенцов — прежде всего материнское право. Их размолвка на этом и закончилась, а дежурства мало-помалу начали учащаться: птенцы становились прожорливей. Это продолжалось до тех пор, пока голубята не покрылись костышами, синеватыми и кровавыми изнутри; в этих костышах, с длинными долбаками — так мы называли их клювы — они походили на уродцев. Мне и Саше не верилось, что когда-нибудь они примут «человеческий» вид, а из-за того, что их носы обещали быть длинными, мы приходили в неутешное отчаянье. Петька Крючин потешался над нами: сами из смердов, а хотим, чтобы голуби у нас были породистые, как брамины или кшатрии. Петька увлекался историей и любил козырнуть ученостью.
А Страшного почему-то совсем не тревожила гадкая внешность голубят. Для него важней всего было, что они есть. Уже одно то, что они передвигаются шлепающими шажками и норовят клевать мух, а промахиваясь, теряют равновесие, вызывало в нем бурную радость. Он бушевал, наклоняясь над ними. Их, вероятно, пугал гул его голоса, а может, им казалось, что над бараком повис аэроплан, и они в страхе пригибались, помаргивали, их костышовые хвостики — из каждой дудочки выдувалось лопатчатое перышко — мелко вздрагивали. Но на этом Страшной не утихал: он только набирал разгон для торжества. Еще воркуя, он взмывал в воздух. За ним срывалась Цыганка. Они с оттяжкой хлопали крыльями, кораблили, совершая начальный круговой облет своего дома и своих птенцов, которые теперь поворачивали к небу то левый глаз, то правый. Потом Цыганка и Страшной устремлялись вверх. И когда достигали высоты, на которой над заводом широко пласталась буро-черно-желтая кадь, то начинали оттуда падучую игру. Цыганка играла мерно, плавно, словно заботилась о том, чтобы снизу ясно просматривались ее движения: перекидка через спину и присаживания на полный разворот хвоста, блистающего пронизанной белизной.
Страшной играл азартно. Завихрится воронкой по солнцу или против солнца. Вскоре сядет, как и Цыганка, на развернутый хвост и покатится с небес по вертикали, что и не разберешь, как он кувыркается, лишь различаешь вращение рябого шара, низвергающегося к земле. И захватит у тебя дух от его бесшабашного падения, и ты восторженно переглянешься с Сашкой, и Петькой, и Генкой Надень Малахай, и Тюлей, и еще с кем-нибудь из ребят и подумаешь, что пора бы ему прекратить кувыркания, и тут же в оторопи охватишь взглядом расстояние между ним и землей, да еще пробежит крик от мальчишки к мальчишке: «Заиграется!» — и у тебя не хватит души для выдержки, и ты свистнешь, чтобы вырвать голубя из лихого забытья, и за тобой засвищут, заулюлюкают, и почти у самой крыши он как бы выстрелится в горизонталь, и вознесется общий вздох: «Вот, гад, чуть не разбился!» — а он уже тянет в синеву, где реет Цыганка, которая только что наблюдала за его игрой, наверно, обмирая от страха еще сильней, чем мы, а то и просто любуясь своим ловким, храбрым Страшным.
Мастью птенцы удались в Цыганку, только у старшего на затылке завился хохол, как у Страшного. Оперенье их стало приглядным. Но из-за того, что ходили неуклюже, сутулились, пищали и полностью не сбросили ржавый младенческий пушок, все еще оставались неказистыми. Петька считал, что они будут на редкость красивы и умны. Он хотел их у меня выменять на пару дутышей, но я, хоть и мечтал обзавестись дутышами, отказался. У голубятников было поверье, что первый выводок надо оставлять себе, а то в голубятне не будет приплода. Второй выводок я обещал подарить Петьке, и он при своей скромности, как ни странно, хвастался этим.
Цыганята, стоя на вытянутых лапках, начали подолгу махать крыльями; изредка в эти минуты они невольно поджимали лапки и, чуть зависнув, шлепались в испуге на землю; от маха их крыльев изо дня в день все упруже пел воздух, пело и в наших душах, но обычно это оборачивалось для нас волнением: скоро обганивать Цыганят. В эту пору молодняк доверчив, глуповат — может сесть у незнакомой голубятни. Петька просил не делать без него обгонку. Он приготовится, и если голуби Жоржа-Итальянца или Мирхайдара приманят Цыганят, то подтащит под них сразу всю свою стаю: она уведет пискунов в наш конец, а тут уж мы сообща их переловим.
Но получилось все неожиданно. На утренней зорьке, после кормления, я собирался произвести обгон, но хохлатый Цыганенок, не поклевав пшеницы, вдруг взлетел на крышу барака. Накануне утром я посылал разведку к своим опасным соперникам. Саша, Генка Надень Малахай и Тюля уверили меня, что в последнее время ни Мирхайдар, ни Жорж-Итальянец рано не встают.
Я растерялся, когда Цыганёнка, который не успел освоиться на крыше, кто-то вспугнул леденящим свистом.
Потом под Цыганёнка полетели чужие голуби, а за будкой взорвался такой многоглоточный ор, что моя стая фыркнула в воздух. И мигом в окно выставилась мать Генки Надень Малахай и стала нас поносить за голубятничество, а на конном дворе напугались стригуны и с оглашенным ржанием понеслись вокруг конюшни.
Переполох еще не утих, а я уже определил по жёлтым голубям, что это Мирхайдар с братьями и «шестёрками» подтащил под меня свою стаю.
И его и мои голуби сбились в табун и ходили на кругах, понемногу оттягиваясь к бараку, где жил Мирхайдар. Наверняка там у него давали осадку. Он очень вероломный, а также предусмотрительный: голубей на осадку всегда оставляет заранее, сажая их в связки, а у меня ни в клетке, ни на полу не осталось голубей. Я послал Сашу к Петьке. Несколько раз выбросил перед собой руку. Страшной лишь колебнулся, но снижаться не стал. И не видно было, что он собирается играть. Неужели потому, чтобы не покидать Цыганят?
Табун разорвался на две кучи. Чубатый пискун потащился за голубями Мирхайдара. Так он и таскался за ними битый час. И даже после того отклонился за Мирхайдаровой стаей, когда моя стая было вобрала его в себя.
Как я ни злился на хохлатого Цыганенка, вместе с тем я не мог не восхищаться им. Мы выкидывали под него и Петькиных и моих голубей, но безрезультатно. Зато чуть-чуть отдохнув на бараке Мирхайдара, Цыганёнок шел в лет, и Мирхайдару опять и опять приходилось поднимать стаю. Он вымотался, покамест осадил его на пол.
Я видел, как Цыганёнок сел среди голубей Мирхайдара, и, едва не плача, простился с ним. Дело к вечеру. Зоб у него пустым-пустой, и пить хочет, конечно, страшно.
Но не тут-то было. Хоть и пискун, а клюнет осторожненько пшеничку и приготовится взлететь, лишь только Мирхайдар, стоящий шагах в пяти, сделает малейшее движение.
Чужаки, прежде чем напиться, обычно вспрыгивают на борт консервной банки. Тут и ловишь их. А Цыганёнок не дал себя схватить. Отпивал понемногу прямо с пола, не спуская своего янтарного глаза с Мирхайдара.
В конце концов, Мирхайдар решил действовать нахрапом. Он погнал голубей к открытой двери балагана. Чтобы проучить за нарушение порядка. Цыганенка уцепил за макушку мохнолапый Жук. Мирхайдар хотел воспользоваться этим, прыгнул, как рысь, да испугал Жука, и Цыганёнок, освободившись, взлетел на барачную трубу. На этой трубе, уже в послезакатную сутемь, Мирхайдар и поймал его. Я предложил ему в обмен на Цыганенка пару краснохвостых (он зарился на них), но Мирхайдар заявил, что вперед согласится на обрезанье, чем сменяет кому-нибудь такого неслыханного пискуна. Тут же он поклялся, что удержит его. Без связок удержит. И удержал. Чего придумал, жох! Надевал на Цыганенка своего рода чехол с дырками для головы и лапок.
Я никак не мог примириться с этой потерей, даже теперь, когда Мирхайдара нет на свете, а от Цыганенка и косточек не осталось, почти с прежней остротой я переживаю, что проворонил его.
Я сам был виноват: достукался, как говорила мама. Слова, данного ей, я не сдержал. Скверно вел себя в школе: разговаривал во время занятий, играл на деньги в «очко», забавлялся брунжанием лезвия, воткнутого в парту. Кроме того, что я не слушал уроков, я ещё редко брался за выполнение домашнего задания, чаше только притворялся, и бабушка похваливала меня за то, что я вникаю в умственность.
Учителем немецкого языка у нас в классе был беженец из Польши Давид Соломонович Лиргамер. Перед тем как он пробрался к нашим, ему пришлось просидеть целые сутки под развалинами огромного варшавского дома. Хотя ему не было и двадцати лет, волосы на голове у него были полностью какие-то ярко-снежные. Я жалел его за эту седину, но, пожалуй, моё доброе отношение к Лиргамеру зависело не столько от жалости, сколько от того, что он поражал меня своей приятной, мягкой, неизменной вежливостью. У нас были чуткие, строгие, необычайные, обворожительные учителя, но был вежлив лишь он один. Хоть он и сорвался (все-таки поделом мне, поделом), до сих пор я вижу его среди массы людей, которых узнал, почти особняком.
Мои школьные дерзости, проказы, отставание узнались дома благодаря Лиргамеру. Он объяснял новый материал. Чтобы ему не мешать, я читал. Держа книгу на ладонях, я подносил ее снизу к щели в парте и спокойно почитывал. Уж если меня и чертёжника устраивал договор: я не хожу на его уроки, а он выводит мне за четверть «хорошо», то Лиргамер, по моему убеждению, должен был быть доволен, что я сижу тихо, соблюдаю приличия и не без пользы для головы. Но он-то думал иначе. Книга была Петькина, занимательная — про английского короля Ричарда Львиное Сердце. Я зачитался и не заметил, как Лиргамер остановился поблизости от меня. Когда он крикнул: «Жьж-жю-лик, видь из класс-са!» — я никак не предполагал, что этот нетерпеливый приказ относится ко мне. Я подумал, что он относится к Ваське Чернозубцеву, сидевшему передо мной, и даже постучал ему в лопатку.
— Выбирайся, кому говорят?
И тут я засёк, что ясные глаза Лиргамера, увеличенные толстыми линзами очков, смотрят не на Ваську, а именно на меня, точней, не смотрят, нет — яростно взирают. И опять крик, прямо мне в лицо:
— Жь-жюлик, видь из класс-са!
Я оскорбился и сказал, чтобы бы он не обзывался. А еще сказал, что если бы он по-доброму, то я бы вышел без задержки, а теперь не выйду нарочно.
Он сходил за директором. И директор увел меня из класса, уверив в том, что Давид Соломонович ещё не познал всех тонкостей русского языка и, конечно, по чистому недоразумению использовал слово «жулик». Директор благоволил ко мне. Он жил на той же линии — через барак от нас. Время от времени он захаживал к нам. Мать и бабушка рассказывали ему о своей женской доле. А доля у них была горькая, особенно в пору их деревенской бытности. Потчевали его белым вином, селедкой, желтоватой бочковой капустой и черемуховым маслом, представляющим собою смесь сливочного масла с истолченной в ступке сушеной ягодой. Свои воспоминания они перебивали отступлениями, касавшимися меня. Мать просила директора смягчиться, не прогонять меня из школы, а там я, глядишь, войду в «твердый разум и налажусь». Бабушка, поддерживая дочь, обещала каждый вечер творить молитву за его здоровье. Он без того твердо придерживался цели — сделать из этого сорванца человека — и поэтому выслушивал их благосклонно, а потом наставлял, как обходиться со мной. Хотя он говорил для них, они то и дело требовали от меня, понуро сидевшего на сундуке и приткнувшегося виском к шкафу, чтобы я крепко усваивал внушения Ивана Тарасовича.
И в этот раз директор тоже заглянул к нам, но с Лиргамером. У него было смеющееся выражение лица. Он таинственно мне подмигнул, указав глазами на Лиргамера.
Я так понял ею кивок, что давай, мол, малыш, приготовься к диковинной потехе. Но потехи не было, то есть, с его точки зрения, она была, а с моей — была стыдобушка: Лиргамер извинялся передо мной, матерью и бабушкой за непомерную нетактичность. Мы уверяли его, что это нам надо просить у него прощения. И просили прощения. Но он тряс головой и доказывал своё. Он страдал и не знал, как ему очиститься перед школой и прежде всего передо мной.
— Ты пей и закусывай черемуховым маслом, — говорил Лиргамеру директор, — и в тебе образуется стерильная чистота.
Приход Лиргамера и директора отозвался на участи моих голубей.
— Завтра же ликвидируй голубятню, — сказала мать, когда ушли директор и Лиргамер.
Я собрался схитрить — если поволынить и быстро наладить успеваемость и дисциплину, то она смилостивится. И она бы смилостивилась, кабы не коварство бабушки. На птичьем рынке она сговорилась с барышником о том, что оптом и по дешёвке продаст ему голубей. Пока я был в школе, сделка состоялась, и барышник унёс в мешке всю мою стаю.
Утром, постояв у дверей будки, я зачем-то побрел на переправу. Над прудом, отслаиваясь от воды, лежал туман. Местами он вздувался серыми башнями. Неподалеку в нем бодро стучал катерок, и, накрывая этот стук, то и дело широко и тонко распускались клубки звона — ударял паромный колокол.
Едва паром, сплющивая бортом автомобильные покрышки, подвалил к пристани, с него на берег прошёл верблюд, таща рыдван с арбузами, пара быков проволокла воз сена, просвистела свадебная тройка, проехала цыганская кибитка, влекомая низкорослым башкирским коньком, высыпали красили-артельщики из России, с мая по ноябрь живущие в Магнитной, у каждого за плечом узел для разноски трафаретных ковриков, покрывал, накидушек и всякой перекрашенной одежды.
Возчики с веревочными кнутами стали уговаривать киргиза, управлявшего верблюдом, продать арбуз. Киргиз был доволен, что ещё не доехал до базара, а уже навязываются покупатели, но торговать не стал: нужно прицениться. Кибитку задержали бабы в чёрных полушалках, цыганки что-то наборматывали им из тёмной брезентовой глубины, и зубы их сверкали, и закатывались плутоватые глаза, и качались плоские золотые серьги. Кудрявый парень увязался за тройкой, прося взять его в дружки, а ему кричали, что все свадебные должности позаняты своими и пришлые не требуются. Красилей окружили плотники и уговаривали их бросить свое маркое ремесло и подрядиться вместе с ними строить в зерносовхозе элеватор.
Еще вчера, как и у всех этих людей, у меня был интерес, который окрылял душу, а теперь его нет, и я не представляю себе, зачем жить.
За спинами плотников я проскользнул на паром, и когда переплыл на правый берег Урала, то ударился вверх по холму.
В станице гоняли дичь. Стая взрывника, кружившая быстро и слитно, белела на солнце. С новой силой вспыхнула моя маета. И, проклиная себя за измену обещанию, я не знал, куда деться от обиды и тоски.
Поздней осенью такая пустота в степи за Уралом, что кажется — всё вымерло. Сусликов и тех почти не видать. А было многозвучно от жаворонков, и ящерицы струились меж кочковатыми кустиками старника, и совы спали на копешках, и горностаи шастали в ложбине. Обесцветились растения, кроме конского щавеля, кровохлёбки и нивянок. Да еще выделяются среди глинистого однообразия стеклянные волоконца семян кипрея. Татарник и тот поблек, и только и заметишь его по скрюченной верхушке. И запахи как ветром унесло. И словно не пахла, как березовый сок, серебристая по ножке и лепесткам сон-трава, и не тянуло через увалы аромат горицвета, фиалки, ястребинки, цикория, кипрея, пижмы, поповника…
Я ломился напрямик по этой тусклоте, и моя неприкаянность скрадывалась, как бы терялась в бурьянах.
Я быстро добрался до Мартышечьего озера. Полежал на мхах. Нарезал рогозовых «палок» и успел вернуться домой до ухода в школу. Боль во мне, похоже, перегорела, и я вроде бы смирился с запретом держать голубей. Я не подосадовал на бабушку, когда она, зачерпнув ложкой сливочного масла, полезла под кровать. Даже мысль о том, что теперь не меньше недели бабушка будет праздновать на голубиные деньги, не обострила меня.
Возвращаясь из школы, я то ли загадывал, то ли умолял кого-то: «Хотя бы они не прилетели», — но на всякий случай пошел вдоль сараев, балаганов, будок. Взглянул на барачную крышу. Там сидел голубь. Я подумал, что обмишулился. Уже темновато, и можно принять за голубя какой-нибудь рваный ботинок, закинутый на крышу. Чего только туда не забрасывают. Я решил больше не смотреть на крышу и хотел уйти домой, но не утерпел. Действительно, на гребне крыши сидел голубь. По белой гладкой голове и вытянутой шее я узнал младшего Цыганёнка. Уже через мгновение я бросился в барак за ключом. Едва открыл будку, Цыганёнок слетел на землю и торопливо побежал к порогу. Я так был обрадован, что понёс Цыганёнка домой. Мать с бабушкой подивились: пискунишка, которому году неделя, прилетел, да еще и раньше старых голубей. Мать налила в блюдце молока, а бабушка насыпала чечевицы на жестяной лист, прибитый перед поддувалом голландки. Я сказал, что в незнакомой комнате он не станет есть, а вот стекло наверняка вышибет. Чтобы Цыганёнок не убился или не порезался, прежде чем пустить его на железо, я открыл окно. Он сразу вспорхнул, вылетел и сел на пол, возле огуречной грядки. И это поразило их.
Я накормил Цыганенка возле будки, и когда, оповестив своих дружков о его возвращении, пришел домой, то мать с бабушкой всё ещё восхищались тем, что младший Цыганёнок — башка, а также толковали о поверье, будто у голубей человеческая кровь, и склонялись к тому, что в этом есть резон: умом, повадками, семейным укладом, привязанностью к дому они напоминают людей.
Со дня на день я ожидал прилёта Страшного и Цыганки, но они не появлялись. Пискуну было одиноко. Много им заниматься я не мог — подгонял успеваемость. Чтобы он не сидел в затворничестве, я выпилил в нижней части двери отверстие, и Цыганёнок покидал будку и залазил обратно, когда ему вздумается. Он летал с Петькиной стаей и со стаей Жоржа-Итальянца. Но чаше всего он летал со стаей Мирхайдара и всегда рядом с хохлатым Цыганёнком. Иногда он исчезал из неба нашего участка. Где его носит, я не знал, да и не хотел знать. Мне было ясно, что Цыганёнок любит летать, что он вольный голубь и что, хоть убей, не сядет у чужой голубятни, если даже к Мирхайдару, куда садится его брат, ни разу не спустился. Меня бесило, когда кто-нибудь из мальчишек говорил в его отсутствие:
— Опять Цыганёнок шалается над городом.
Для голубятников ожидание первого снега — как ожидание первого несчастья. Снег перекрашивает мир. Были горы верблюжьего цвета, выше землянок на склонах темнели убранные огороды, а верх землянок был пестр: черный — полито смолой, бурый — крыт железом, сизый — досками, белый — берестой. Пропали серые крыши конного двора, красная крыша клуба железнодорожников, зеленая крыша детского сада, разномастные крыши бараков, оранжевый зонт над трубой котельни, изумрудные крыши завода, в стекле которых мерцала на солнце медная проволочная арматура. Исчезли черные домны, глинисто-рыжий ручей, текущий с горы Атач через город, и глинисто-рыжий лед пруда в месте впадения ручья. Куда-то делись другие цветовые ориентиры. Голуби дуреют от этой перекраски. Они не кружат над свежей, слепящей, беспредельной белизной — плутают, носятся, мечутся, будто промчался в небе ураган и расшвырял их, и они никак, не могут собраться в стаи. Но понемногу налаживается привычный порядок. Стройность ему возвращают голуби, уже зимовавшие не однажды. Сбиваясь в маленькие кучки, они начинают размеренное вращение над угаданной, тысячу раз облетанной площадью, ожидая, когда соберется вся их разбредшаяся стая. К вечеру редко в какую голубятню соберется вся дичь. В некоторых голубятнях не досчитываются и старичков.
Нежеланный день. Лень хаоса, обожженных резким светом глаз, отчаянной беготни, невероятных потерь.
А для кого и день азартной ловли и богатой поживы!
Приближение первоснежья тревожило меня не только тем, что я могу лишиться Цыганёнка, а также и тем, что после него навряд ли дождусь Страшного и Цыганку.
Как я был счастлив, когда холодным утром с иссиня-свинцовыми тучами услышал крик Саши:
— Цыганка, Цыганка идет по крыше!
Я схватил Цыганёнка и побежал за Сашей. Голубка, отдыхая, сидела на бараке директора школы Ивана Тарасовича. Я выбросил Цыганёнка, и она тотчас взлетела. От радости было попыталась бить крыльями и кораблить, да чуть не врезалась в землю. Там, где она жила, у нее оборвали крылья. Они еще не отросли как следует, а она подалась восвояси и вот уже летит около Цыганёнка. И прекрасно, что она прилетела накануне первого снега. Значит, есть надежда, что если Страшной в зимнюю пору будет стрелять над участком в своем поисковом полете, то он увидит Цыганку с Цыганёнком и сядет за ними, хотя и не узнает ни нашего барака, ни моей будки.
Ночью, как и предполагала бабушка — у нее кололо под крыльцами, — выпал снег. Я очумел от того нежного преображения, которое совершилось во всем. Замок на будке напоминал полярную сову, трансформатор, взгроможденный на помост высоковольтного столба, походил на хлопковый тюк. Что-то гусиное было в паровом подъёмном кране, который стоял на железнодорожном пути близ вагонного цеха. В дырке над порогом появился Цыганёнок и мигом отпрянул назад. Немного погодя он повысовывался из лаза, опять выскочил на порог и, поозиравшись, спрыгнул на белое. Оттого ли, что он провалился в снег, оттого ли, что не знал, что это такое, а может, ему показалось, что лапки его обстрекало, Цыганёнок взвился и с лёта нырнул в лаз.
Я наспех оделся, подмел веником землю перед будкой и выпустил Цыганку с Цыганёнком. Они долго таращились по сторонам и в небо, где уже происходила голубиная суматоха. Дичь Мирхайдара переполошилась сильней, чем Петькина и Жоржа-Итальянца.
Мирхайдару нравилось жевать воск. Он жевал его беспрестанно, стараясь, чтобы получалось с прищёлком. В прищёлках, по словам Мирхайдара, была самая что ни на есть сладость. Учителя мирились с его дурной привычкой, но все-таки выставляли с уроков из-за этих прищёлков. Желваки на скулах Мирхайдар нажевал себе чуть ли не с кулак величиной.
Растерянное лицо Мирхайдара с огромными двигающимися желваками вдруг представилось мне, когда я услышал, что пуще всех переполошились именно его голуби. Я не хотел ему урона и даже взволновался, как бы он не потерял сегодня нашего хохлатого Цыганёнка.
Мой Цыганёнок, набив зоб пшеницей, взмыл вверх, а Цыганка лишь дотянула до крыши. Там она и сидела, обираясь и наблюдая за небесной неразберихой, покамест он не вернулся. Он тоже принялся охорашиваться и весело глазел в лучистый воздух.
Я не понял, почему они вдруг вытянулись. Было впечатление, что они заметили неподалеку ястреба, хотя никакой хищной птицы в это время в городе быть не могло. И сорвались они с крыши так резко и сильно, как в опасности. Через какую-то секунду, к моему недоумению, Цыганёнок начал звенеть крыльями, а Цыганка, летевшая вровень с ним, принялась кораблить своими тупыми крыльями. Секундой позже мне всё стало ясно: от заводской стены тянул Страшной. Он косокрылил — правое крыло у него было короче левого. Узнав Цыганку и Цыганёнка, он перекувырнулся, сел на хвост и угодил на телеграфные провода, тянувшиеся вдоль дороги.
Я бросился огибать будки, сараи, балаганы. Поднять! Спасти! И когда обежал их, то увидел, что Страшной тянет к моей будке над пышной порошей и от взмахов его крыльев взвихриваются снежинки.
Чтобы избавить Страшного от косокрылия, я оборвал ему левое крыло. Отрастание перьев ослабляло холодоустойчивость Страшного и Цыганки. В морозы я заносил их домой. А Цыганенок не мёрз в самую огненную стужу. Я оставил его в клетке; он решался летать даже в остекленевшем от мороза небе. Однажды я запозднился в школе. За моё отсутствие к будочной двери надуло сугроб, и он успел затвердеть, как фаянс. Цыганёнка в клетке не было. Вполне возможно, что дырку замуровало перед наступлением вечера, поэтому он не мог попасть к себе в гнездо. Поиски не принесли утешения. На рассвете я встал и обнаружил Цыганёнка в тупичке между нашей будкой и соседским балаганом. Он спал на черенке совковой лопаты. И до этого происшествия я знал о холодоустойчивости голубей и лишь теперь догадался, что зиму они коротают почти с пингвиньей выдержкой и бодростью.
Голубятничать, как раньше, до бабушкиной сделки с барышником, у меня не было желания. И не потому, что я не хотел школьных неприятностей и боялся, что участь Страшного и Цыганки с Цыганёнком повторится. Просто мне открылась в вольной воле, которую я дал Цыганёнку, какая-то необъятность простора, движения и красоты, что я не представлял себе, как смогу лишить всего этого Страшного и Цыганку, и мечтал сохранить в голубятне неожиданно возникший свободный порядок.
Когда они стали вылетать втроем, то пропадали в небе почти все светлые часы дня. Иногда они приводили с собой чужаков, я дарил их бабушке, и у неё возникал повод для залезания под кровать.
По теплу голуби начали приводить с собой голубку оригинальной масти: по белому фону синеватые закорючки, напоминающие арабскую вязь. Голубка ходила вместе с Цыганёнком, но к вечеру, поднявшись, нарезала через металлургический комбинат и скоро скрывалась в его железисто-чёрной копоти. Как-то увидел (уже просохло, и на полянах зеленела мурава), что Цыганёнок целуется с этой голубкой. Вот тебе штука! Я даже замахнулся на них. Их недоумение было недолгим. Они снова принялись целоваться, а потом со счастливым боем крыльев совершила кольцевой облет барака и сели.
В этот час возвращался со смены бородатый взрывник. По пути к переправе он купил на базаре пшеницы и нёс её в мешке, разделив плечом надвое. Отдыхая, он расспрашивал меня о Страшном, как бы для себя сказал, что Чубарая до сих пор без пары. В масти голубки — по белому синеватые закорючки — он увидел сходство с письменным камнем, на том тоже такие значки. Тем, что назвал голубку Письменной, он вывел меня из затруднительного положения и опять оставил о себе хорошее впечатление. Голубка словно ждала, чтобы её нарекли. С этого дня она поселилась у Цыганёнка в гнезде.
К июню Страшной и Цыганка вывели птенцов. Я исполнил свое обещание: отдал их Петьке Крючину, едва они окостышились. Клевать они умели, но с неделю донимали Петькиных голубей приставаниями, просили себя покормить, за что старички секли их крыльями.
Страшной и Цыганка подолгу сидели на конюшне, с тоской глядя на пискунов, и оба возмущенно ворковали, если при них обижали малышей.
Письменная почему-то неслась на бараке, всякий раз яичко скатывалось с крыши.
Когда началась война, я решил, что Страшной и Цыганка с Цыганенком — в Письменной я сомневался — могут пригодиться на фронте. От кого-то я слыхал: умные голуби после специальной тренировки бывают прекрасными войсковыми гонцами.
Мы с Сашей принарядились. Саша был в сатиновой косоворотке, сереньком с коричневой ниткой бумажном костюмчике, в ненадеванных ботинках, шнурующихся на крючки. Всё сидело на нём из-за своей большины, как чучело на колу, и все-таки ему было радостно: мать держала его выходные веши в сундуке под ключом. Ожидая меня у будки, он пел что есть мочи:
Люба, Любушка. Любушка-голубушка,
Я тебя не в силах прокормить…
Я надел парусиновые тапочки, брюки из темного сукна с мохнатым ворсом, матроску, угрожающе трещавшую в подмышках. Я подсунул Страшного и Цыганку под резинку, вдетую в подол матроски. Саша приткнул Письменную и Цыганёнка к плечам, под полы френчика. И мы направились в городской военный комиссариат. Дорогой со стороны переправы промчался танк Т-34. Едва мы проскочили сквозь пыль, поднятую танком, то увидели Мирхайдара. Под вельветовой курткой у него возилась дичь. По тому, как он был раздут в корпусе, можно было прикинуть, что тащит он под курткой чуть ли не всю свою стаю. Я подумал, что Мирхайдар идет в комиссариат, и сильно расстроился. Вдруг да выберут его голубей, а наших забракуют? Оказалось, что вчера он играл с Бананом За Ухом. Тот выкинул у его барака дюжину голубей, и все они улетели. И Мирхайдару пришлось расстаться с парой Жёлтых. Мирхайдар шел на трамвай, надеясь отыграть Жёлтых у Банана За Ухом. Я было повеселел, но тут же ощутил разочарование. Он и не додумался до того, что голуби могут с пользой послужить на фронте, и отнесся к нашей затее снисходительно. Зачем, дескать, использовать для связи беззащитную птицу, коль существуют для этой цели телефоны и рации? Телефону или рации что? Мертвые аппараты, им не страшно. А голубя убить может. Жалко.
— А людей тебе не жалко? — спросил я.
— Людей жальчей, — сказал Саша.
— Сами виноваты. Кто затевает войну? Кто оружие делает? Чем же голуби-то виноваты?
— Ничем. Правильно. Только, ежели фрицы нас перекокают, голубям хана: всех, гады, сожрут. Значится…
— Я паспорт получу, — перебил меня Мирхайдар, — сразу добровольцем запишусь. А дичь братьям оставлю. Она мне дороже меня.
Соображение Мирхайдара и озадачило и поколебало нас, но оно не изменило нашего намерения.
Мы перебежали шоссе перед головой длинной пехотной колонны, спускавшейся к Одиннадцатому участку. Красноармейцы двигались в обычной, табачного цвета, форме, наискось перехваченные скатками. Хотя слышался не грохот их сапог, а только слитное шуршанье, однако оно гулко и почему-то больно отзывалось в ушах, вероятно из-за того, что шествие было молчаливым, лица суровыми, командиры не подавали команд. С металлургического комбината не доносилось ни звука, словно ему было известно, что они уходят, и он примолк, прощаясь. Я был потрясён этим совпавшим молчанием.
Не меньшее потрясение произвела в моей душе и моя собственная бабушка. Возвращаясь с базара, она остановилась по другую сторону карагача, близ которого стояли мы с Сашей. Она не замечала нас, вглядываясь теряющими зоркость глазами в ряды проплывающих лиц. И вдруг она опустила на землю кошёлку, истово как-то выпрямилась и начала, высоко воздев руку, крестить бойцов, миновавших её, и негромко, но твердо произносила:
— Милостивец, спаси и сохрани!
Я не стыдился, что бабушка верит в бога, а тут испытал за неё гордость: она любит этих людей, которые шагают на вокзал и которых никто не провожает, да и не может проводить: их родные не здесь; она чувствует, что они нуждаются в чьём-то горячем благословении, в каких бы словах оно ни выражалось; она желает им жизни и победы, чего им сейчас хочется больше всего на свете.
Пробраться к сосновому двухэтажному дому военного комиссариата было трудно: на подступах к нему рокотала, громоздилась, страдала, тешилась музыкой темноодежная толпа. Группа крупных мужчин волновалась из-за того, что их долго не выкликают. По спецовкам и по синим очкам, привинченным к козырькам кепок, можно было догадаться — это сталевары. Вокруг старика с гармонью вились женщины, постукивая подборами и охая; самая удалая, красивая, заплаканная то и дело останавливалась перед высоким мрачно-пьяным кудряшом и частила задорным голосом:
Да разве я тебя забуду,
Когда портрет твой на стене?!
— Все и всё забывают, — повторял кудряш.
Глаза его с цыганским коричневым блеском как бы отсутствовали.
Кольцом стояли физкультурники, почти все были любимцами городской пацанвы: Иван-пловец, лобастый добряк, называвший предметы в уменьшительно-ласкательной форме; длинный волейболист Гога, гимнаст Георгий с прической «ежик», центр нападения из футбольной команды металлургов Аркаша Змейкин. Теперь не скоро увидишь, а может, и совсем не увидишь, как Иван своим угловатым кролем торпедой проскакивает стометровку на водной станции; как мощно «тушит» Гога, иногда сбивающий мячом игроков; как Георгий, качаясь на кольцах, делает стойку; как Аркаша Змейкин всаживает штуку за штукой в ворота «Строителя», «Трактора» или «Шамотки». Мы бы пролезли между парнями, теснившимися в сенях и в коридоре, если бы не боялись раздавить голубей. К нам подкатился один из этих парней — мордан блондинистый.
— Что, огольцы, принесли папке выпить-закусить? Ваше дело в шляпе. Грузовик оттаранил вашего папку на вокзал. По червонцу за бутылку. Сойдемся?
Саша не утерпел и захохотал. За Сашей и я покатился со смеху. Повиливая боками, он обождал, пока мы просмеемся, и подступил с угрозой:
— Берите за бутылку по червонцу и хиляйте отсюда, а то в лоб замастырю.
— Ну, ты! — тоже с угрозой сказал Саша, ссутулясь и вытянув шею. Блатяга, чистый блатяга! — Ну, ты, не тяни кота за хвост.
Тут вышел с кипой бумаг в руке сам комиссар. Мы кинулись к нему. Он опешил от нашего предложения, но сразу смекнул, что огорчать нас не следует, и, взглянув на Цыганёнка и Письменную и ласково притронувшись к их головам, поблагодарил нас за патриотичность и велел крепче учиться, особенно по физике и математике. Про голубей же сказал, что, если они потребуются для армии, об этом будет сообщено в школы через администрацию.
Выбираясь из толпы, мы увидели, что длинный Гога, Иван-пловец, футболист Аркаша Змейкин и гимнаст Георгий заскакивают в кузов полуторки. Когда машина тронулась, мы запустили в воздух голубей, и физкультурники вскинули над плечами кулаки.
Держать голубей так, как держал их я, было, по выражению бабушки, начётисто. Пока я ловил и продавал чужаков, пока с помощью Страшного и Цыганки выигрывал, дичь и деньги, мне было выгодно иметь голубятню. Прибыль, которую получал, я тратил на пшеницу и коноплю. Но стоило мне отказаться от ловли чужаков и от голубиных игр, как я почувствовал, что расходы на корм — дело нешуточное.
Голуби — жоркие птицы, первые чревоугодники среди них — жирнюги, ленивцы, сладострастники, сизари, засидевшиеся. Однако и среди голубей встречаются малоежки. Тут особняком летуны: почтарь, турман, чистяк, оренбуржец — лишь он один может взлетать и опускаться по прямой, как жаворонок, — а также голуби, озабоченные своей красотой: дутыши, трубачи да ещё те, кто чистоцветной масти и одарен артистической статью — пульсирует шейкой, хохочет, принимает декоративные позы.
Хотя Страшной с Цыганкой и Цыганенок с Письменной быстро наклевывались, забота о корме становилась для меня с каждой новой военной неделей все более сложной, даже трудновыполнимой. Денег, выдаваемых матерью на буфет, — я совсем не расходовал их на школьные завтраки, — не стало хватать на покупку пшеницы; коноплю за ее кусачую цену я ещё в июне исключил из голубиного меню. Пришлось покупать зерновую дроблёнку, затем охвостье, после того — смесь проса с овсом, а потом — только овес. А цены всё росли. И основным кормом для голубей стал хлеб нашей семьи, который мы получали по карточкам. Коль голуби были мои, я старался есть поменьше, чтобы в основном на корм им шла моя пайка. С хлеба, как и с овса, у голубей пучило зобы, да как-то всё на сторону, и они маялись, потягиваясь вверх, словно что-то глотали и никак не могли проглотить. Петька Крючин, жалея Страшного и Цыганёнка, иногда приносил карман пшеницы или ржи и вытряхивал зерно перед ними, а голубок отгонял: он считал, что они гораздо живучей самцов и спокойно выдюжат на дрянных кормах. Когда на конный двор привозили жмых, то Петька приглашал меня на разгрузку; за помощь старший конюх выдавал мне целую плиту жмыха, и тогда на некоторое время у нас в семье и у голубей наступал праздник. Для себя мы калили жмых на чугунной плите, а для них дробили в медной ступке.
Банан За Ухом, узнав через Мирхайдара о моих затруднениях, пришел ко мне. Голуби клевали овес, и он грустно посетовал: «Экий плевел приходится есть такой прекрасной дичи!» — и выразил желание их купить. Банан За Ухом работал на мельничном комбинате. Уж он-то будет кормить их отборной пшеничкой! Я недолюбливал его, а здесь вдруг он мне понравился. Наверно, тем, что с восторгом смотрел на моих голубей, а может, просто стало жаль, что на щеке у него багровое родимое пятно, а за ухом нарост, похожий на маленькую картошину. Походит ли этот нарост на банан, я не мог судить: не знал, что это за плод и какого он вида.
Он сказал, что берет обе пары оптом за полтысячи. А я сказал, что скощу ему сто рублей, если он поклянется не обрывать никого из голубей. Он поклялся, выговорив для себя дополнительное условие: после первого прилёта я отдаю ему Страшного и Цыганенка.
Через день я съездил к Банану За Ухом и возвратился чуть не рыдая: он оборвал крылья Цыганёнку, а Страшного и Цыганку, не мечтая их удержать, перепродал голубятнику со станции Карталы, находившейся километрах в ста от города. У меня была тайная надежда, что все мои голуби прилетят. А если так случится, что Банан За Ухом удержит их, то я смогу к нему приезжать, чтобы хоть одним глазком взглянуть на Страшного с Цыганкой и Цыганёнка с Письменной. Теперь я не увижу своих старичков. Пути на станцию Карталы у меня нет и наверняка не будет. А прийти оттуда они не сумеют: такая даль, да и зима вот-вот наступит.
Уроки я учил, устроившись со всеми удобствами: подо мной край сундука, придвинутого к стене, под ногами перекладина стола, под локтями сам стол, упирающийся мне в грудь боковиной столешницы. Чуть скосил глаза — видишь, что делается перед хозяйственными службами, на крышах, в том числе на Мирхайдаровом бараке, на металлургическом заводе и в небе над ним и над бараками. А чтобы увидеть своё лицо, нужно повернуться и достать подбородком до ключицы. На деревянном угольнике, накрытом кружевом, связанным мамой из ниток десятого номера, стоит зеркало: в него и глядись досыта на свои выпуклые глаза (за них меня дразнят Глазки-Коляски), на косую челку, на разнокалиберные уши. В зеркале я вижу отражение розового целлулоидного китайского веера и раскрашенной фотокарточки, где мы с мамой прижались друг к другу плечами и где между её дисковидным беретом и моим пионерским галстуком есть красный перезвук — оба затушеваны фуксином. Бабушка терпеть не может, когда я «выставляюсь в зеркале». Она думает, что я из-за этого с ошибками выполняю задание по письму. Раз я пишу, все это для бабушки — «по письму».
Её нет дома. Поверх будки я вижу, как она из огромной кучи каменноугольной золы выбирает комочки кокса. Оборачивайся в зеркало, сколько твоей душе желательно. От холода в комнате у меня химически-синие губы. Но я не обращаю внимания на холод. Я гадаю о том, сравняются ли мои уши, как выровнялись в последние годы зубы, валившиеся прежде друг на дружку. Я загибаю пальцами уши и пристально их исследую, затем замечаю, что угол над зеркалом весь в «зайцах» — промерз. И мне становится радостно: нашим под Москвой и в Москве тепло, все в ватном, в пимах, в полушубках, только у нас, в одном городе, в помощь фронту собрали эшелон зимних вещей и обуви. Счастливчик, кому достанутся мои валенки, скатанные дядей Мишей Печёркиным. Хорошо, что дядя Миша сработал великие катанки. Теперь у кого-то ноги как в доменной печи. Дядя Миша недоросток, а любит всё крупное: жену взял чуть ли не вполовину выше себя, на охоту ездит с фузеей восьмого калибра и пимы валяет на богатырей. Правда, сыновья получаются в него низкорослые.
Из-под щепки, которой бабушка орудует в куче, вырывается зола. Если стать голубем и лететь навстречу сегодняшнему ветру — через какое расстояние устанешь?
Ну, да ладно. Надо браться за алгебру. Какие-то индустриальные математики придумывают задачки. «Из пункта „А“ в пункт „В“ вышел поезд…». «Из бассейна, объемом… в бассейн, объемом…» Неужели нельзя: «Со станции Карталы в город Магнитогорск вылетел голубь…» А ведь я не знаю, с какой скоростью летают голуби. Разная у них, конечно, скорость. Среднюю, разумеется, можно высчитать. А то всё машины, агрегаты, ёмкости.
Бабушка начала дуть в побурелые от золы матерчатые варежки. Сейчас думает про себя: «Отутовели рученьки мои». Она вздрагивает там, на ветру. И тут же по моей спине прокатывает волна озноба. Она мерзнет, а я не решаю задачу. Не решишь к её возвращению — рассердится. Склоняюсь над тетрадью. От бумажных листьев и от клеенки исходит почти жестяной холод. Скорчиваясь, как бы ужимая себя к очажку тепла, находящемуся в груди, я согреваюсь. И вдруг до моего слуха доклёвывается стукоток, мелкий-мелкий, вроде бы возникающий в подполье. Может, нищенка робко царапает ноготками в дверную фанерку, а кажется, что звук идет снизу? Однако я наклоняю ухо к полу. Опять стукоток. Четко различаю, он не из подполья, а из коридора и возникает на вершок-другой от половиц. О, да это Валька Лошкарев. Ему уже около двух лет, а он все ползун. Но Валька, когда приползет к нам в гости, то разбойно лупит ладошкой по фанере. От новой догадки я вскакиваю и бегу к двери, хотя в душе отвергаю эту догадку. Потихоньку растворяю дверь и слышу, как чьи-то лапки шелестят с той стороны. И вот на полу напротив меня Страшной. Треск крыльев — и он на моем плече. И сразу бушевать. И такие раскаты, рокоты, пересыпы воркованья наполняют комнату и коридор барака, каких я не слыхал никогда. Закрываю дверь и прохожу на середину комнаты. А Страшной ничего, не забоялся и все рассказывает, рассказывает о том, как стремился домой, как решился в мороз и ветер пуститься в полёт, как сразу точно сориентировался, как еще издали по горам дыма и пара узнал Магнитогорск, как, чуть не падая от усталости, преодолевал промежутки между бараками и как счастлив, что снова у меня в комнате, где часто ночевал под табуреткой, над которой прибит умывальник, и откуда по утрам я гнал его к выходу из коридора вместе с Цыганкой и Цыганёнком.
Я взял ковш, проломил в ведре корочку льда, напился и напоил изо рта Страшного. По крупяным талонам позавчера мы выкупили перловку. Я сыпанул перловки на железный лист; Страшной набросился на неё, затем, будто вспомнил, что чего-то недосказал, или испугался, что я уйду, снова сел на плечо и наборматывал, наборматывал в ухо. По временам он, наверно, чувствовал, что не всё, о чем говорит, доходит до меня, и тогда большая внятность и сдержанность появлялась в его ворковании. А может, теперь он рассказывал лишь о Цыганке и замечал, что это мне совсем невдомек, и для доходчивости менял тон и сдерживал свою горячность?
Бабушка всплеснула руками, едва увидела Страшного на моем плече.
— Ай, яй! Матушки ты мои! Из Карталов упорол! В смертную погоду упорол!
И ещё пуще она дивилась тому, что в таком длинном бараке о тридцать шесть комнат Страшной отыскал нашу дверь. И маму, когда вернулась с блюминга, отработав смену, сильней поразило то, что он нашёл нашу дверь, а не то, что он в лютую стужу прилетел из другого, по сути дела, города. А я был просто восхищен Страшным и не думал о том, чему тут отдавать предпочтение. Но бабушкины и материны дивованья с уклоном на то, что голубь нашёл именно нашу дверь, заставили меня задуматься над его появлением. Я прогулялся по коридору. Двери были очень разные. Наша, в отличие от всех дверей, была ничем не обита, с круглой жестяной латкой на нижней фанерке. Дверь перед нею была обколочена войлоком, а после неё — слюдянистым толем. Моё восхищение разграничилось. Не столько смелость и память Страшного поразили меня, сколько привязанность, которую он обнаружил ко мне, человеку, своим прилётом и радостным бушеванием, а также ум, благодаря которому он проникнул в коридор и стал долбить в дверь, чтобы его впустили.
Прежде чем уйти в школу, я разгрёб сугроб над землей, насыпал пшеницы, добытой у Петьки Крючина, убрал от порога плаху — ею был заслонен лаз, дабы в будку не надувало снега. Я полагал: из Карталов Страшной вылетел один — он бы не бросил голубку в пути. Но вместе с тем у меня была надежда, что сейчас Цыганка пробивается к Магнитогорску: не утерпела без него, не могла утерпеть и летит. Вечером я не обнаружил её в будке. Не прилетела она и через декаду — десятидневку.
Поначалу Страшной, казалось, забыл о ней. Чистился. Кубарем падал с небес, поднявшись туда с Петькиной стаей. Он догонял голубей в вышине и катился обратно почти до самого снежного наста, чёрного от металлургической сажи. И не уставал. И никак ему не надоедало играть. Но это продолжалось дня три, а потом он вроде заболел или загрустил. Нахохлится и сидит. Уцепишь за нос — вырвется, а крылом не хлестанет, не взворкует от возмущения.
— Задумываться стал, — беспокойно отметила бабушка.
И ночами начал укать. Чем дальше, тем пронзительней укал. Тоска, заключённая в протяжных его «у», почему-то напоминала ружейный ствол: сужение колец, всасывающихся в свет, — только этот ствол был закопчённый и всасывался в темноту.
Спать стало невмочь. Я оставлял его на ночь в будке. Но оттуда нет-нет да и дотягивались его щемящие стоны. Я уже подумывал: не съездить ли в Карталы? Может, вымолю Цыганку за четыреста распронесчастных рублей Банана За Ухом? Но внезапно Страшной исчез. Голубиный вор мог унести, тот же Банан За Ухом. Кошка могла утащить. Поймал Жорж-Итальянец — у этого короткая расправа: не приживётся, нет покупателя — пойдёт в суп. Сожрет и утаит об этом. Зачем лишних врагов наживать? Люди пропадают бесследно, а здесь — всего лишь небольшая птица.
Но Страшной не пропал. Он опять пришёл, да не один — с Цыганкой.
Я был в школе, когда они прилетели. Я и не подозревал, хотя и встретили меня дома бабушка и мать, и я смотрел на их лица, что Страшной с Цыганкой сидят под табуретом. Я съел тарелку похлёбки, и только тогда мама сказала, чтобы я взглянул под табуретку. Я не захотел взглянуть. Решил — потешается. И мама достала их оттуда и посадила мне на колени, а бабушка стала рассказывать, что увидела, как он привёл её низами за собой, и открыла будку и сама их загнала.
Через год я отдал их Саше Колыванову, не насовсем, а подержать, на зиму. Саша сделался заядлым голубятником. Школу он бросил, так и не окончив пяти классов, хотя и был третьегодником. Он кормился на доходы от голубей.
В то время я занимался в ремесленном училище, и было мне не до дичи: до рассвета уходил и чуть ли не к полуночи возвращался.
Как-то, когда я бежал сквозь январский холод домой, я заметил, что на той стороне барака, где жили Колывановы, оранжевеет электричеством лишь их окошко.
Надумал наведаться. Еле достучался: долго не открывали. Саша играл в очко с Бананом За Ухом. Младшие, сестра и братишка, спали. Мать работала в ночь на обувной фабрике.
Из-за лацкана полупальто, в которое был одет Банан За Ухом, выглядывала голубоватая по черному гордая головка Цыганки. Я спросил Сашу:
— С какой это стати моя Цыганка у Банана?
— Проиграл, — поникло ответил он.
— Без тебя догадался. Я спрашиваю: почему играешь на чужое?
— Продул все деньги. Отыграться хочется. В аккурат я банкую. Он идет на весь банк. И ежели проигрывает — отдаёт Цыганку.
— Чего ты на своих-то голубей не играл?
— Банан не захотел.
— А где Страшной?
— Под кроватью.
Я приоткинул одеяло. На дне раскрытого деревянного чемодана спал Страшной, стоя на одной ноге.
— Давай добанковывай, — сказал я.
Он убил карту Банана За Ухом, и тот с внезапным криком вскочил, и не успели мы опомниться, как он мстительно и неуклюже рванул из-под полы рукой, и на пол упало и начало биться крыльями тело Цыганки.
Банан За Ухом оторвал ей голову.
Мы били его, пока он не перестал сопротивляться, а потом выволокли в коридор.
Я забрал Страшного. Утром он улетел к Саше, но быстро вернулся к моей будке, не найдя там Цыганки. Лома была бабушка, и он поднял её с постели, подолбив в фанерку двери. Он забрался под табурет. И в панике выскочил оттуда. Облазил всю комнату и опять забежал под табурет. Укал, звал, жаловался. После этого бился в оконные стекла. Бабушка схватила его и выпустила на улицу.
Жил он у меня. На Сашин барак почему-то даже не садился. Неужели он видел из чемодана окровавленную Цыганку и что-то понял? Он часто залетал в барак, стучал в дверь, а вскоре уж рвался наружу.
— Тронулся, — сказала бабушка.
Он стал залетать в чужие бараки, и дети приносили его к нам. А однажды его не оказалось ни в будке, ни в комнате. Я обошел бараки и всех окрестных голубятников. Никто в этот день его не видел. И никто после не видел.
И хорошо, что я не знаю, что с ним случилось.
Когда я вспоминаю о Страшном, мне кажется, что он где-то есть и всё ищет Цыганку.
Смятение
Маша Корабельникова бежала в зеркальный гастроном, где ее мать работала грузчицей. Маша тревожилась, что не застанет мать — заместительша любит возить ее с собой по продуктовым базам, — поэтому загадала, что заместительша крутит у себя в кабинете ручку арифмометра, а мать стоит перед железными дверями, которые ведут в подвал магазина. На ней темный, словно свинцом затертый халат, покрытый шрамиками штопки, пятнами ржавчины и масла. Она держит в кулаках концы косынки и греет на солнце лоб. Болит он у нее. Когда Хмырь дерется, то метит ударить по голове. Хмырь — Машин отчим, Евгений Лаврентьевич. Трезвый он молчун, пьян — вредина, вот и прозвала его Хмырем, хотя и сама не знает, что такое хмырь.
Она бежала по бульвару между кустами облепихи, покрытыми резинисто-серебристой листвой. И едва аллея кончилась, увидела огромные, зеленоватые на просвет витринные стекла, вставленные в чугунные рамы.
В гастроном она наведывалась чуть ли не каждый день: нигде не чувствовала себя проще и вольготней, чем здесь. Продавщицы ей радовались, а мать с восторженным лицом ходила за нею по пятам. Все давно знали, кем приходится Маша Клавдии Ананьевне, однако она говорила:
— Дочка пришла! Скучает по мне.
Если она попадалась на глаза директору Стефану Ивановичу, вдалбливавшему подчиненным, чтобы их домашние и родственники не смели заходить в магазин со стороны склада, он, неулыба, растягивал запачканные никотином губы:
— Расти быстрей, Марья, заместительшей возьму.
— Скажете, Стефан Иванович. До заместительш дойти — нужно сперва лет десять весам покланяться. Правда, моя Маша все на лету схватывает?
— Верно.
Тут бы матери уняться: погордилась — хватит. Не может, вытягивает из человека похвалы.
— Согласны, Стефан Иваныч, дочка у меня хорошая?
— Куда уж лучше, Клавдия Ананьевна!
Маша помогала матери.
Они сгружали с машин корзины с карпами и серебристым рипусом, ящики с тбилисским «беломором», при виде которого курильщики бранились, алые головки голландского сыра, который брали нарасхват, несмотря на то, что он пах овчиной.
Переделав материны дела, Маша брала в кабинете заместительши один из чистых, наглаженных до сахарного блеска халатов, приготовленных на случай прихода рабочего контроля, шла из отдела в отдел, спрашивая продавщиц голосом сторожа Чебурахтина:
— Не пособить ли шего, девошьки?
Продавщицы смеялись, давали ей какое-нибудь поручение и, принимая чеки и отпуская товар, интересовались тем, как она учится, какое «кажут» кино, ухаживают ли за ней мальчики, не собирается ли она после десятилетки податься в торговую школу.
Отвечая продавщицам, Маша насмешничала и над ними, и над тем, о чем они спрашивали, и над собой.
Они угощали ее конфетами, халвой, черносливом, грецкими орехами, а то и чем-нибудь на редкость лакомым: гранатами, атлантической селедкой из огромных банок, лососем, куриной печеночной колбасой.
Было время, когда Маша редко заходила в гастроном и стыдилась того, что ее мать грузчица, и однажды из-за этого сильно опозорилась перед англичанкой Татьяной Петровной. Англичанка была классной руководительницей Маши и жила в их доме, в том же подъезде и на той же лестничной площадке.
Клавдия Ананьевна и Татьяна Петровна даже как бы немножко дружили. Клавдия Ананьевна сообщала ей через Машу, когда выкинут гречку, копченую колбасу, исландское филе из трески или что-нибудь деликатесное, вроде апельсинов, консервированной налимьей печени, арахиса, маковок и трюфелей. Англичанка не оставалась в долгу перед Клавдией Ананьевной. Мирила ее со свекровью и окорачивала Хмыря. При ней он становился смирненьким. Образованная, что ли? А может, потому, что ее муж работал в газете.
Татьяне Петровне почему-то вздумалось, чтоб каждый ученик написал по-английски, кем работают его мать и отец.
Маша надеялась, что дадут звонок на перемену, покамест дойдет до нее очередь говорить. Но Татьяна Петровна вдруг решила спрашивать третий ряд и начала с последней парты, где сидели Митька Калганов и Маша. Митьке что? У него отец начальник монтажного управления в тресте «Уралстальконструкция», а мать солистка хоровой капеллы.
— У меня отца нет, — сказала Маша по-русски. — Верней, есть. Но он в другом городе. — И по-английски: — Май фазер из э машинист. — И снова по-русски: — Он машинист загрузочного вагона на коксохиме. Отчим тоже работает на коксохиме. Я, правда, не знаю кем. Знаю только — в каком-то фенольном отделении. И что работа там вредная.
— А кто твоя мать, Корабельникова?
— Если у тетеньки из фенольного родится ребенок и она будет его кормить грудью, то он умрет к шести месяцам. Поэтому почти у всех тетенек из фенольного дети растут искусственниками. Кормилицу ведь не найдешь. Кормилицы были только при царизме.
Маша знала, что у нее удивительные волосы. На свету они пепельно-серебристые, в сумерках голубые, в темноте синеют, как морская волна (это по словам Митьки Калганова, ездившего в Керчь).
Она наклонила голову так, чтобы волосы закрыли левую половину лица, чуточку постояла, предполагая, что класс и англичанка любуются ее волосами, и села.
— Что же ты не сказала, кем работает твоя мама?
— Вы же знаете.
— Чувство меры, Корабельникова!
— Май мазер из эн экаунтэнт.
— Кто, кто?
— И всегда-то, Татьяна Петровна, вы меня переспрашиваете. Не буду повторять.
— А, ты стыдишься, что твоя мама грузчица. Сегодня ты стыдишься, что она грузчица, завтра будешь стыдиться родства с ней. Древнегреческий поэт Гесиод сказал: «Труд никакой не позорен. Праздность позорна одна». Почти три тысячи лет прошло впустую для таких, как ты.
Мать таскала в рогожных кулях вилки белокочанной капусты. Маше не терпелось, чтобы мать быстрей прочитала письмо, которое она получила от отца. Она не дала матери взять очередной куль и сама подладила под него плечо, сунув ей в карман конверт, с которого глядел улыбчивый космонавт Попович.
В подвале, куда Маша, дрожа от натуги, притащила куль и где задержалась, унимая дыхание, мать подошла к ней и заплакала. Обиделась, наверно, что Маша рада отцовскому приглашению приехать на каникулы? В прошлом, позапрошлом и позапозапрошлом году, когда Маша не поехала в гости к отцу, мать внушала ей, что она должна его простить и навещать, несмотря на то, что он ни с того ни с сего оставил их и сбежал. На этот раз она стала укорять ее в неблагодарности.
— Он тебя только на ножки поставил, а я тебя вон какую лесину выходила!
Маша расплакалась, порвала письмо, кинулась из подвала вверх по бетонной лестнице. На душе было почти так же бессолнечно, как зимой, когда сидела в кузове грузовика возле гроба маминого брата. Он был зоотехником, заблудился в буран и погиб вместе с конем. Дядя был умным и добрым: видя нехватки в их семье, сам покупал Маше одежду. Тогда, в гремучем грузовике, ей казалось, что все радости позади. И теперь что-то похожее. Счастье? У кого-то будет, у нее — нет. Желания? Лучше ничего не желать.
Из магазина Клавдия Ананьевна пришла в сумерках. Маша играла в бадминтон с Митькой Калгановым. Играла, как он сказал, индифферентно. Ну и что — индифферентно? Все равно. Бадминтон? Бессмыслица. Проигрыш и выигрыш — тоже.
— Доченька.
— Митьк, бей.
— Матушка тебя зовет.
— Бей!
«Матушка». Идет. Станет ластиться. Безразлично, что она будет нашептывать и чем оправдываться. И совсем не жалко, что она усталая.
— Дочура, я отбила телеграмму. Пришлет на дорогу, сразу и поедешь. Деньги просила на главпочту. Скажем отчиму: ты едешь в Юхнов к моей маме. Мол, городишко там уютный. Заводов нету. Кругом леса и реки. Да смотри не проговорись. А то Евгений Лаврентьевич… кто его знает, как он на это поглядит. — Мать побрела к парадному.
До чего же она умаивается за день, милая мамка! До чего же стары на ней тапочки! Треснули в запятниках, прошмыгались на подошве.
Маша бросила Митьке Калганову ракетку. Догнала в подъезде мать. Целовала так долго, что та даже рассердилась.
— Вот лань. Голова закружилась.
Когда она стала учиться в школе, то послала бабушке письмо: просила прислать карточку отца.
Бабушкино письмо вытащил из почтового ящика Хмырь. Он вышагнул в прихожую, где Маша, скинувшая пальто, расправляла банты на косичках, и поднес к ее лицу фотографию.
— Видела?
И его рука — на тарантула походила в тот момент — сломала и скомкала карточку.
Девочка запомнила башню танка, букет цветов, рядом с ним — волнистый толстый шлем. А того, на ком был шлем, совсем не запомнила.
Маша расспрашивала мать, какой он из себя, папка. Высокий! Значит, ростом удалась в него. Ямочки на щеках! Досадно, что не передались. Широк в плечах? К счастью, у нее маленькие плечи. Каштановые волосы?! Так чьи же передались ей? Глаза зеленые? И у нее точь-в-точь такие.
До Москвы Маша летела на самолете. Была болтанка. Все травили, кроме нее и двух молодых военных летчиков. В Домодедово, когда сходили по трапу на поле аэродрома, один из летчиков обернулся к Маше:
— У тебя, девушка, идеальный вестибулярный аппарат. Подавайся-ка после школы в авиацию.
С вокзала перед посадкой на поезд она послала Калганову открытку: «Митьк, у меня идеальный вестибулярный аппарат. Торжествуй, а также вырази благодарность моей маме».
На вокзале в городе отца ее никто не встречал. Она должна была «отбить» из Москвы телеграмму, но не отбила. Пресно это, когда человек выходит из поезда, его встречают, везут к накрытому столу, во всем предупредительны, и никаких неожиданностей и приключений. Как разыскать улицу Верещагина, Маша не стала спрашивать. День большой, до вечера разыщет. Пошла по обочине шоссе. Оно было булыжниковое, лоснилось, пропадало из виду в голубом проломе березовой рощи.
В сторону вокзала промчался на красном мотоцикле мужчина в берете. Не отец ли? Может, каждое утро приезжает к поезду, а сегодня немного запоздал. Нет, наверно, все-таки не отец. Он металлург и навряд ли будет носить берет. У них, в Железнодольске, почти все металлурги носят фуражки.
В пышечную, где автомат спек для Маши воздушно-мягкое кольцо, вошел мужчина с мальчиком. Он был не брит, часто вздыхал. Он не ел, только, сидя на корточках, дул на кофе и давал мальчику откусывать от пышки. Мальчик может оказаться Игорешкой — ее родным братом, а мужчина — отцом.
Она хотела подойти к ним, заговорить, но сдержалась: сколько будет удивления и восторгов, если после, в доме по улице Верещагина, они узнают друг друга.
Неподалеку от рощи ее захватил дождь. Он быстро заштриховал воздух. На бегу Маша запрокинула лицо и видела, как за сверканьем ливня выгибается под солнцем радуга.
На краю рощи, чуть особняком, стояла могучая береза. Крона стогом. Под эту березу и бросилась Маша с мостовой. И были для нее чудом, как и штрихи-дождины, как и радуга под солнцем, — черные ромбы по белой коре. Сюда же, под березу, прибежали с шоссе велосипедисты. Велосипеды они тащили, поддевши раму плечом. И Маша, прижавшаяся спиной к теплому стволу, очутилась в двойном кольце: внутреннее кольцо — велосипедисты, внешнее — велосипеды.
Смутилась: сразу столько незнакомых мальчишек — и ощипала мокрое на груди платье.
Они, улыбаясь, глядели на Машу, она посматривала сквозь слипающиеся ресницы на тех из них, кто был в поле ее зрения, и все равно в минуту рассмотрела этих мальчишек и начала про себя подтрунивать над тем, что они держат фасон, а все под одну гребенку: в кедах, шортах, зеленых майках и в каскетках с голубым целлулоидным козырьком.
Сивый мальчишка, который стоял напротив нее, вдруг крикнул с шутливым изумлением:
— Ребятишки, эврика! Я открыл путешественницу.
Велосипедисты загалдели, нарочито удивляясь тому, что будто бы сами не заметили ее. Когда они умолкли, Маша сказала:
— А путешественница открыла штампованных мальчишек.
— Ба, да она наблюдательная!
— Если у вас и мысли одинаковые, то путешественнице надо возвращаться на вокзал.
— Явление! — опять изумился сивый.
И все снова весело загалдели.
Их дружелюбие не понравилось Маше. Какие-то задорные мамсики. Подначила их, а они, как говорит Митька, мирно отреагировали.
— Ты не теряйся, девушка.
— Перед кем теряться-то?
— Ершистые в вашей местности девчонки. Что за местность, не скажешь?
— Урал.
— Владька, твоя землячка.
Паренек с черной челкой, которого сивый назвал Владькой, кивнул головой.
— Деревня? Город?
— Железнодольск.
— Владька, слышишь? Из твоего города.
Губы Владьки дрогнули, но не отворились. Подумала: «Странный или задавака».
— Он пришел в мир, чтобы стать новым Галуа. Ты не удивляйся, что он не сразу обрадовался землячке. У него не человеческое направление ума, а математическое.
Владька шевельнул уголком рта. То ли возмутился, то ли улыбнулся. Руль его велосипеда был обмотан синей изоляцией. Владька сжал рога руля и как бы навинчивал кулаки на них, пригоняя изоляцию.
Больше Маше не захотелось дерзить, но в душе она не удержалась от насмешки над Владькой: «Занятное ты существо!» — и над сивым: «Ты, наверно, общественный организатор с ясельного возраста?»
Облако, полившее рощу, двигалось на город, оно напоминало, таща скособоченные волокна дождя, медузу. Это заметил сивый. Он же полюбопытствовал, к кому путешественница приехала, однако она не ответила и спросила, куда они держат путь. Они ехали на пристань. Маша сказала, что и ей туда. Сивый предложил довезти ее на раме. Она ездила на раме со знакомыми мальчишками. Прямо отказаться не посмела: если бы на багажнике, то поехала бы. Багажник только на Владькином велосипеде. Понятно, что Владька лишь шевельнет губами, и пойми его, согласен везти или не согласен.
— Мне не привыкать, — неожиданно заговорил Владька. — Дома приходилось сестру в музыкальную школу возить.
За рощей начинался город. Он был старинный, рубленый, резной. Тротуары дощатые. Она удивилась и едва не свалила велосипед, заметив, как меж прогнувшимися плахами фыркнула рыжая вода на ноги толстой гордой даме. Фыркнула вода, потом Маша фыркнула, и Владьке чудом удалось удержать равновесие.
С холма, от обколупанной церкви, из колокольни которой высунулась, будто храбрящаяся девчонка, перистая рябина, Маша увидела горизонт, хромированный зноем, перед горизонтом — синие наплывы хвойных лесов. Велосипед понесся вниз. Открывались, стремительно переходя в близь, дали: осинники, голубень льнов, картофельные поля, пресное море; при впадении в море перекрещивались две реки.
У берега стояли какие-то дворцы. Самый большой дворец был зеленый, средний — розовый, маленький — голубой. Наверно, дворцы водного спорта? Зеленый для взрослых, розовый для молодежи, голубой для детей. Ох нет, это не дворцы водного спорта. Возле зеленого — баржа. На барже — кран. Напоминает австралийскую птицу киви. Возле розового — теплоход. Возле голубого — суденышки, похожие на перевернутых жуков. Буксиры, что ли?
Владька, конечно, знает, что за строения — зеленое, розовое, голубое.
— Дебаркадеры.
— Не слыхала. Может, дебаркатеры? Они ведь на плаву.
— Повторяю по слогам. Де-бар-ка-де-ры. Проще — плавучие пристани.
— Усвоено.
Сивый впритык подъехал к перилам широкого настила, проложенного на борт зеленого дебаркадера, и уперся ногой в землю, подколеньем другой ноги прихватил раму велосипеда. То же сделала ватага, лишь Владьке пришлось соскочить и пробежать, останавливая велосипед.
Не меняя картинных поз, мальчишки глядели, как высыпали, трусили, шагали, брели на пристань пассажиры. Едва людской поток схлынул, сивый сказал, что как земляк Владька обязан сопровождать девушку в прогулке по берегу, а к вечеру должен доставить на квартиру ее родственников.
Владька что-то буркнул и, наверно, чтобы ни мальчишки, ни Маша не рассмотрели выражения его лица, стал сверху вниз приглаживать пятерней челку и проволок пальцы до самого подбородка.
Маша пошла к дебаркадеру. Для блезиру весело размахивала фибровым чемоданчиком. Слышала, как они отъезжали. Не обернулась. Встала рядом с цыганом, который, лежа грудью на перилах, следил за поплавком, качавшимся среди подсолнечной лузги. На отмели барахтались цыганята. Над ними провисала цепь, протянутая от дебаркадера к огромному якорю, больше чем наполовину врытому в берег — торчат из земли рог да кольцо. Около якоря спал спиной к небу богатырь в броднях, прорезиненных штанах, в тельняшке. Чуть повыше, по гальчатой тропке, ходила девушка в белом платье. Она все смотрела туда, где сливались реки.
Сверху, из ресторанного окна, время от времени басил толстяк с фиолетово-свекольными щеками:
— Вербованные из Грузии, соберитесь в комнате отдыха в час дня.
Вдоль многолюдной, пышущей жаром очереди в билетную кассу слонялся, плача и жалуясь, пьяный длинношеий старик:
— В пятьдесят шестом начали выживать. Так и выжили. Терпенья не хватило. И никакой на них управы. На погибель свою на Север еду.
От всего того, что наблюдала, у Маши вдруг сладко заныло в груди. Почему-то захотелось никуда не уходить с пристани, запоминать людей, которых увидит, и узнавать, кто они, куда собираются плыть и по каким причинам. Она почувствовала, что в ней произошло загадочное, но радостное изменение: словно она видела мир сквозь послесонную дымку, теперь эта дымка развеялась то ли от веселого парного утренника, то ли от вспышек солнца на воде.
Пристально посмотрела на цыгана, он не шевельнулся и не моргнул с того мгновения, когда остановилась рядом. Неужели весь сосредоточен на поплавке? Может, он только уставился на поплавок, а сам о чем-нибудь размечтался? Или ему просто захотелось понять, для чего он плавает и ездит, зачем он и цыганята, брызгающиеся на отмели, нужны на земле? Или, может, думает о том, что никто и нигде не понимает цыганской души, и потому ему кажется, что жизнь глупа и жестока. Едва Маша перестала гадать о том, чем поглощен цыган, как вспомнила об отце («Мечтала о встрече с ним, а сама же оттягиваю»), о Владьке («Неужели из такого буки получится ученый?»).
…Маше не верилось, что мужчина, принявший у нее чемодан и застенчиво пригласивший войти в комнату, ее отец. Отец бы рассиял. Отец бы обнял и поцеловал. Кроме того, ее отец — высок, а этот человек среднего роста. Да и вообще он ничем не походит на того отца, каким создало его ее воображение: ни ртутно-седых прядей в волосах, ни умных глаз, в которых никогда не убудет печаль — столько горя и смертей видел во время войны. И вид не инженерский. Мама говорила: «Папка твой рабочий, но взглянешь на него и подумаешь — закончил металлургический институт и работает где-нибудь на мартене». Преувеличила мама, еще как преувеличила. И ничем он не отличается от семейных немолодых рабочих с нашего комбината: кирзовые сапоги, темные брюки, вельветка с «молнией». И лицо как у всякого, кто работает в горячем цеху: цветом напоминает красную медь, окислившуюся от дождей, ветров и солнца. В одном он схож с тем отцом, о котором рассказывала мама: канавка на подбородке. И эта канавка нравится Маше — от нее подбородок мужественный и словно зубилом вырублен из чугуна.
— Не помнишь меня? — спросил отец.
У окна, держа на спицах шерстяное рябиновое вязанье, сидела молодая полная женщина. Щеки алые, как будто она только что отошла от раскаленной докрасна плиты. Шея до того свежа, что заметно ее мерцанье.
— Где упомнить? Игорешке пять доходит… Сколько тебе, Машенька, было, когда он уехал от вас?
— Мама говорила — три.
— Вот и упомни тебя.
Маше стало жалко мать: бледная, верней желтая, усталая, пожилая. Ей вдруг захотелось бежать, бежать из этого дома и никогда сюда не возвращаться. Но она сдержала себя. А отец сказал:
— Крохой, Маша, ты страшненькая была. Не гадал, не думал, что ты выправишься… Красавицей сделалась! Лиза, скажи, а?!
— Ты бы не внушал дочке, чего не нужно. Возьмет да вберет в голову что-нибудь такое. Рано ей собой любоваться. Ой, что же мы, Машенька, и не спросим, как ты добиралась.
— До Домодедова на самолете Ил-18.
— И не забоялась?
— Не. С аэродрома до Москвы электричкой. До вас на тепловозе.
— Вот и ладно. Только надо было известить… Встретили бы. Такси взяли.
— Я люблю ездить на пешкомобиле.
Константин Васильевич, застенчиво смотревший на дочь, улыбнулся.
— Самый надежный транспорт.
Он потер о вельветку руку и словно положил на воздух перед Машей.
— С приездом, девочка.
Потянул было дочь к себе, но вдруг насупился, затоптался на месте. Немного погодя поднес ее ладонь к глазам, углядел на ней белый зигзаг и вздохнул:
— Так и осталась метка. Знаешь, от чего?
— Мама рассказывала.
Однажды Маша (было ей годика полтора) несла в тонком стакане воду, чтобы полить на балконе цветы, упала. Отец собирался на охоту, бросился на крик, увидел, кровь бьет из ручонки, перехватил запястье шнуром, в охапку ее и бежать в больницу. Был в болотных сапогах, а бежал как олень. На охоту, конечно, не поехал. И шибко переживал, пока не зажила ладошка.
Рассказ про этот случай мать заключила возмущением:
— И все-таки бросил! — И, сникая, недоуменно спрашивала саму себя: — Почему люди меняются?
— Машенька, — сказала Лиза, — ты давай полезай в ванну. Освежишься с пути. Мы тем временем кое-что сообразим.
Моясь, Маша слышала беготню в квартире и хлопанье дверей. Посмеивалась над собой: «В честь моего приезда готовится прием. Не хватает только Георгиевского зала, правительства и космонавтов».
Ей нравилось сиянье широконосого крана, вода, колебания которой отражались скаканьем зайчиков на стенках ванны, и собственное тело; оно было легкое, золотеющее от чуточного загара; она рассматривала его, гладила, чувствовала, как собственный взгляд и эти поглаживания вызывают волнение, сопровождающееся желанием сжаться в комочек.
Возле двери в комнату ее встретил мальчуган. Он держался за плитку шоколада, торчавшую из кармана распашонки. Маша догадалась, что это Игорешка. Подняла его и, заслоняя им лицо, вошла в комнату.
Отец забрал у Маши брата и сказал:
— Не бойся, рабочий класс не сглазит тебя. Сглаз лишь в деревне случается. Да, Лиза?
Люди, находившиеся в комнате, засмеялись. Наверно, вспомнили какую-то, рассказанную Лизой, историю про сглаз. Корабельников предполагал, что жена рассердится, и, когда она ткнула его в бок, охнул и засеменил вокруг стола. Все опять засмеялись.
Маша села рядом с Лизой, и та объяснила ей, что у них всегда весело дурачатся в компаниях.
Отчим не любит компаний. Особенно дома. Сходит к магазину, с кем-нибудь раза три «нарисует» бутылку и припрется чесать кулаки. Хотела сказать об этом Лизе, но передумала.
Отец поднялся и предложил выпить за Машу.
Гости — подъездные соседи Корабельниковых — загудели, закивали, одобряя тост. Рыжий худющий машинист коксовыталкивателя Коля Колич — так называла его Лиза — подошел к Маше со складным алюминиевым стаканчиком, наполненным водкой.
— Головастая молодежь растет. И ты, должно, толковая. За тебя и за всю молодежь. Чтобы не выпала на вашу долю война, как на нашу с твоим отцом.
Маша чокнулась с Колей Количем, с отцом, с Лизой и с теми женщинами и мужчинами, кто дотянулся до ее рюмки. Пить не стала — приложила губы к рубчатому стеклянному боку. Коля Колич похвалил ее за это и стал высказываться: дескать, обвиняют современную молодежь, что она пьет, а она пьет, да не вся — тому примером Константина Васильевича дочка.
Впервые Маша казалась себе взрослой. Никогда раньше не устраивались ради нее застолья.
Отец следил, чтобы Маша ела. Подкладывал свежих огурчиков, красновато-перечного карбоната, нарезанного тонкими пластиками, сазаньей икры, которая похрустывала на зубах рыжими поджарками.
Интересно, если б сейчас рядом сидел Владька, ухаживал бы он за ней? Куда ему? Галуа… А кто такой Галуа? Надо посмотреть в энциклопедии.
Тут Лиза обнаружила, что Игореша давеча, в коридоре, не отдал сестре шоколад. Она принялась его журить, но Маша выручила: соврала, что у нее отвращение к шоколаду.
— Она к шоколадкам не привыкла, — внезапно по-взрослому заявил пятилетний Игорешка.
Пили часто, как бывает, когда приятный повод и гости дружны и веселы. Тосты говорили то Коля Колич, то его жена — вахтерша с металлургического завода, сидевшая за столом в черной суконной гимнастерке.
Тост за знакомство Маши с батькой и Елизаветой. Тост за то, чтобы не забывать родителей. Про себя Маша добавила: «Чтоб отцы не бросали детей». Чтоб снижались цены на продукты и товары. Чтоб уладилось с китайцами. Константин Васильевич отяжелел, сами собой смыкались веки: пять смен отработал в ночь.
Маша сочувственно спросила его:
— Не пора ли тебе поспать?
— Правильно, — сказала Лиза. — Чего перемогаться? Отдохни. Вечером пойдете с дочкой на море. Игорешку захватите. Я хозяйством займусь.
Маша не надеялась, что он пойдет спать. По Железнодольску знала: никто из мужчин не ложится спать, пока в компании не выпивается подчистую вся водка, а другую уже негде или не на что купить. И велико было ее удивление, что он не оскорбился, не стал куражиться, не взглянул на початые емкости с поблескивающей дрожащей «Столичной» и даже сказал:
— Ты меня, дочка, не суди. Уходила меня ночная смена.
— Укатали сивку крутые горки, — сказал Коля Колич и прибавил, весело повысив голос: — Жизнь, жизнь, хоть бы ты похудшела.
— Иди, папа, иди.
— Лишний раз убедился — сознательный у нас род. Раскопаю, что за прабабушка с прадедушкой заквасили в нашем роду эту линию, обелиск поставлю.
Смеясь, Лиза ткнула мужа в плечо.
— Иди, обелиск.
Маша отодвинула стул, чтобы отец мог пройти между столом и комодом в детскую. Опять удивилась, почему создалось у матери впечатление, что он лесина.
— Мама все твердила: ты во какой! — она вскинула над собой руку. — Почему?
— Усадка произошла. Старые растут в землю, молодые — в небо. И женился на низенькой. Подлаживаюсь. Пропорцию надо соблюдать.
Место Константина Васильевича попеременке занимали гости. Первым подсел к Маше Коля Колич. Тем, что был прост — весь на виду до самого донышка души, он сразу понравился ей. Коля Колич спросил, думает ли Маша учиться после десятилетки. Маша собиралась учиться, только пока не решила — в каком институте. Коля Колич огорчился.
— Я-то подумал — пойдешь на завод. Биметаллическую сетку, к примеру, ткать, стерженщицей у электрической печи…
Перед тем как увести Колю Колича на прежнее место, охранница в черной суконной гимнастерке попросила Машу не судить его за докучливость и с гордостью промолвила:
— Он у меня патриот рабочего класса!
Потом к Маше подсаживались асфальтоукладчица с ладонями, смазанными зеленкой, слесарь электровозного депо, водопроводчик из доменного цеха, аккумуляторщица, мотористка транспортера. Они расспрашивали Машу о ней самой, о матери, про отчима, охотно рассказывали о своем производстве, о себе, о родственниках. Интерес, который они испытывали к Маше, к ее окружению и к тому, что занимало ее и это окружение, их добросердечность и откровенность так трогали ее, что она чуть не заплакала. Из взрослых такой по-родному пристальный интерес ко всему, чем она жила, проявляли в Железнодольске лишь мать да англичанка Татьяна Петровна. Конечно, было бы иначе, если бы у Маши выдавалось побольше времени, когда бы не надо было бояться, что не успеешь приготовить уроки, убрать в квартире, сварить обед, помочь матери в гастрономе, и если бы отчим знался с хорошими людьми и разрешал Маше наведаться к соученицам домой. Стоило Маше забежать к подружке, поболтать с ней да посмотреть телевизор или послушать ее игру на пианино, отчим обязательно узнавал об этом, изводил мерзким словом «похатница».
Когда отец проснулся, гости уже разбрелись. Он, Игорешка и Маша спустились по улице Верещагина к зеленому дебаркадеру и поднялись на второй этаж, в ресторан.
Ни угла суши, который бы назывался стрелкой, ни грузового порта, над которым бы, обратив друг к другу клювастые головы, замерли краны, словно думая о чем-то печальном и важном, ни плавучих вокзалов, откуда водой можно доехать до двух морей, — ничего такого в родном городе Маши не было.
В ее городе есть только пруд. Правда, огромный. Но плавают по нему лишь ялики, каноэ, байдарки, скутера, катамараны, яхты. Единственный кораблик — однопушечный катер, принадлежащий морскому клубу, — все время стоит на приколе.
В открытые окна ресторана толкался ветер. Шторы, сшитые из капрона, плескались, как рыбы хвостами.
Поднимет Маша глаза, посмотрит в окно, и все ей видится точно сквозь тонкий туман: теплоход, рулящий к причалу, зыбь речного простора, длинная деревня на том берегу. Потом вдруг начинает чудиться, что все это во сне и стоит пробудиться, как возникнет комната, где она ночует на раскладушке, втолкнутой меж стальными синими кроватями, принадлежащими сестре и матери Хмыря.
Зажмурится Маша, отвернется от окна и тотчас с горькой решимостью распахнет веки. Сон так сон. И ее сердце екнет от радости. Перед ней отец в футболке, зашнурованной на груди. Он наливает пиво из витой бутылки. Слева — Игорешка, уплетающий мороженое. Он уже уплел три ядра пломбира — малинового, черничного, сливочного. И опять ему принесли три ядра.
Если бы отец не уехал от них с мамой, то он бы водил Машу в кафе-мороженое на проспекте Металлургов. А так она бывала в кафе-мороженом редко: в праздничные дни, когда мать давала ей по рублю.
Отец заказал Маше осетрину на вертеле. И теперь Маша, выдавившая по его совету сок из лимона на кусочки осетрины, ела, растягивая удовольствие. От лимонного сока и забористого соуса сушило в горле. Томила жажда. Словно пришлось долго играть в баскетбол. А тут еще Игорешка брал ладошками бокал и пил брызгучий апельсиновый напиток.
Перед ней стояла бутылка с напитком, но она не открыла ее, мечтая погасить жажду гладким, ароматным, студеным пломбиром. Отец тянул пиво и оглядывал зал. Едва туристы, сблизив лица, заводили песни, он замирал, лишь двигались его крупные пальцы, скользя по ножке фужера. Но как только принимался бормотать старик, сидевший за соседним столиком, отец словно бы терял внимание к песне и поворачивал к нему сострадающие глаза. Ко всем в ресторане отец, казалось, был расположен, кроме гривастого толстяка. Он становился хмурым, даже гневным, когда толстяк кричал в окно, объявляя, что даже для вербованных из Грузии, едущих на Север, завтра подадут специальный теплоход. Всего охотней взгляд отца задерживался на солдате и девушке с гейзероподобной прической. Маша дала себе клятву: когда станет невестой, будет носить грандиозную прическу под вид бирманской пагоды или вот такую, гейзероподобную.
Солдат и девушка соединили руки наперекрест и молчат. Во взгляде отца, едва он остановит на них внимание, возникает марево и струится то слюденисто светлое, то присиненное, придымленное, словно тенью от тучи. Это, наверно, проходят в нем воспоминания? О чем он вспоминает? Как освобождал города? Как вышибал из Польши и Чехословакии фашистов? Как встречали местные жители? Или о том, как гулял с иностранкой? Митька Калганов приносил карточку: у входа в костел снят с тоненькой полячкой его старший брат. Митька утверждал, что польки и японки самые красивые. Может, отец тоже дружил с полячкой, и ходил с ней в костел, и не смущался, что она католичка, а он безбожник? Не должно быть! Он не обращал внимания на девушек, потому что думал только о моей маме.
Официант принес Маше три ядра пломбира — малинового, черничного, шоколадного. Не успела отведать мороженого, отец внезапно вскочил и растер в пепельнице чадящую папиросу. Он глядел куда-то в сторону входа. Близ двери, осматриваясь, стояли две женщины, с ними был мужчина. Они заметили Константина Васильевича. Смущаясь и радуясь, он закивал им головой и закричал:
— Проходите сюда. Ко мне дочка приехала!
Все в ресторане начали оборачиваться на отца и на нее, даже обернулся гневающийся старик. Ни с кем из взрослых Маше не приходилось знакомиться с торжественным рукопожатием и называнием имени.
Едва ее ладонь соприкоснулась с ладонью гладковолосой блондинки, девочка почувствовала радость. Затем испугалась, что это будет замечено то ли надменной, то ли холодной смуглой женщиной, и, отвечая на рукопожатие этой женщины, благосклонно кивнула на ее «очень приятно». Смуглая удивилась, как бы расшторила зрачки, вскинув ресницы. Какой у нее ясный взор! Такой, наверно, бывает у человека, который вдосталь изведал горя?
В ресторан ворвались и прядали в сизоватом воздухе какие-то отблески. Наверно, к дебаркадеру, лучась на солнце, подплывал пароход. Бликами било в лицо мужчины, заключившего руку Маши в створки горячих ладоней, поэтому первоначальное ее впечатление о нем и его облике свилось из сверканья белых и желтых молний: так полыхали стекла и золоченая планка очков. Константин Васильевич пригласил женщин и мужчину сесть к нему за столик, но они отказались: должны прийти их мать и племянник.
Они расположились за угловым столиком и стали читать ресторанную карту. Маша хватилась, что не запомнила их имен-отчеств, но спросить у отца, кто они, постеснялась. Они показались ей людьми необычайными, как музыкант Эйдинов и врач Бутович, лечившая от вибрационной болезни ее мать Клавдию Ананьевну. Она угадала в их поведении то отношение к людям, которое различает не посты и возрасты, а человека, его благородство, мудрость, доброжелательство, душевную опрятность. Те, кого Маша находила необычайными, были для ее матери Клавдии Ананьевны интеллигентами, как их сразу видно среди толпы и за тысячу верст. Всех же других, кто по образованию или должности считался интеллигентом, она не относила к таковым, деля их на три категории: образованные, грамотные, хайло. Женщин, блондинку и смуглую, и мужчину, который был с ними, мать, наверно, отнесла бы к интеллигентам. Маша засмеялась, когда представила себе, как радовалась бы мать, если бы познакомилась с ними.
— Ты что, Маша, надо мной?
— Маму вспомнила. Пап, кто это подходили?
— Французы.
— Туристы?
— Наши.
— Откуда же «французы»?
— Вообще-то они русские.
— То французы, то русские.
— Он химик, инженер. Светленькая ему жена. Тоже инженер-химик. Черненькая ему сестрой доводится. Она библиограф технической библиотеки металлургического комбината. Кроме того, переводит с английского, итальянского и французского. Из вестников, из заграничных журналов и справочников по науке и технике. Кстати, в прошлом она миллионерша.
— Разыгрываешь меня? А, ты подумал — мне скучно? Нисколечко. Почему-то мне никогда не бывает скучно. Бывает досадно. Иногда жить не хочется. Раз, примерно, в столетие. Но скучно — никогда. Так что ты не развлекай меня.
— Неужели бывает так, что тебе на самом деле не хочется жить?
— Да.
— Поразительно… У девчонки… Не вижу причин.
— И не можешь видеть: от вашего города до нашего три тысячи километров. Притом не думаешь ты обо мне.
— Отчим?
— Отчасти.
— Парнем я с ним дружил. Плохого не запомнил. Скромный. Верно, молчун… В международную политику все вникал.
— Не верится. Скорей автомашины будут интересоваться политикой, чем он. Ему никого и ничего не надо — только водку. Если бы ему подарили цистерну водки, он бы пил, пил, стал бы обливаться водкой, плавал бы в ней и в конце концов с удовольствием утопился.
— Не преувеличиваешь?
— Нет. Когда ему надо наскрести денег на бутылку, он готов перевернуть дом и поубивать нас. Правда, что на войне давали каждый день по сто грамм водки?
— Давали.
— На войне приучился.
— Мог. Но мог и отучиться. Я тоже не в тылу сидел.
— А в себе ты вины не видишь?
— Какой?
— Не надо притворяться.
— Было бы довольно просто…
— Зачем ты бросил маму и меня?
— Не стоит вникать.
— Раз я из-за этого страдаю, значит, нужно вникать. Ты все-таки скажи: почему ты сбежал от нас с мамой? Я, может, приехала сюда для того, чтобы узнать это.
— Папка не сбегал, — сердито сказал Игорешка. — Он всегда с нами.
— Сынок, пломбир вкусный. Кушай, покуда не растаял.
— Чего она? Машка-бабашка.
— Мама чудесная! Ничем тебя не оскорбила, а ты бросил ее. Даже записку не оставил. Мы думали — тебя бандиты убили. Как мы разыскивали тебя! Ты прислал перевод, знаешь, как мы обрадовались! Не деньгам, а тому, что цел. А ты нас бросил. Зачем, скажи? Разве мы заслужили? Разве мешали тебе?
— Я души в вас не чаял!
— Ну?
— Бессмысленно… Не надо… Бывают незадачи в отношениях. Лучше молчать…
— У честных людей не бывает.
— И у честных. Негоже касаться.
— Стыда боишься?
— Машка-бабашка, отвяжись от папки.
— Ты, Игорешка, маленький. Помалкивай. Ладно?
— Пусть не задирается.
— Отвечу, но не сейчас. Покуда ты в том возрасте…
— Уже в том возрасте, когда пропускают на картину «Ночи Кабирии». Показала паспорт — и пропустили.
— Имеешь право. А я бы на твоем месте не стал ходить на такие фильмы.
— А жизнь?
— Что — жизнь?
— На жизни не напишешь: «Дети до шестнадцати лет не допускаются».
— Что верно, то верно. Плохо тебе там. Как бритва режешься.
— Там я не режусь. Там меня полосуют, а я молчу.
Собираясь к отцу и затем в пути Маша мечтала выяснить тайну его исчезновения, обернувшуюся для матери и для нее долгой бедой и мучительной загадкой. В ее воображении выведывание причины происходило тонко, без настырности. Она не допускала, что отец будет умалчивать о том, что стряслось столько лет назад.
Но случилось именно то, чего она никак не ожидала. И в ней поднялось ожесточенное недоумение, возникшее с малолетства, и она никак не могла примирить свое желание с отцовым ласковым умиротворением и состраданием, отодвигающим ее в неведение, гнетущее и больное. Она не ожидала от себя, что встанет и быстро выйдет из ресторана.
Очередь на теплоход разбухла, стала длинней. Маша вертко двигалась в горячей толпе. Какое-то слепящее чувство владело ею, и она не различала лиц, проплывающих мимо, и даже не узнала, хотя и останавливала на нем взгляд, Владьку, который вел за собой магниево-седую старуху.
Едва Маша успела проскочить сквозь поток пассажиров — ее догнал отец. Корил за вспыльчивость, просил вернуться в ресторан. Маша молчала. Ей казалось, что ее душа каменеет от презрения к нему.
Он пошел расплатиться с официантом и забрать Игорешку, а ей спокойно велел никуда не уходить. Это подстегнуло ее гнев. Она спустилась вниз и побежала по береговым плиточным камням. И чем быстрей бежала, тем веселей становилось на сердце. Минуя розовый дебаркадер, подскочила, взбрыкнув ногами. И оглянулась на улюлюканье, раздавшееся на воде. Улюлюкали парни, удившие с плоскодонки. Успела засечь, что кто-то чешет вслед за ней по берегу. Не разобрала кто, а когда оглянулась, узнала Владьку.
Владька догнал Машу возле голубого дебаркадера.
— Странное ты создание, — выпалил он и пошел рядом, успокаивая дыхание.
— Ты что, караулил меня?
— Самомнения тебе не занимать.
— Ты хотел сказать — красоты?
— Хмы-хмы. Чудная, Константин Васильевич попросил тебя догнать. Мы с бабушкой только зашли в ресторан, он показал на тебя в окно и послал в погоню.
— Слушай, Владька, ты на кого-то похож. Погоди. В ресторане я видела бывшую миллионершу. С ней брат. Между ним и тобой сходство.
— Его мать и моя бабушка родные сестры.
— Его мать и твоя бабушка… Если бы была жива мама моей мамы, а у нее — сестра, а у этой сестры был бы сын, то кем бы доводился ей… Постой. Если бы…
— В шахматы не играешь. По математике три с натяжкой.
— Тоже мне оракул. Ты доводишься племянником ему и Наталье Федоровне.
— Точно.
— Почему их зовут французами?
— Приехали из Франции.
— Как туда попали?
— Попали их родители. И там появились на свет тетя Наташа и дядя Сергей.
— А как они все-таки попали во Францию?
— Эмигрировали.
— Для чего?
— Для спасения собственной жизни.
— От кого?
— Разумеется, от революционных масс.
— А что они сделали революционным массам?
— Неумеренное вопросничество простительно на стадии оспы-ветрянки.
— Ох-ох, до чего культурно!
— Повремени с иронией. Должна быть мера любопытства.
— Зачем?
— Как тебе… Я… Я догадался: ты обиделась на Константина Васильевича и удрала из ресторана, но я не задал ни одного вопроса ни ему, ни тебе. Узнается. Не узнается, стало быть, ваша размолвка несущественна и не представляет морального и философского интереса. И второе: люди любят самораскрываться. В моменты самораскрытия обнаруживается их сердцевина. Вопросничество, на мой взгляд, обнаруживает только поверхность.
— Спасибо. А теперь иди в ресторан.
— Я подожду Константина Васильевича.
— Очень ты исполнительный!.. Да, профессор, объясните, кто такой Галуа.
— Опять?
— Не сердитесь. Я…
Улыбаясь, Маша крутанула пальцем у виска.
— Оно и заметно.
— Владька, сколько тебе лет? Последний вопрос на сегодня.
— Предположим — шестнадцать.
— Я презираю своего отчима. Но он справедливо доказывает: чем человек ни проще, тем умней.
— Ладно. Квиты. А ты, ты, знаешь, ты — ничего.
— А ты, ты, знаешь, ты — чего. Они рассмеялись. Им стало легко.
Маша наклонилась над камнями, выбрала плиточку поглаже и кинула. Плиточка побежала по воде, загибая к отражению голубого дебаркадера.
— Ловко ты печешь блины, — удивился он. — Давай посоревнуемся.
Он торопился, камни попадались бугорчатые, корявые, пускал их излишне сильно, и они то врезались в воду, то длинно скакали — редко «пекли блины».
Сначала Маша ликовала, потом стала огорчаться. Дразня Владьку про себя тютей, искала для него тонкие ровные камни и показывала, как надо их бросать, чтобы они долго и часто рикошетили. Он хмурился, принимая плиточки, и «пек блины» все хуже. И когда от досады готов был закричать, вспомнил, что великолепно делает замки, и так запустил камень ввысь, что на миг потерял его из вида. Камень падал ребром и набрал стрижиную стремительность. Замок получился безукоризненный: плиточка вонзилась в воду со звонким звуком и ни капелькой не брызнулась.
Вверх Маша бросала недалеко и не сумела сделать ни одного такого замка, который сравнился бы с Владькиным. Это не распаляло ее самолюбия, как недавно самолюбие Владьки. Напротив, она радовалась, что по замкам не могла победить тютю, и сказала ему со счастливым изнеможением в голосе:
— Опять квиты!
Владька увидел Константина Васильевича и Игорешку. Они были еще далеко, но Маша побежала вдоль берега. «Действительно, чокнутая. Чего удирает? Ну, вошла в противоречие с отцом. Так разве нужно психовать, чтобы знал весь город», — подумал Владька и стал поджидать Константина Васильевича.
За мысом, едва Маша обогнула его, возник затон. На песке сох белесый топляк — долго мок в воде. Затон был гладок, и когда море втискивалось в его глубину одним из своих течений, он слегка вздувал мельхиоровую поверхность и успокаивался. Буксиры, катера, шлюпки, баркасы, бросившие в нем якоря, казалось, уморились в пути и теперь дрыхли всласть. Вблизи от береговой широкой лиственницы покоилась баржа. На ее корпусе хлопьями висела ржавчина, лишь лесенка, опущенная до воды, отливала серым железным блеском.
Маша повязала голову платьем, зажала в зубах ремешки туфель, поплыла к барже. Лихорадило от мысли, что не успеет спрятаться, поэтому быстро доплыла до баржи и поднялась по лесенке и стала искать, куда бы юркнуть. Верх почти всей баржи обозначался круглыми крышками, но они не открывались — были завинчены. Маша бросилась на корму, над которой выступала коренастая рубка. Обнаружилась низкая дверца, закрытая на гирьку. Маша подергала гирьку, та открылась. Через дверцу, тоже по железной лесенке, Маша спустилась внутрь баржи. Тускло, пыльно, мусорно. Стекла иллюминаторов начисто выхлестаны, их отверстия заткали пауки. Вставая на дубовое сиденье, она следила за берегом сквозь тенета. Ни Владька, ни отец с Игорешей не появлялись. Только сейчас ей стало боязно: вдруг да кто-то прячется на барже. Из кормовой части, растворив складную дверь, Маша пробралась в носовую. Отсюда и услышала голоса Владьки, отца и брата. На миг глянула в иллюминатор. Все трое стояли под лиственницей. Игореша, хныча, звал отца домой, и отец сказал, что пойдет искать ее в город, а Владька должен отправиться дальше, на пляж, а оттуда уж, с нею или без нее, в город.
Отец и Игореша карабкались вверх по склону. На самом гребне холма, в просвете между соснами, они то ли отдыхали, то ли смотрели на затон и спустились за холм. Владька медленно ступал по кромке берега, рыхлой от песка. Было понятно, что у него нет никакой охоты заниматься поисками. Он поднял забытую кем-то книжку, полистал и отшвырнул.
Маша переплыла на берег, весело валялась на песке, довольная тем, что отца встревожило ее исчезновение, а Владьку угнетает поручение. Посидела на белом опрокинутом ялике, перевернула его. Вытащила весла, засунутые под банки, и села в лодку. Чуть наловчилась грести и едва погнала ялик на блеск медного гудка, торчавшего над буксиром, с холма закричали:
— Э, э, куда?! Поворачивай! Живо!
Она продолжала грести. Тогда парни, спускавшиеся к широкой лиственнице, пригрозили, что догонят ее на яхте и в наказание окунут в море. Она повернула. Один из них — бородач с огромным рюкзаком — назвал ее наядой и пригласил следовать с их романтической экспедицией на Беломорье. Приглашение прозвучало шутливо. Товарищи бородача, пока он сбрасывал в лодку рюкзак, ударили веслами, и ялик ходко поплыл, но Маша ответила: а что, мол, если она согласится пойти с их романтической экспедицией, не передумают они? Бородач велел табанить, лодка вернулась, под растерянные восклицания парней Маша села на носовое сиденье, а когда берег начал отступать, выпрыгнула, потому что увидела Владьку, в испуге бегущего по направлению к ялику.
— Ну, знаешь! — сказал Владька обескураженно. — Я думал, только моя сестра опирается на подкорку… Да вы все такие.
Владька полез в гору.
Маша вылила из туфель воду, выкрутила подол и полезла следом за Владькой. Пролом в березовой роще был черен, в накрапах бурых огней. Где-то там вокзал и линии, протянувшиеся на Москву.
Она сказала Владьке, что напрасно он искал ее, к отцу она все равно не пойдет. Он ее оскорбил, поэтому она сядет на товарняк и уедет. Владька кивнул: дескать, он понял ее и не удерживает. Она глядела, как он уходит, и было у нее впечатление, что он странный, возможно, даже равнодушный человек.
Ехать Маше расхотелось: представила себе ночь, холод, ветер, оглушающий ход товарняка, но все-таки пошла на вокзал. Пассажирский поезд на Москву отправлялся далеко за полночь. Решила ехать на нем. К дивану, на который села, чтобы скоротать время, подошел мужчина с усиками. Манерно поклонился.
— Могит босточный человэк сесть рядом вами?
Он был выпивши и притворно коверкал речь.
— Прочь! — крикнула Маша. Так однажды крикнула англичанка Татьяна Петровна, когда возле нее и Маши, улыбаясь, остановился пьяный пижон.
— Босточный человэк — деликатный человэк, — гордо промолвил мужчина и торопливо ретировался.
Она развеселилась, но скоро ей стало страшно: погаже еще «фрукт» может попасться в дороге.
Она пригрелась к спинке дивана, думая о минувшем дне. И тут появился Владька, хмуро махнул ей рукой от междугородного телефона-автомата, и она встала и поплелась к нему. Поравнявшись с той березой — темные ромбы на белой коре — где в кругу велосипедистов впервые увидела Владьку, Маша предупредила его, что ночевать к отцу не пойдет, и он, не оглядываясь, кивнул и обещал устроить ее у своих родственников.
У «французов», конечно, знали, что она сбежала. Может, они и надоумили Владьку вернуться за ней? Все они высыпали в прихожую. Она перетрусила: сейчас начнут совестить. Но, к ее изумлению, никто и не заикнулся о том, что произошло. Были приветливы, особенно смуглая, миниатюрная Наталья Федоровна. Она выпроводила из кухни всех, даже Владьку, заставила Машу выпить кружку молока и уложила в комнате, где стояли два раскладных кресла и секретер, а на стенах висели огромные фотопейзажи с деревьями и реками. И совсем она не походила на бывшую миллионершу. Разве что халат на ней был очень дорогой: из какой-то эластичной ткани с нежными розовыми, как у шиповника, цветами.
Рано утром Машу разбудила Лиза. Из-за Лизы выглядывал суровый Игорешка. Лицо у Лизы осунулось, поблекло. Должно быть, не спала ночь. Лиза отдала Маше ключи, умоляла ее не дурить. Маша оделась и украдкой выскользнула из квартиры. Возвратилась на улицу Верещагина. Вспомнила родной Железнодольск. Он представлялся ей как что-то давнее, однажды виденное и нечетко осевшее в памяти. Это обеспокоило ее. Но еще сильней встревожило то, что и мать, и учительница Татьяна Петровна, и Митька Калганов казались какими-то призрачно-зыбкими пятнами, словно никого из них уже не было на свете.
В комнатах была чистота. Убрала, конечно, Лиза, пока они вчера ужинали на дебаркадере.
Дома уборка квартиры лежала на Маше. Сейчас бы она уже возила тряпкой по полу, чтобы отчим не цеплялся к ней за завтраком и не обзывал грязнулей. Очень это было непривычно, что чистоту в комнатах навел кто-то другой, и в сердце Маши из-за случайной праздности возникло чувство вины.
Она пересилила эту непрошеную вину: безделье ее гостевое, законное. И весело вспомнила, как Владьку корежило ее вопросничество.
«Тютя ты тютя! Слишком культурно ты рассуждаешь. Мама с папой служащие. Какие-нибудь экономисты-финансисты сюсюкают: „Владичка-гладичка…“ Вот ты и сделался тютей. А я жизнерадостная. И хочу быть выдумщицей. И хочу задавать вопросы. А ты влюбишься в меня. И будешь ходить за мной, а я буду подсмеиваться над тобой».
От избытка чувств она попрыгала по комнате, проверяя, нет ли в углах паутины. Потом поставила варить картошку в мундире. Ничего вкусней все-таки нет. Та же осетрина на вертеле быстро надоест, а картошка в мундире — никогда. Сегодня не завтрак — объедение: к картошке стрелки лука, холодное молоко, черный хлеб.
Накрывая на стол, она пела «Аве, Мария», подражая Робертино Лоретти. В квартиру вошел отец и замер. Маша будто не слыхала, что он пришел, стала петь громче: пусть слушает. Он долго оставался в прихожей после того, как она кончила петь и сливала из кастрюли зеленоватую, терпко парящую воду.
В кухне он сказал ей, что его мать была песельницей и способность у Маши, стало быть, от нее, от бабушки.
Озабочен, даже словно бы пришиблен.
Он сказал, что встретил Колю Колича в подъезде. Коля Колич ходил в подвальчик выпить пива. Туда же ходил отметиться машинист двересъемочной машины с их блока коксовых печей, отработавший ночную смену. Он и сообщил Коле Количу, что старший мастер Трайно, временно исполняющий обязанности начальника блока, сорвал утром со стенда стенную газету.
Корабельников с неприязнью относился к Трайно, потому что больше всего, подобно своим товарищам, почитал в человеческих отношениях правду, непреднамеренность в поступках, скромность. Трайно же скрытничал, хитрил. Важничая, он высоко драл голову, поворачивал ее вместе с туловищем. Изображал перед собеседником, будто бы он сосредоточенно мыслит.
Вчера на пути к морю Корабельников пообещал сводить Машу в краеведческий музей. После встречи с Колей Количем он раздумал идти в музей. Отказаться от обещания стеснялся. В кои-то лета свиделся с дочкой и вдруг уйдет в цех, оставив ее на собственное попечение. Однако вместе с тем он не мог подавить нетерпения, ему хотелось встать и — на трамвай, от проходной, по заводу, бегом, разыскать Трайно и потребовать, чтобы он вывесил газету.
Он сказал об этом дочери.
— Папа, ты разнервничался… Он что, имеет право?..
— Шиш! Вакуум у него под черепом. Возомнил… Четыре коммуниста в редколлегии. Редактором Бизин, майор в отставке. Служил в ракетном подразделении. Трайно с ним не сравняться. Бизин, стало быть, газету написал с тремя коммунистами, я проверил, как замещаю парторга — как и начальник, он в отпуске — профорг проверил. И вывесили. А Трайно содрал. Думает: «Ничего, проглотят». Расколочусь, а добьюсь справедливости.
— Почему он самовольничает? Не уважает вас?
— Уважает?! Да знаешь ли ты, что уважать умеют только люди?
— Не знаю.
— Он на что надеется… Ничего, мол, мне не будет, а начальнику блока угожу. И вообще, мол, проявлю руководящую бдительность. Кому-то не понравится, а кто и положительно оценит…
— Ты не горячись. Ты, папа, успокойся.
— Отпусти ты меня, Маша.
— Почему ты у меня отпрашиваешься? Ты свободный человек. Если от нас с мамой уехал без спроса, чего в таком-то случае спрашивать.
— Мы же собирались в музей.
— Мама, когда дождалась тебя с войны, собиралась всю жизнь с тобой прожить… Мало ли на что мы надеемся. Ты как хочешь, так и делаешь.
— Раз я обещал…
— Меня только удивляет… Ты захотел — уехал, стремишься в цех — уйдешь. Удивляет только, почему ты возмущаешься против Трайно? Он захотел снять газету — снял. Чего возмущаться?
— Не одинаковые положения. Я не собирался уезжать. Неожиданная причина заставила.
— Значит, ты справедливо нас бросил?
— Может быть, справедливо, а может, и по ошибке. Ты-то, ясно, пострадала ни за что.
— И мама ни за что.
— Ты же ничего не знаешь.
— Я уверена.
— Ты хорошо думаешь о матери. Так и должно быть. И плохо думаешь обо мне. Иначе и не может быть.
— Я думала плохо о тебе… И не хотела бы больше.
— Я нуждаюсь в твоем уважении.
— Больно быстро ты стал нуждаться в моем уважении. Ты вот не думаешь об этом, а, может, я здесь, у вас, как в сказке, вышла на развилку трех дорог. На двух ждет горе, на одной — счастье. Какая дорога счастливая — нет указателя.
— Ты права. Я не думал об этом.
— Обо мне и вообще о нас…
— Каждое поколение в общем-то похоже…
— Верно, но только до нашего поколения.
— Вы что — особенные?
— До нашего поколения люди думали, что они всегда будут жить, а мы думаем, что на нас может закончиться жизнь.
— Знаю.
— Ты мысль знаешь, а не переживания, не то, как мы думаем и поступаем.
— Пожалуй. Почти не приходится общаться с молодежью.
— Ну, хорошо. Иди в цех, если очень нужно.
— Еще как нужно. Начальник у нас на блоке неудачный. Газета и выступила. Менять необходимо. Трайно не назначат начальником. Он это понимает. А при этом начальнике он по существу заворачивает всем блоком. При головастом начальнике наверняка выйдет ему укорот. Будь воля, Трайно бы за сотню лет не допустил никаких перемен в коксовании.
— Чем же, не понимаю, плох ваш начальник?
— Обижен природой. Верно, добряк, не наорет на подчиненного, но производству от этого не легче. Можно бы и не замечать: пусть сам по себе, мы сами по себе. Не получается. В общем, Бизин расчихвостил начальника в стенгазете. Ты меня извини, Маша. Я к майору и с ним на блок. Еще сходим в музей. Не сердись.
По дороге в кинотеатр (Маша обожала первые сеансы: билеты дешевые, садись где захочешь и не душно) встретила Владьку. Подумала о нем, проходя под дворовой сосной, и вот он сам. Стоит подумать о том, кого желаешь встретить, и встретишь!
Владька не подошел к ней, только помахал, как крылышками, полами куртки.
— Телеграмма. Спешу дать ответ.
За последние годы к Маше на квартиру приносили только, как говорит мать, смертные телеграммы: замерз дядя Родион и застрелился в армии племянник Хмыря, которому Хмырь за рюмкой обычно внушал: «Кончай, Семен, задумываться. Я с одним в школе учился. Он задумывался, задумывался и руки на себя наложил».
Машино воображение повторяло Владькино лицо. Оно было тревожно. Не от горя. От чего-то очень радостного, во что не совсем поверилось.
Владька уходил по шоссе. Тротуары были широки, но он шел посреди шоссе, как милиционер, и автомобили проносились у него с боков.
Внезапно Маша почему-то устала. Ткнулась лбом в ствол березы, теплый, шершаво-ласковый. Глядела вполглаза на удаляющегося Владьку.
Что с нею? Грустно. Отец? Он, наверно. Она ему сочувствует и вместе с тем не уверена, что правильно сочувствует, потому что когда Хмырь возмущается кем-нибудь из цеховых, то и Хмырю сочувствуешь: получается — он во всем прав, он прекрасный, а цеховые несправедливы, плохи.
Впереди Владьки над асфальтом радужным крылом сверкнула вода. Из переулка выехал поливальщик, желтая кабина, синяя цистерна. Движется на Владьку. Удирай! Окатит. Не удирает. Да еще кинулся навстречу поливальщику. Влетел в перистые струи. Затанцевал. Отряхнулся. И — дальше. Вот тебе и тютя!
Оттолкнулась от березы. Было пошла во двор, но остановилась возле ворот, крутнулась на каблучке, пошла за Владькой. Не понимала, почему идет за ним, думала, что он худо подумает о ней, а сама спешила, на мгновения пускаясь в бег: свернет куда-нибудь и потеряется.
С виду Владька не был удивлен, когда она появилась рядом с ним.
Он показал глазами на табурет, и Маша села.
Владька вел себя так, как будто еще давеча догадался, что она придет на почту, и как будто ему было все равно, что она пришла.
Поведение каждого человека Маша сопоставляла со своим, и если он поступал не так, как поступала она или бы поступила, то этот человек вызывал у нее настороженность. А если же он поступал, по представлению Маши, плохо, она, мигом теряя к нему уважение или привязанность, начинала думать, что он таким и будет всегда. Механизм ее сознания сработал по-обычному, как только Владька нагнулся к оконцу. Если Маша чувствовала себя оскорбленной, она как бы впадала в полузабытье: все ей виделось в дымке, звуки докатывались пухово, хотелось, чтобы отчужденность, наступившая в тебе, продлилась подольше. Чаще всего это состояние овладевало Машей, когда Хмырь, придравшись к чему-нибудь, лаял ее, а мать защищала, и оба то и дело обращались за помощью, доказывая свою правоту, к свидетельской половине семьи (старуха, деверь, сестра Хмыря), те втравливались в препирательства, и заводилась свара, от которой только и спасенье было, что в дремотной отстраненности.
В такой же отстраненности Маша поднялась с табурета, едва Владька приблизился к столу, обклеенному черным пластиком, а потом брела сквозь марево над тротуарным гудроном. Владька заговорил. У него был торжественный тон, даже ликующий. Зимой он занял третье место на Всероссийской математической олимпиаде, и потому сегодня телеграммой из Московского университета его вызывали на общесоюзный семинар самых талантливых математиков-школьников. Ему посчастливится слушать лекции академиков и профессоров о дифференциальных и интегральных уравнениях, по топологии, по теории вероятностей, теории групп, возможно, и по теории игр.
По характеру Владька Торопчин был молчалив. Он предпочитал сдержанно относиться к собственным успехам, несмотря на то, что слыл в родном городе вундеркиндом. Сказывалось влияние бабушки, Ольги Андреевны, нет-нет и замечавшей, что его морочит гонор. Привычка окорачивать себя: «Ишь, выпячивается» — не всегда доставляла Владьке удовольствие. Время от времени он стервенел от потребности в похвальбе и до того хвастал своей якобы гениальностью, что смущал сестру Лену, любившую поговорить о том, что ее старший брат будет великим ученым.
Возвращение из состояния самохвальства обычно стоило Владьке тяжелого раскаяния. Теперь он еле сдержался, чтобы не закричать от презрения к себе. Ведь до чего разбахвалился перед девчонкой: утверждал, что будет двигать одновременно, подобно Канту, развитие математики и философии, а возможно и космогонии. Не мечтал, не выдвигал в качестве идеала — утверждал. Чем сильнее Владьку коробила собственная недавняя похвальба, тем острей он испытывал свою вину перед Машей. Он был слишком чист, чтобы в минуты раскаяния оправдывать себя.
Когда он осекся и замолчал, Маша в недоумении от его перемен посмотрела в покаянное лицо Владьки.
— Я виноват, — сказал он, — виноват… Я о себе да о себе. В сущности, я оскорбил всех способных людей. Все думают, что я счастливый. Я больной. У меня мания величия. Однажды вот так же хвастал, Лена расстроилась. Кот на софе сидел. Рыж звали его. Лена наклонилась к нему и сказала грустно-грустно: «Хорошо тебе, Рыж, ты не думаешь, что ты гениален!»
Маша улыбнулась. Теперь ей казалась блажью обида на Владьку за то, что он, торопясь на почту, не остановился. Она сама, получив письмо отца, бежала к матери, не замечая никого, а вот Владька ее заметил.
— Маразм. Самому странно. Был я, и вдруг словно не я. Находит… Ты пришла на почту просто так?
— Не просто так.
— С отцом опять повздорила?
— С ним у меня уже почти шоколадные отношения. Я за тобой пошла.
— Из-за чего ты обиделась на отца?
— Вопросничество?!
— Отомстила.
— Мне неприятно, если кто сильно кается.
— У тебя феноменальная доброта.
— А я на теплоходах не ездила.
— Вверх по реке или вниз по морю?
— Ни вверх, ни вниз. А где красивее?
— На реке.
— Поехали.
— К обеду возвратимся?
— К вечеру.
— В семье Торопчиных принято докладываться, куда идешь и едешь.
— А у нас в семье, я про железнодольскую, не принято докладываться. Долго проходишь — взбучка. Поехали. Потеряют, а мы найдемся.
До того счастливой почувствовала себя Маша, оказавшись на теплоходе, что ее даже оторопь взяла. От природы Маша была боевая девчонка, поэтому она быстро преодолела радостное замешательство и пустилась в путешествие по теплоходу.
Владька весело сновал за ней вдоль бортовых поручней, по салонам смеялся в ладони, когда она, округляя глаза, дивилась разнице между магазинными ценами и теми, что были в буфете.
Владька разыскал ее на носу. Маша наблюдала за мальчишкой. Мальчишка таился среди механизмов для подъема якоря, целясь пластмассовым пистолетом по объемистым деревянным домам, осевшим на косогор и казавшимся брюхатыми.
— Мило играет, — шепнула Владьке Маша.
— Инстинкт убийства, — возразил Владька.
— Чего?!
— Удовлетворяет инстинкт убийства.
— Не надо, Владик.
Появившаяся на носу старуха с похрюкивающим в заспинном мешке поросенком тыкала мальчишку взашей, приговаривала, гневливо придыхая, что он, лешак картофельный, так и норовит накликать войну.
Наползал холм. По краю он был обвален волнами. Ярко желтел яр. Под ним колготились бревна.
Прибежала приземистая женщина в комбинезоне, вращением лебедочной ручки начала опускать тяжелые сходни. Теплоход вкрадчиво толкнулся в дно, сходни — в зыбящиеся бревна. Мальчик и старуха, сбежав по сходням, проскочили по бревнам на тропинку, состругивали глину каблуками, карабкаясь в небо. Маша вдруг огорчилась, что старуха и мальчик, поднимающиеся в свой крутой поселок, сошли, будто они были ей родные и теперь она никогда не свидится с ними.
Судно отплыло от яра. Женщина принялась крутить ручку лебедки, покряхтывая. По мере того как сходни поднимались, Маша заводила их на палубу.
С этой минуты она не уходила отсюда, на остановках помогая юркой женщине.
Река, взлохмаченная ветром-понизовиком, норовисто разрезалась о теплоход. Осклизлые топляки выставляли плоские макушки, иногда колотились боками в днище. Как бы утаскивало за корму берега с полосатыми маяками, высоковольтными мачтами, с церквушками, табунами, бензоцистернами. Во всем этом была такая безвестность, что не терпелось сойти на берег, податься, куда ноги понесут, узнать про эту землю что-нибудь сокровенное, чего не выглядишь с теплохода.
Внезапно для себя Маша потащила Владьку к трапу, опущенному под обрыв; вскоре они уже выбирались на кручу за рыболовами, шуршавшими раструбистыми сапогами. Владька было разинул рот, чтобы спросить у рыбаков, где они находятся, но Маша запретила ему спрашивать, притронувшись кончиком пальца к губам. Рыбаки были седые, с хмельной осоловелостью в глазах.
Навьючивая на себя рюкзаки, ворчали, сокрушаясь по поводу легкодумности молодых людей, которые явились простоволосыми, неприспособленно одетыми в места, где можно подцепить энцефалитного клеща.
И Маша и Владька знали, что от укуса энцефалитного клеща трудно уцелеть: два дня — и умрешь, а если выживешь, то будешь калекой и шарики станут заходить за ролики. Расстроились, но потом Маша скорчила рожицу, передразнивая рыбаков, бубнила вслед им, грузно восходящим на бугор.
Этим она развеселила и себя и Владьку, и они тоже пошли берегом, держа направление на хвойный лес.
Летом Маша обычно отдыхала в городе. Перед каникулами мать начинала просить для нее путевку в пионерский лагерь. При разборе заявлений всякий раз оказывалось, что на Машу путевки не хватало. Не попала в первую смену, мечтала о второй, затем прохладно ждала (ни к чему обольщаться), что поедет в третью, а когда в третью не попадала, даже переставала ходить за цементный завод на озеро, уверяя себя в том, что она обречена пропадать в городе, где воздух прогорк от сернистого дыма, асфальтового чада и автомобильных газов. В прошлом году повезло. Англичанка Татьяна Петровна закабалилась в начальницы лагеря, как повторял ее муж, и взяла Машу на все лето с собой.
Маша и не подозревала, что близ Железнодольска (каких-то шестьдесят километров) может быть потрясающая природа. По окраинам Железнодольска холмы, покрытые свиной щетиной травы, которую и козы не дерут, кучи металлургического шлака, утыканные верблюжьей колючкой, возвышенности, засаженные картофелем. Пруд, который делит город на азиатскую и европейскую половины, приятен на вид лишь в затишье. Едва осядет взбаламученная непогодой рыжая глинистая муть, принесенная рудопромывочным ручьем с Железного хребта, он становится зеркально-серым. А ночью он еще ярче от пластинчатых отражений оконного света, от повторения домен, мартенов, прокатов, от электрических вилюшек, красных плавочных зарев, лунных дорог и звездного кипенья.
Во всем этом своя приятность. Как тут поспоришь против маминой оправдательной правоты. Однако лагерь в горах!.. Тут просто очумляющая красота. Другая планета! Копьистые от ельников склоны. На вершинах гольцы, соткнувшиеся друг с дружкой лбами. А меж этих бодающихся каменьев — синие бреши, и через них видать коршунов, облака. А в теснинах — летящие реки, словно их выдувают реактивные трубы. А по падям — ирисы: желтые лепестки, красные узоры. А на обдувах — неветреные ветреницы: только вокруг берез и тех берез, что на отшибе и нетесно растут. Упадешь перед ветреницами на коленки. Они покачиваются. Чашечки белые, пятилепестковые, схожие с цветами шиповника, но гораздо изящней, без этих желтых тычиночных чуприн, белы, как березовая кора, — чисто, тепло, вдобавок нежные до призрачности. А запах такой тонко-тонкий, что аромат ландыша перед ними груб. Уходишь и оглядываешься. Ветреницы смотрят с пригорка. И кажется, ждут, что ты вернешься и снова будешь любоваться ими. Как ясельные дети на прогулке. Ты с ними остановилась, поиграла, повосхищалась, и дальше они провожают тебя привыкшими глазенками, недоумевая, почему ты уходишь, раз так они тебе нравятся, что вроде бы ты совсем без них не можешь обходиться.
Шагая с Владькой по лесу, Маша радовалась — многое из того, к чему привыкла в горах, попадалось и здесь: поляны золотели от купавок; по елкам вились дедушкины кудри, белея четырехлопастными цветами; солнечные закрайки сосняков вызвездило розовым пионом, в названье которого приятно было слышать свое имя — марьин корень.
Но радостней всего было узнавать и различать узорчато-четкие травы: вейник, вострец, костер, ежу, трищетинник и всякие (они все прелесть) мятлики.
Неожиданно позабавил Владька, как-то вскользь и спокойно взглядывавший на то, что вызывало у Маши приливы душевного торжества: выяснилось, что его ботанические познания на удивление бедны. Он даже путал липу с вязом, ели с лиственницами, а все желтенькие цветы были у него лютиком едким или куриной слепотой. Маша подшучивала над ним. Чтобы она отстала, Владька заявил, что не хочет захламлять память необязательной информацией.
Зато Маша открыла для себя пихты. Она думала, что проходит мимо елей, но ей показалась необычайной гладкость их стволов, разлапистость веток, оперявшихся яркой свежей хвоей (на елях хвоя вроде поскромней), и то, что ни на одной из них не висели грозди прошлогодних шишек. Она понюхала ветку. Душистая хвойная сладостность, но не приторная, а такая, которой хочется упиваться. Подняла шишку. Чешуйки еловых шишек когтисты, ромбовидны, а эти круглы. Да ведь это пихты, пихты, пихты!
Владька ухмыльнулся, что она обрадовалась, обнаружив в лесу пихты. Он одобрил пихтовый запах и обещал Маше, коль ей нравятся этакие ароматы, выпросить у тети Натальи Федоровны сандаловый порошок, чтоб нюхала в свое удовольствие.
Она была против того, чтобы рвать цветы: завянут, пока плывешь на теплоходе. Но когда повернули обратно, не удержалась и наломала охапку купавок и шла, обхватив ее левой рукой. И было приятно у щеки колыханье упругих бубенцов, внутри которых, на самом донце, мнилось, плавает оранжевый свет, и тешило лукавое предположение, что если бы ее сейчас сфотографировали, то карточка бы получилась симпатичная и сам Владька пожелал бы заполучить на память.
Переложив купавки с плеча на плечо, Маша заметила, что по руке, которой поддерживала букет, ползет клещ. Хотела стряхнуть — не стряхивался, пальцами снимать побрезговала. Попросила Владьку. Он вмиг побледнел, однако не медля сорвал березовый лист и прихватил им клеща, а так как спичек у них не было — в тлен развинтил каблуком свернутый лист.
Маша бы не испугалась, кабы Владька не побледнел да с дрожью не растаптывал клеща. Она отшвырнула цветы и обнаружила в локтевой впадинке два красных пятнышка. Наверняка прокусил клещ. Кожа тут нежная, потому и прокусил. Она слыхала про его укусы. Какие-то молниеносные: раз — и не больно. Да, да, слыхала, молниеносные.
Сказала об этом Владьке. Он обследовал ее руку. Красные пятнышки были и на плече и на кисти. Комары нажалили. Если бы клещ прокусил, он бы впился и присосался. Легко рассуждать, когда не по тебе полз клещ и не ты, в случае чего, погибнешь. На твое зрение все пятнышки одинаковые, а на ее эти, в локтевой впадинке, красней…
У Маши не было так, чтоб в несчастье она сердилась на человека, который сочувствует ей. Владька опасается за нее, как, может быть, никто до сих пор не опасался… нет, Татьяна Петровна… В позапрошлом июне всем классом собирали семена карагачей. Она, Маша, стояла на лестнице, сдаивая с ветки похожие на бумажные пистонки семена. Сдаивала, потеряла равновесие, ударилась головой об асфальтовую дорожку. Татьяна Петровна невероятно переживала… и Владька так же переживает. А она против него раздражается. Наверно, укусы клеща? Энцефалитного? Но все равно не должен успокаивать. Не отличаешь пятнышко от пятнышка — молчи.
Они почти что бежали через лес, будто их подгоняло ураганным ветром. Первой очнулась от спешки Маша. Встала в колее проселка. Владька подумал, что началось. Маша, едва он спросил, почему она остановилась, хмуро наклонила голову. Молчала.
У себя в городе Владька слыхал про мальчишку, которого укусил клещ на Сундук-горе в Башкирии. Мальчишка был словоохотлив, но, переболев, сделался молчальником.
Владька стал допытываться, не чувствует ли она жара, есть ли мозговые боли, нет ли тяжести в ногах. Она как закаменела. Он притронулся к ее волосам с той же вкрадчивой вопросительностью, которая только что была в его голосе. Маша не отвела головы. Тогда он принялся гладить ее волосы, слегка касаясь щек, по которым они пушисто спадали, и от этого в ее облике была такая незащищенность, что ему хотелось умереть.
Нежность была чувством, презираемым Владькой. Обходительный, выдержанный, он взвинчивался, даже если бабушка позволяла себе чиркнуть ладошкой по его челке. Сестра Лена — к ней он был очень привязан — поддразнивала Владьку:
— Брат-тачка, сердитенький, разреши — причешу тебя.
Он, выкрикивая на хрипе, чтоб Лена отвязалась, скрывался в смежную комнату. Сестра приходила туда. Иногда его настолько бесила шутливая ласковость сестры, что он в остервенении долбил ее кулаком в плечо.
Когда кто-нибудь сообщал Владьке, конечно по секрету, что он нравится какой-то девчонке, Владька зло напрягался. Случалось, что соученики заводили при нем разговор о девчонках, а ему нельзя было уйти, и он узнавал, что Игорь дружит с Галкой, что Инга перецеловалась со всеми мальчишками из 9 «б» (спортивный интерес), что у Гареевой было с Даньшиным, то разочаровывался и в тех, кто болтал и о ком болтали.
Владькину мать, специалистку по античности, сокрушала в сыне несоразмерность между его умственным и чувственным развитием. При случае она подшучивала над бобылями и женоненавистниками из педагогического института, где преподавала, дабы Владька сознавал, какой неполноценностью может обернуться некая его сегодняшняя черта.
И вот Владька гладит волосы девчонки. И сам себе не отвратителен, хотя и утверждал, что будет в подобном случае отвратителен самому себе. Он и не вспомнил об этом. И если бы кто-нибудь мог напомнить ему об этом сейчас, каким он был еще недавно, то Владька показался бы себе чудаком и, наверное, благодушно посмеялся бы над собой.
Скольжение Владькиных ладоней по ее волосам сначала было безразлично Маше, но вскоре она ощутила, как погорячело ее дыхание, и отвела Владькины руки. Как в лихорадке пошла травянистым проселком, но теперь ее уже несло не отчаяние, а смущение.
Давеча Маша и Владька попали на проселок возле сосны, обугленной ударом молнии. С правого бока от них чернела горстка избушек. К этим избушкам они и спустились по проселку, похватали губами родниковую струю, слетавшую с берестяного желоба. Побрели берегом моря к остановке.
Страх перед энцефалитом, слабо подававший о себе знать во весь лесной путь, резко усилился в ее душе на береговом солнцепеке: заболели виски, адски ломотно, аж к горлу подпирала тошнота. Броситься бы с крутояра и опускаться в отвесную глубину, к донной студености, в безвольность. А может, не от клеща? Просто переволновалась и жара, жара, жара?
На остановке была деревянная ожидалка. Там слышался говор. При мысли, что она окажется среди людей, Маше стало муторней. Сразу будто несвобода: кто хочет разглядывает тебя, и как хочет думает о тебе, и ты вынуждена смотреть на них или слушать их, и всякий имеет право соваться в твои глаза с улыбкой, с насмешливой гримасой, с миной угодливости, вламываться в твой слух хохотом, умничаньем, кухонными рассусоливаниями, с матом, скукой, притворством.
Легла в тень ожидалки. Рукой прикрыла глаза. Погружалась в темноту, где извивались осциллограммы боли, какие-то никелево-яркие, мешавшие установлению внутреннего покоя. Ловила, утишала их, они вырывались, убегающе скользили и опять изгибались в черноте, куда трудно было дотягиваться, порскали ранящим блеском.
О Владьке забыла, но чувствовала какое-то натяжение между собой, простершейся на земле, и кем-то, находящимся поблизости, метрах в трех. Когда отчетливо ощутила, что пропало натяжение, поняла: неподалеку стоял Владька. И ушел. И тут же возник его басок за дощатым сводом стены, спрашивающий, нет ли у кого случайно таблетки от головной боли. Чье-то обнадеживающее обещание порыться в сумочке. Потом Владькино объяснение, для кого таблетка и почему. И снова голос, обещавший порыться в сумочке, но звонкость его притуманилась заботой. И зачем Владька сказал про клеща? А после слова все той же, должно быть, славной женщины; из них Маша узнала, что у женщины был энцефалит, а клещ ее не кусал, и что был он и у ее племянника, который только снял с ее руки клеща. И у нее, и у племянника через сутки началась высокая температура, а головная боль попозже, невыносимая тоже.
У Маши была надежда на то, что укусы комариные (пятнышки стали точечными, не отличить), и вот надежды нет, и такая в душе пустота, как после похорон. И ни к чему таблетка, и все чуждо и ненужно.
Да отстань ты, Владька. И она отбросила таблетку. И коренастая женщина с яблочной рдяностью щек, журяще называющая ее деточкой, и снова облатка у губ. И вскоре теплоход. И лежит она в кормовом салоне. Биение двигателя внизу. Кувыркающиеся звуки татарской гармошки за бронированными туалетами, в подтянутых на блоки шлюпках. И неостановимая жалость к себе: не будет в городе, а то и на всей земле девчонки с пепельными волосами — для Татьяны Петровны они лунные, — которых, наверно, не станет нигде, как и голубых и синих глаз, из-за электрического света. И тревожная боль за мать: казниться будет — на смерть отпустила. И досада, что не выведала, почему отец кинул их с мамой. И сочувствие ему: без того страдает из-за случая со стенной газетой. Из-за всего этого Маше все сильней хотелось жить. Как бы доказывая кому-то, а также и себе, что ей рано умирать, она перечисляла, что желала бы узнать: будет ли счастлива мама, если Хмырь бросит выпивать и драться; каются ли Владькины родственники, что уехали из Франции; на ком женится Митька Калганов; если Владька достигнет профессора, то кем сможет стать она, которая интересуется кое-чем, что его не интересует, и, в общем-то, сообразительней его…
Постепенно она сосредоточилась на мысли: раз других спасли, то и ее сумеют спасти. Приплыть в город и немедленно в больницу. Пусть делают хоть сколько уколов против энцефалита. А понадобится — пусть делают пункцию спинного мозга. Мама, когда ее исследовали на вибрационную болезнь, не согласилась на пункцию, потому что накануне у ее подруги по цеху отнялись ноги от этой самой пункции. А Маша согласится. Она жизнерадостна и все выдюжит. И бегать будет. И шарики за ролики не зайдут, как не зашли от падения с лестницы на асфальт. Затем почему-то Маша вспомнила экскурсию на блюминг, куда мать, отстраненную из-за вибрационки от работы на наждаках, посылали убирать окалину из-под рольгангов. В зеркальные валки центрального поста втягивало стальные малиновые слитки. Грохотало. Кометы искр. По верхней плоскости слитка каталась вода, взрываясь, сгорая зеленым огнем. Слиток куда-то делся. В зеркальные валки понеслась вода с берегами, селеньями, заводами, сплющивает людей, животных, птиц, муравьев. И закричала, но голоса не было. Чтобы голос появился, откинула плечи, как крылья, и очнулась.
Вслушалась в виски. Боль исчезла. Качнула головой. Нет боли. Тут Владька принес крюшон с пирожками. Выпила крюшону и поела пирожков. Встала у борта. Теплоход скользил к туче, разверзавшей вислое брюхо. Тень тучи пласталась вблизи, синя бетонный мост, бетонный же, выложенный плитами бок стрелки и реку, сужающуюся перед выбегом в море.
Владька смотрел на Машу из салона. К ней он не решался выходить, останавливаемый какой-то суеверной робостью. Было удивительно, потому и мнилось, будто все это не наяву, что он не замечал раньше, как может быть прекрасна девчонка. Это открытие явилось его душе в тот момент, когда солнце золотило Машин профиль с чуть вздернутым кончиком носа и когда вихрились по ветру ее волосы.
Врач поликлиники металлургов Чебуняев, к которому советовала обратиться Маше коренастая женщина, четверть часа назад закончил прием, но оставался в кабинете. Склонясь над столом, он сидел с закрытыми глазами. Перед ним на белом лежал черный, еще не просохший рентгеновский снимок. У Чебуняева был друг детства Григорий Кислян. Рос он в семье, которую за многочисленность называли хором Пятницкого. Рано женился. В первые же годы обзавелся кучей ребятишек. Работал горновым на домне. При такой-то огненной специальности да при такой ораве ему взбрендилось учиться. Три года в школе рабочей молодежи да восемь (делал передышки) вечерником горного института. С весны начало поташнивать. Обследоваться не хотел. Недавно защитил дипломный проект. Сегодня понаведался в поликлинику. Невмоготу. И вот уже известно Чебуняеву, что у Кисляна рак настолько запущенный, что поздно оперировать.
Владька узнал в регистратуре, что Чебуняев хотя и закончил прием, однако все еще у себя. Владька скачками на второй этаж. Распахнул дверь кабинета. Выпалил с порога, что случилось, и только тогда до него дошло, что врач не шелохнулся за все это время.
Уснул. Никаких! Разбудить!
— Доктор, проснитесь, необходимо.
Врач, не открывая глаз, строго спросил: имеет ли он право на покой. И Владька ответил с настырной категоричностью — она странна была самому, — что у врача, если он действительно человеколюб, не может быть такого права. Во Владькином голосе была еще и торжественность мужчины-опекуна, и Чебуняев улыбнулся и сказал, что готов принять больную.
То, что они не привезли с собой клеща, Чебуняев осудил. И Маше и Владьке клещ запомнился чисто красненьким. Это ободрило врача. Энцефалитные зачастую в черном ободке и с желтой мушкатостью сзади. Температура у Маши была нормальная. Чебуняев повел девчонку в процедурный кабинет, следил за тем, как сестра вводила ей гамма-глобулин. Выработанным до безошибочности чутьем Чебуняев определил, что никакого энцефалита у девчонки не будет; и вдруг растрогался, что сохранится ее жизнь, заключенная в эту прекрасную конструкцию тела; и обнял Машу и паренька, смахивающего на Багрицкого, за плечи, вывел из вестибюля, весело подтолкнул к лестнице.
В кабинете, опять наставляя на оконный свет лист рентгеновской пленки, вспомнил, как были счастливы, спускаясь по лестнице, паренек и девчонка.
Предполагая, что их, куда-то девавшихся, собираются искать, Маша и Владька неслись по улицам чуть ли не бегом. Неподалеку от стадиона они встретили Торопчиных, спешивших на футбол. Маша подосадовала про себя: такие культурные люди и им интересно, как здоровенные мужчины (по Хмырю — коблы́) пинают мяч, толкаются, куются, рычат, корчатся, сшибленные на поле.
В том, что черные волосы Сергея Федоровича глянцевели, а лицо было чисто выбрито, а также в этой белой полотняной рубашке, в коричневых брюках и сандалетах было столько праздничности, что Маша подумала, что, видимо, в футболе, кроме беготни и силовых приемов, есть и еще что-то. Сергей Федорович, наверно, чтобы разглядеть ее, надел очки. Золотая планка очков поблескивала. К его возрасту Владька тоже станет благородным и красивым, только ему надо будет зачесывать волосы назад и носить очки со стеклами, привинченными к позолоченной планке.
Беловолосые люди всегда казались Маше тускловатыми. И она поразилась, что Кира, жена Сергея Федоровича, не выглядела невзрачно рядом с ним. Она была высокая, с золотистыми бровями и ресницами и розовым румянцем.
Сергею Федоровичу не терпелось очутиться на стадионе. Он велел Владьке отправляться восвояси: извелась бабушка — с утра ведь пропал.
Сергей Федорович взял под руку жену и сестру. Но Наталья Федоровна вдруг расхотела идти на футбол.
Когда брат и Кира отошли, она сказала Маше, что скучает о сыне и дочери, которые отправились в туристический поход на Кольский полуостров, поэтому охотно побудет немного вместе с нею и Владиком.
Маша предупредила Наталью Федоровну, что побежит домой, но та ответила, что и она побежит с ней. От неожиданности, от того, что лицо Натальи Федоровны было замкнутое и какое-то иностранное: смуглота, тонкий нос, составляющий прямую с наклоном лба, кольчатые волосы, обрушивающиеся до середины спины, — от того, что почти невзаправдашна была ее судьба, от всего этого Маше представилась подозрительной навязчивость этой женщины.
Но посмотрела на Владьку, который начал весело рассказывать тете об их с Машей путешествии, и подосадовала на себя. Едва проводили Владьку, еще сильней, чем он, стала потешаться над своими энцефалитными страхами.
Отец смутился: был по пояс голый. Он ускользнул из прихожки и, пока они разувались, надел и зашнуровал футболку.
Маше пришлось обедать в одиночестве: Наталья Федоровна отказалась. Было досадно, что ее отец робеет перед Натальей Федоровной. Может, она ему нравится? Дохлебывая окрошку, Маша насторожилась: голос отца, который слышался размыто, стал отчетливым.
— «Нам нужна, — говорит, — критика, поддерживающая авторитет руководителя». Бизин ему: «Было бы что поддерживать». А Трайно: «Демагогия». Как нечем крыть: демагогия. Я и привел пример с особняком. Наискосок от краеведческого музея старинный особняк стоял. Никто в нем не жил, и не ломали.
— Памятник архитектуры?
— Не знаю. У него все нутро завалилось. Уличная стена тоже. И подперли, значит, три остальные стены и потолок бревнами. Чего подпирать, коль внутренность улькнула вниз? Убрать и заменить новым домом. А Трайно: как, мол, можно неодушевленный предмет сопоставлять с человеком. Это не отвечает природе нашего духа. Навострился языком орудовать. Мы с Бизиным сразу на таран: а отвечает-де нашему духу ваше поведение? Чем он может возразить? «Дисциплину не уважаете». Плюнули. Ничего ему не докажешь. Освинцевал мозг. Что не по его, то и вредно. Коллектив ему за слепца, а он сам себя мнит поводырем.
— Чрезмерно волнуетесь вы, Константин Васильевич, — сказала Наталья Федоровна. — Снимут начальника блока. Уже всем, очевидно, что он слишком зауряден. Вот его жена — талантливый энергетик. Она часто бывает у нас в научно-технической библиотеке. Славная. У нее трое детей. Никогда ни на что не посетует. Как только все успевает? Она знает, что ее муж не на месте. Скорей бы, говорит, освобождали… Я поражаюсь… Семейный бюджет изменится, положение мужа изменится…
Опять голос отца:
— Не за личный достаток пекется, и ложное мужево положение ей не нужно. Высокоубежденная, значит. Забота об общем благе. Не то что как некоторые — лишь бы верх держать над людьми и лишь бы темнить, если новая истина на свет просится.
И Маше очень захотелось жить тут, у отца, потому что он беспокойный человек и, вероятно, умеет добиваться справедливости, и никогда не думает, что плетью обуха не перешибешь, и уж конечно он не ходит к магазину, чтобы «нарисовать» с кем-нибудь всеразрешающую бутылку водки.
У Натальи Федоровны белые с прорезями туфли на гвоздиках. Уже по звуку гвоздиков можно определить, что Наталья Федоровна величественная женщина, несмотря на свою хрупкость.
Едва Наталья Федоровна направилась на кухню, Маша поклялась, что к выпускному вечеру купит себе точно такие же туфли. Выплачет у матери, а купит.
Стоя в дверном проеме кухни, Наталья Федоровна подмигнула Маше и крикнула Константину Васильевичу, что намеревается умыкнуть его дочку. Он не возражал. Настроение у него дохлое, только пасмурь на Машу нагонит. Да и надо в садик за Игорешей. Время выходит. И Лизе звякнет по телефону в цех: чего-то она задержалась.
Не сговариваясь, они стали спускаться к морю. При виде разноцветных дебаркадеров, водной равнины, как бы хромированной вечереющим, но еще ярым солнцем, северянка, которая развешивала на барже вышитые кофты, трехпалубного дизель-электрохода, приветствовавшего город гудением, Маша подумала, как прекрасно, что она не сбежала, что встретила сегодня Владьку, что прогуливается с Натальей Федоровной.
Мимо них прошли девушки. Помадные малиновые губы, по верхним векам, над ресницами, черные полосы, от уголков глаз, к вискам, черные отчерки.
Среди молоденьких продавщиц маминого зеркального гастронома тоже есть смазливые девушки. До того иногда намалюкаются — страхолюдины страхолюдинами. Маша подсмеивалась над ними, подражая Стефану Ивановичу: «Опять наваксились, ведьмины ветродуйки?!» Они сердились: малявочка, ничего не смыслишь. Маша смешно показывала, как они выглядят, а потом спросила Наталью Федоровну: права она или нет? Ура! Права! Недаром англичанка Татьяна Петровна находит, что у нее от природы эстетическое чутье. Потеха! Ты думаешь, в тебе ничего нет, а бац — у тебя обнаруживают эстетическое чутье. Прямо не из-за чего: зверюшек слепила из репейника, перелицевала себе в костюм мамино старое платье, оформила в «модерновом» витринном стиле (цветные треугольники, квадраты, загогулины, абрисы предметов, строений) альбом клуба интересных встреч.
Наталья Федоровна за естественность. Вот тебе на! Во Франции, те же продавщицы говорили, и мужчины красятся и делают маникюры-педикюры. Естественность? Любопытно!
Молодость сама по себе — украшение.
Молодость — украшение? Пожалуй. Одобряю.
Важен тщательный уход за собой.
Ого! Уход! Тщательный!
Человека нельзя судить за то, что он стареет и становится менее привлекательным или неприятным, уродливым, потому что это нормально и всякому уготовано. А девчонки, которые прошли, и те, из гастронома, — дико. Не подражай им, Маруся. Ты симпатичная, милая. Возможно, будешь красавицей. Следи за своей внешностью, особенно за волосами. Если бы они были мои, то я имела бы тысячи всяких расчесок, щеток, гребней. Я молилась бы им.
Наталья Федоровна лукаво улыбнулась, чтобы свести свой восторг к полушутке.
— Маруся… Прости, мне нравится не Маша, именно Маруся. Что, Маруся, привыкаешь к отцу?
— Помаленьку.
— Он добрый и заботливый. Мы приехали на родину в пятьдесят восьмом. Здесь у нас никого не было. Он много нам помог. Быт устраивать. Понимать действительность. Мы нуждались в ясности. Мы благодарны ему. Мы слишком мечтали о России, слишком стремились в Россию, чтобы разочаровываться. Но мы страдали бы от миражей, от непривычного в укладе, в обычаях… Мы, например, думали: можно брать продукты в кредит. В первые дни в СССР мы опрометчиво израсходовали деньги на мебель. Мама надеялась взять продукты в кредит. В магазине решили: она тронулась. Твой отец выручил нас.
— К вам он добрый.
Они приближались к дебаркадеру, где вчера ужинали. По отмели в мокрой одежде потерянно брел вчерашний старик, жаловавшийся на кого-то, кто вынудил его бросить дом и сад, и обещавший за это отомстить.
С той минуты, когда Маша увидела старика, в ее сердце возникла боль, неотступно напоминавшая о себе. Теперь эта боль разрослась и затвердела, будто камень. И Маше так стало жалко старика, что она подумала: если у него нет никого на свете, то возьмет и поедет с ним и будет ухаживать, как за родным дедушкой.
Она остановила старика и узнала, что он едет вслед за сыном и невесткой, которые уже определились на работу в лесозаготовительный пункт.
— Дедушка, да кто же вас выжил?
— Соседи.
— Что же вы поддались?
— Нелюди. С нелюдями, девочка, разве сладишь? Человек-то беззащитный против них. Сколь раз побеждали их люди. Опосля все равно их верх. Почитай, всю историю напролет их верх.
— Не может быть…
— И, маленькая… Что-то я не слыхал, чтоб конфетки сбрасывали с самолетов. Брали чтоб ящик с конфетами и сбрасывали на парашютах во дворы детских садов. Не конфетки сбрасывают, а бомбы. На тем… Во Вьетнаме…
— Так то американцы.
— Нелюдей везде хватает. У нас, должно, поменьше. А, да кто их считал… Ведется нечисть, и ничем ты ее не изничтожишь.
— До поры до времени, дедушка.
— Может, опосле детей твоих правнуков. Не, не верю, не. Никак не изничтожишь.
— Дедушка…
— Спасибо на добром слове. Жить тебе долго и в счастливой надее.
Гурьба цыганят натягивала и отпускала трос, которым пристань была приторочена к берегу. Свекольномордый вербовщик от того же ресторанного столика и из того же окна объявлял, что теплоход, плывущий с севера за вербованными из Грузии, задерживается. Внизу, вдоль служб и на помосте, галдел, томительно ждал перевалочный люд.
От моря, от моря. Вверх. В город. Ветер, полируя наклонный булыжник мостовой, шибал Машу и Наталью Федоровну по ногам. Обе уносили в себе дебаркадерное существование, которое только что обминули. Наталье Федоровне было неловко за уют и оседлость собственной жизни, а в Маше продолжилась вчерашняя растерянность перед человеческим миром. Осколочек этого мира ворвался в ее душу, а она даже не может его понять. И ей нечего надеяться и в старости сложить вместе все происходящее среди людей, чтобы постичь, что с ними происходит и куда они придут. Понять бы хотя немногие судьбы. Тех же цыганят и вербованных, дожидающихся теплохода. Еще что… Старик этот и вербовщик… Не должны они, старик и вербовщик, вязаться в один узел, а, выходит, увязываются. Они и в разноречии и в целом. Как так? Да как же это так? Да почему же старик думает, что нелюди всегда в конце концов берут верх?
На изгибе улицы выставил желтобалконную стену дом Торопчиных. Маша тотчас сосредоточилась на том, что увидит Владьку.
В квартире Торопчиных, стоя у винно-красного углом диванчика, Маша все ждала, что вот-вот появится Владька, куда-то спрятавшийся. Появится неожиданно, будто собирался напугать, а на самом деле для того, чтобы дотронуться до нее. Но она слукавит, словно напугалась, и сразу не вывернется из-под его ладоней, если он положит их ей на плечи. Вместо Владьки появилась магниево-седая Галина Евгеньевна.
Пунцовея, Маша спросила, где Владька.
— Уехал на велосипеде. С дружками.
Галина Евгеньевна усадила Машу на диванчик и ушла. Наискосок от Маши, посреди комнаты — трубчатый стеллаж, привинченный к потолку и полу. Перед книгами темнели вороненый шлем с паутинками орнаментальной позолоты, выветренной временем, черная лаковая дощечка, на ней красивый поп в серебряной ризе. На середине стеллажа лежали кожано-сухая голова меч-рыбы и бивень мамонта, из него были вырезаны круглоголовые мужички с косицами, едущие на осликах меж фанз, деревьев и зевак.
Наталья Федоровна уже в халатике проскочила за стеллаж. Клацнула, вспыхивая, зажигалка. Табачный дым протек меж книг, загибался к потолку. Она сказала, что курнет два разка и тоже сядет на диванчик. И Маше, которой Наталья Федоровна при всей своей приятности неотступно казалась иностранкой, послышалась в простодушном ее тоне и в словечке «курнет» такая Россия, что захотелось подбежать к женщине и обнять ее.
В срединном просвете стеллажа, затканном табачной голубизной, блеснули глаза Натальи Федоровны.
— Кое в чем, Маруся, мы старомодные. Увы, сохраняем семейные реликвии. Рыбу-меч поймал мой папа в Бискайском заливе. Папа был тогда слесарем по газовым аппаратам на химзаводе в Жэфе. В отпуск выбрался. Рыбу-меч поймал. То было перед захватом Франции бошами.
— Рабочий и сбежал за границу?
— В России он был дворянин, полковник генштаба царской армии. Еще он был полиглот. Я знаю, кроме русского, четыре языка. Он знал больше.
— А в слесаря устроился?
— До слесаря был такелажником, смологоном, люковым. Знания, звания и достоинства человека претерпевают девальвацию, лишь только он становится эмигрантом.
— Как при денежной реформе?
— Относительно.
— За десять рублей дают один?
— За тысячу.
— Понравилось ему рабочим?
— Труд у него был пагубный. Отравления были. Но среду свою он полюбил. Самих рабочих.
Маша радовалась, что ловко завязала разговор. Но она беспокоилась, как бы Наталья Федоровна не восприняла ее вопросы как Владька. Может, пренебрежение к вопросничеству — их фамильная особенность? С проказливым видом Маша подняла руку.
— Спрашивай.
— Раз вашему отцу понравилась рабочая среда, почему он вас отдал за миллионера?
— Я вышла замуж против его воли. Но не потому, что метила за миллионера. Мы учились с женихом в коллеже. Он был сыном итальянского виноградаря. Жил у тети в Жэфе. Мы нравились друг другу. По выходе из коллежа поженились. Кстати, тогда муж и не предполагал, что он станет сыном новоявленного миллионера. До сорок пятого, когда Советский Союз разбил Гитлера, он тоже работал на химзаводе. Родители мужа сколотили миллионы за войну. Поставляли вино в армию. Прикупали виноградники.
— Наталья Федоровна, зачем вы курите? Вы ведь дробненькая.
Улыбаясь, Наталья Федоровна появилась из-за книжных полок.
— Тише, мама против, чтобы я курила. Я правильно, как ты славно молвила, дробненькая. У меня противоречивая натура, потому что противоречивая судьба. Для многих я дочь эмигранта, для себя — дочь рабочего. Ко мне многие — подавай историю замужества за миллионером. В действительности я была женой сына миллионера.
— У вас еще одно противоречие.
— Да?!
— Вы родились во Франции, а про нашу страну все родина да родина.
Наталья Федоровна, сторожившая выражение лица Маши, вдруг будто перестала видеть ее: то ли потому, что обиделась, то ли чутко вслушивалась в себя.
— Ты не искала, не вслушивалась. В самом слове «родина» есть ядро смысла. Род, род — цепь поколений. От древнего предка до нынешнего потомка. Наш род возник в России. Один из далеких прадедов моего отца был боярином. Наш род значился в геральдических книгах. Родина — это земля твоего рода, и сам род, и все другие роды этой земли, и все то, что они создали на этой земле, и все то, чем они пожертвовали, и чего не сумели, и что еще совершат и выстрадают… Боль, кровоточащая рана… Много лет. Особенному папа́ и у моего деда по матери. Ты видела на стеллаже его портрет. Да и у всей семьи вплоть до моих детей. Когда я с детьми прилетела из Чехословакии в Москву, я поняла: гляжу глазами рода, люблю его любовью. С той поры я верю: то, что входило веками в глаза, в сердце рода, — передается. Лицо передается, физическая конституция и память… Нет, не память. Результат отложений в памяти и чувствах. И еще язык, Маруся. Тогда, в день прилета, хожу по Москве. Кругом русская речь. Пью и никак не напьюсь. Ехали сюда из Москвы. Иду по вагону. Слышу: «Дождя с весны не было. Как намедни лен закраснел, так и сейчас лежит. Лен-от обычно синеват, а этот красноват». Я остановилась. Слушаю. Плачу. Знаешь, как мама и отец сохраняли нам родной язык? Дома — ни слова по-французски.
Наталья Федоровна опять скрылась за стеллаж покурить. Оттуда сама заговорила о том, почему ей не ложилось с мужем. Не следовало бы шевелить эту эпопею. Но ничего… Расскажет ради Маши, чтобы ее, Натальи Федоровны, юность чем-то послужила Машиной юности.
В религиозных картинах над головами некоторых людей сияют нимбы — значит, они отмечены святостью. Когда в нас любовь — мы думаем, что отмечены чем-то сверхъестественным, и боимся утратить его. Но возникают другие обстоятельства, и для нас приобретают высшую ценность иные чувства. Не для всех, к сожалению.
Он был ласков, справедлив, заботлив, ее муж Джу, Джузеппе. Она уговаривала его не переезжать на жительство в Италию. Погостим, вернемся. Не получилось. Старший брат, приверженец Муссолини, считавшийся пропавшим без вести, оказался убитым в Триполитании, и теперь он, Джузеппе, единственный сын у родителей. Они уже старые, надо быть возле них. Разве отвертишься. Поехали. На руках у нее — грудная Анн, Аня. Чем-то зловещим отозвался вид родительского дома Джу в ее сердце. Крыша грифельная. Фасад голый. Ни плюща. Ни балкона. Серый клин на ровном подножье. Отец и мать Джу копили, должно быть, для первой встречи улыбки, но все их израсходовали до порога дома. И уже с каменными застольными масками только и разговоры о наследстве, которое ждет Джу, если он и невестка освоят все работы на виноградниках и в винных подвалах. Дали понежиться одно утро. Потом поднимали на рассвете, гоняли по хозяйству до вечерней зари.
Кормишь грудью Анн — торопят. Роды были не совсем удачными. Ей бы окрепнуть… В других семьях свекор жестокий, свекровь добрая или наоборот. Здесь — нет. Еще слаба была, свекор стал знакомить с трактором. Хотел, чтобы за день научилась ездить. Путала… Вместо скорости включила тормоз. Свекор как ударит наотмашь. Она с трактора, на камни. Увидел Джу, прибежал. До этого отмалчивался, наедине успокаивал: надо терпеть. Накричал Джу на отца, пригрозил уехать. Отец не испугался: «Уедешь — оставлю без наследства». Никогда Джу не был жаден, не мечтал о богатстве. Здесь же всем его умом, всей честью завладела мысль о наследстве.
За два года изнурительной работы она совсем ослабла. Часами лежала, не в силах шелохнуться. Муж повез к врачу. Истощение нервной системы. Необходим полный покой. Устроить в горах, поближе к вершинам. Фрукты, альпийское молоко, дышать. Вот и все лекарства. Нужны деньги. У Джу нет. Попросил у родителей. Отказали. Какое там лечение?! Глупости. От труда увиливает. Послала письмо отцу. Он выкроил из заработка. Поселилась с Анн у пожилых украинцев. Они перебрались в Италию в начале века. Горное селеньице. На отшибе от мира. Здесь никому не довелось видеть людей из России. Крестьяне были рады. Заботились. Прожила в украинской семье полгода. Тут, у вершин, родился Морис. Свекор нашел в Морисе сходство с собой. Был щедр на гонорар педиатру, которого приглашал к внуку. Но к ней отношения не изменил: хватит, дескать, притворяться больной. Посылал в винный подвал. Он выбит в горе. С километр. Посылал удалять из шампанского осадок: дегоржировать. Воздух спертый. Без солнца. Сам процесс не из простых. Берешь бутылку. Раньше ее наполнили вином. Открываешь, чтобы выхлестнулся осадок. Опять закупориваешь. Уже окончательно. Винные брызги. Ноги мокрые от шампанского. Молоко выжимаешь из груди, потому что, откупоривая и закрывая бутылки, то и дело придавливаешь к ней руки.
Свекровь паралич разбил. Веди дом. Джу часто в разъездах. Теперь физически он не работал. Отец называл его управляющим, а он себя — погонялой, который служит у родителей за кормежку, вино и одежду. Мне и того не доставалось. Я поизносила свои девичьи платья, даже неловко надевать. Сказала свекру: «Батракам лучше живется…» Орал, что Россия — страна лентяев и скотов и жаль, что Гитлеру не удалось ее растоптать. В тот же день она заявила Джу, что уедет, если его отец не извинится перед ней и если не кончится их бесправие… Джу клялся, что заставит отца извиниться, но не сделал этого. И все осталось по-прежнему. Она целый день всходила в селеньице, где жили украинцы. Одолжила у них на дорогу. Через месяц, когда свекор и муж были в отъезде, спустилась с детьми в долину, оттуда улетела во Францию. Мать плакала над ней, как над умирающей, так высохла и подурнела она за три года. Следом явился Джу. Торопчины не приняли его. Она видела из окна, как он слоняется по улице. Сама не показалась. Анн не пустила.
Бога нет. В этом она не сомневается. Но она верит, что сама жизнь творит возмездие. Ровно через столько, сколько ей пришлось страдать, не стало на свете ни свекрови — умерла от нового кровоизлияния в мозг, ни свекра — погребло снежной лавиной в Швейцарии на курорте. Джузеппе прилетел в Жэф. Он был уверен: коль пришли миллионы, то вновь придет и любовь жены. Но где ей было взять любовь, коль от нее и пепла не осталось?
Он был взбешен. Хотел отсудить детей. Процесс затянулся. Все Торопчины бедствовали, потому что нанимали адвоката. В конце концов, суд постановил детей оставить у нее, с правом для Джузеппе заполучать их к себе в каникулярные месяцы, а также с правом разрешать или не разрешать им выезд из Франции. Чтобы этот пункт записали, он потратил много времени и денег: узнал, что Торопчины ездят в Париж и там, в советском посольстве, хлопочут о возвращении в Россию. Семья, разумеется, была в отчаянии. Невозможно ехать без Анн и Мориса. Оставаться ради них во Франции — тоже трагедия. Сильней всех хотелось в Россию отцу. И всякое дополнительное препятствие для кого-то из семьи вызывало у него паническую тревогу. Он и так горевал, что во Франции останется старшая дочь Елена и младший сын Бернар. Елена была замужем за ненавистным всем Торопчиным украинским националистом Пудляковским, выступавшим с антисоветскими статьями и речами. Бернар принял наше подданство, однако остался в Жэфе: женился на очаровательной француженке. И вдруг такое постановление суда, что вынуждена оставаться во Франции и младшая дочь с детьми. Отец умер… Перед смертью он взял клятву с Галины Евгеньевны и Сергея, что они уедут в Россию. Заставил поклясться и ее, Наталью Федоровну, что и она выполнит его последнюю волю: уедет, как бы ни было сложно, и непременно с детьми.
Уехали мать и брат. Она делала вид, что никуда не собирается. Подозревала, что муж нанял шпионов. По совету адвоката рискнула вписать в паспорт Мориса и Анн. Поехала. Дрожала, что муж узнает и что ее схватят в ФРГ и вернут во Францию. Ночью, в самую глушь, таможенный полицейский, этакий громадина, проверил у нее паспорт. Когда пересекли границу Чехословакии, все трое торжествовали, пели, дурачились. После они узнали: Джу прилетел из Италии в Париж. Но он опоздал на сутки. Шпионы не очень тщательно шпионили.
Пока Наталья Федоровна и Галина Евгеньевна поили Машу чаем, вернулись Кира и Сергей Федорович.
Сергей Федорович подсел к приемнику. На чуточной громкости плутал в суматошном эфире, натыкаясь на певцов, что-то машинно балабонивших под джаз, на проливни скрипичной музыки, на разноязычных дикторов, сокрушавших противников своих правительств.
Его рука замерла: издалека, сквозь цикадный шелест прорвался мужской голос. Хриплый, гундосоватый, картавящий. Он почему-то не отталкивал. За мелодией, которую он гнул, разглаживал, золотил, можно было идти в безлунном лесу, как за лучом фонарика.
Сначала за спиной Сергея Федоровича встала сестра, затем — мать. Едва голос затих, словно его утянуло туда, откуда он пробился, выпутываясь из цикадного шелеста, Галина Евгеньевна, ее дочь и сын восторженно загалдели, дробя «р» и говоря в нос.
Кира провела ладонями от щек к вискам. В этом жесте почудилась Маше неловкость.
Через мгновение, ощутив за собой безмолвие, разом умолкли и муж Киры, и свекровь, и золовка.
— Шансонье, — промолвила Наталья Федоровна. — Скорей всего рабочий. Транслируют из какого-нибудь парижского кафе.
Кира вздохнула.
В прихожей Наталья Федоровна, стоя рядом с Машей, приглашала ее заходить и сюда на квартиру, и в техническую библиотеку. Маша помнила, что дети Натальи Федоровны студенты, но воспринимала ее как подружку: так просто, сердечно и ровно держалась с ней женщина.
Маша чиркнула ладонью о ладонь, щипками одернула платьице, а потом, чувствуя губами свое отраженное дыхание, шепнула Наталье Федоровне на ухо:
— Вы счастливы?
Наталья Федоровна погладила Машу по голове.
— Еще бы! Но, конечно, не во всем. Ох, до того очаровательные волосы! Неземные какие-то!
— Марсианские, — подсказала Маша.
— Я сразу догадался, что ты с Марса, — пошутил Сергей Федорович.
Мимо подъезда, вихляя с ноги на ногу, ехал сивый, который определился в ее уме после встречи в березовой роще как начальник велосипедной ватаги.
Едва вошла в ворота, навстречу ринулась повернувшая с шоссе гончая стая велосипедистов. Сверканье, перемеженье цветных пятен — футболки, жокейки, шелест — и уже никого. А она-то подумала, что сшибут.
Сивый, конечно, сивый организовал. И Владька, наверно, был среди них! Рассказал или нет? О чем, собственно, рассказывать? Теплоход. Клещ. Поликлиника. Мальчишки любят хвастать чем-нибудь таким или лгать о чем-нибудь таком. Но не Владька. Наверняка он врать не станет.
Трель велосипедного звонка. Владька. Вопросительный. Выдернул носки парусиновых тапок из стремян, что ли, прилаженных к педалям. Чего он строго так воззрился?
— Ну как?
— Что — как?
— Никаких симптомов?
«Вон он про что! Дура! Совсем недавно бесилась, почти умирала. И уже забыла и думать…»
— Я психопатка, Владик.
— Не убежден.
— Ты уезжаешь?
— Завтра.
— Зачем?
— Меня, к примеру, привлекает деревянное зодчество, в частности, резьба.
— А как же я?
Маша шла по тротуару, Владька катился на велосипеде, отталкиваясь ногой от гранитной бровки.
Ее вопрос настолько обескуражил Владьку, что он приостановил велосипед.
— То есть?
Еще ни один человек, кроме сестры и брата, не посягал на его волю, чтобы он не был волен в каникулярные дни и недели.
— Не с кем будет кататься на теплоходах.
— Людей на них с избытком.
— А ты черствый.
— Математик.
— И все равно славный.
— Я не падок на похвалы. И я свободолюбив, потому что мне ясен смысл несвободы.
Он отъехал.
Маша всегда была чем-то загружена: личное, семейное, школьное. В те месяцы, когда она сама себе напоминала трамвай — с утра до ночи круженье, мельканье, короткие остановки, ее мозг, будто запрограммированный, неутомимо творил мечты, загадки, замыслы, исполнение которых откладывалось на после.
В немногие необъятные дни, в которые время полностью принадлежало ей, у Маши и не возникало мысли осуществить что-нибудь, будоражившее ее воображение: лишь бы вдоволь поспать, набродиться по улицам и растерять ощущение, что ты гонима беспощадной, мстящей за медлительность силой. Здесь же, у отца, где Маша часто оставалась одна и где Лиза все сама делала по дому, а ей ничего не поручала и не разрешала делать, она неожиданно поняла, что если не будет теребить свое воображение, то проведет свое гощение довольно кисло. С Владькой было бы занятно дружить, но с ним покончено.
Надумала пробраться в грузовой порт — и пробралась: сплавала на буксире, который отволок туда баржу с подъемным краном. Целый день толкалась на аэродроме. Наблюдала взлеты и посадки самолетов. Выпросила у бортпроводницы значок с изображением лайнера Ил-18. Побывала в диспетчерской и в комнате синоптиков. И все это под видом внучки, приехавшей встречать ленинградского деда, позабывшего указать в телеграмме («Ничего не поделаешь — склеротик») час прибытия.
Прознавши, что Леночку, дочь Сергея и Киры, необходимо привезти с детсадовской дачи на вступительный экзамен в музыкальную школу, она вызвалась съездить за ней и проводить ее на экзамены, чтобы не обременять этой заботой перемогающуюся от повышенного давления Галину Евгеньевну.
Ее осенило на даче, что она могла бы быть хорошей воспитательницей, а в музыкальной школе, когда Леночку проверяли на ритм и на слух, догадалась, что в семь лет сумела бы воспроизвести сложный стук пальцем по корпусу пианино и повторить извилистую мелодию: почему-то тогда она крепко запоминала фортепьянные вещи.
Леночка хорошо, но неточно выстукала то, что простучал председатель приемной комиссии. В коридоре Маша показала, как стучал председатель и как стучала Леночка. Девчурка повторила этот стук, и Маша пообещала Леночке, что ее примут в музыкальную школу.
Когда они выходили из классного коридора, с лестницы к ним бросилась Кира: не утерпела и на часок отпросилась из лаборатории.
Маша успокоила Киру, и они отвели девочку, пожелавшую переночевать в городе, к бабушке.
Кире нужно было возвращаться в цех, и Маша поехала с ней, когда узнала, что в заводской проходной дежурит жена Коли Колича. Давно было стыдно Маше: выросла в металлургическом городе, а на мартене, у доменных печей, на коксохиме ни разу не бывала. Этот завод хоть и меньше тамошнего, зато почти новый и в чем-то, должно быть, гораздо интересней. И, главное, здесь работает ее отец и сейчас его смена.
До проходных ворот металлургического комбината ехали на трамвае. Охранница рассияла, увидев Машу, и гребанула рукой в сторону завода, прерывая объяснения Киры.
— Доченьку Константина Васильевича завсегда пущу.
У себя в родном Железнодольске, хоть и со стороны, Маша все равно неплохо знала, где что находится на комбинате. Даже зимней ночью сквозь туман могла угадать расположение цехов: три скобы алых небесных огней — копровый цех, там газовыми огненными струями полосуют сталь; скаканье высотных сполохов — мартеновский; оранжеватое зарево — доменный.
Тут она сразу определила, где прокат, а где мартен, отличив их по трубам: над прокатом трубы пониже, пореже и не дымят.
Однажды Маша видела в киножурнале опущенный на дно океана батискаф. Вблизи домны напоминали батискафы, а воздухонагреватели — тупомакушечные ракеты, приготовленные для запуска. Сходство дополнялось тем, что атмосфера, окружавшая их, была сумрачно-зеленоватая, и в ней мерцали пластинки графита, будто косячки каких-нибудь блескучих глубоководных мальков.
У Киры в химической лаборатории, наверно, строгий начальник. Так быстро она шла по заводу, что Маша еле-еле поспевала за ней. Через залик проскочила, лишь на мгновение задержавшись возле длинношеей женщины. И в памяти Маши только и скользнул стальной цилиндр нейтрализатора да толстенные коленья — вытяжная вентиляция.
— Тетя Кира, что за специальность у дежурной по установке?
— Аппаратчица.
— А дети у нее есть?
— Сын.
— Искусственник?
— Искусственник.
— Значит, предупредили, когда она устраивалась аппаратчицей?
— Предупредили.
— Отчим говорит — не предупреждают. Он сам на пиридиновой установке работает.
— Думается, обязательно предупреждают и в отделе кадров и в отделе по технике безопасности.
— Хмырь… отчим доказывает: предупреждать — без аппаратчиц останешься. Позже им сообщают, когда они привыкнут к месту.
— Не должно быть.
— Неужели ничего нельзя сделать?
— Установки герметизируют, чтобы не выделялись пары пиридина.
— Тогда почему ее сын искусственник?
— Предосторожность. Кормила бы грудью… а вдруг бы ребенок умер?
— Почему пиридин именно в груди скапливается?
— Такая у него особенность.
— Раз вредная установка — женщин не принимать.
— Пиридин вреден и для мужчин.
— Закрыть установку.
— Следуя твоей логике, нужно прикрыть весь коксохим… Необходимость, Машенька! Без пиридина не обойтись ни фармацевтам, ни медикам, ни химикам.
— А нельзя ли и здоровье и коксохим?
— Задача прекрасная. Учись. Решай.
— Почему я «решай»? А вы?
— Мы, в смысле наше поколение, решаем. Вы присоединитесь. Новое поколение хорошо тем, что ему кажется: до него туго понималось и медленно нейтрализуется зло сопутствующее промышленным энергиям, сырью, без которого не выплавишь первостепенных металлов, не запустишь двигателей, не совершишь открытий. В школе почему-то не принято затрагивать эту тему. В понятие прогресс вкладывается лишь положительный смысл. Дескать, издержек прогресса нет, и люди зачастую трудятся на вредных и опасных производствах только по сознательности, а не по необходимости и потому, что другого выбора не было.
— Вы не совсем правильно… Историк нам много всего объяснял. У него девиз: в правде — движение. Татьяна Петровна, по-английскому… У нее обо всем спрашивай, и она откровенно ответит. Мы и сами с усами: между собой чего-чего не обсуждаем.
— Рада.
— Тетя Кира, почему маленькими все умные?
— Достоинства проверяются в сгорании, если рассматривать человека, как уголь. В сгорании обнаруживаются его прежние свойства и создаются новые. Грубое уподобление: дети — уголь, общество — печь, взрослые — коксовики. В определенных условиях, по определенным нормам, схемам, разработкам взрослые и общество «спекают» из детей граждан. Потом, способствуя производству духовного и материального продукта, эти граждане выявляют свои первичные и вторичные свойства. Пластичность. Калорийность. Нет, заменим калорийность на пользу, пользотворную способность. Почность. Зольность…
«Здорово я ее завела!» — восторженно подумала Маша.
— Вы интересно… Но я не совсем про то. Я заметила: маленькие все умные. Нормальные маленькие. Станут первашами — некоторые, смотришь, тупы. Дальше, дальше. Смотришь, приглупленные выявились. В одних яслях со мной были Миша Моховой и Нинка Нагайцева. И в детсадик вместе попали, и в школу. Старухи говорят: «Что не боле, то дурней». Так и Миша с Нинкой. В этом году меня как стукнуло в голову: «А Моховой-то дундук»; «А Нагайцева-то глупындра». Вы не рассердитесь, тетя Кира. Но больше дураков, чем среди взрослых, нигде нет. Мы иногда придумаем шкодный вопрос и задаем учителям. Раз с Митькой Калгановым придумали. Физичка Екатерина Тимуровна пришла в класс. Митька встает и спрашивает: «Екатерина Тимуровна, ни Михайло Иванович Ломоносов, ни Майкл Фарадей не учили этому, однако я спрошу: все рождаются равными, а откуда берутся валютчики и бюрократы?» А еще Митька при встрече со своими родителями выдает коронную фразочку: «Взрослые? Взрослые любят критику. И самокритику тоже».
— Вы не без яду!
— Какой там яд, тетя Кира? Мы покорные существа. Слегка поострим, на том наши обличения и закончились.
Кира шла в тени, Маша — на солнцепеке. Их разделяли стволы тополей. Едва мимо них проехал кургузый автопогрузчик, Кира перевела Машу через шоссе.
Вступив в прохладу турмы — угольной башни, Маша покачнулась: так резок был переход из упругости зноя в невесомость тени.
Турма громоздилась под облаком, окутываемая дымом. От нижней части турмы вправо и влево простирались батареи коксовых печей. Все сооружение: угольная башня и коксовые печи — напоминало перевернутую букву «Т»; оно ничем не отличалось от того, которое Маша видела издали в Железнодольске.
Она знала от Хмыря, что вдоль одной стороны катаются коксовыталкиватели, а вдоль другой — двересъемные машины.
Какой-то неуклюжий громадный красный агрегат стоял на рельсах. На его высокий мостик выскочил человек в толстой суконной робе и войлочной шляпе, задержался у круглых железных перил, взглянув на огненный квадрат, и нырнул обратно в кабину.
Маша заинтересовалась этим огненным квадратом и чуть не ахнула, подойдя к агрегату поближе: то был не квадрат, а полая, вертикальная кирпичная камера, ее бока, раскаленные, гладкие, источали золотисто-розовое марево, и сквозь это марево чернела неподалеку «глава» домны и виднелись барашки — распадался в небе след реактивного самолета. Кира подошла к ней и объяснила, что обыкновенный коксовыталкиватель выдавил из камеры коксовый пирог. Камеру сейчас наглухо закроют стальными огнеупорными дверями и наполнят шихтой, и за неполную смену из шихты получится кокс.
В стеклянной будочке Кира подошла к тучному мужчине. Она назвала мужчину товарищ Трайно. Он наливал в стакан газировку. Пока вода пузырилась из крана, Кира успела объяснить, кто Маша такая и к кому ее надо отвести. А пока он, разжимая на резиновой пипетке зажим, капал в воду соляной раствор, Кира ушла. Поднимаясь за Трайно по лестнице, Маша сановно полузапрокинула голову, приспустила веки и тяжело ступала, свесив руки. Если бы он оглянулся, то обозлился бы: так похоже она копировала его.
Он вывел ее на ветер и солнце. Это был верх коксовых печей — кирпичное поле, на котором, пожалуй, можно играть в лапту, а может, и в футбол.
Они остановились возле вентилятора. Воздушные вихри, посылаемые качающимся пропеллером, докручивались до спины рабочего. Рабочий стоял на раздвижной лестнице, что-то скалывая железной лопаточкой в горловине трубы; волосы на затылке поблескивали, как влажное стекло; сукно куртки мерцало солью в ложбине спины.
Из угловой будочки, находившейся в конце поля, вышел приземистый человек и весь засверкал в полдневном светопаде. И лишь только взмахнул руками, над ним вспыхнули радуги.
— Кто это?
— Старший люковой Семерля.
— Мокрый.
— Окунулся.
— Как?
— Под холодный душ лазил. Ф-фу.
— Прямо в спецовке?
— Прямо в спецовке. Ох, жара!
— А где папа?
— Вон загрузочный вагон. — В той стороне, откуда шел Семерля и куда протянулись рельсовые полосы, темнел диковинный для Маши вагон, состоящий из колес и каких-то конусов, в просветы между которыми мог пройти крупный дядька, вроде Трайно. — Там должен быть твой батька. Между прочим, я врио начальника…
Маша засмеялась.
— Как вы себя назвали? Врун начальника?
— Ох, невежество. Временно исполняющий обязанности начальника.
— Спасибо за разъяснение.
— Я к чему о своей роли сказал? По обязанности и по личному интересу я вникаю, как работники блока ведут себя в семьях. Есть еще у нас… Жинку кулаком угостит. Запьянцовские встречаются.
— Страдают пережитками прошлого?
— Оно. Детей не контролируют, не беседуют.
— А кто будет в козла стучать? Я про мужчин. Придут со смены, отдохнут, во двор. И дубасят костяшками, кто громче. Железом столы пооббили. Заспорят — до драки…
— Оно. Точно балакаешь. Не все отцы ответственно воспитывают детей.
— А по-моему, нашим воспитанием в основном занимаются матери.
— Ошибочный вывод. Статистика проблемы лично мною изучена. Я поправил, ты запомни. Насчет матерей… Тебя бросил отец. И у тебя вывод создается насчет отцов. Хороших отцов надо иметь.
— Их выбирают матери.
— Не принципиально выбирают. Не советуются. В старинку дивчина собирается замуж — к пастырю.
— Мы-то ведь в бога не верим.
— Зато верим в идею. И пастыри теперь не хуже.
— А я читала фельетон про попа…
— Я имею руководство в виду, ибо мы пасем подчиненных, направляя их в духовном плане. И с нами надо советоваться. Раньше никуда без совета…
— И жили? Никаких разводов? Никаких домино? Дети боялись родителей? Контролировали детей родители и, если что, — крепко воспитывали?
— А ты дивчина с юмором! Мне докладывали в порядке информации. Корабельников мурцевал жинку с дочкой. Мурцевал, кинул, кажуть, и неаккуратно платил алименты.
— Кинул — верно. В остальном — неправда.
— Мне говорил проверенный товарищ.
— Мама от меня ничего не скрывает.
— Семейную политику соблюдала. Не все, чего можно знать старшим, нужно знать детям.
— Спасибо. Я девять классов закончила и так не просветилась. Я хотела спросить: «Все рождаются равными, а откуда берутся валютчики и бюрократы?»
— Валютчики? Пишут о них в газетах… Насчет бюрократив?.. Тоже есть. Но тут, в нас, в городи, я не бачив бюрократив. Мне докладывали, что твой батька делився… Вин водил тебя в ресторан.
— Почему-то вам все докладывают про папу. Для какой цели вы интересуетесь его жизнью?
— Для воспитания треба. Зря ты пошла в ресторан. Какой положительный пример дает ресторан девушке? В театр поведи, в кино, побеседуй… Что и указывает…
— Из ресторана замечательный вид. И вкусно кормят. Я ведь погостить приехала.
— Приучивать к роскоши… Буржуазия пусть приучивает. Я смекаю так: рестораны тоже пережитки прошлого. Их давно бы позакрыли, кабы не раскидывали на них план. Недавно на активе спрашивали председателя горисполкома: «Почему не закроют автомат-закусочную на центральной площади?» Развел руками: «План». Будем, каже, стараться перекинуть план на кино або на дворцы культуры. Добре побалакали с тобой. Сдается мне — ты толковая дивчина.
Трайно подозвал люкового, который прямо в спецовке лазил под душ и теперь, отряхиваясь, топтался возле загрузочного вагона.
Еще издали было слышно, как в его чунях хлюпает вода. Оказалось, что Семерля — славнейший Коля Колич. На вопрос Трайно, там ли еще, в кабине загрузочного вагона, Корабельников или уже спустился в угольную башню, Коля Колич ответил, что Константин Васильевич минут пятнадцать как уже в турме.
— Опять нырнул за длинным рублем?
— Попробуй повкалывай в турме, другое запоешь. Аль в чужом кулаке завсегда больше огурец?
— Не груби.
— Буду грубить, потому как у тебя зуб на рабочий рубль. Дай тебе волю, ты так обкорнаешь, комолый будет.
— Кончай демагогию.
— Ярлык-то пестрый, а я вострый.
— Пораз-з-болтались!
Лестница. Бетонный холодок. Коля Колич поднимается впереди. С робы перестала стекать вода — забухло сукно.
Маша сказала, что никак не может разобраться, почему в нашем обществе встречаются такие субъекты. Англичанка Татьяна Петровна дала этому объяснение: одни люди зависят от других, а Митька Калганов (конечно, со слов своего папы, крупного начальника) не шибко высокой культуры руководства: она, дескать, складывалась под влиянием прошлого.
Что ж, и в том и в другом, на разумение Коли Колича, собака зарыта. У него, Коли Колича, есть и дополнительные соображения на этот счет. Не пора ли перестать оглядываться далеко назад, на пережитки, и ими выгораживаться? Этак бревна перестанешь замечать в собственных глазах. О прошлом мордогнутии он только по слухам знает, а вот на то, как всякие наши Трайно морду гнут, ему давно тошно смотреть. Тот же Трайно: я, мол, шишка на ровном месте. И притом незапятнанный человек. В вытрезвителе не купан. С женой не разводился. С инстанциями в ладу. Усвоил — за предосторожность аль за превышение власти не накажут. В крайнем случае, выговоришко. На днях, к примеру, стенную газету вывесили, а он ее взял и снял. Со мной, мол, не посоветовались. Везде написано про коллективность, а он единоличное самовластие оказал.
— Дядя Коля, а мы в школе сами стенгазету выпускаем. Классному руководителю дадим проверить. Допустили синтаксическую ошибку или орфографическую, она исправит, и мы выпустим.
— Вы, мо́лодежь, вы молодцы.
Похвала Коли Колича была подпреснена снисходительностью. Коля Колич заговорщицки веселым кивком позвал ее за собой и растворил дверь на каменный балкон, пышно запорошенный угольной мукой, коксовой крошкой, блестками графита.
Неожиданным был для Маши простор неба. Почудилось, будто ее захлестнуло синью. Когда глаза привыкли к высоте и яркости, различила: свет прозрачен, как протертые нашатырем окна в зеркальном гастрономе, а синь — небосвод, где вертикально восходят серебряные истребители. Приблизились к балюстраде. И снова испытала оторопь: простор земли, выбросившийся из-под балкона, притягивал, заманивал. Раскинешь руки, бросишься в стеклянность, и понесется на тебя зелено-голубая с коричневой опушкой береговая куга, к которой подступил коксохим, море с вытянутыми пятнами песчаных островов, далекая белая церковь, чеканящаяся на грозовом стыке просторов: верхнего и нижнего.
Коля Колич повернул и наклонил голову Маши.
И Маша посмотрела вниз, на плоскость коксовых печей, источающую жаркие алмазно-белые миражи. Метнула взгляд от огненных колодцев до ворончатого вагона. Обрадовалась красивой какой-то геометричности: по кирпичной равнине — катаная зеркальность рельсов, и пуговицами стальные круги и кружочки, как бы вмурованные в кладку.
Зал. Потолок высоко. Воздух мореный, отдающий цементом, преснятиной, а в нем виснет цепь лебедки. А через него наклонно листы солнца. А на дне зала лежат и смотрят в квадратный лаз Сергей Торопчин и паренек — веснушки на ушах. А со скобы, что на краю лаза, падает в глубину пеньковый канат.
Коля Колич, когда к нему поворачиваются золото-планочные очки Сергея Торопчина, указывает своим длинным подбородком на Машу и уходит, чиркая чунями по цементной глади. Улыбка пробивает сосредоточенность на лице Сергея Торопчина.
— Там, — говорит он и свешивает голову над лазом, прижимая к скобе канат, который витком пущен по его руке, придавившей локтем новые, сухие пеньковые кольца.
Маша ложится на бумажный мешок, заглядывает в турму. Далеко внизу, словно в кратере вулкана, отец. Он беззащитный, малюсенький в пороховом сумраке, в огромности башни.
— Ничего себе погребок!
Маша хотела взбодрить себя, но невольный страх вдруг так усилился, что у нее зажало дыхание.
А отцу, наверно, совсем не боязно. В углу скипелась глыба угольной шихты. В руках у него длинный-предлинный черенок, на черенке — штык лопаты, так отполировавшийся, что бликует даже оттуда, из полутьмы. Вот эту-то лопату и мечет он в глыбу, а глыба не поддается, лишь отколупывается на куски и стекает черное крошево. Он подступает ближе к углу, всаживает лопату уже обеими руками.
Сергей Торопчин волнуется, кричит в яму:
— Осторожно!
Его голос, на мгновение потерявшийся в пустоте ямы возникает у железобетонных стен, зычно гремит.
Отец как оглох: вгоняет и вгоняет в уголь светлый штык лопаты. Когда, надавив на черенок, Корабельников выдергивает лопату из угля, глыба отстает и начинает крениться. Маша не успевает пискнуть от страха, как отец хватается за канат и, скорчившись, летит над шихтой. Головной обломок глыбы скачет за ним, задевает по ногам. Будто бумажный мячик на резинке, который пнули, Корабельников подпрыгивает в воздухе, но уловчается выставить сапоги, чтоб не шмякнуло об стену. Обратно он летит быстрей — резко оттолкнулся. Дурачится, как клоун в цирке: держась за канат одной рукой и дрыгаясь. На боку колотится сумка, схожая с противогазной.
Он прыгает. До колен всаживается в уголь.
— Па-па.
— Ау?
— Не ушибло?
— Нет, дочка.
— Не балуйся там. Опасно.
— Ла-адно.
Маша отодвинулась от лаза. Паренек — веснушчатые уши стоял на коленях, держа наготове моток веревочной лестницы. Сергей Федорович унимал дыхание; лоб зернист от пота.
— Отчаянный у тебя отец.
— Я тоже.
Сергей Федорович потыкался лбом в рукав пиджака.
— Весельчаки вы, Корабельниковы.
— У нас в Железнодольске есть в гастрономе сторож Чебурахтин. Он бы ответил вам, Сергей Федорович: «Шё унывать, шё? Умрешь — фшё, не оштанетшя нишё». Сергей Федорович, а я бы подошла жить во Франции?
— Ты видела круглые крышки над коксовыми печами?
— Да.
— Они подходят для закрывания люков, да пропускают газ. Для этого мы зачеканиваем их по краям, иначе кокс спечется бракованный. Система проста: печь, люк, крышка. А жизнь — сложнейшая система, тем более жизнь чужой страны. И чтобы подойти к чужой жизни, условно говоря, необходимы тысячи зачеканок. Притирка к миру Франции стоила, например, моему отцу больших страданий. И это при том, что он знал ее язык, культуру и бывал раньше в стране. Правда, я из России на месте правительства тебя бы не отпустил.
— Смейтесь, смейтесь, я… Сергей Федорович, мы с дачи ехали… Ваша дочка сказала, вы участвовали во французском Сопротивлении.
— Было.
— Много убили фашистов?
— Я подростком пришел в маки. Важные сведения принес. Меня посылали в города.
— Разузнавать специальные данные для разведки?
— Пожалуй.
— Здорово-то!
— Не так здорово, как необходимо.
— А правда, что ваш дедушка был попом в Берлине? И когда немцы напали на нас, выступил в церкви против Гитлера?
— Он был не просто попом. Он был главой русской православной эмигрантской церкви.
— Он был за царизм?
— Он был монархистом. Но он любил Россию и предал проклятию Гитлера. Дед был умен и не мог пренебречь судьбой своей нации. Дед, дед… Он не благоволил, Маруся, к нашей семье. Моей маме, своей дочери, не помогал. Но его анафемой против немецких фашистов я горжусь.
— Его расстреляли?
— Забрали в гестапо. Мучили. Эмигранты в разных странах подняли шум. Выпустили. Через неделю умер. Был глубокий старик, да пытки…
— Сергей Федорович, вы счастливы?
— Счастлив.
— Совсем-совсемочки?
— Покажи мне того, кто утверждает, что он достиг полного счастья. Разве я могу не горевать, что отец не дотянул до возвращения на Родину? И о брате тоскую, о сестре, о Жэфе.
— Вы сразу в Жэфе поселились?
— Что ты! Нет, родителям пришлось поскитаться. Сначала они под Парижем жили. В замке. Отец работал садовником, он с детства увлекался цветами. Потом был вокзальным грузчиком, уже в Париже. Русские грузчиками были, итальянцы и негр из Португальской Гвинеи. С негром отец подружился. Итальянцы удивлялись, что русские прекрасно хором поют. Арии, песенки, а чтоб хором — итальянцы не умели. Позже отец работал на заводе Рено. Кстати, в эту пору там же работал, кажется, слесарем анархист Махно. Французы все потешались над ним: «Батько Махно, батько Махно…»
— А интересно… Сергей Федорович! Вы хотели бы быть миллионером?
— Я бы хотел равного распределения богатств между людьми.
— А я хотела бы иметь столько денег… Целую турму, битком набитую! Заболел кто, нет на лекарство — получи. Аварийная жилплощадь — строй дом. Несправедливость любишь устранять — насыпай из башни хоть десять вагонов. Ну и, конечно, я поплыла бы через океан на плоту. Из других стран плавают, а из нашей нет.
Сергей Торопчин всматривался в глубину турмы. Осведомился у Корабельникова, не кружится ли голова, не поташнивает ли. Тот чувствовал себя отлично.
Наверно, в турме можно отравиться? Беспамятная. Проходили ведь по химии, что в кучах уголь способен окисляться и выделять угарный газ… А еще как отец выдерживает раскаты, от которых, наверно, трескается железобетон, как он дышит в черной пыли да притом еще играючи орудует лопатой?
Неподалеку от отца сильно просел уголь, образовалась воронка. Шихта хлынула в нее. Маша вздрогнула. Вообразилось, что папку стянуло туда: завалит и через люк выбросит в загрузочный вагон?
— Сергей Федорович, были случаи, когда люди из турмы падали в загрузочный вагон?
— Не у нас.
— А из вагона в печь?
— Чего только не случалось с людьми.
— Па-а-па! Па-а-па! Папа-а-а-а!
Она звала отца, когда в башне раздавались вулканические взрывы воздуха. Корабельников не услышал дочь, но заметил, как, разворачиваясь, падала брошенная ею белая веревочная лестница.
Из зала он виделся Маше силачом, для которого работа в турме чуть-чуть риск, чуть-чуть забава, а больше разминка в свое удовольствие.
Наверху, в зале, затопленном солнцем, он увиделся ей другим: на угольном сыром лице также заметны, как белки глаз, фуксиново-красные веки; дыханье надсадное; кисти рук, похожие на темных, растопыривших короткие ноги крабов, присмирело свисали, касаясь штанов, прилипших к бедрам.
Сергей Торопчин расстегнул на Корабельникове набрякший потом широченный брезентовый пояс, бросил на пол. Клацнули цепи, к ним был привязан канат.
Маша и Сергей оглянулись на подкованную поступь Трайно, который, подойдя, спросил Корабельникова:
— Закончил?
— Больно ты борзый. Угольная башня тебе что, печка? В той пошуровал кочергой — и порядок. А здесь ведь вручную нужно много тонн разрыхлить.
— Зарываешься ты, Константин Васильевич. Кому ты делаешь пояснение? Сдается, не я начальник, а ты?
— Ты будешь нам глотки перестригать… Не будет у меня с тобой масленого разговора.
— Я веду руководящую линию.
Маша растерялась. Почему Трайно оскорбил отца?
— Дядя Трайно!
Сбился с шага, но не остановился.
— Дядя Трайно!
Встал. Спина насторожилась.
— Дядя, вы великан. Спуститесь в турму. Папа утомился.
— Не моя обязанность.
— И не его. Он ведь машинист загрузочного вагона.
— Мы его не заставляем лезть в турму. Он добровольно.
Трайно вышел. Корабельников укорил дочь: зачем-то унижалась и его, отца, унизила: никакому Трайно не заменить его в угольной башне. Сергей, еще хмурый, разлепил в улыбке губы и подмигнул девчонке сразу обоими лучистыми за стеклами очков глазами.
— Не Талейран твой папа. Да, Маруся?
— Вкровь надоело с такими дипломатничать.
— Я не про это. Дочку ты не понял.
— Вполне. Живем поврозь. Останется жить у меня, с полслова научусь понимать. Мне все казалось — ты такая маленькая.
Он было положил руку ей на плечо, но отдернул: застеснялся, и рука в угольной пыли.
— Ты не бойся, папа. Запросто отмою. В мамином гастрономе замажусь чем-нибудь жирным, и то раз-два и отстираю или выведу. «Эра» не берет — эфиром, эфир не возьмет — уксусом…
Корабельников пожаловался, что у него щемит в сердце, и лег на цементный пол и закрыл глаза. Сначала он лег на спину, но потом, почувствовав, что на него смотрят, повернулся на бок и прикрыл лицо локтем. Сергей Торопчин предложил ему валидол, но Корабельников отказался — не признает лекарств. Маша встала возле отца на колени. Ей хотелось погладить его по волосам, влажным, свалявшимся, да мешал стыд. Раньше, как сказал Сергей Торопчин, Константина Васильевича никогда не подводило сердце. Вполне возможно, что так отозвалась на отцовском сердце ее ночевка у Торопчиных. Думала узнать тайну пусть и важную для собственной души, но не подумала, что заставит переживать вместе с отцом Лизу и брата Игорешку, Владьку и всех Торопчиных. Никогда не была мстительной, и вдруг загорелось — мстить. Мстить по злому присловию Хмыревой матери: «Невестке — на отместку!» Вот, оказывается, на что она способна. А ведь ее чудесно приняли! И столько удивительного открылось! Как простачка думала о заводе: работают там и работают, продукцию выдают — и все. Обыденщина. Ну, тяжелые специальности на здоровье отражаются, как получилось у ее матери Клавдии Ананьевны. А в общем, и не за что особенно-то поклоняться заводским и не во что вникать в такое, чтоб распахнулась сложность труда и жизни. А выходит: вон оно как!
Отец шевельнулся. Из-под локтя сверкнул зеленый глаз, затем прижмурился и весело подмигнул.
Отец было хотел бодро вскочить, да его повело в сторону и опять прилег. Сергей Торопчин запретил ему спускаться в турму. Через полчаса вместе с дочерью Корабельников спустился на верх печей, где попил газировки, постоял перед качающимся вентилятором и поднялся в кабину загрузочного вагона.
Пока он рассказывал Маше, как устроен вагон, она старалась понять то новое впечатление, которое сегодня вызвал в ней отец. Он замолчал, догадавшись, что она не слушает.
— Папа, — застенчиво промолвила она, — а ведь ты герой!
— Почему это?
— По всему.
— У меня вагон тугоухий. Тише, засмеет. То ты негодуешь на меня и, вероятно, презираешь, то я у тебя герой.
— Не сбивай с толку. Почему ты бросил нас — ты все равно скажешь. Но сейчас мы это пропустим. Сейчас я додумалась: ты — герой.
— Просто я трудяга. Корабельниковы испокон веку труженики. Герои, дочка, дерзкие люди, всесторонней храбрости, и у них исключительное чувство чести. Трайно бы с героем не связался. Где Трайно самостийничает и мозги вправляет, там герои не ночевали.
— Ты не прав, папа. Когда ты воевал, наверно, встречал всяких командиров, тоже и таких — надутых, которые считают, раз они начальники, значит, умней и правильней солдат.
— И все-таки герои — редкость. Отчаянных принимают за героев. Герой всегда смел, то есть живет смело и достойнейшим образом. А то, что ради этого он в любой час может потерять голову, конечно, само собой разумеется. Потерять жизнь — не штука. Штука сохранять ее и работать на пользу обществу.
— Ты и живешь смело. Хмырь говорил — у нас на коксохиме сильная текучесть рабочей силы. Наверно, из-за газа, из-за высоких температур?
— Причины различные. Ладно, доча. Коля Колич подал знак. Ты домой топай, а я поеду под угольную башню. Надо испробовать, как шихта насыпается, в печи грузить.
Спохватилась, что не написала матери, когда принесли письмо от нее.
Мать лежала в больнице. Тащила ящик сливочного масла, поскользнулась на огуречной шкурке, упала. Выпишут не раньше чем через месяц. Повредила позвоночник. Температурит. Нервы сдают. Все вибрационка. Конечности опять побелели. До вибрационки сроду нервной не была. Но и до работы на пневматических молотках серьезно переутомлялась. Поклейми-ка целую смену блюмы в потоке! Кабы холодные, а то раскаленные, скрасна-белые, скрасна-желтые, скрасна-малиновые. Тысячу раз потом изойдешь. Глаза кровью нальются. Щеки до того обстрекает жаром — совсем отутовеют. Ну да… завейся, горе, веревочкой, затмись, давняя жизнь. О Маше она соскучилась. «Вроде недавно прощались, а почему-то блазнит — давнехонько. Ничего. Отдыхай, укрепляйся здоровьем. За меня не страдай. Уход в больнице хороший, кормежка справная, лечение старательное!»
Чего-чего, а того, что мать попадет в больницу, Маша не ожидала. Она знала — мать часто перемогается, но не идет в поликлинику, не позволяет себе отдыхать. И потому привилась ее чувствам спокойная вера в то, что мать пересилит на ногах свои болезни и что вообще с нею ничего не случится. И вот мать в больнице. Как могла она не заметить огуречную шкурку? В пол ведь глядела? Была бы Маша в гастрономе, уберегла бы мать.
Ее воображение начало вертеться вокруг того, как мать прилаживала спину под ящик, как зачастила ногами к дверям склада, как она, Маша, пристроилась позади нее и словно бы отделила на свои ладони часть тяжести, как удержала от падения и мать и ящик.
Потом она представила себе левобережный больничный городок, куда увезли мать, однако, кроме карбидно-серого здания морга, где обмывали и положили в гроб ее замерзшего в буран дядю, ничего себе представить не могла. Это карбидно-серое здание, назойливо проявившееся в памяти, навело ее на мысль, что мать, вероятно, собираются оперировать, раз поместили в хирургию. И не невозможно то, что она не выдержит, тем более что нет рядом ее, Маши.
Решение возвратиться в Железнодольск она приняла быстро, но что-то в ней противилось отъезду, и ей казалось, что это потому, что мало погостила, не облазила город и окрестности. Немного погодя догадалась: из-за Владьки. С резкостью, присущей ее натуре, она усовестила себя, а все-таки не отделалась от желания погостить тут подольше.
Отец и Лиза, когда узнали о письме, согласились с тем, что Маше надо ехать. Правда, денег у них не было, и придется ждать до отцовой получки. Хотя и одолевало Машу нетерпение умчаться к матери, она была довольна, что задерживается. Вполне вероятно, что он уже не очень-то нравится ей. Но она хотела бы понаблюдать за ним после его возвращения: как еще он выставится перед ней?
До отъезда она все-таки постарается узнать, что оторвало отца от матери и от нее.
Для разговора наедине с отцом никак не выдавался момент; да и дома он бывал редко, вероятно из-за того, что добивался вместе с Бизиным, чтобы Трайно вывесил газету «Коксовик». Они ходили в партбюро цеха, в партком завода, к инструктору отдела пропаганды и агитации горкома партии. Везде возмущались поступком Трайно, обещали ему разъяснить и, должно быть, основательно разъяснили — день ото дня он становился мрачней.
В те редкие часы, когда бывал дома, отец только о том и говорил, куда наведывался из-за газеты, что сам говорил партийным руководителям, что говорил Бизин и что им говорили. Ни на чем другом его ум не удавалось сосредоточить. Коля Колич, довольный, что Бизин и Константин Васильевич не отступаются, забегая на квартиру Корабельниковых, был хмельноват (в погребке отметился), задорно-весело вздыхал: «Жизнь, жизнь, хоть бы ты похудшела».
В беспокойстве и одиночестве Маша пошла разыскивать техническую библиотеку.
Наталья Федоровна сидела в маленькой солнечной комнате, переводя оглавления свежих заграничных журналов и печатая их на машинке «Колибри». Свет проникал в комнату сквозь падучие веточки цветов, росших в горшочках, которые висели на нейлоновых нитях.
Маша было хотела ретироваться, чтобы не мешать, но Наталья Федоровна усадила ее напротив себя за письменный стол с книжными застекленными полками в лицевой стороне тумб.
Коснулись косметики, замужества Натальи Федоровны, доброты Константина Васильевича. Поболтали о Владьке. Наталья Федоровна ценила племянника, но, хваля его, намекала, что если бы Маша познакомилась с ее сыном (он играет на гитаре, пародирует пение знаменитых французских шансонье, рисует пастелью, не изображает из себя ученого), то Владька померк бы перед ним. Было лестно и странно Маше настойчивое, даже в чем-то потаенное желание Натальи Федоровны непременно познакомить сына с нею.
Говоря о талантах сына, Наталья Федоровна словно бы хотела сказать, что Владьку ограничивает его талант к математике, да и что вообще не следует отдавать предпочтение математике перед другими областями человеческой деятельности.
Маша спросила Наталью Федоровну о Галуа. Со встречи с мальчишками-велосипедистами в березовой роще она помнила фразу Сивого о том, что Владька хочет быть новым Галуа, а ее нет-нет да терзало, что она, вероятно, не знает того, что известно всему миру.
Галуа великий мальчик! Был гордецом, в том смысле гордецом, что и на крошечную несправедливость отвечал всеми силами чести. Однажды ее сын сказал, что его привлекает честь как нравственная категория и что в ближайшие годы он создаст монографию об истории и трансформации чести, начиная от древности и кончая современностью. Гордец типа Галуа неизбежно становится правдоискателем. Следующая его ступень — революционер.
Наталья Федоровна еще в юности читала о Галуа. Запомнилось, что тонкая шея Галуа была несоразмерна с крупной кудрявой широкой головой, что его отец, честный, мудрый человек, покончил жизнь самоубийством, что сам он погиб на дуэли, что современная математика обязана ему идеями, связанными с теорией алгебраических уравнений.
Еще запомнилось: на девушек он не засматривался.
Пришел раскосый инженер. Поручил Наталье Федоровне переводить из американского журнала статью о тэндемных печах.
Маша как жительница металлургического Железнодольска знала, что сталь выплавляют в мартенах, и ее заинтриговало, что это за тэндемные печи и почему раскосый инженер ими так интересуется, что его аж лихорадит. Оказалось, что если построить мартеновскую печь не с одной плавильной ванной, а с двумя, то получится тэндемная печь, которая будет быстрей и экономней плавить сталь.
Догадываясь, что перевод статьи, написанной техническим языком, займет уйму времени (Наталья Федоровна и инженер часто ныряли в словари и справочники), Маша вызвала Наталью Федоровну из солнечного кабинета и без обиняков спросила, рассказывал ли ей Константин Васильевич, почему сбежал от семьи, или нет.
— Говорить-то говорил… Да рассказать об этом сложно…
— О тэндемных печах вон какие предложения составляете, тут проще составить.
— Психологически сложно.
— Мне, — сказала Маша, — куда сложней психологически.
— Будет еще сложней.
— Я готова.
— Кто такие Донцовы?
— В войну мама у них жила. Он художник, она учительница. У мамы мать умерла. Донцовы и мамина мать вместе росли. Они и взяли маму к себе. Из барака. У них квартира в каркасном доме и с паровым отоплением, а барак строился как времянка, промерзал, не натопишься. Они к маме приезжают. Для них она родней родной. Они, когда папа скрылся, не в маме искали причину, а в нем. Возможно, отвык от мамы на войне или избаловался… Папу они уважали, поэтому терялись в догадках. Теперь скажете?
— Нет, девочка, Константин Васильевич сам решится.
— Что-то слишком долго решается. Да, честь. Что она такое и с чем ее едят? Покорность знаю. Смелость наблюдала: бутылки — и вокруг смельчаки. Принципы? Принципы в принципе существуют. Я разозлилась. Не сердитесь, Наталья Федоровна. Я оптимистка. Хмырь будет добивать маму, а я все равно буду оптимисткой и не казню Хмыря. И все будет в порядке. Успеваемость? По поведению «пять». В институт не поступлю. Некому протолкнуть. На завод. С нормой буду справляться. Возможно, буду получать премиальные. Может, не свыше пятнадцати процентов, может, не меньше шестидесяти. Замуж. Комната в коробке. Дети. Вибрационка. Пункция спинного мозга. Простите, простите, Наталья Федоровна. Я распсиховалась. Жалко маму. Жалко себя.
Маша не могла долго не прощать. Не потому, что от природы не способна была сильно и стойко гневаться, и не потому, что была добра, покладиста и не старалась строго смотреть на собственное поведение, — а потому, что Клавдия Ананьевна постоянно склоняла ее своими уговорами к мягкосердечности. Разве не зажмешь в себе обиду на человека, за которого мать унижается до мольбы перед тобой? Зачастую этим человеком был Хмырь. То он «пришьется» к Маше из-за пустяка и ругает, как рыночный пропойца, и мать упрашивает не сердиться на него, то он ударит Машу по лицу, да еще и пнет кирзовым сапожищем куда попало, и мать умоляет позабыть это и разговаривать с отчимом без прохладцы. Поначалу Маше не просто было уступать увещеваниям матери: какое насилие нужно производить над собой — но постоянно она привыкла переламывать себя я уже отчаивалась, что никогда не сможет быть гордой.
После разговора с Натальей Федоровной в научно-технической библиотеке Маша металась по городу, пытаясь отделаться от навязчивого побуждения сейчас же В потребовать от отца, чтобы сознался, почему бросил их с мамой. Потом она настолько настроила себя против отца и настолько ей стало ненавистно смиряться, а сердцем она постигла, как ей показалось, главную мудрость: людей нужно судить не по их обходительности (вполне возможно, что она временная и намеренная), не по тому, как они выставляют себя или преподносят на словах, а по их поступкам и проступкам.
Из этих переживаний и горьких выводов сложилось в ней нетерпеливое желание уехать сегодня же вечером, — пусть где хотят, там и достают денег на билет.
Лизу озадачило требование Маши занять ей денег на дорогу. Деньги на металлургическом комбинате начнут давать завтра, и завтра же Константину Васильевичу получать, так как коксохимикам вместе с доменщиками и мартеновцами выдают деньги в самый первый зарплатный день. Сегодня навряд ли у кого перехватишь. У кого левый есть, те либо прижимисты, либо держат их на книжке и неохотно с нее снимают.
Маша не отозвалась на Лизины уговоры и тотчас ощутила радость от собственной непреклонности. Правда, через мгновение она застыдилась того, что опечалила Лизу и что гонит ее за деньгами. И все-таки отказалась ждать, и Лиза обегала чуть ли не весь дом, покамест не взяла взаймы.
Стоять за билетами пришлось в здании вокзала. Воздух в зале был горячий, клейкий, мерзостно разивший дустом. Ядовитая духота, гощение, которое оканчивается так неприкаянно, без надежд на встречу с этим приглянувшимся ей городом, где ее чувства и мысли время от времени как бы овеивало чудом, и ко всему этому обида на недолю матери — ожесточили Машу. И она спрашивала, почему именно ее мать должна была потерять всю родню до основания, что теперь ей некуда податься, если она надумает уйти от Хмыря; почему из всех, кто работает в зеркальном гастрономе, должна была поскользнуться на огуречной шкурке и попасть в хирургию именно ее мать…
Остановил этот приступ ожесточенных вопросов Владька Торопчин, тем остановил, что она вспоминала о том, что он называл «вопросничеством», и тем, что пришел на вокзал и бросился к ней, сияя глазами. И она обрадовалась ему, однако слегка сердилась на него. Все-таки тютя: обидел и до сих пор не сообразил, что обидел.
В дни, пока Владька отсутствовал, она вроде бы забыла о нем. Теперь, когда он маячил возле нее, вперебив болтая о ночевках в лесу, о старике, вырезающем из жести карнизы, которые узором не хуже тарусских кружев, о проколотых велосипедных шинах, заклеенных медицинским пластырем, о предстоящей жизни в математическом лагере, Маша догадалась, что помнила Владьку через рассерженность, которой загораживалась от него.
Состояние гордости и требовательности к себе, длившееся в ней со вчера и понравившееся Маше, с Владькиным приходом стало избываться, заменяясь привычным бесхитростно-естественным и неумным. Но противиться обычному своему настроению Маше не хотелось, потому что с появлением Владьки в ней исчезла сиротливость, кроме того, навязчивое предчувствие катастрофы перестало бередить ее сердце, а признание Владьки, что он, возвратясь из велопробега и прочитав вызов Московского университета, сразу бросился к Корабельниковым, чтобы уговорить Машу ехать вместе до Москвы, озарило отрадой ее настроение.
Проводы были в тягость Маше. Лиза, хлопотливая, добрая, все-таки успевшая довязать рябиновый свитер, почему-то плакала, извинялась. Игорешка то и дело прошмыгивал в вагон, прятался, его силком выносили оттуда, он рыдал, кричал, как ясельный малыш: «Ту-ту, ту-ту!» Наталья Федоровна была непонятно-безразличная, крутилась на каблучках-шпильках, оглядывая перронный народ. Подвыпивший Коля Колич топтался с бутылкой портвейна и стаканчиком из-под финского сыра «Виола» перед Сергеем Федоровичем и Владькой, предлагая принять по пять капель. На отказы он не сердился. Прятал в нагрудный карман бутылку и, улыбаясь, вздыхал:
— Жизнь, жизнь, хотя бы ты похудшела.
Константин Васильевич явился сразу незадолго до отправления. С ним был низкорослый, рессорный в походке и жестах газовщик Бизин. Константин Васильевич обнял дочку. Когда он возносил руку за ее спиной, Маша отвердела в плечах. Но нежная застенчивость, которую Маша ощутила в прикосновении отцовой руки, невольно распустила ее плечи, отозвалась в душе желанием простить. Припоздал Константин Васильевич к поезду потому, что Бизина и его принимал секретарь парткома металлургического комбината. Бизину казалось, что история со снятием стенгазеты «Коксовик» волнует всех присутствующих, поэтому он юркнул в центр их маленькой группки и заговорил о том, что, в общем-то, они добились, чего хотели: секретарь парткома сделал при них «прочес» Трайно. Хотя самовольно снятую газету Трайно не мог вывесить, поскольку забыл ее в трамвае, вопрос о начальнике они могут поставить в очередном номере «Коксовика». Коля Колич предложил выпить.
— Примем-ка по пять капель. Портвейный облагоразумит, портвейный успокоит.
— Что, майор, не принять ли действительно?
— Отрубили.
— Только не здесь, — обеспокоилась Лиза.
— В купе, в купе. Владик, проводишь?
— Условность, тетя Лиза.
Корабельников выхватил у Коли Колича бутылку, снял с горлышка пробку. Со словами: «Погладь, майор, дорожку молодежи» — он налил в стаканчик вина. Бизин быстро выпил. Константин Васильевич выпил и сам, а Коле Количу не разрешил — лишку будет.
Коля Колич не протестовал.
— Согласен. Решительно со всем. Ничего нигде никому не докажешь. Имею в виду — под турухом, клюкнувши, стал быть.
Отец потихоньку отвел Машу к ограде.
— Вот, дочь, прощаемся. Может, на год, а может, и навеки. Виноват я наверняка и перед Клавой и перед тобой. Из Германии я вернулся, Клава у Донцовых жила. Хорошо относились. Но слишком показалось хорошее отношение с его стороны… Город примеры прибавлял — о других, не о Клаве. Думал: «Да как же верить людям, если Клава что-то позволила?» Бабы выше этажом сплетничали, как раз одна из них тень на Клаву бросила… Ну, я и совсем заболел. Прекрасный у меня друг по работе, а я думаю: «Неужели ошибаюсь в нем?» Стал впадать в неверие. В черное. С ума схожу, Ну, и уехал. Понимаешь, война еще раньше меня ранила… Прости…
— Эх ты, папа.
Когда выносили из вагона Игорешу — он хватался за перегородки, полки, поручни, — Маша и Владька встали возле окна купе. Провожающие задирали головы.
В последний момент Корабельников хватился, что забыл передать подарок дочери. Он кинул в окно что-то вроде кошелька на «молнии» и, когда уже вагоны стронулись с места, крикнул:
— Приборчик. Ноготки подделывай.
Едва на желтоватое лицо Константина Васильевича накатилась лавина чужих лиц, Машу подкосила внезапная усталость. Стоило притулиться к стене и замереть, как изнеможение куда-то делось, но легче не стало. О чем только не была печаль Маши! О том, что на прощанье не обняла отца. Зачем быть с ним гордой, непрощающей? Кабы у него море счастья, довольства, независимости, а то работа газовая, угольная, огненная, а иногда в турме гибельно опасная. Еще о том печалилась, что есть люди, будто затем и созданные, чтобы не давать ходу справедливости. И остаются ненаказанными и надеются, что в сложной переделке всегда сыщутся те, кто их защитит. Неужели и тогда, когда она станет большой, так будет? Почему так: мальчишки за критику бьют, девчонки дуются, учителя и родителя пресекают… Может, норов у людей сильнее ума? Запутанность! А как в других странах? Тоже, наверно, крысятся на критику? У Торопчиных на столике лежала французская газета «Юманите». Президента де Голля разрисовали. Прямо гадкий утенок с вытянутым вверх черпаком. Как пропустили! Попало, видимо, карикатуристу. Ну его, все это. Где теперь наши? Лиза с Игорешкой домой на автобусе едут. Зачем она плакала и извинялась? Как я ее люблю! Торопчины едут вместе с ними. Сергей Федорович был скучноватый, без очков и щетиной подзарос. Если верить Владьке, Сергей Федорович бреется два раза в день. Только про спекание кокса говорит, про футбол, про песни шансонье. Что он думает о Франции и про нас?
Наталья Федоровна почему-то сильно переменилась. Неделю нет писем с Кольского полуострова, от детей. Чего тут такого? Залезли в глухомань. Почему она не вышла замуж? Ведь милая. Так о Родине говорила! Интересно, я бы захотела переехать в Россию, если бы родилась за границей и много лет прожила там? Захотела бы! Во у нас какой Урал! Все на свете на Урале!.. И в прибавок то, чего нигде нет. Обидно, с отцом мало говорили и не узнала, что для него Родина. Домой он, конечно, не поехал. Нет, поехал. Проводит Колю Колича и пойдет с Бизиным в «Поддувало» выпить с получки и с горя. Правда, Бизин не с горя, в честь победы. Бизину что? Он рессорный! Хоть что самортизирует.
Глупо я. Вид одно, в душе иногда другое. Моя мама прилюдно радостная. Как солнышка напилась. Что у нее на сердце — никто и не догадывается. «Зачем буду втягивать в свои невзгоды. Собственных у каждого хватает».
Владька, подбоченясь, стоял между столиком и сиденьем. От проводов у него осталась легкая неловкость. Хоть он и считал, что в кажущемся неединстве форм, красок, явлений заключается целостность, его раздражало, что на перроне находились строгая, безукоризненная в помыслах, речи и одежде Галина Евгеньевна и неутюженый, пьяный Коля Колич. Он подумал около вокзала, что несоединимость каких-то элементов действительности, видимо, не материальная и не абстрактно-философская категория, а нравственная, обусловленная привычками, обычаями, моралью определенной среды и особенностями личного восприятия. Это его успокоило, как всякое продвижение к ясности.
В отличие от Маши он не был склонен улавливать, как изменяется настроение тех, с кем он общался. Не то чтобы он был черств — просто ему претило гадать над колебаниями в чьих-то чувствах, тем более вытягивать из человека, что там с ним творится. Если потребуется, человек сам заговорит с тобой. А пока он молчит, в его душу никто не должен лезть. Закручинилась тетя Наталья Федоровна, — он ни о чем ее не спрашивал. Не имел привычки вникать в чужие истории. Оставаться сторонним тому, что отвлекает от математики и саморазвития — с таким девизом он старался жить вот уже два года. Все то, чем люди занимались, он делил на три сущности: значительное, чуждое, нестоящее. На том, что находил значительным, он концентрировал сознание; к тому, что представлялось чуждым или нестоящим, пребывал в равнодушии. Быт — пустяковое. Отношения вне труда и познания — скукота. Политика — за пределами его склонностей. Любовь — банальность, уступка физиологии… Он скучал, когда Торопчины принимались вспоминать свой переезд в Россию; в нем закипало презрение, когда кто-нибудь кичился тем, что провел каникулы в Москве, а кого-то распирала гордыня, что их семья переберется на Кавказ. «Географическое тщеславие» — он его выводил из мещанства. Для Владьки было важно не где жить, а чему учиться и служить, как проявить себя перед человечеством…
Маша, чтобы не увязнуть надолго в мучительности перронных впечатлений, стала смотреть за окно. По закрайкам березняков четырехгранные под крышами стожки. Чудно! А у нас никогда сено не закрывают и не стожки — стожищи! Роторный канавокопатель. Солдаты, стягивающие кабель с катушки. Сорока на сосне. Меркло-зеленые клубы ивняка над речкой. Возле всего хотелось бы остановиться. Вдохнуть сенной аромат. Подбежать к солдатам. Отразиться в реке. А все — пролетом. Убегающее пространство жадно: всасывает деревни, леса, равнины, путников, а заодно как бы всасывает твое прошлое со всем, что в нем было: с надеждами, смятением, боязнью смерти, открытиями, тягой к достоинству и состраданию…
На подъеме свалило на сиденье Владьку тепловозным рывком. Маша заулыбалась. Он усмехнулся. Что ты за существо, Владька? Почему ты спокоен и важен? И сомнений у тебя, кажется, нет, и родных, и друзей?
«Интересно, как ему мой отец?»
— Нормальный дядька.
— Определенней?
— Не выдающийся и не посредственный. Нормальный. Торопчины чтут. Значит, порядочный.
— А умный?
— Не мыслитель. Из-за стенгазеты чего-то… Мелочь — и столько усилий. Крупно расходоваться надо. Ради значительного общественного отзвука.
— Он не о масштабах заботится. Для тебя это соринка, для него — бревно в глазу. Он проводит на коксовых печах почти полсуток и желает думать сам, не по-трайновски. Если я начну тебе указывать, как ехать в поезде и как обходиться с проводниками, ты меня сразу возненавидишь.
— Указывай сколько угодно. Я оглохну.
— Не у всех такие нервы.
— В твоем возражении есть смысл. Кстати, твоему отцу не мешает познакомиться с моим папашей. Вот у кого замах! Под шестьдесят. Три высших образования. Тартуский университет. Физмат. Ленинградский. Филфак. Троицкий ветеринарный институт. Знает все — от анатомии животных до спиральных галактик. Он астматик. Дома бывает только наездом. Город-то загазован. Скитается по стране в поисках поселков с чистым воздухом. Не задыхается — оседает на полгода. Любая умственная работа в его возможностях. Ветврачом бойни был, экскурсоводом планетария был, инспектором по растениеводству, заведующим райотделом культуры… Чаще преподает: физик, латинист, литератор, обществовед… Универсал! С месяц даже физкультурником был, это при своей-то астме… Мотается по стране. Значительные наблюдения. Периодически суммирует. Сядет — и раз-раз-раз — записку в Центральный Комитет партии. Я, дескать, такой-то, имеющий три высших образования, проведя несколько лет на целине, пришел к выводу, что нельзя терпеть дальше, чтобы так мало было элеваторов. Сейчас много полигонов по изготовлению железобетонных конструкций, стыкуются, свариваются, собираются они стремительными темпами, потому это надо осознать и покрыть целину широкой сетью элеваторов, иначе не меньше трети зерна будет сгорать и терять сортность в буртах. Но и это не все. Там-то надо протянуть асфальтовое шоссе, оттуда дотуда налить бетонку, сюда проложить узкоколейку или широкопутку. Все распишет тщательно — по пунктам и подпунктам. Остается лишь принять государственное постановление. Великолепный папаша?
— Хорош.
— Когда заглянешь к нам, сможешь лицезреть борца за усовершенствование общества. Если будешь внимать его речам, узнаешь, что он давал дипломатические советы Молотову, и тот, разумеется, принимал их, что он предсказал президенту Кеннеди гибель от руки террориста в письме по поводу Карибского кризиса. Твое внимание его растрогает. В благодарность он примется играть на скрипке, поясняя при этом, что он самоучка, что инструмент расстроен, растрескался… Все наши улизнут в соседние комнаты, но тебе-то не удастся. Он еще сообщит тебе, что Герцен умный писатель, что Врубель не признавал Репина и был талантливей, что он отрицает все космогонические гипотезы, за исключением гипотезы Канта, что сверхволя и сверхмужество Заратустры дали повод для зарождения фашистского надчеловека и недочеловека.
Маша, хотя она и сама «завела» Владьку, досадовала, что он, иронизируя над отцом, говорит, совсем не стесняясь женщины с янтарным браслетом на запястье, таджика, двух, длинной и пеньковатой, старушек в черном, едущих не то с богомолья, не то на богомолье. И когда пеньковатая старушка смиренно отметила: «Честит сынок папашу», а длинная на это кивнула, а таджик покривился, Маша покраснела и заерзала, стыдливо ожидая, когда Владька замолчит.
Владька слыхал, что сказала старуха, и видел, как восприняли ее замечание товарка и таджик. Однако не замолчал: он говорит об отце не им, а Маше, и они не имеют моральных оснований выказывать свое отношение к его словам: только невежды не признают права на обособленность человека и человеческих групп в любом многолюдье; привыкли врываться по-налетчески в мир чьей-то откровенности и доверительности. А Маша не понимает, что это ненормально, негуманно.
От внимания Владьки не ускользнуло и то, что его отец чем-то понравился Маше и что она хотела бы это высказать, да ее удерживает локаторная пристальность посторонних ушей.
Якобы для того, чтобы узнать у проводниц, где будут долгие стоянки, он позвал Машу с собой. И хотя она еще не возразила ему, начал убеждать, едва очутившись в тамбуре, что на бумаге, которую зря переводит отец, кто-то мог бы научиться решать задачи, изложить инженерный реферат или провести социологическую анкету.
— Отец указывает на очевидное, поэтому — презирай меня за это — я издеваюсь над ним.
— Ну и дурак. Он заботливый, а ты равнодушный. Наш город заволакивает газом. Мы судачим, ноем, ворчим и никуда не обращаемся.
— Заблуждение! Крапунов, вроде папаши, довольно много. Возможно, каждый пятый пенсионер.
— На котлы ЦЭС поставили пылеуловители. Уверена — крапуны помогли.
— Наивно. Трубы электростанции выбрасывали в сутки сто тонн угольной пыли. В год получалось тридцать шесть тысяч тонн. Расточительно. Поставили пылеуловители. Продиктовано экономикой.
— И заботой о здоровье.
— Объективно — да.
— Молчать, по-твоему, лучше?
— Бумагомарание не производит действия. То есть нет, производит: смехотворное действие. Пора, Маша, мыслить. Для начала осознай, какое место отведено человеку в металлургической промышленности.
— Ты меня не забивай и не уводи от спора. Твой отец тревожится…
— Он кокетничает. Будто бы печется о благе народа. В сущности, он эгоцентрист. Сколько помню, от семейных забот он всегда уклонялся, в другие не успевал войти. Сегодня в Одессе, через месяц в Бобрике-Донском, через месяц — под Искитимом.
— Ладно. Ты меня не склонишь к безразличию.
— Я тебя склоняю к разуму.
— Как будто я дурочка.
— Дурочка не дурочка…
— А ты, а ты…
Негодование Маши перестригло ее дыхание, и она бросилась из тамбура.
В гневе и растерянности она остановилась перед стеклянной дверью, захватанной пальцами. Хотелось упасть, заплакать, погибнуть.
Позади железно бухнула дверь. Мимо скользнул Владька. Распахивая стеклянную дверь, полуповернулся.
— Первое: я нарочно провоцирую на спор. Второе: я подтверждал крыловское «А Васька слушает да ест». Третье: хорошо тебе, Маша, ты не думаешь, что ты гениальна! И четвертое: поехать бы нам вместе в математический лагерь!..
Он пошел по вагону, Маша невольно потянулась за ним. Боялась, что в купе, встретясь с Владькиными глазами, засмеется. Посматривала в окна направо-налево, затягивая лицо в строгость. А когда увидела Владьку — он забрался на верхнюю полку, лежал на животе, приложив щеку к мягкому хлорвиниловому, исполосованному «молниями» чемоданчику, — прыснула в ладони. Он улыбнулся, но как-то присмирел, — словно откуда-то из одиночества, где горевал о самом себе.
К областному городу, конечному пункту следования поезда, подъезжали в зеленоватом свете заката. Их вагон, московский, отвели на боковой путь, занятый прикольным составом снегоочистителей. В полночь вагон прицепят к московскому поезду, и они поедут дальше.
Попросили старушек покараулить чемоданы. Спрыгнули на кучу щебня.
Поле, заплетенное рельсами, зубцы разноцветных сигнальных огней в притуманенности сумерек, небо, отделенное от планеты крупноячеистой сетью троллей, — во всем этом чудилось что-то ярко-неземное, наводящее оторопь, влекущее. Невольно взялись за руки. Скакали через рельсы. Лучи светофоров, желтые, зеленые, красные, вращались, как самолетные лопасти.
За рельсовым полем был пустырь; дальше огнился город пластинами окон, вязью газовых реклам, фарами, фонарями. Среди зданий выделялся стеклянный куб, наполненный сварочно-голубым светом. На этот стеклянный куб, не придерживаясь тропинок, Маша вела Владьку. В кубе находилось кафе.
Согласно вошли туда. Пробирались к свободному столику, чувствуя в себе что-то новое. Казались себе взрослыми и, как никогда, красивыми. Оба впервые были в вечернем кафе, и это безотчетно возводило их отношения на ступеньку выше детских. Они не догадывались об этом, но в их ощущениях уже увязывались придавшие им новизну светонаполненность кафе и любование, которым встречала их публика, та независимость, с которой входили в зал, радуясь существованию этого сверкающего мирка.
Столешница черноногого с алюминиевыми копытцами стола была розова. Стулья, гнутые из металлического прута и оплетенные чем-то синтетическим, тоже розовы. Официант — тоненький юноша, пронося на соседний столик приборы, подтолкнул к локтям Маши карточку, а вскоре гарцевал перед Владькой, записывая заказ. Официант не удивился тому, что они не брали вина, мигом определив, что пришли абитуриенты, — так он называл всех непьющих посетителей. Но все-таки искушающе, с лукавым прищуром предложил Владьке взять шампанского.
— Не жажду, — ответил ему Владька и вопросительно взглянул на Машу.
— Давай попробуем? — сказала она.
— Считаю — незачем.
— Закажи. У меня есть деньги.
Владька холодно, словно диктуя, тем самым давая официанту знать, что презирает его, произнес:
— Бутылку шампанского.
Когда официант удалился, Маша, которой понравилось, что Владька легко поддался ее уговору и проявил твердость к официанту, скользнула ладонью по его плечу. Владька понял: она благодарна ему и просит не сидеть букой. Он переменился и больше не проявил к официанту враждебности.
Официант — он приготовился подкусить широту кавалера с черной челкой — обрадовался его неожиданному дружелюбию, потому что ему хотелось поглазеть на милую девчонку, у которой необычайный цвет волос — голубые сквозь сигаретный дым — и которая совсем не походит на фиолетово-чулочных разгульных малолеток. Он уверился, что не ошибся: Маша слегка пригубила из бокала шампанского и не стала больше пить, хотя ее и упрашивал заносчивый паренек.
Странно и приятно было Маше смотреть на пьянеющего Владьку. Ей захотелось, чтобы шампанское ударило Владьке в ноги и она бы вела его на поезд, как однажды вела домой англичанка Татьяна Петровна поднабравшегося мужа, а он хорохорился, уверяя Татьяну Петровну, что его любовь к ней безначальна и бесконечна, как время.
Владька выпил почти всю бутылку, но шампанское подействовало ему не на ноги (держался он твердо), а на голову: он безудержно хохотал, рассказывая о гильотинировании великого французского физика Лавуазье.
Над пространством пустыря призрачным облаком вздулась электрическая белизна: то горели в высоте световыми сотами надстанционные прожекторы.
Выпала роса, и запах полыни приятным волнением отзывался в груди.
Владька прельстился тщеславным желанием показать перед Машей свой ум и начал кричать в небо, будто оттуда управляли земной жизнью, что ни за что не променял бы трагическую ненадежность двадцатого века на идилличную безопасность древности.
Приспустив ресницы — он отметил, — Маша уставилась на него, и воодушевленно пустился в импровизацию.
Прощаясь с Владькой, Торопчины целовали его. Он стоял остолбенело-отстраненный. Тогда-то Маша и заметила, какие у Владьки губы. Верхняя губа с глубокой ложбинкой, переходящей по краям в твердо-четкие грани. Если верхняя губа указывала на его властность и целеустремленность, то нижняя, рыхловатая, детская, — на то, что он размазня.
В поезде Маша тревожно вспоминала, что заметила, какие у него губы, и не решалась задерживать на них взгляда. А в кафе она почти неотрывно смотрела на губы Владьки. Потупится или отвернется, и вот уж снова примагнитились глаза к его губам.
Ораторствуя, Владька сопоставлял столетия, общественные формации, идеалы, но это не захватывало Машу. Затронули ее, и то на какую-то минуту, Владькины рассуждения о борьбе сознания. Он так и заявил: «моя теория». Он делил сознание на два рядом текущих потока, струи которых схватываются, отталкиваются, взаимно замутняются. Левый поток — «прометеический»: философские и научно-инженерные открытия, уважение к народу и личности, поиски возвышающихся истин, противодействие тиранам и эксплуатации. Правый, враждебный ему поток — «керберический» (по кличке трехголового пса Кербера, стерегущего Аид), — он отождествлял со всем несправедливым, безмозгло фантастическим, отбирающим надежды, приводящим к изуверству и войнам и, в конечном счете, подготавливающим человечество к самоуничтожению.
Маша постаралась вникать во Владькины умствования, но ей побрезжилось смешное в его хмельном разглагольствовании о вещах больно уж сложных не только для какого-то мальчишки, пусть был бы он и гениален и трезв, а для всех башковитых людей на свете. И все-таки не это отвлекло Машу. Его губы отвлекли. А он-то распинался!
Он отер губы. Не осталась ли на них салатная сметана, пропитанная свекольным соком? Нет. А Маша как уставилась, так и смотрит на его губы. Чем-то ждущим было сосредоточено ее лицо. И вдруг он чмокнул Машу в приоткрытые губы, и отшатнулся, и увидел ее смятение, и виновато ломился за ней через конопляник, попавшийся среди полыни, и просил прощения, и обещал никогда не целоваться.
Ей было радостно, она крепилась, чтобы не засмеяться (если рассмеется, смеяться будет до изнеможения), но в душе-то она смеялась над ним.
Поезд катил по Москве, ее ранняя пустынность насторожила Машу: не случилось ли чего?
Веселый Владька, захлестывая «молнии» чемоданчика, пробовал свистеть, но сквозь его зубы только раздавалось цырканье воздуха. Маша не стала озадачивать его своим соображением о тревожной пустынности Москвы и скользнула за проносившей простыни проводницей.
— Тетя, почему на улице нет народу?
— Дрыхнет народ-от. Народ-от, он тож отдыхат.
— А…
— Вот те и «а». Счас не спит только петух на насесте, мы с тобой да кума с Фомой. Ты чего подумала? Жизнь идет по расписанию. Ну, быват где и застопорится, где и постоит перед семафором, и дальше айда-пошел, аж буксы горят. Ты страхи-от отставляй. Настроение поддерживай. Всяку канитель — через крышу аль плетень.
— Ловко у вас получается.
— Куда как ловко. Муж на войне остался, братья тож. Дочка в бараке сгорела. Я также в вагоне дежурила. Ночью пожар. Провода загорелись. Она спала — не добудишься. У меня все ловко. А у тебя?
— У меня мама в больнице.
— Вылечат. Племянницу летось на производстве автотележкой об стену жулькнуло. Таз раздавило. Думали — калека. Нет, срастили ее. К лету совсем оклемалась. И взамуж собиратся. И маму твою должны вылечить.
— Не сердитесь.
— Нету того в обычае. Кабы все от самих… Накопится сердце, оно и выбрыкнет финтифлюшку. Ты каяться, а ведь не ты выбрыкнула, оно выбрыкнуло.
В прошлый раз, пока ехала на электричке да пока выстояла битый час за билетом, Маша только и успела сбегать в ближний магазин. Машу пугали злобно устремленные стаи легковых машин, и она, добираясь до гастронома и обратно, лишь мельком взглядывала на привокзальную Москву, поэтому ей мало что запомнилось, кроме эстакады, по которой пролетели в паре электровозы, и дылдистого, препятствующего облакам здания, которое казалось заваливающимся через эстакаду. Сквозь опаску, нагнетенную автомобилями и высотной гостиницей, Маше увиделись башенки вокзалов, острые, восхитительно-картинные, но она смутно запомнила их: остался мираж узорно-белого, зеленого, откосного, чешуйчатого.
Под площадью был переход. Владьке не терпелось спуститься в кафельную подземную глубину, но Маша захотела пойти поверху, по площади. Она мечтала вновь увидеть башенки, однако забыла об этом, потому что нежданно поддалась такой тревоге: мать, может, при смерти, а она оттягивала отъезд. Мало ли что билеты на самолет были проданы на пять дней вперед. Другая изревелась бы, но вынудила аэропортного начальника отправить ее. Ночью бы наверняка пересела на Ил-18 и уже была бы возле матери.
У Маши было паническое воображение.
Может, после операции позвоночника мать лежит вниз животом. Сбоит сердце. У здоровой, и то сбоит. Няни и сестры молодые, привыкшие к крови, стонам и к тому, что больные умирают, черствы и не позаботятся повернуть на бок, а мать застенчива, терпелива, не попросит, не пожалуется… И вся ее надежда только на Машу — ухаживать будет, бодрость духа поддерживать, еду приносить. А Маши нет и нет, и мать кручинится, и думает, что Маше поглянулось у отца и она решила у них остаться (один Хмырь вынудит), и позабыла, как мать воспитывала ее, и баловала, пускай украдкой, всякими сладостями не хуже, чем Митьку богатые Калгановы. И сейчас мать, должно быть, хочет умереть.
Чувство вины — как болото. Барахтаешься, барахтаешься и все сильней увязаешь.
Если мать умрет, Маша не сможет жить. Никто не узнает, что мать погибла из-за ее эгоизма, но сама-то Маша будет знать, и этого не преодолеешь.
И она ставила себе в укор то, что ее занимали судьбы «французов», что гипнотизировалась Владькиными губами, что, пересекая площадь, поворачивала щеки к пухово-нежному солнцу.
Владька оставил Машу возле закрытого аптечного киоска — пошел узнавать расписание самолетов.
Хотя Маша и настроилась ни на что не обращать внимания, чтобы думать о матери, она не сумела подавить в себе интереса к залу ожидания, где вповал на скамьях, у скамей и стен спали пассажиры, где цыган лет двадцати с баками до нижней челюсти играл огромным детским воздушным шаром и для забавы перелазил за шаром через скамьи, ухитряясь не наступать на спящих и вещи, где одутловатая буфетчица качала в кружки пиво и его тянули усталые дядьки, посыпая края кружек солью и облокачиваясь о мраморный прилавок, а под потолком перелетывали бесшабашные воробьи.
Вернулся Владька с деятельным выражением лица. Есть самолет десятичасовой. Сподручней лететь с тем, который отправляется в шестнадцать десять. Сейчас они позавтракают. Он разведал укромный буфетик. Потом схватят такси — метро еще не работает — и поедут на Софийку, нет, теперь набережная Мориса Тореза. Там он заскочит к родственникам, а Маша тем временем полюбуется Кремлем. Ниоткуда так не прекрасен вид на Кремль: ни с Красной площади, ни с Манежной, ни с Каменного моста, ни с Москворецкого — как с набережной Тореза. Они походят по улицам, пока не начнут пускать в Кремль. Потом осмотрят его и поедут на Ленинские горы, а оттуда он проводит ее к поезду.
Маша давно мечтала увидеть Кремль. Это желание сделалось нетерпеливым после того, как Наталья Федоровна, рассказывая Маше свою историю, упомянула о том, что, бродя по Кремлю, вслушивалась в родную русскую речь.
При воспоминании об этих словах Натальи Федоровны и о том, что скоро сможет побывать в Кремле, Маша ощущала в себе что-то лучистое, перед чем отступают беспокойство, отчаяние, грусть. По-другому, но горячо и неотступно мечтала она увидеть Московский университет на Ленинских горах. Она робко помышляла о будущей попытке поступить в университет и загадывала: если нынешним летом увидит его вблизи, то что-то в ней произойдет такое, от чего она станет здорово учиться, и тогда не страшен конкурс.
И вдруг Маша сказала, что отправится на аэродром.
Всю дорогу зудела о Москве, и вот тебе на! Вопреки явственному обыкновению, Владька потребовал, чтоб она объяснилась.
— Я должна улететь утром, — угрюмо ответила она.
Он не настаивал, лишь резонно заметил, что у нее два часа в запасе: все равно билет ей продадут, если остались места или кто-то отказался лететь, только после регистрации пассажиров. Чего бессмысленно томиться в порту, коль можно взглянуть на Кремль?
Она отказалась.
Владька посадил Машу в электричку. Быстро вышел на платформу: пантографы примкнули свои черные лыжи к проводам, и под вагонами лихорадочно застрекотали моторы.
Сквозь собственное отражение в окно он смотрел на Машу. Она не поворачивала лица, будто не замечала Владьку. Зигзаг в ее настроении он воспринял как «девчоночью мерихлюндию», которую, по наблюдениям за сестрой, выводил из капризов подкорки, вызываемых особенностями возрастного развития и чисто женским свойством — во всем полагаться прежде всего на безотчетные сигналы и эмоции. Но, глядя на голову Маши, склоненную, как над гробом, он почувствовал, как захолонуло сердце: да у нее скорбь, ясно осознанная скорбь.
Маша кивнула ему, полуприкрыв веки. Электричка тронулась, и он, недоумевающий, не отступил от вагонов, и стеклянно-зеленые плоскости сквозили мимо, и завихренный воздух хлестался об него.
Он запретил себе гадать, отчего Маша скорбит, потому что ни в чем не находил серьезных причин для этого и потому что не любил возводить всякие там психологические построения, тем более на зыбких домыслах. Однако, изнывая в очереди на такси и потом мчась по очнувшейся от сна столице, он то и дело невольно задумывался, что же приключилось в мире Машиного подсознания.
Владька, пригорюнясь, впервые придал значение тому, что едет не просто по городу, а по Москве. Еще не сознавая того, что он предощущает свою будущую причастность к возвышенной жизни великого города, он удивлялся тому, что воспринимает по-родному шоссейное зеркало Садового кольца, броско повторяющего впереди едущий грузовик, в кузове которого вольготно полулежит парень, утвердивший каблуки сапог на алые головки сыра. Даже сквозь мучительную озадаченность при воспоминании о скорбном лице Маши Владька не терял непривычно острого интереса к скольжению стенного камня с масками львов, балконами, мозаикой, с аквариумным сном витрин, челноками стрельчатых окоп, с голубями на капителях…
Этот путь, не однажды проделанный в автомобиле (ездить на такси — Владькина страсть), всегда словно бы проносился впродоль его взгляду и ничем не запоминался, кроме как общим впечатлением. Теперь Владька поразился своей прежней невосприимчивости. Проехавши улицей 25 Октября и проездом Сапунова, правую сторону которого составляло здание ГУМа, он пообещал себе пройти здесь пешком хотя бы ради того, чтобы понять затейливый архитектурный ритм ГУМа.
А когда машина покатилась по брусчатому скату Красной площади, несуразность храма Василия Блаженного, — она слагалась, по мнению Владьки, из несоразмерности подклета и столпов, из цветового перехвата, из множества маковок, кокошников, шишек, долек, звезд, шатров, арок, — несуразность эта показалась ему такой притягательной, яркой и мудрой, что он встрепенулся, словно вдруг увидел всю Россию, и, перекручивая шею, просветленно оборачивался на храм.
По набережной они пронеслись от прозора Москворецкого моста до прозора Каменного: Владька надумал вернуться на вокзал, чтобы поехать вдогонку за Машей.
Его бабушка по матери, если ей довелось проковылять по двору или сходить в гости, дома напевно говорила о том, что дивовалась зарей, тополем, детишками или еще чем-нибудь другим. Владька же, обычно веривший всему, что ни скажет бабушка, досадовал на ее способность к неумеренному и бесцельному созерцанию.
Пока такси свистело по набережной Мориса Тореза, Владька смотрел на Кремль. Соборы стояли белые. Над золотой главой Ивана Великого взвивались солнечные сполохи. В проемах самой колокольни и в проемах звонницы раструбисто темнели колокола. Перед нырком под мост он наткнулся взглядом на Водовзводную башню, вспомнил, что не обратил внимания на другие башни, но машина уже сворачивала с набережной, и он только и ухватил глазурно-зеленое мерцание черепицы и зубчатость стены.
В том, как он смотрел на Кремль, угадалось ему бабушкино дивование. Он заломил пятерней челку и стыдливо зажмурился.
Через полтора часа он был в Домодедове. Здание аэропорта было тоже стеклянное, как и кафе, где он до того был пьян, что поцеловал Машу («Как она рассердилась! Не дай бог!»).
Маша сидела в кресле с никелированными подлокотниками. Ее лицо по-прежнему было трагическим, как в электричке. Ему показалось, что мужчины, проходя мимо нее, замедляли шаг. От этого стало жарко. Он глядел на нее сквозь стену. Подле Маши сели пунцовые парни в разляпистых кепках и начали наклоняться к ней, конечно, заигрывая опробованными фразами. Она поднялась, а у Владьки резко застучало сердце. Он бросился к входу. Мигом позже замер. Заметит? Не заметила.
Остановилась у киоска, где продают сувениры. Вскинула голову. Пепельные, гладко-прямые волосы занавесили полукруглый вырез платья на спине. Смотрит на прицепленного к гвоздику витрины Емелюшку — лыковые лапоточки, белые порточки, вышитая рубаха, шапка гоголем. Беспокойно оглянулась, будто поискала кого-то глазами. Он притаился: как зал у него на обзоре, так и он у зала. Вздохнула, тронула щеки ладошками (наверно, горят?), нагнулась над планшетом со значками.
Он был голоден. Нет-нет и возникало ощущение, что он теряет равновесие. Неужели от вчерашнего шампанского? В глубине зала вырисовывались колбы, почти всклень наполненные соками — томатным, виноградным, яблочным. Рядом сиял нержавейкой титанчик, из его крана, пыхающего парком, лился кофе.
Подойти бы сейчас к Маше, разогнать ее неизвестно откуда взявшуюся печаль, поесть вместе с нею горячих мясных пирожков, запивая их то соками, то кофе.
Потоптавшись возле стеклянной стены, зашагал на станцию. Радовался тому, что приехал и увидел Машу, а также тому, что выдержал, не подошел к ней.
Все места на утренний самолет Ил-18 были проданы, и все пассажиры вовремя зарегистрировались.
Носильщик отсоветовал Маше идти к начальнику аэропорта, зато обнадежил подсказкой.
— Попросись у командира корабля. Авось и возьмет. Вон он. Ну, грек, коричневый. Да портфель держит, как у баяна меха. Шуруй. Упустишь.
Лепетала о больной матери. Он слушал вполуха. Маша прервала его, и он, вероятно, старался в точности удержать в памяти приготовленные слова, которые девчонка помешала ему произнести. По-прежнему глядя на своего собеседника, отказал: есть строгий закон, карающий летчиков за перегрузку самолетов. Когда она отступила, командир скосил в ее сторону буйволиные очи и спохватился, что на его корабле не хватает одной бортпроводницы. Велел покупать билет и в пути не жаловаться. Она похвастала: у нее идеальный вестибулярный аппарат! Физиономии летчиков подобрели.
На подъеме Маша быстро поняла нерасшифрованное предупреждение командира корабля: самолет ворвался в облачность и вскоре, теряя гул моторов, начал падать. В туловищах пассажиров как бы произошла усадка. Хоть Маша в прошлый рейс и приучилась не пугаться воздушных ям, боязнь, что самолет разобьется, заставила ее поджаться.
Моторный гул вернулся на надрывной ноте, отвердел, падение прекратилось. Сильно поваживало хвост. Под брюхом — молоко. Таращишься, таращишься — оно невпрогляд. А ведь внизу совсем близкая на развороте Москва.
Эшелон был задан самолету на высоте семи тысяч метров, но и когда достигли этой высоты, болтанка не кончилась: ломились сквозь горы облаков.
Командир попросил Машу раздавать пакеты и подбадривать пассажиров. Он восхищался тем, что она как стеклышко, тогда как травят даже мужчины. Признался, что, посудачивши, они с приятелем вспомнили про вестибулярный аппарат одной юной девушки и от души посмеялись.
Беленькая стюардесса сообщила Маше, что закрылся Железнодольск. Пришлось садиться в Челябинске.
Проголодавшаяся Маша наконец-то позавтракала. Узнав, что Железнодольск навряд ли скоро будет принимать самолеты, и вновь встревоженная тем, как там мама, она позвонила Татьяне Петровне.
Повезло: застала ее дома. Обычно в июле Татьяна Петровна отдыхает с мужем и детьми в горах Башкирии.
Оказалось, что Татьяна Петровна бывает у ее матери в больнице. Хоть Татьяна Петровна очень добра, да и дружит с ее матерью, в мыслях не особенно-то верилось, что она, такая грамотная, гордая, будет ходить в больницу к магазинной поломойке и грузчице.
Маша разрыдалась, еще ни о чем не спросив.
Татьяна Петровна утешила ее. Операцию Клавдии Ананьевне отменили. Она лежит, как в люльке, из-за трещинки в позвоночнике, болей нет, срастание проходит нормально. После излечения годик отдохнет, снова сможет работать. Хмырь поплатился за свою драчливость, дружинники забрали его. Но прощен — в последний раз. Клавдия Ананьевна умолила. Мать ждет тебя. На днях она сказала, что все-таки счастлива: «Дочка у меня — ни у кого лучше!»
Железнодольск, не принимавший самолетов из-за низового ветра, открылся незадолго до заката.
Летели над облаками. Эта белая безбрежность, кое-где сбрызнутая солнцем, навеивала бесконечные думы. И мнилось, нет выхода ее надежде, как, что ли, нет сейчас просвета в облаках.
Этой угнетенности предшествовало отчаяние. Оно ворвалось в душу со словами Татьяны Петровны, которые пролизывал треск громовых разрядов. Мама, мама обманула ее, свою Машу! Сроду не обманывала, и вдруг… Зачем? Ящик с маслом, огуречная шкурка… Щадила ее. Ведь знает: лучше правды ничего на свете нет. Пусть горе, зато ясность. Да как посмел Хмырь избить ее маму?! Он смеет, давно смеет. Но больше этого не будет. Обманула! А может, обманывала и раньше? Не надо, не надо… Заберу ее. Работать пойду. Школа? Университет? Ну их. Устроюсь на завод. Дадут комнату. Сразу отличусь — и дадут. А пойдет ли мама ко мне? Да она не захочет, чтобы я бросила учиться. И не просто ей уйти от Хмыря. Неужели нет выхода?
Молчание неба. Беззвучна и глуха невидимая планета. А где-то позади за тысячеверстными заторами облаков — солнце. Крикни — и не дрогнет пространство. Выпрыгни — и словно тебя и не было.
Ничего ты не можешь и не значишь в небе. И ничего ты не можешь и не значишь в Железнодольске. Тогда зачем ты? Наверно, зачем-то нужна. Все, наверно, для чего-то нужны. Работать, думать, летать… Нет, что-то произошло, происходило… А Владька, Наталья Федоровна, отец… Там, с ними, для себя и для них, она что-то начала значить. Там она была как не сама, будто на время по чьему-то доброму волшебству в ней подменили душу и ум. И скоро она станет прежней, даже становится прежней. Даже вроде начинает бояться того, что она не сможет забрать маму и не сумеет ее защитить от Хмыря. Нет, только необходимо действовать, рваться к бесстрашию. И будет счастлива мама. И конечно, и она будет счастлива. А если не будет?.. В счастье ли единственный смысл жизни? А может, высший смысл в том, чтобы не бояться несчастья и решаться на такие перемены, к которым путь на грани катастрофы, а то и в катастрофу? Погоди, погоди! Как я подумала? И можно ли так думать и следовать этому?
Пустыня облаков. Где сизо, где оранжево, где теневая синь. Барханы. Белый саксаульник. И мираж озера. Прозрачного. Да нет же: это проран в облаках. Лесная курчавина, лоскут поля, гора. И новый проран. Квадратный. И черная почва. И в воздухе черные гейзеры пыли. С чем-то сходство. А! Она и Сергей Федорович на краю лаза. Смотрят в угольную башню, на дне — отец. Он орудует длинночеренковой лопатой, а снизу, в спрессовавшуюся шихту, подают воздух, он просаживает шихту, вздувая угольные смерчи. Сон или явь? Прошлое или настоящее? К чему она летит? А может, падает? Или, может, прошло несколько лет, и мама на пенсии, и живет в комнате, полученной ею, Машей, а сама она учится в университете вместе с Владькой?
Мальчик, полюбивший слона
1
Ни во дворе, ни дома никто не принимал всерьез Геку Иговлева. Когда мальчишки гоняли оранжевый синтетический мяч, то даже не разрешали Геке стоять на воротах, хотя он был длиннорукий и длинноногий. Падал он дрябло; не скакал в ожидании удара, если игроки чужой команды бросали мяч напрорыв и, пасуясь, приближались к воротам; пропустит гол — товарищи ругают всем скопом, кто отпустит подзатыльник, кто даст пинок. Гека не защищается, не плачет, будто и не больно, не обидно. Едва игра возобновится, он уже помнить не помнит, что его бранили, обзывали, ударили, и глазеет на радиоантенны, на голубей, снежно мерцающих крыльями, на подъехавшую к гастроному машину-холодильник, аппетитно разрисованную по белой жести: из огромного рога вылетают колбасы, окорока, жареные, но почему-то веселые поросята.
Иногда для потехи сверстники заставляли Геку быть штангой и били по нему мячом с близкого расстояния, а вратарь как бы невзначай сшибал с ног.
Гека был из большой семьи. Его мать Александра Александровна рожала девочек, а отцу Александру Александровичу хотелось, чтобы она принесла сына.
Гека появился на свет через четыре года после Милки; она была самой младшей из сестер и восьмой по счету. Милка охотно и много возилась с братом. Он называл ее няней. За ним и вся семья стала называть Милку няней.
Имя ему дали Гера. Он долго не выговаривал букву «р» и собственное имя произносил так: «Гека». И привилось: Гека да Гека.
Александра Александровна испытывала к сыну неприязнь: вон сколько из-за него девок в семье. И все, кроме няни, невестами ходят, красивую одежду требуют. Ночь — дрожи: как бы с какой-нибудь чего не случилось.
Сестры родились в землянке, что особняком и выше других землянок была врыта в крутой склон Третьей Сосновой горы, где не было деревьев, но зато росли фиалки, сон-трава, заячья капуста и дикий чеснок, цветущий стрельчатыми светло-фиолетовыми цветами.
Александр Александрович был сварщиком нагревательных колодцев на огромном блюминге. Из разговоров отца с матерью Гека знал, что работа у отца жаркая-жаркая, что он следит за температурой раскаленных слитков; они чуть поменьше трамвайных вагонов и находятся в огненных колодцах, посаженные туда двурукими подъемными кранами.
Сварщики, приходившие в гости к Иговлевым, хвалили самого:
— Лучше сварщика не найдешь ни в Кузнецке, ни в Мариуполе. Слитка не оплавил, слитка не застудил.
Покамест не поднялись старшие дочери да хватало денег, Александра Александровна была домашней хозяйкой. Потом муж устроил ее через главного прокатчика маркировать слитки.
Она терпеливо переносила жгучий заводской зной и угар маркировочных красок. Потом ее перевели в подкрановые рабочие. С тех пор как она поступила на завод, голос у нее огрубел, растрескался, потому что, как однажды объяснил Геке отец, она много пила ледяной газировки и громко кричала на машиниста крана, если он неправильно выполнял ее команды.
С аванса и получки отец покупал водку. Мать варила куриный суп в ведерной эмалированной кастрюле. На закуску приносила из подвала вилок соленой капусты и маринованных маслят.
Выпивали они вдвоем. Самая старшая среди сестер учительница Алевтина Александровна не выдерживала сивушного духа.
Аннушка шла по возрасту за Алевтиной Александровной, она продавала спиртное, набаловалась, и поэтому дома ей не подавали даже в праздники.
Третья сестра, Аринка, копировщица проектного отдела металлургического комбината, гуляла с инженерами и не признавала никаких вин, кроме шампанского; остальным сестрам было рано пить.
Выпив, мать быстро хмелела, и если Гека попадался ей на глаза, то непременно сетовала, что он вареный какой-то, ни к чему не имеет способностей. Другие вон выжигают выжигателем портреты, выпиливают лобзиком рамки для фотокарточек, бегают в кружок, где собирают телевизоры, поют или танцуют…
— Погоди, Шура, выйдет еще толк из нашего сынка.
— Толк выйдет, бестолочь останется.
— Себя вспомни.
— Я такая уж корову доила. И никто из детишек надо мной не надсмехался. Заденет кулаком ли, языком ли, спуску не дам. Недотепа он, некудыка.
— Наступит перевалка. Неправда. Думаешь, спроста видит интересные сны? Неспроста. Есть в нем тайный механизм. Но реле не срабатывает. Время не наступило.
Гека испытывал безразличие к тому, что о нем говорили. Он ждал, когда отец перестанет пререкаться, посадит на колени, попросит рассказывать сны.
Никому Гека не рассказывает снов, сколько ни просят, лишь отцу да сестре Алевтине, которая считает, что он ребенок как ребенок, правда, она грозилась отдать его в школу дебилов, когда ему совсем не хотелось учиться и он получал «колы». Трезвым Александр Александрович редко разговаривал с сыном. Но когда выпьет, посадит поперек колен, пощекочет подбородком, выдохнет:
— Рассказывай.
И Гека рассказывает о том, как увидел себя среди синих гусей. Была желтая пустыня, а в пустыне синие гуси. Он полез с песчаной кучи по солнечному лучу. А гуси пели снизу ласковыми голосами, как тетеньки, которые поют по радио. Гуси попеременке взлетали к нему на луч и сыпали в карман ириски «Тузик». Он сосал ириски и лез по лучу. Лез долго-долго, сорвался и стал падать. Синие гуси превратились в пух, и он не убился.
Сон про то, как Гека стал пчелой и жил в улье, отец заставлял повторять очень часто: уважал пчел, потому что они трудолюбивые, как люди, но люди должны перенять у них характер — не враждовать в своих семьях, да и вообще между собой.
Случалось, что отец перепивал. По его лицу, как по скалам Третьей Сосновой горы, бежали вилючие ручейки. Он огненно дышал сыну в ухо.
— Столько лет ты не шел и не шел. И вот пришел. Ты должен приносить пользу, как блюминг. Один как весь наш блюминг! Ладно?
Гека плохо представлял, что такое польза и блюминг. Становилось скучно.
— Не хочу.
— Нужно.
— Зачем?
— Будут везде синие гуси.
— Синие гуси только во сне.
— Эх ты… Но я прощаю. Ветер у тебя в голове и никакого жизненного понятия.
2
Кудрявый белокурый художник свистел, сидя на раздвижной лестнице. В одной руке он держал круглое стекло, на котором блестели похожие на птичий помет кучки разноцветной масляной краски, в другой — кисть с тонким длинным черенком.
Художник рисовал пятна на спине леопарда. Художник был вертиголовым. Мазнет кистью по жести — ею обит забор — и поглядит на тропинку, протоптанную через пустырь. Заметит на тропинке девушку, еще громче засвищет.
Гека остановился около лужи, над которой возвышалась раздвижная лестница.
Он возвращался из гастронома, куда ходил за хлебом. Там в винно-водочно-соковом отделе торговала Аннушка. В кожимитовой хозяйственной сумке, надетой на Гекины плечи, лежало три буханки хлеба и два батона.
Леопард на жести получался не очень гладкий и не очень гибкий.
Веселый художник спросил у Геки:
— Сойдет?
Гека не стал врать и сказал, что леопард не очень гладкий и не очень гибкий.
— Что бы ты понимал, малыш. Впрочем, я всего-навсего старший служитель зверинца. Да… огорчил ты меня.
Гека не поверил, что он может чем-нибудь огорчить такого взрослого человека.
За забором раздался страшный рев. Гека не мог разобрать, кто ревет.
— Дядь, кто?
— Аллигатор.
— Кто?
— Крокодил.
— Обманываешь.
— Иди проверь. Впрочем, подожди. Сам отведу.
Как только Гека очутился в кольце забора, он увидел вольер с птицами. Голошеий сип трепыхал огромными крыльями. Уцепившись крючьями когтей за сетку, таращил филин желтые глаза. Железисто-рыжий страус важно ступал по опилкам. Розовый фламинго стоял на одной ноге. Веки-шторы опущены. Но, наверно, не спит. Вспоминает острова на морях-океанах.
Шли в коридоре из обезьяньих клеток. Месили глинистую грязь. Вчера был ливень.
Аллигатор лежал в стеклянном домике. От его рева домик знобило. Вода в крохотном бассейне, где мок хвост крокодила, морщилась.
Старший служитель похлопал в ладоши, но аллигатор не затворил пасть. Тогда он оттянул на себя сетку, ограждавшую стеклянный домик, и отпустил. Сетка запрыгала, засвиристела.
— Ну, чего орешь? Жратвы хватает. Ну? Тебя спрашивают? Триста лет прожил и все не доволен. Радоваться надо, балбес ты зубастый.
— Дядь, может, ему жить надоело?
— Тварям жить не надоедает. Ты слыхал, малыш, что крокодил моргает раз в столетие?
— Обманываешь?
— Опять?
— Можно, я проверю?
— На век тебя не хватит. Пойдем. Послезавтра откроем зверинец. Доставай тридцать копеек на билет и смотри с утра до ночи.
— Я немно-ожечко.
— Уговор — к клеткам не подходить.
3
Крокодил замолкал и снова горланил, но моргнуть так и не моргнул. Геке надоело за ним наблюдать. Он передразнивал желто-сине-красного попугая, а когда обогнул его клетку, то увидел слона, топтавшегося на деревянном настиле.
Слон взмахнул ушами. Задняя левая нога была схвачена петлей. Петля примкнута к цепи. Цепь продета в ушко сваи, вбитой в землю.
Он подергивал каторжной ногой, и цепь тревожно звякала. Жалко слона: спит стоя, походить нельзя и больно на плахах подошвам. Не могли поставить чуть подальше, на поляну, где мягкая мурава, наподобие коврика из пенопласта.
Навстречу Геке слон выбросил хобот; шумно потянул воздух; или хлеб учуял, или узнает по запаху, какой он, Гека, человек.
Слон начал гнуть хобот волнами. Забавляет. А может, радуется? Скучно было: привык к людям. Нет, все-таки, наверно, свежий хлеб унюхал и выступает, чтобы получить угощение.
Гека скинул с плеч сумку, отломил кусок от черной буханки, кинул на плахи.
Слон завернул хлеб в конец хобота, отправил в глубокий, как пещера в скалах Третьей Сосновой горы, рот и опять принялся приплясывать передними ногами. Видать, понимает вкус в черном хлебе. Гека тоже понимает. Черняшку приятно уплетать с жирной малосольной селедкой, полузатопленной в уксусе. А еще лакомей черняшка со сладким казахстанским луком. Взять прямо целую головку, снять шелуху, стянуть пленку, присаливать бока, фиолетовые, глянцевитые, и кусать.
В хоботе две ноздри-трубы, влажные на выходе. Через эти ноздри-трубы слон и подул на Геку, да не просто подул: провел горячей струей воздуха вокруг головы, отчего волосы поднимались и опадали так, как металлическая пыль, над которой описали магнитом круг.
Дома Геке часто хотелось, чтобы его гладили по волосам. Он подходил к Александре Александровне, готовно наклонял голову.
Она сердилась.
— Котенок выискался. Играй иди. Некогда нежничать.
Если Александр Александрович отдыхал, Гека направлялся к нему. Но и отец не гладил его по волосам, хоть они и были мягкие, как нейлоновая Аннушкина шапка. Оправдывался отец тем, будто ладони шершавы, как кокс, — волосы повыдирают.
Няня Милка подзывала Геку к себе, навивая русые пряди на пальцы, жалела:
— Зачем только они тебя выродили…
Мать ворчала на няню:
— У, потатчица. Ремня ему — не ласки, размазне.
Изредка по ночам прилаживалась бочком на Гекину раскладушку Аннушка. Крутила подбородком его волосы. То плакала: обратно кто-то обманул, то смеялась: опять кто-нибудь пообещал жениться. У Геки затворялось дыхание: он ненавидел запах белого вина, но не прогонял сестру.
Воздушные струи, которыми слон ерошил вихры мальчика, были знойны, но приятны. Мальчик замер. Гека не просил гладить волосы — он сам догадался. И ни грубостей, ни жалости, от которой ревмя ревешь. И ласковый не от горя или счастья. От доброты.
Гека зажал в кулаке выступ обломанной буханки. На корточках подобрался к настилу. Пританцовывая, слон взял хлеб. Если бы Гека не понравился слону, тот мог бы подальше распустить хобот и поймал бы за руку. Умный. Не пугает детей. Алевтина Александровна говорила, у слонов мозги весят четыре с лишним килограмма. Есть башке чем варить. Интересно, батоны ему по вкусу? Скормлю один — и хватит. Что на буханку клянчить у Аннушки, что на буханку с батоном.
Надумал, скармливая слону батон, поставить у своих ног кожимитовую сумку. Если слон и в самом деле умный, добрый и он, Гека, ему понравился, то не стащит сумку и не опорожнит.
Едва успел поставить сумку, ее как ветром подняло. Она покачалась в воздухе — петли ручек в завитке хобота — и села на настил.
Уголками-выступами на конце хобота, что ловки и быстры, точно пальцы жонглера, слон раскрыл сумку, рьяно топтался и гремел ушами. Казалось, что он торжествует сам перед собой: ну и молодец — добыл сумку, набитую ароматным хлебом.
Когда Геку обижали те, кого он не уважал, он редко плакал, но когда оскорбляли те, кто нравился, то ревел навзрыд.
Ткнулся лицом в колени. В голос не заревел: выгонят из зверинца, однако сдержаться не смог.
Вдруг что-то гладкое придавило Гекины ступни, а что-то мягкое притронулось к затылку и нежно пощекатывало шею.
Мальчик вытер глаза, догадываясь, что произошло.
Около него стояла кожимитовая сумка, в ней лежали целы-целехоньки две белых буханки и гофрированный батон.
Слон не взмахивал ушами, не пританцовывал. Он недвижно стоял и жмурился. Глаза карие, в красных паутинках кровеносных сосудов на белках. Жмурился застенчиво, будто говорил:
«Зря ты, мальчик, расстроился. Сам небось всласть озорничаешь! Разве мне нельзя побаловаться, хоть я и слон?»
«Не сердись, слон. Я виноват. Но я тебя очень люблю».
Слон начал кланяться, а взгляд стал веселый-веселый. И Гека подумал: «Раз он понял, что я сказал про себя, то теперь так и буду передавать ему свои мысли. Слон, я еще хочу угостить тебя, только я подойду поближе, и ты меня не ударь».
Гека разломил пополам батон, шагнул к настилу. И в этот момент раздался крик:
— Назад, пацан! Убьет! Назад!
Гека оторопел, потому и остался стоять в ямке с водой и грязью, куда наступил.
Наискосок от себя увидел напряженный хобот. Из хобота вырывался сердитый хрип. Гека догадался, что слон прогоняет того, кто приказывал.
— Назад, пацан!
Пусть приказывает. Гека под защитой слона. Вон у него какие огромные клыки, даже отпилили острия, чтобы не проткнул кого-нибудь.
Дядька-крикун остановился близ слоновой каторжной ноги. Взмахивал кулаками, веля Геке уходить.
Слону трудно было поворачиваться, он загибал хобот, протестующе фыркал.
В деревне Попиловке Гека видел заготовителя кож. Дядька, хотевший прогнать Геку с площадки слона, походил на заготовителя кож — пузом, натянувшим жилет, морковного цвета ковбойкой и пеньковой шляпой.
Голос крикуна привлек внимание двух служителей. До этого они подавали команды машинисту автокрана, устанавливавшего на деревянное возвышение клетки с львами и львицами.
Улыбчивые, в тельняшках служители направились враскачку к Геке.
А в это время слон полуобвил мальчика и закинул на себя. Гека испытал такой же радостный страх, как однажды в парке, когда его, пристегнутого к креслу, возносило на стреле в небо, а затем опускало к земле вверх тормашками. Когда слон переправлял к себе Геку, на спину из сумки выпали половинки батона. Хобот аккуратно подобрал их и подал Геке, но Гека отказался: батон ведь был разломлен для слона. Сырой, твердый настил лоснился далеко внизу. Сверзишься — расшибешься насмерть. Гека крепко сжал пальцами уши слона.
Гека слышал, как служители успокаивали крикуна: бесполезно волноваться, раз слон не захотел отпустить мальчика.
«Заготовитель кож» рассердился на служителей. Не они в случае чего будут отвечать. И побежал, разъезжаясь ногами по глине, туда, откуда Гека входил в зверинец; вскоре он привел старшего служителя. Тот взглянул на слона, потом — на Геку, покачал кудрявой головой и попросил «заготовителя кож» удалиться.
Едва крикун ушел, старший служитель приказал Гоге — так он назвал слона — снять с себя мальчика. Гога эластично гнул хобот и кланялся служителю. Наверно, умолял не трогать их с Гекой.
По требованию служителя слон опустился на колени, позволил снять мальчика.
Служитель подал Геке сумку и велел уходить.
Гека спрятался за клеткой попугая, которого давеча передразнивал, дождался, когда служитель ушел дорисовывать леопарда, и побежал к слону.
Гога затанцевал колоннами передних ног, как только опять увидел мальчика.
4
Обычно Геку тянуло к сестре в гастроном: то напьется вишневого соку, то медяков получит на мороженку.
Сейчас он шел в гастроном без охоты. Огорчит Аннушку. И придется рассказать при покупателях, куда девал хлеб.
В Аннушкин отдел длинная очередь. Подвезли пиво. Гека пристроился за женщиной в шелковом платье, холмистой от толщины.
На мраморный прилавок падали жестяные пробки, которые сестра ловко сковыривала с бутылок.
Сначала Гека увидел Аннушку, затем старшего служителя, приткнувшегося бедром к прилавку. Или служитель наблюдал, чтоб никто не лез без очереди, или подсыпался к Аннушке. Она хоть и скуластая и с боксерским подбородком, в котором будто дырочка высверлена, но с ней, когда бы ни прибежал, обязательно разговаривает кто-нибудь из дяденек. Не просто разговаривает — на свидание напрашивается.
Старший служитель спросил, куда съездить на этюды, где была бы мощная природа, но Аннушка не успела ему ответить: отвлекала Гекина плаксивая просьба.
— Ань, дай рупь шесть.
— Зачем еще?
— Нужно.
— Скажи зачем.
— После.
Старший служитель взворошил чубик мальчика.
— Брат?
— Брат. Скажешь после, после и деньги получишь.
— Ань, ну дай рупь шесть.
— Один рубль шесть копеек — это по-старому десять рублей шестьдесят копеек. Пей, — она поставила перед братом стакан вишневого сока. — И беги домой.
Старший служитель скосил глаза в темную, пустую глубину кожимитовой сумки. Засмеялся, полез в карман.
Очередь зароптала, упрекая Аннушку за то, что она взяла привычку судачить с молодыми людьми.
Аннушка так грозно посмотрела на Геку, что он мгновенно отскочил от прилавка к распахнутой двери и не оглянулся на зов старшего служителя.
5
Прямо в прихожей Александра Александровна спросила сына, почему он долго отсутствовал. В горле у нее клохтало. Не жди прощения: отлупит.
Гека молчал. Она ударила его по щеке и потащила в ванную комнату. Топала. Хлестала бельевым шнуром. От крика ее зоб вздувался.
Александр Александрович подергивал закрытую на щеколду дверь. Просил жену уняться.
Смелей действовала няня Милка. Тарабанила кулаками по фанерной обшивке, гневно предупреждала, что мать сделает Геку совсем никудышным.
Пока не узнала, куда девал хлеб, Александра Александровна била сына шнуром.
Давя на его плечи, заставила стукнуться на колени. Предупредила: не попросит прощения — будет стоять на коленях целые сутки. Няню, рвавшуюся в ванную комнату, надергала за челку и поставила рядом с Гекой на шершавый бетонный пол. Задвинула ударом ладони дверной шпингалет.
Вернулась из школы Алевтина Александровна. Узнала от отца, что произошло. Освободила брата с сестрой, уснувших на полу.
Мать покорялась лишь Алевтине Александровне: строгая, что твоя игуменья, образованная и умеет как надо обходиться с детьми.
Перед рассветом к Геке на раскладушку прилегла Аннушка. Она была холодная, как мраморный прилавок в ее винно-водочно-соковом отделе. И Гека начал брыкаться. Но едва она прошептала, что старший служитель — звать Аркадий, фамилия Зименков — наказал передать ему: «Пусть приходит в зверинец в любое время», — Гека смилостивился и старался не засыпать, пока сестра рассказывала, как провела вечер с Аркадием в ресторане, сколько много занятного он знает про разные города и всякие моды и обычаи.
6
Утром Александра Александровна и Александр Александрович ушли на работу. Деньги на хлеб оставили не Геке, а няне. Он хотел выманить у нее четырнадцать копеек на кирпичик черняшки, но ничего не получилось: она боялась, что мать, злая со вчерашнего, выдерет обоих.
Зато няня и выручила Геку. Насыпала в капроновый пакет овсянки. Оказывается, слоны ее любят. И надоумила нарвать травы: тоже слоны едят, да еще со смаком.
К зверинцу он пришел, неся на плече рюкзак, набитый муравой, ржанцом, серебристым мятликом.
И ворота и калитки, примыкавшие к ним, были заперты. За кольцом забора орал крокодил. Гека слонялся под солнцем вокруг свинченных болтами и обитых жестью щитов, ловил голоса служителей. Ни разу не донесся веселый, акающий говор Аркадия Зименкова.
Устав от жары, Гека полежал в тени, потом пошел вдоль забора, с отчаянием выкрикивая:
— Дядь Аркаша, пусти!
Из калитки появились служители, одетые в тельняшки.
— Уходи, мальчик. Директор не велит пускать. С Гогой шутки плохи. Он в цирке выступал, и дрессировщик чем-то его обидел. Так он хотел пригвоздить дрессировщика в своем стойле. Разбежался и… ладно дрессировщик отскочил. Гога так и пронес бивнями стену.
— Меня не тронет.
— Не тронет, так уронит. Не уронит, так ногу оттопчет.
— Позовите дядю Аркашу.
— Директор запретил. Строго-настрого.
Они исчезли. Лязгнул засов.
Гека бил пяткой в калитку, но никто не отзывался. Потом он валялся в траве. Смотрел на рекламного леопарда. Леопард воздушно крался под пальмами.
Из калитки выглянул директор-крикун. Гека вскочил и наутек. Добежал до сквера и юркнул в акации.
Оттуда было видно, как директор повернул на проспект Металлургов. Наверно, отправился обедать в пирожково-блинную.
Гека бросился к зверинцу. Толкнул калитку. Дядя Аркаша — он расчесывал гриву зубробизона — разрешающе махнул гребнем в сторону слоновой площадки.
Гога разинул розовый рот: разулыбался до ушей. Танцевал пуще вчерашнего. Овсянку он съел вместе с капроновым пакетом. Мальчик было встревожился, но, взглянув на брюхо слона, успокоился: не то что пакет — резиновый дождевик переварит.
Траву слон слопал с удовольствием и обсыпался отрубями, замоченными в колоде. Замлел он на жаре. Кожа серая, то ли от грязи, то ли цвет такой.
Гека спросил Аркадия, как помыть слона. Аркадий, насвистывая по-скворчиному, принес и поставил на настил бадью воды, и Гога стал обливаться.
Мальчик помечтал:
— Шланг бы сейчас!
Аркадий раскатал пожарную кишку, прикрепил к ней медный наконечник.
В слюдянистой вышине струя распадалась, сыпалась на Гогу и Геку.
Чтобы чище вымыть слона, мальчик направил воду, окруженную радужным бусом, в его твердую кожу. А слон, наверно, думал, что и Геке пора купаться, и он окатывал его из хобота.
Вдруг кто-то схватил Геку за уши. Мстительно схватил. Сжал верхушки ушей ногтями и давил, давил. Боль огнем отдавалась в голове, но мальчик не заревел: еще унижаться перед врединой, разволнуешь Гогу.
Слон вскинул хобот и захрипел в яростной тревоге. Тотчас заверещали обезьяны, рявкнул лев, гнусаво замяукал камышовый кот.
Прибежал Аркадий. Освободил Геку. Рассвирепевшего крикуна повел к автофургону, отчитывая за жестокость и за непонимание слоновой натуры: Гога может так сильно взвинтиться из-за мальчика, что порвет цепь, растопчет уважаемого товарища директора и расшвыряет зверинец.
Слон долго не спускал с автофургона карих, налившихся кровью глаз.
И в тот день он закинул Геку на себя.
Мальчик сидел во впадине между туловищем и башкой, поражавшей огромностью и величиной лобных холмов. Он действовал пятками, как шпорами, дергал за лопухи ушей, понукал:
— Н-но, милай.
Служители в морских тельняшках завидовали ему.
7
В сумерках Аркадий проводил мальчика за калитку.
Гека ударил себя лямками рюкзака, поскакал коняшкой. Он скакал торопко, сбивчиво. Радость была слишком велика, и он попробовал перевернуться через спину, но неловко оттолкнулся: не на ноги попал — распластался.
Вставал кряхтя: никак не дышалось. В отшибленных пятках кололо.
Чье-то снизу поддерживающее прикосновение к локтю. Дядя Аркаша! Ой, нет. Крикун!
Рванулся. Удрать не удалось. Цепок директор.
— Не дойдешь до дому. Помогу.
— Сам.
— Не спорь. Святая обязанность взрослых помогать детям.
Откуда он взялся? Внезапно, как колдун. Дурачок я. Он за углом зверинца ждал. А я рядышком растянулся.
Гека расслабил мышцы руки. Пусть директор думает, что он ему поверил.
Остановились возле телефонной будки. По шоссе, надвое разделенному мозаикой брусчатки, в которую вмурованы рельсы, мчались машины.
Директор пошевелил занемелыми пальцами: уж очень крепко, как в гайке, был зажат в его ладони локоть мальчика.
Гека порхнул в просвет между трактором-экскаватором и платформой, везшей железобетонную ферму.
Чуть не попал под трамвай. Вовремя отпрянул, и тот прогремел впритирку с ним. На другой половине шоссе сначала едва не угодил под кривоколесный чехословацкий грузовик, потом — под автоинспекторский автобус, уговаривавший водителей соблюдать правила уличного движения.
Гека не сообразил, куда бежать, и кинулся к своему корпусу. На поляне, где шла игра в футбол и где для потехи Геку заставляли быть штангой, его настиг крикун.
Вокруг загалдели ребята. Они совсем не предполагали, что Геку-тюхтяя может кто-нибудь ловить, поэтому и не подумали о том, чтобы его выручить, а наперебой спрашивали, что он сделал.
— Он, па-ан-нимаете ли, к слону повадился.
Директор задыхался: догонял на пределе сил.
— У сло-она под ногами лазил. И сид… сидел на нем и пры-ыгал. Сло-он не осел. Упал — мокрое место. Где живет? Покажите.
— В тругом квартале.
Миша Бакаев однокашник Геки. Сколько учительница ни поправляла Мишу: «другой», а не «тругой», — он упрямо говорил по-своему. Он бивал Геку и за дело, а чаще за просто так. Никогда не заступался и первый настоял прогонять с футбольного поля. И вдруг Миша Бакаев обманывает крикуна. Не нужно Геке Мишино благородное вранье. Да и вообще он не хочет, чтоб его выручали. Не трус. И вины за ним никакой.
Отец порол Геку солдатским ремнем. В Гекином уме взрывалось то рыжее, то зеленое, то вместе рыжее с зеленым, то синее-синее, в котором дробились желтые кругляшки. Прощения он не просил.
8
Утром за Гекой зашли сверстники. Они были по-праздничному нарядны, впереди — Миша Бакаев. Он сомневался, что Гека сидел на слоне.
Александра Александровна выставила ребят на лестничную площадку, едва узнала, что они собрались на открытие зверинца.
Гека видел со своей раскладушки гладко причесанного Мишу и успел подать знак, что сейчас выйдет.
Одевался медленно: шевельнется — и в исполосованных ремнем местах вспыхивают молнии боли.
Мать жарила картошку на свином сале.
Незаметно проскочил к квартирной двери.
Денег у Геки не было. Мальчики сложились и купили ему билет.
Гека радовался. Ребята табунились вокруг него. Обычно они табунились вокруг Миши Бакаева.
Перед входом в зверинец стоял директор. Гека лишь тогда подумал, что тот может запретить пропускать его, когда попался ему на глаза.
Директор наклонился к билетершам, ткнул пальцем в Гекину сторону. Предупредил билетерш, чтоб гнали Геку от зверинца, и достаточно. Так нет — подался к милиционеру, вертевшему на пальце роговой свисток.
Гека за угол зверинца, мальчишки следом. Бежали вдоль забора, покамест не свернули за противоположный угол.
Пытались найти щелку, в которую было бы видно слона. Отыскали щелку, но изнутри забитую фанерой.
Гека сказал, чтоб ребята отправлялись в зверинец. Они медлили, хмурились. Наверно, думали, как быть. Сам Гека еще на бегу сообразил, что предпринять, да боялся: за это могут оштрафовать отца с матерью.
Он все-таки уговорил ребят идти без него в зверинец. Но как только они потянулись за угол, глядя вниз, волоча ноги, он их остановил. Они бросились к Геке со всех ног. Догадались, что он придумал, как пробраться к слону.
На плечи Игоря и Валерки поставили вплотную к забору Мишу Бакаева. Начали подсаживать Геку. Долго маялись: он никак не мог взобраться на Мишины плечи. В отчаянии он заревел; и тут, подтолкнутый вверх, ухватился за забор и вылез на дощатую крышу вольера, придвинутого к забору.
Пополз по крыше на четвереньках. Обнаружил ржавую дырку. Приложился. Внизу ходил по глине дикобраз. Страшновато прыгать. Говорят, дикобраз стреляет своими иглами. Струсит, когда Гека шмякнется на землю, и метнет стаю иголок.
На краю крыши встал во весь рост. Перед вольером дикобраза стояли девчонки. Публика колыхалась возле клеток обезьян, хищных зверей и перед канатом, замыкавшим площадку Гоги.
Прыгнул. Приземлился на ноги, упал и с боку на бок. Директор, озиравший зверинец с крыльца персонального автофургона, углядел, как что-то промелькнуло в воздухе.
Подняли Геку девчонки. Они же предупредили:
— Поймает.
Оказалось, что приближается японским шагом сам крикун.
Гога уже заметил Геку, веселым похрюкиванием звал к себе. Гека пробил толпу. Нырнул под канат. И слону под брюхо. Директор, стукаясь об стену публики, забегал у каната.
Под животом слона жарко, как под топкой паровоза.
Гека потолкался головой в Гогин живот. Мягкий. А еще на нем длинный пушок.
И справа и слева, если раскосить глаза, торчат соски. Удивительно смешно.
— Гека, — позвал тонкий голос Миши Бакаева. — Вылазь. Начальник ушел.
Мальчик пробрался меж стволами слоновых ног.
Гога не то нюхал его, не то щекотал уголками хобота, а мальчик поглаживал волнистый, дующий зноем хобот.
В ужасе ахали тетеньки, улыбались дяденьки, смеялись пацаны во главе с Мишей Бакаевым.
Среди зевак замелькала кудрявая шевелюра Аркадия. Когда он подлазил под канат, то подмигнул Геке. Стоя вместе с ним возле слона, который нежно притрагивался то к одному из них, то к другому, он сказал:
— Непорядок, малыш. Ты лучше приходи до открытия и после закрытия. Посмотри, каша получается.
Аркадий поднял Геку над собой. Все люди, пришедшие в зверинец, сбились вокруг площадки слона.
— С директором я договорился.
— Ладно. Я согласен. Только я сейчас останусь. На немножечко.
— За канатом?
— Ладно.
Геке приходилось нарушать слово, когда ему подавали бублик, французскую булку, ромовую бабу и просили передать слону. Он передавал, лихорадочно проводя маленькой ладошкой по хоботу.
9
Рано утром и на закате солнца Геку пускали в зверинец. Директор избегал с ним встреч: заметит — свернет к какой-нибудь клетке, как будто туда и спешил.
Гека радовался, и не только потому, что кормил и купал Гогу, точно служитель, а еще и потому, что научился ловить красноперок, перескакивать через костры, не обжигая ног и не решетя штанов.
От игры в футбол, хотя ребята и уговаривали, отказался. Хотелось гонять мяч — не принимали, теперь почему-то расхотелось.
Но недолго он был счастлив. Отец взял отпуск и увез с собой в башкирскую деревню Кулкасово. Тут жили их знакомые Нурпеисовы. В горнице Нурпеисовых отец с Гекой и поселились.
Здесь было красиво: горы; на скалах лиственницы, прозрачны, нежноиглы; по-над Кизилом, галдящим на камнях ртутно-белой водой, роща вязов, где и в августе были соловьи — звук раскатывался такой, словно кто-то привязал к дереву длинную никелевую проволоку, натянул ее и встряхивал, дергал, крутил; на быстринах клевали ельцы, в омутах с затонувшими корчами — голавли; ягоды у реки лопай, какие по вкусу — малину, черемуху, смородину, костянику.
Прошлым летом Гека мечтал погостить в Кулкасове, да его не пустили — денег не было: мать, отец и Алевтина Александровна ездили на родину, под Пензу, и сильно израсходовались на подарки.
А теперь тянуло в город. Все очень быстро опостылело. Где бы ни ходил, все мерещился Гога. Кривой сизый сук мелькнет в кроне вяза — хобот. Валун торчит на стрежне — слон, спасаясь от жары, вошел по лоб в кизил.
Отцу что: улыбка отлилась на щеках. И никто не мерещится, даже Шура, Сашенька, Александровна. Только и знает:
— Воздух-то! Воздух! Как дыня воздух: режь, кусай, сок с бороды облизывай.
Зарядили дожди. Похолодало. В доме да в доме. Тоска.
— Отсыпайся, сынок. Скоро в школу.
И не подумает отец, сколотили навес для слона или он топчется под открытым небом. Может, дрожит Гога и плачет по Африке.
Чуть подсохли дороги, потянули лесовозы из-за хребтов. Отец ушел пастись — ягоды есть. Гека оставил ему записку. И на дорогу.
Взяли на лесовоз, в кабине которого пели три пьяных мужика. Сидел верхом на шершавой сырой сосне.
Перед совхозом «Красная Башкирия» Геку ссадили: кабы автоинспекция не застукала. До города брел пешком. По городу зайцем на трамвае.
Слона увидел от цветников горного института. Забор был разобран и свален на глину. Ничего от зверинца не осталось, кроме Гоги (навес, под которым он мог укрываться в ненастье, все-таки протянули) и директорского автофургона.
Плохо слушались ноги, но побежал. Спотыкался. Ломило зачугуневшие пятки.
Услышал горн. Трубил, наверно, мальчик не больше его, Геки. Получалось натужно, глухо, хрипловато.
Нет, горнит не маленький — взрослый. Над площадью пронесся звук, похожий призывностью, блеском, длиной на тот, который раздается над просторами пионерского лагеря, когда трубят на линейку.
Кто же горнит? Никого не видать. Ой, да ведь это Гога трубит.
Гека подпрыгнул, обхватил хобот руками-ногами, зажмурился. Слон танцевал, качая его, как маятник.
Открыв глаза, Гека увидел неровно обпиленный бивень. Неожиданно по-над бивнем всплыло лицо директора. Ты смотри, обрадовался. А, хитрит. Ничего не выйдет. Не сведешь в милицию.
— Мальчик, вот хорошо-то, что ты приехал!
«Притвора».
— Я уже не чаял увезти слона раньше, чем через неделю. Выручишь? Выручишь. Ты славный.
«Прет чепуху. Еще не научился обдуривать».
— Мы уже всех зверей погрузили. За слоном дело стало. Некому отвести на станцию.
«Будто и некому?!»
— Из персонала слон одного Аркадия признает, а он в больнице. Взял мотоцикл в магазине проката и поехал с твоей сестрой за город. Природу хотел порисовать. Разогнал на всю железку. Тут ямка. И вышибло их. Аннушке повезло. Ссадинами отделалась, ушибами. У Аркадия перелом берцовой кости. Аннушка пока тоже в больнице. Я к вам на квартиру ходил. Просил сказать, где ты. Мать у тебя принципиальная. Отказалась сказать, где ты.
— Обманываешь?
— Незачем.
— Поклянись.
— Честное партийное.
10
Подъехал мотороллер с кузовом. Привез в бачках еду для Гоги. Директор, чтобы расположить к себе слона, все старался делать вместе с Гекой: ссыпал в корыто пареный овес, ставил корыто на настил, таскал в бадье воду.
В свободное время он заставлял Геку стоять рядом с собой, держал на его плече ладонь; на указательном и среднем пальцах табачная смолка.
Мальчик не только не таил обиды на директора — он был горд, что сам начальник зверинца стал относиться к нему уважительно.
Всем он был доволен и ничего не желал: ни вишневого сока, ни конфет «Ласточка», ни ацидофилина, ни грецких орехов. Разве что чуть-чуть хотелось, чтобы пришел Миша Бакаев с ребятами и они бы посмотрели, как он сидит на слоне наподобие какого-нибудь магараджи.
Вечером не было отбоя от зевак. Директор искричался, увещевая их не приближаться к слону; животное дикое («Никакое не дикое», — думал Гека); разнервничается, если беспокоить, и начнет крушить все, что ни подвернется.
Последним, уже в темноте, навестил Гогу пьяный. Покачался на одном месте, как примагниченный, сказал слону:
— Правильно делаешь, что водку не пьешь, — рассмеялся и заковылял к скверу.
Директор принес из гастронома сырковой массы с изюмом, колбасы, бутылку сливок и плитку шоколада.
Поужинали в фургоне. Долго сидели на крыльце. Гога сошел с настила, чтобы смотреть на Геку и стоять поближе к нему. Он вздыхал. В темноте его голова казалась гранитной, глаза мерцали черным блеском, точно вода в безлунье.
Никогда мальчик не видел столько звезд, сколько проступило на небе в ту ночь. Куда ни ткнется взглядом — звезды.
— Дядь, Ковшик есть названье у звезд. Еще как?
Директор, наверно, не слышал, что сказал Гека, потому и спросил:
— Знаешь, каким я был человеком?!
— Каким?
— Под моим началом было много-много людей. Ездил на двух машинах.
— Дядь, вон три звездочки вдоль, три поперек. Как называются? Грабли?
— Пост так пост занимал! Другому во сне не приснится. Не веришь? Не веришь. Одет я, как заведующий пивной палаткой. Опростился. Ума убыло… Реки бывают: весной море, осенью — ручеек. Совсем вроде бы не я.
— Дядь, веришь: есть звезды крупней солнца?
— Ты счастливчик. Ты еще не знаешь, что такое занимать важное кресло и вдруг оказаться вышибленным из него. То много мог, и вдруг — ничего не можешь.
— Дядь, ну скажи: есть на свете солнце больше нашего солнца?
11
Спал Гека на топчане Аркадия. Подушка пахла зверями. Просыпался то от тревожного хорканья Гоги, то от шелеста афиш: их задевал директор, вращаясь на своем топчане.
Встали на восходе. Директор отомкнул замчище, на который была закрыта цепь. Саму цепь выдернули из ушка жгута (внутри стальные тросики), облегавшего низ Гогиной ноги.
Накормили слона, и Гека повел его на станцию, держась за крюк хобота. Директор шагал рядом. Он радовался, что на проспектном шоссе, тянувшемся к вокзалу, ни транспорта, ни пешеходов.
Когда впереди, на тротуаре, появлялся сторож, охранявший магазин, директор резко махал рукой: не маячь, прижмись к стене, и тот замирал возле витрины или двери, спрятав под шубу ружье.
Гека грустно улыбался. При нем слон ничего и никого бы не тронул, хоть если бы на шоссе была автомобильная теснота, а тротуары запружены народом.
Вагоны, занятые зверинцем, загнали на тупиковый путь. Для Гоги приготовили теплушку. За порог зацеплены сходни. Низом они уткнулись в щебень.
Сходни крякали от тяжелой поступи слона. В су-теми теплушки белели ясли, пахнувшие березовым соком. Из яслей торчало сено.
Гека высвободил из хобота занемелую руку, шевелил пальцами, слушал, как Гога шелестит сухими травами.
Директор уехал на грузовике. Грузовик доставит остатки заборных панелей, а директор приведет и загонит на платформу автофургон.
Неподалеку застрекотали сороки. Мальчик бросился к дверному проему, и тут раздалось протестующее Гогино хрюканье.
«Погоди», — мысленно сказал Гека.
В сахарном мареве, трепещущем над пустошью, вертелись сороки, догоняя ворону, которая тащила в клюве что-то темно-красное, похожее на мясной ошметок.
Гека загадал: сороки не отберут у вороны добычу. Но проверить этого не смог: слон взял его за руку и потянул к яслям. Возле яслей отпустил и стал делать кольцевые движения хоботом над его головой и дул при этом, и волосы мальчика завихривались, как железная рудная пыль, над которой крутят магнит.
«Ладно, Гога, успокойся. Постараюсь реже отходить от тебя».
Он сел на угол яслей, весело застукотил пятками.
Чуть не свалился на пол: будто оборвалось сердце, едва подумал, решится ли директор взять его в Челябинск. И не трус, а какой-то чересчур осторожный. Может не решиться. Да и слон начинает его признавать. И кормить себя, наверно, позволит, и увезти с челябинского вокзала. Так что директор, пожалуй, попробует вытурить Геку из теплушки до отхода поезда. Жалко, нет Аркадия. Аркадий бы заступился и взял в Челябинск. Сам бы не додумался взять, Аннушка бы намекнула. Сестру Гека сумел бы упросить.
Хруст щебня. Шаги на сходнях. Директор. Черный в розовом квадрате неба. Скинул с плеча цепь. Служитель, надсадно кашляя, опустил стальную сваю с ушком. И вон из вагона. Притащил бадью с корытом. И снова ни на минуту не задержался. Бояка.
Бедный Гога. Завтра-послезавтра опять станет каторжной его левая нога.
— Дядь, поеду?
— Поедешь.
— Тра-да-да, тра-да-да, тра-да-дадушки, тра-да-да.
— Только отпросись у матери. Покуда Аркадия лечат, будешь за него. Денег тебе дадим.
— Мамка не отпустит. Я без спросу.
— Нельзя. Ты маленький. Десять, одиннадцатый. Не больше. Так мне за тебя попадет, свету невзвижу.
Говоря, директор подошел к Геке и, косясь на слона, сел на ясли рядом с мальчиком. Гога понюхал директора, неприязненно фыркнул.
— Верно: не отпустит тебя мать. Тем более со зверинцем. Парнишка ты ловкий. Побоится, руку тебе откусят или совсем разорвут.
— Поеду, дядь? Хоть в милиции скажу: меня не брали, тайком залез и уехал.
— Сейчас так говоришь. На допросе другое запоешь.
— Нет, дядь. Бьют, я и то молчу.
— Худо будет без тебя. Даже и не знаю, что будет. Коварная скотинка этот слон.
Директор замолк, посидел, насупясь. Ушел в станционный буфет. Принес Геке лимонный напиток, связку баранок, бутерброды с ветчиной, пяток яиц, сваренных вкрутую, кулечек конфет — арахис, облитый шоколадом. Сам убежал добывать тепловоз.
Гека разложил еду на деревянном лежаке, приткнутом к стене, противоположной той, у которой стоял Гога. Слон притопал к лежаку, и они вместе позавтракали.
По суматошной беготне служителей вдоль эшелона, по тому, что они втолкнули в теплушку лиственничные сходни, и по тому, что вагоны начали чокаться от вкрадчиво далекого толчка, Гека определил, что скоро объявят по радио отправление и поезд тронется.
Прибежал директор. На багровых зализах сеево пота. В груди хрип.
— Ма-альчик, отъезжаем. Ты-ы ко мне в а-авто-фургон. Слона закроем. Жи-во!
— Я с Гогой останусь.
— Брось глупить.
Директор подпрыгнул, зацепился брюхом за порог и, пыхтя, влез в теплушку, но, увидев, что мальчик забрался в ясли под защиту слона, сиганул на насыпь, задвинул легко катившуюся дверь, побежал по гремучему щебню.
Свисток тепловоза. Тронулись. Свет в теплушку попадал только в маленькое, зарешеченное, под самой крышей оконце. Не останавливаясь, проезжали станцию за станцией: мелькали тополевые ветки, заваленные грачиными гнездами, алые стены кирпичных вокзалов, фонари, чугунные краны для заливки воды в паровозные тендеры.
Из дремы Геку выхватило солнышко. Оно застряло в оконце перед самой решеткой и слепило алюминиевым пламенем.
Тишина. Значит, стоянка. Хруст. Кто-то идет по угольному шлаку. Встал. Лязг. Отодвигается дверь. Ее колесики свистят сверчками.
Появился служитель в тельняшке, положил на порог постель.
— Шкетик, ты где? Возьми-ка вот постель.
Мальчик затаился в яслях. Но так как лицо служителя, когда возникло, над порогом, было ждущее, веселое, Гека унял в себе чувство осторожности, прополз под хоботом и спрыгнул на пол.
Служитель приподнял скатку постели, будто собирался подать. И едва Гека прикоснулся к ней, схватил его за руку и выдернул из вагона. В следующий миг он затолкнул постель в теплушку и задвинул дверь.
Гека был ошеломлен. Он заревел лишь тогда, когда служитель дотащил его до женщины в малиновой фуражке и она взяла его в охапку.
— Отправь пацана обратно.
Из-за слез Гека не видел, как уходил поезд. Он только слышал, как звенели колеса, как этот звон раскалывали удары чего-то большого обо что-то твердое и как, пугаясь, женщина сказала:
— Да кто же там бьет, аж вагон качается!
Оглавление
Николай Воронов
Голубиная охота
Повести
Голубиная охота
Петька Крючин был счастливчиком! Во-первых, он держал голубей. Во-вторых, жил на конном дворе, в доме, крытом пластинами шифера. В-третьих, у него был отец, да вдобавок к отцу — старший брат, тоже заступник и взрослый человек. Я не завидовал Петьке. Хотя с той мальчишечьей поры прошло много лет, я точно помню, что не завидовал. Просто становилось обидно, когда он гонял голубей, а калитка и ворота были заперты, и ты, отираясь возле них, страдал, как от большого горя, а над твоей маетой издевался какой-нибудь Федька Печерников, у которого уже растут усы, и так допекал, что ты кидался на Федьку драться, но не мог его одолеть. Вот тогда и становилось обидно, что у Петьки столько всего: и голуби, и лошади, и отец, и старший брат, а ты — безотцовщина, и что мать и бабушка не разрешают заводить голубей, уповая на то, что барак против этого и что совсем плохо буду учиться.
Я назвал Петьку счастливчиком не потому, что раньше считал его счастливчиком: я назвал его так теперь. Тогда я жил с постоянным чувством счастья, поэтому только изредка обнаруживал различие между Петькиным и собственным положением, но и оно тотчас забывалось: вспоминал о матери. Для меня никто и ничто ни в чем не могло быть равнозначно ей. Если бы мне отдали все голубятни и конные дворы города, а для защиты приставили борцов Госцирка, лишь бы я согласился жить порознь с матерью, то я, сколько бы ни уговаривали, не пошел бы на это.
Вероятно, еще потому мои обиды были короткими, что Петька обычно пускал меня во двор, правда, со строгим предупреждением, чтобы я смирно стоял в сторонке вместе с другими мальчишками, которых он выделял, покуда не понадоблюсь.
Поднимался Петька на зорьке. Покамест въезжают во двор, сидя перед своими грохочущими бочками, те золотари, что работали ночью, да выезжают со двора те, которым днем орудовать черпаками, он проснется, а потом уж и не улежит в постели: чуть свет заядлые голубятники обганивают молодых и новых голубей, тут самый раз и ловить чужаков. И мы, конечно, поднимаемся рано. Он привечает нас, но мы ему и нужны. Если не появишься вслед за солнцем, то он будет покрикивать на тебя, а когда проспишь часов до восьми, то не станет замечать. Прогнал бы, куда было бы легче. А то и прогонять не прогоняет и словно тебя нет во дворе.
Но обычно было иначе. Ты входишь во двор — Петька подметает землю перед будкой, поглядывая на небо. Он разноглазый, чуточку раскосый, а на редкость зорок. Время от времени он посылает кого-нибудь из нас: меня, Саню Колыванова (он, чуть пригибаясь за нашими спинами, курит, выпуская дым под рубашку). Петька ненавидит куряк: Колесника, по прозвищу Генка Надень Малахай, сивого Тюлю (он полуспит, и его синеватые веки закрываются, будто вечером у курицы) посылает сбегать то к голубятне татаренка Мирхайдара, то к голубятне Жоржика Мингани, отец которого был на строительстве металлургического комбината в группе техспецов, приехавших из Италии, было остался в городе, женившись на Кате Иванцовой, но, как повторяла она, в самый раз спохватился и улизнул.
Прибежав обратно, мы сообщали Петьке о том, что происходит возле их будок. Если нам удавалось подслушать, что либо тот, либо другой собирается шугать нового голубя или пискунов из свежего выводка, мы стремглав мчались на конный двор. Петька давал нам турманов, лебедей, рябых, краснохвостых, желтых, бусых, и мы подтаскивали их, то есть, выдернув подол рубахи из-под ремня, выпускали их под стаю Мирхайдара и Жоржика. Когда голуби уводили с собой чужака и он вместе с ними кружил над конным двором, тут хмуроватый, медлительный Петька становился проворным. Он швырял из будки нелётных голубей, засидевшихся — выводили птенцов, отяжелели, отвыкли летать, — обдерганных, связанных в крыльях, даже пискунов, у которых еще не совсем отросли костыши. Потом он хватал их с земли, подбрасывал, они падали, треща перьями. Этот треск напоминал распадение молниевых разрядов. Наверно, из-за этого и казалось, что сам Петька, шуруя, выделяет электрический ток. Голуби, соскучившиеся за ночь о полете, тянули вверх. Но в конце концов на них действовало то, что Петька беспрестанно давал осадку, они начинали снижаться и садились рядом на пол — на подметённую землю. Петька бросал горсти зерна поближе к порогу, туда устремлялись голуби, чужак, поозиравшись, семенил к пшенице (и он не прочь полакомиться) и оказывался в будке, куда Петька загонял его вместе со своими голубями или забивал ладонью, когда он, вспорхнув с порога, хотел рвануть в высокую синь.
Однажды унесли Петькиных голубей. Тихо унесли. Запора не срывали, досок не выламывали. Отомкнули пудовый амбарный замок и опять закрыли, сложив голубей в мешок. Аккуратисты! Никто из голубятников не мог припомнить таких чисто работающих воров.
От зари до зари он топтался возле будки: лицо вскинуто вверх, кепка валяется на полу. Ждет, что придут его голуби — умные, натасканные, — везде выбрасывал их на дальних окраинах, и отовсюду прилетали. Связывай не связывай, обрывай не обрывай — придут. Пискуны и те наверняка придут. Неделя миновала, однако голуби не появлялись. Ни старые, ни молодые. А он все смотрел в небо от рассвета до заката. И тогда мы, кого презрительно дразнили «Петькиными шестерками», стали ездить и бродить по городу. Повезло лишь мне: я обнаружил пару краснохвостых и лебедей на Туковом поселке у голубятника по кличке Банан За Ухом (в действительности у него за ухом было родимое пятно, крупное и продолговатое). Ни слова не говоря, я достал из гнезд краснохвостых и лебедей и сунул за пазуху. Выйдя из балагана, я схватил стальной прут, и, покамест с оглядкой шагал до трамвая, мне пришлось отмахиваться от самого Банана За Ухом и от его приспешников.
Петька плакал, говорил, что разрешает мне в его отсутствие брать ключ от будки и выпускать голубей, а назавтра, когда мы осадили сахарно-белого чужака и попробовали схватить с пола: на пшеницу не позарился, а как только теснили к открытой двери, взлетел на конек будки, — но не сумели, то Петька обвинил в этом меня и толкнул плечом, чего раньше не позволял. Я ушел. Даже у барака слышался его несправедливый ор.
Вечером я выцыганил у матери червонец. Пришлось пообещать, что в новом учебном году добьюсь хорошей успеваемости и дисциплины, что не буду камнями спугивать голубей с барачной крыши и переплывать пруд том месте, где ширина около двух километров.
Поутру бабушка забрала меня и Саню Колыванова