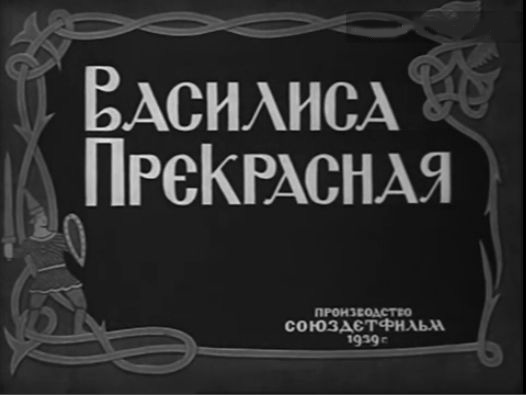Продолжаем разговор о фильмах, вернее эпизодах, которые были сняты в Сергиевом Посаде в разные годы.
Видели сказку «Василиса Прекрасная»?
Правда там нет ни одного кадра снятого в нашем городе, но тем не менее Сергиев Посад, тогда Загорск, имеет непосредственное отношение к созданию этого кино-шедевра.
Фильм снимался в далёком 1939 году, когда не было компьютеров и программ для создания спецэффектов. Тогда всё делалось ручками, комбинированными съемками, монтажом.
В «Василисе Прекрасной» есть захватывающие эпизоды сражения главного героя Иванушки со Змеем Горынычем.
«…Чудовищный ящер тоже был изобретением Роу. Александр Артурович обратился за помощью к знакомым мастерам из мастерских игрушек в Загорске, где и изготовили макет Змея в натуральную величину – 11 метров длиной и 5 метров высотой. Управлял этим страшилищем экипаж из двадцати человек – одни рабочие шевелили хвостом, другие размахивали крыльями и головами, третьи отвечали за дым и огненные искры. Даже на фоне заокеанского Кинг-Конга советский Змей Горыныч внушал ужас и трепет…» (Источник )
На Экспериментальном заводе игрушек в подмосковном Загорске было изготовлено несколько Змеев Горынычей разных размеров. Самого большого — длиной в несколько метров — везли на съемки в Ялту на четырех платформах. Когда его собрали, внутрь поместили 14 человек разного роста. В головах (Горыныч тот был о шести головах) могли поместиться только лилипуты. Сидевшие внутри двигались по команде — и многоглавое чудовище оживало! После долгих репетиций была назначена съемка. Режиссер дал команду, Сергей Столяров, игравший Иванушку, лихо пришпорил коня, держа наперевес длинную пику, и помчался на Змея Горыныча. Змей ожил, но тут испугался настоящий конь под актером! Он начал пятиться назад и наконец встал как вкопанный. Съемку пришлось прекратить. Целую неделю коня водили к Змею Горынычу, на пути рассыпали вкусную приманку — овес, сено, и конь постепенно перестал бояться ужасного чудища. (источник http://olch.name/page-114.html )
Но каким образом Наш НИИ игрушек получил подобный заказ?
Дело в том, что режиссер фильма Александр Артурович Роу вырос в нашем городе.
Он родился родился 8 марта 1906 года в городе Юрьевец Костромской губернии (ныне — Ивановская область). Хотя некоторые источники ошибочно указывают на место его рождения в Сергиевом Посаде.
Его отцом был ирландец Артур Роу (Rowe), который был приглашён в Российскую империю работать инженером как специалист по мукомольной технике и вернулся на родину в 1914 году, оставив в России семью без средств к существованию. Семья переехала в провинциальный городок Сергиев поближе к родственникам матери. Беззаботное детство окончилось для Александра в 10 лет. Мама Александра тяжело болела, и Саша взвалил на свои хрупкие плечи непосильный груз забот. (http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=130 )
К февралю 1917 года одиннадцатилетний Александр Роу успел научиться торговать спичками и гребешками, которыми его снабжали ремесленники-кустари, окончить семилетку, и накопить денег для дальнейшей учебы. Мальчик вращался в сомнительных слоях общества, кормил больную мать – словом, пребывал в самой гуще бедняцкой жизни. По совету матери он поступил в промышленно-экономический техникум, но его влекло искусство, и вскоре он стал студентом киношколы Бориса Чайковского, которую окончил в 1930 году.
А с 1931 по 1934 годы Александр Роу учился в Драматическом техникуме имени Ермоловой.
С 1930 года Александр Роу работал на киностудии «Межрабпомфильм» ассистентом у Якова Протазанова на съёмках фильмов «Марионетки» (1934) и «Бесприданница» (1937) и у других режиссёров.
С 1937 года — режиссёр киностудии «Союздетфильм» (затем — киностудии имени М. Горького).
Первая самостоятельная режиссёрская работа — фильм-сказка «По щучьему веленью» (1938). Именно сказочное кино для всех возрастов стало основной темой его творчества. (http://eternaltown.com.ua/content/view/5855/2/ )
С 1921 года руководил коллективом художественной самодеятельности, «Живой газетой» и агитбригадами «Синей блузы» в Москве. В 1930 году окончил актерское отделение киношколы им. Бориса Чайковского. В 1931-1934 учился в Московском драматическом техникуме имени Ермоловой. В кино пришел в 1930 году, в качестве помощника и ассистента режиссера киностудии «Межрабпомфильм». Был ассистентом Якова Протазанова (фильмы «Марионетки» и «Бесприданница» ), Владимира Легошина («Белеет парус одинокий»).
С 1937 работал уже как режиссер на киностудии имени Горького.
Своим творчеством Роу расширил жанровые границы киносказки, сняв лирическую драму «Василиса Прекрасная» (1939) и картину «с элементами военно-приключенческого фильма» — «Кащей Бессмертный» (1944).
В 1961 году Александру Роу было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 1968 году — народного артиста РСФСР.
В 60-х годах, когда Александр Роу уже был известным режиссером, с ним связался его двоюродный брат, ирландец Дэвид Роу, чтобы передать наследство, которое всем своим потомкам завещал его дед. Хотя Дэвид Роу хотел узнать Александра поближе, он не стал настаивать на встрече, так как боялся, что связи с Западом могут повредить карьере режиссера. Александр Роу умер в 1973 году, так и не повстречав своих ирландских родственников. В 2010 году Дэвид Роу, благодаря знакомству с историком культуры Ольгой Зиновьевой, которая изучала творчество Роу, побывал в России и посетил места, связанные с русским режиссером, а также встретился со знавшими его людьми. ( http://rus.ruvr.ru/2011/11/09/60110678.html )
Александр Роу скончался 28 декабря 1973 года в Москве. Уже после его смерти по написанному им сценарию Геннадием Васильевым был снят фильм «Финист — Ясный Сокол» (1975).
Похоронен в Москве на Бабушкинском кладбище.
Подробнее о биографии Роу здесь http://www.ruvek.ru/?module=articles&action=view&id=5943®ion=553
Еще интересный факт. Александр Роу снимал фильмы в «3D» уже тогда))), хотя правильнее, все-таки, называть это стереоскопическими фильмами.
Для показа в современных кинотеатрах переводить киноленты в трехмерный формат не потребовалось. Александр Роу еще в сороковых годах прошлого столетия одним из первых снимал «объемное кино» (в это время создан документальный фильм «День чудесных превращений»). В Советском союзе его называли стереоскопическим. Специальные кинотеатры, показывая некоторые кино-сказки Роу, также выдавали особенные очки. (http://www.37.ru/news/kultura/26161/ )
Фильмы-сказки Роу — гордость нашего кино. Чудеса в них творились безо всяких новомодных компьютерных спецэффектов, с помощью простых макетов и комбинированных съемок. И сколько в этом было изобретательности и фантазии! Зрители до сих пор ломают голову, разгадывая их. Оказывается, деревянная избушка Бабы-яги в «Морозко», построенная в заполярном лесу под Мурманском, приводилась в действие специальными рычагами, а вторая, танцующая, была сделана из поролона, как и «ожившие» трухлявые пни… Методом обратной съемки «сами собой» ходили ведра и двигались самоходные сани в фильме «По щучьему велению» и «Морозко», а герой Александра Хвыли покрывал инеем деревья…(http://www.unikino.ru/component/k2/item/2982.html )
Режиссер Спилберг называл Роу своим учителем по части киночудес. К слову сказать, когда фильм «Морозко» вышел в прокат в США, Стивен Спилберг назвал его предтечей многих шедевров Голливуда.
(начало темы в блогах http://www.sergiev.ru/blog/pugovka/filmy-kotorye-snimalis-v-sergievom-po…
http://www.sergiev.ru/blog/pugovka/filmy-kotorye-snimalis-v-sergievom-po…
http://www.sergiev.ru/blog/pugovka/filmy-kotorye-snimalis-v-sergievom-po…)
«Оригинальное название: Василиса Прекрасная Год выпуска: 1939
Выпущено: СССР, Союздетфильм, Киностудия им. М. Горького
Режиссер: Александр Роу
В ролях: Георгий Милляр, Никита Кондратьев, Лев Потёмкин, Сергей Столяров, Ирина Зарубина, Лидия Сухаревская, Татьяна Барышева, Мария Барабанова, Валентина Сорогожская
О фильме: Любимый фильм нескольких поколений детей, снятый по мотивам русских народных сказок, который расскажет маленьким зрителям о том, как любовь, отвага и смекалка доброго молодца Ивана помогают одолеть колдовские силы… Итак, давным-давно, в тридевятом царстве, тридесятом государстве было у отца три сына… Двое старших Антон и Агафон, выбрали себе обычных невест в жены, а младший , Иванушка, принес домой лягушку болотную. Отец удивился, но ничего не сказал. А лягушка та была заколдованной Змеем Горынычем прекрасной девушкой Василисой. Отказалась Василиса выйти замуж за чудовище, и от обратил ее в лягушку. Но Иванушка не отказался от своей любви. Много преград ему пришлось преодолеть, чтобы вернуть Василисе прежний облик и уничтожить трехглавого Змея Горыныча…»
ЧИТАЕМ:
«В некотором царстве жил-был купец. Двенадцать лет жил он в супружестве и прижил только одну дочь, Василису Прекрасную. Когда мать скончалась, девочке было восемь лет. Умирая, купчиха призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куклу, отдала ей и сказала:
— Слушай, Василисушка! Помни и исполни последние мои слова. Я умираю и вместе с родительским благословением оставляю тебе вот эту куклу; береги ее всегда при себе и никому не показывай; а когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси у нее совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью.
Василиса, ее мать и отец
Затем мать поцеловала дочку и померла.
После смерти жены купец потужил, как следовало, а потом стал думать, как бы опять жениться. Он был человек хороший; за невестами дело не стало, но больше всех по нраву пришлась ему одна вдовушка. Она была уже в летах, имела своих двух дочерей, почти однолеток Василисе, — стало быть, и хозяйка, и мать опытная. Купец женился на вдовушке, но обманулся и не нашел в ней доброй матери для своей Василисы. Василиса была первая на все село красавица; мачеха и сестры завидовали ее красоте, мучили ее всевозможными работами, чтоб она от трудов похудела, а от ветру и солнца почернела; совсем житья не было!
Василиса все переносила безропотно и с каждым днем все хорошела и полнела, а между тем мачеха с дочками своими худела и дурнела от злости, несмотря на то, что они всегда сидели сложа руки, как барыни. Как же это так делалось? Василисе помогала ее куколка. Без этого, где бы девочке сладить со всею работою! Зато Василиса сама, бывало, не съест, а уж куколке оставит самый лакомый кусочек, и вечером, как все улягутся, она запрется в чуланчике, где жила, и потчевает ее, приговаривая:
— На, куколка, покушай, моего горя послушай! Живу я в доме у батюшки, не вижу себе никакой радости; злая мачеха гонит меня с белого света. Научи ты меня, как мне быть и жить и что делать?
Василиса Прекрасная и ее куколка
Куколка покушает, да потом и дает ей советы и утешает в горе, а наутро всякую работу справляет за Василису; та только отдыхает в холодочке да рвет цветочки, а у нее уж и гряды выполоты, и капуста полита, и вода наношена, и печь вытоплена. Куколка еще укажет Василисе и травку от загару. Хорошо было жить ей с куколкой.
Прошло несколько лет; Василиса выросла и стала невестой. Все женихи в городе присватываются к Василисе; на мачехиных дочерей никто и не посмотрит. Мачеха злится пуще прежнего и всем женихам отвечает:
— Не выдам меньшой прежде старших! А проводя женихов, побоями вымещает зло на Василисе. Вот однажды купцу понадобилось уехать из дому на долгое время по торговым делам. Мачеха и перешла на житье в другой дом, а возле этого дома был дремучий лес, а в лесу на поляне стояла избушка, а в избушке жила баба-яга; никого она к себе не подпускала и ела людей, как цыплят. Перебравшись на новоселье, купчиха то и дело посылала за чем-нибудь в лес ненавистную ей Василису, но эта завсегда возвращалась домой благополучно: куколка указывала ей дорогу и не подпускала к избушке бабы-яги.
Пришла осень. Мачеха раздала всем трем девушкам вечерние работы: одну заставила кружева плести, другую чулки вязать, а Василису прясть. Погасила огонь во всем доме, оставила только одну свечку там, где работали девушки, и сама легла спать. Девушки работали. Вот нагорело на свечке; одна из мачехиных дочерей взяла щипцы, чтоб поправить светильню, да вместо того, по приказу матери, как будто нечаянно и потушила свечку.
— Что теперь нам делать? — говорили девушки. — Огня нет в целом доме. Надо сбегать за огнем к бабе-яге!
— Мне от булавок светло! — сказала та, что плела кружево. — Я не пойду.
— И я не пойду, — сказала та, что вязала чулок. — Мне от спиц светло!
— Тебе за огнем идти, — закричали обе. — Ступай к бабе-яге! И вытолкали Василису из горницы.
Василиса пошла в свой чуланчик, поставила перед куклою приготовленный ужин и сказала:
— На, куколка, покушай да моего горя послушай: меня посылают за огнем к бабе-яге; баба-яга съест меня!
Куколка поела, и глаза ее заблестели, как две свечки.
— Не бойся, Василисушка! — сказала она. — Ступай, куда посылают, только меня держи всегда при себе. При мне ничего не станется с тобой у бабы-яги.
Василиса собралась, положила куколку свою в карман и, перекрестившись, пошла в дремучий лес.
Василиса идет через лес
Идет она и дрожит. Вдруг скачет мимо ее всадник: сам белый, одет в белом, конь под ним белый, и сбруя на коне белая, — на дворе стало рассветать.
Идет она дальше, как скачет другой всадник: сам красный, одет в красном и на красном коне, — стало всходить солнце.
Василиса прошла всю-ночь и весь день, только к следующему вечеру вышла на полянку, где стояла избушка яги-бабы; забор вокруг избы из человечьих костей, на заборе торчат черепа людские с глазами; вместо дверей у ворот — ноги человечьи, вместо запоров — руки, вместо замка — рот с острыми зубами.
Василиса вышла к избе Бабы Яги
Василиса обомлела от ужаса и стала как вкопанная. Вдруг едет опять всадник: сам черный, одет во всем черном и на черном коне; подскакал к воротам бабы-яги и исчез, как сквозь землю провалился, — настала ночь. Но темнота продолжалась недолго: у всех черепов на заборе засветились глаза, и на всей поляне стало светло, как среди дня. Василиса дрожала со страху, но, не зная, куда бежать, оставалась на месте.
Скоро послышался в лесу страшный шум: деревья трещали, сухие листья хрустели; выехала из лесу баба-яга — в ступе едет, пестом погоняет, помелом след заметает.
Баба Яга в ступе
Подъехала к воротам, остановилась и, обнюхав вокруг себя, закричала:
— Фу, фу! Русским духом пахнет! Кто здесь?
Василиса подошла к старухе со страхом и, низко поклонясь, сказала:
— Это я, бабушка! Мачехины дочери прислали меня за огнем к тебе.
Василиса кланяется Бабе Яге
— Хорошо, — сказала баба-яга, — знаю я их, поживи ты наперед да поработай у меня, тогда и дам тебе огня; а коли нет, так я тебя съем! Потом обратилась к воротам и вскрикнула:
— Эй, запоры мои крепкие, отомкнитесь; ворота мои широкие, отворитесь!
Ворота отворились, а баба-яга въехала, посвистывая, за нею вошла Василиса, а потом опять все заперлось.
Войдя в горницу, баба-яга растянулась и говорит Василисе:
— Подавай-ка сюда, что там есть в печи: я есть хочу. Василиса зажгла лучину от тех черепов, что на заборе, и начала таскать из печки да подавать яге кушанье, а кушанья настряпано было человек на десять; из погреба принесла она квасу, меду, пива и вина. Все съела, все выпила старуха; Василисе оставила только щец немножко, краюшку хлеба да кусочек поросятины. Стала яга-баба спать ложиться и говорит:
— Когда завтра я уеду, ты смотри — двор вычисти, избу вымети, обед состряпай, белье приготовь да пойди в закром, возьми четверть пшеницы и очисть ее от чернушки. Да чтоб все было сделано, а не то — съем тебя!
После такого наказу баба-яга захрапела; а Василиса поставила старухины объедки перед куклою, залилась слезами и говорила:
— На, куколка, покушай, моего горя послушай! Тяжелую дала мне яга-баба работу и грозится съесть меня, коли всего не исполню; помоги мне!
Кукла ответила:
— Не бойся, Василиса Прекрасная! Поужинай, помолися да спать ложися; утро мудреней вечера!
Василиса спит
Ранешенько проснулась Василиса, а баба-яга уже встала, выглянула в окно: у черепов глаза потухают; вот мелькнул белый всадник — и совсем рассвело.
Избушка Бабя Яги
Баба-яга вышла на двор, свистнула — перед ней явилась ступа с пестом и помелом. Промелькнул красный всадник — взошло солнце. Баба-яга села в ступу и выехала со двора, пестом погоняет, помелом след заметает.
Баба Яга летит в ступе
Осталась Василиса одна, осмотрела дом бабы-яги, подивилась изобилью во всем и остановилась в раздумье: за какую работу ей прежде всего приняться. Глядит, а вся работа уже сделана; куколка выбирала из пшеницы последние зерна чернушки.
— Ах ты, избавительница моя! — сказала Василиса куколке. — Ты от беды меня спасла.
— Тебе осталось только обед состряпать, — отвечала куколка, влезая в карман Василисы. — Состряпай с богом, да и отдыхай на здоровье!
К вечеру Василиса собрала на стол и ждет бабу-ягу. Начало смеркаться, мелькнул за воротами черный всадник — и совсем стемнело; только светились глаза у черепов. Затрещали деревья, захрустели листья — едет баба-яга. Василиса встретила ее.
— Все ли сделано? — спрашивает яга.
— Изволь посмотреть сама, бабушка! — молвила Василиса.
Баба-яга все осмотрела, подосадовала, что не за что рассердиться, и сказала:
— Ну, хорошо! Потом крикнула
— Верные мои слуги, сердечные други, смолите мою пшеницу!
Явились три пары рук, схватили пшеницу и унесли вон из глаз. Баба-яга наелась, стала ложиться спать и опять дала приказ Василисе:
— Завтра сделай ты то же, что и нынче, да сверх того возьми из закрома мак да очисти его от земли по зернышку, вишь, кто-то по злобе земли в него намешал!
Сказала старуха, повернулась к стене и захрапела, а Василиса принялась кормить свою куколку.
Василиса и ее куколка
Куколка поела и сказала ей по-вчерашнему:
— Молись богу да ложись спать: утро вечера мудренее, все будет сделано, Василисушка!
Наутро баба-яга опять уехала в ступе со двора, а Василиса с куколкой всю работу тотчас исправили. Старуха воротилась, оглядела все и крикнула:
— Верные мои слуги, сердечные други, выжмите из маку масло! Явились три пары рук, схватили мак и унесли из глаз. Баба-яга села обедать; она ест, а Василиса стоит молча.
— Что ж ты ничего не говоришь со мною? — сказала баба-яга. — Стоишь как немая?
— Не смела, — отвечала Василиса, — а если позволишь, то мне хотелось бы спросить тебя кой о чем.
— Спрашивай; только не всякий вопрос к добру ведет: много будешь знать, скоро состаришься!
— Я хочу спросить тебя, бабушка, только о том, что видела: когда я шла к тебе, меня обогнал всадник на белом коне, сам белый и в белой одежде: кто он такой?
— Это день мой ясный, — отвечала баба-яга.
— Потом обогнал меня другой всадник на красном коне, сам красный и весь в красном одет; это кто такой?
— Это мое солнышко красное! — отвечала баба-яга.
— А что значит черный всадник, который обогнал меня у самых твоих ворот, бабушка?
— Это ночь моя темная — всё мои слуги верные! Василиса вспомнила о трех парах рук и молчала.
— Что ж ты еще не спрашиваешь? — молвила баба-яга.
— Будет с меня и этого; сама ж ты, бабушка, сказала, что много узнаешь — состаришься.
— Хорошо, — сказала баба-яга, — что ты спрашиваешь только о том, что видала за двором, а не во дворе! Я не люблю, чтоб у меня сор из избы выносили, и слишком любопытных ем! Теперь я тебя спрошу: как успеваешь ты исполнять работу, которую я задаю тебе?
— Мне помогает благословение моей матери, — отвечала Василиса.
— Так вот что! Убирайся же ты от меня, благословенная дочка! Не нужно мне благословенных.
Вытащила она Василису из горницы и вытолкала за ворота, сняла с забора один череп с горящими глазами и, наткнув на палку, отдала ей и сказала:
Бабя Яга
— Вот тебе огонь для мачехиных дочек, возьми его; они ведь за этим тебя сюда и прислали.
Василиса идет домой к мачехи
Бегом пустилась Василиса при свете черепа, который погас только с наступлением утра, и наконец к вечеру другого дня добралась до своего дома. Подходя к воротам, она хотела было бросить череп: “Верно, дома, — думает себе, — уж больше в огне не нуждаются”. Но вдруг послышался глухой голос из черепа:
— Не бросай меня, неси к мачехе!
Она взглянула на дом мачехи и, не видя ни в одном окне огонька, решилась идти туда с черепом. Впервые встретили ее ласково и рассказали, что с той поры, как она ушла, у них не было в доме огня: сами высечь никак не могли, а который огонь приносили от соседей — тот погасал, как только входили с ним в горницу.
— Авось твой огонь будет держаться! — сказала мачеха. Внесли череп в горницу; а глаза из черепа так и глядят на мачеху и ее дочерей, так и жгут! Те было прятаться, но куда ни бросятся — глаза всюду за ними так и следят; к утру совсем сожгло их в уголь; одной Василисы не тронуло.
Поутру Василиса зарыла череп в землю, заперла дом на замок, пошла в город и попросилась на житье к одной безродной старушке; живет себе и поджидает отца. Вот как-то говорит она старушке:
— Скучно мне сидеть без дела, бабушка! Сходи, купи мне льну самого лучшего; я хоть прясть буду.
Старушка купила льну хорошего; Василиса села за дело, работа так и горит у нее, и пряжа выходит ровная да тонкая, как волосок. Набралось пряжи много; пора бы и за тканье приниматься, да таких берд не найдут, чтобы годились на Василисину пряжу; никто не берется и сделать-то. Василиса стала просить свою куколку, та и говорит:
— Принеси-ка мне какое-нибудь старое бердо, да старый челнок, да лошадиной гривы; я все тебе смастерю.
Василиса добыла все, что надо, и легла спать, а кукла за ночь приготовила славный стан.
Василиса прядет
К концу зимы и полотно выткано, да такое тонкое, что сквозь иглу вместо нитки продеть можно. Весною полотно выбелили, и Василиса говорит старухе:
— Продай, бабушка, это полотно, а деньги возьми себе. Старуха взглянула на товар и ахнула:
— Нет, дитятко! Такого полотна, кроме царя, носить некому; понесу во дворец.
Пошла старуха к царским палатам да все мимо окон похаживает. Царь увидал и спросил:
— Что тебе, старушка, надобно?
— Ваше царское величество, — отвечает старуха, — я принесла диковинный товар; никому, окроме тебя, показать не хочу.
Царь приказал впустить к себе старуху и как увидел полотно — удивился.
— Что хочешь за него? — спросил царь.
— Ему цены нет, царь-батюшка! Я тебе в дар его принесла.
Поблагодарил царь и отпустил старуху с подарками.
Стали царю из того полотна сорочки шить; вскроили, да нигде не могли найти швеи, которая взялась бы их работать. Долго искали; наконец царь позвал старуху и сказал:
— Умела ты напрясть и соткать такое полотно, умей из него и сорочки сшить.
— Не я, государь, пряла и соткала полотно, — сказала старуха, — это работа приемыша моего — девушки.
— Ну так пусть и сошьет она!
Воротилась старушка домой и рассказала обо всем Василисе.
— Я знала, — говорит ей Василиса, — что эта работа моих рук не минует.
Заперлась в свою горницу, принялась за работу; шила она не покладаючи рук, и скоро дюжина сорочек была готова.
Старуха понесла к царю сорочки, а Василиса умылась, причесалась, оделась и села под окном. Сидит себе и ждет, что будет. Видит: на двор к старухе идет царский слуга; вошел в горницу и говорит:
— Царь-государь хочет видеть искусницу, что работала ему сорочки, и наградить ее из своих царских рук.
Пошла Василиса и явилась пред очи царские. Как увидел царь Василису Прекрасную, так и влюбился в нее без памяти.
— Нет, — говорит он, — красавица моя! Не расстанусь я с тобою; ты будешь моей женою.
Тут взял царь Василису за белые руки, посадил ее подле себя, а там и свадебку сыграли. Скоро воротился и отец Василисы, порадовался об ее судьбе и остался жить при дочери. Старушку Василиса взяла к себе, а куколку по конец жизни своей всегда носила в кармане».
https://nukadeti.ru/skazki/vasilisa_prekrasnaya
08.01.23
06.05
-
Новые лица
-
Медиа в ЖЖ
-
#встречаемновыйгод
-
#зимавместе
-
Коротко
-
Видео
-
путешествия
-
психология
-
Еда
-
дети
-
Кино
-
Ещё
-
Ещё
ЖЖ рекомендует
Как мог выглядеть Леонардо да Винчи в реальности
По описаниям Леонардо был высок, строен и так прекрасен лицом, что его называли ангелом
Она в два раза больше синего кита. Интересные факты о гигантской медузе цианее
Первый шаг в отношениях
Мужчины, к сожалению, часто не понимают намёки, а женщины не хотят быть «липкими»
«Всевидящее око»: не Гоголь, но По
На Netflix вышел готический детектив с Кристианом Бэйлом в главной роли
Килограмм яблок — примерно 5 штук
О двух способах продажи фруктов и овощей в Мексике
Дом повредило снегопадом — можно ли получить страховую выплату
Родительство, скорбь и поэзия. 10 лучших драм года
Больше записей






Делаем вывод. «Василиса Прекрасная» и «Кащей Бессмертный» — ярко выраженный пример сказочного хоррора, который, как явление, так и не получил развития в Советском Союзе. Страшные вещи советским детям показывать боялись, и по этой причине более поздние киносказки превращались в балаган, где взрослые режиссеры и актеры пытались угодить детишкам, разыгрывая сказку, лишенную драматического стержня, потому что страшное, как правило, он и есть. Лишь в 1982 году Александр Митта попытался сделать прорыв своей гениальной «Сказкой странствий», но это мало помогло. На излете восьмидесятых авторитет сказки уже был подорван, выросло совсем новое поколение, частично уже взращенное видеосалонами, и оно хотело и желало бояться. А в советской киносказке до конца восьмидесятых по-прежнему царил балаган. И в этом плане ранние фильмы Роу по-прежнему остаются отличным примером жанра сказочного хоррора, к сожалению — единичными образцами.
Страница фильма «Василиса Прекрасная» в КЛУБ-КРИКе
Застали вы Советский Союз или нет, советские фильмы-сказки вы смотрели наверняка. Если нет — бросайте «Нетфликс» и срочно начинайте смотреть, потому что вы сами не знаете, что пропускаете.
Ценность отечественных киносказок не только в том, что они экранизировали народные сказки, былины и произведения русской литературы. На заре становления в советских лентах использовали новаторские приёмы, которых ещё не знал кинематограф. Жанр хоррора в СССР официально не существовал, но некоторые сказки подошли к нему достаточно близко, позволяя зрителю испытать ощущение сладкого ужаса. В сказках блистали красавцы и красавицы, в которых влюблялись зрители со всего Союза, начинали карьеру прекрасные актёры и звучали песни, которые распевали миллионы зрителей.
Если в кинематографе других стран сказка традиционно считалась детским жанром, то советские сказки — далеко не всегда семейное кино. VATNIKSTAN рассказывает об этом жанре с его бесценным наследием, которое до сих пор используют режиссёры.
Пушкин, Гулливер и визуальные эффекты
В 1937 году в СССР с размахом отмечали юбилей Пушкина, и кинематограф внёс свой вклад в празднование. Развитие кинотехнологий, в частности, техники комбинированной съёмки, позволяло обратиться к теме волшебства, которое уже можно было достоверно изобразить на экране. «Мосфильм» сделал ставку на недавнего выпускника Института кинематографии и ученика Сергея Эйзенштейна — Виктора Невежина. Тот обратился к Ивану Никитченко, который сделал немало для обогащения изобразительных возможностей всего мирового кинематографа.
В 1938 году они вместе поставили «Руслана и Людмилу» с актёром Сергеем Столяровым в главной роли — звездой комедии Григория Александрова «Цирк». Столярову, которому власти по несправедливым наветам вынесли статус «неблагонадёжного», была закрыта дорога в реалистичное кино о современной жизни СССР. Сказочный фильм дал ему возможность снова появиться на экране и превратиться во всесоюзного кумира. Экранный образ Столярова стал классическим воплощением русского былинного богатыря: высокий статный светловолосый красавец с копной кудрей и добродушной улыбкой, которая быстро сменяется решительностью и даже яростью при нападении врагов.
«Руслан и Людмила» — по сути, экспериментальный, авангардный фильм. Актёры не произносят реплик, весь текст отдан закадровому голосу. При этом артисты играют современно, без аффектировано-театральных манер немого кино. Для фильма была использована музыка из одноимённой оперы Глинки.
Существует версия, что финальной версией монтажа занимался сам Эйзенштейн, на которого картина произвела большое впечатление. Специализирующийся на творчестве мэтра киновед Наум Клейман отмечает цитирование Эйзенштейном некоторых сцен из «Руслана и Людмилы» в его шедевре «Александр Невский», где образ героического князя перекликается с былинными персонажами Столярова из сказочных фильмов.
Новаторские эффекты «Руслана и Людмилы» повлияли и на творчество прославленного режиссёра-сказочника Александра Птушко. Он начинал как аниматор и навсегда сохранил любовь к кукле. В 1935 году Птушко поставил «Нового Гулливера» по мотивам романа Джонатана Свифта, которого в СССР не без оснований позиционировали как острого политического писателя. Сатирическая комедия Птушко, в которой советский мальчик-Гулливер попадает в буржуазную страну, стала первым в мировом кинематографе полнометражным анимационным фильмом и первым фильмом, в котором участвовали куклы и живой актёр.
Техническое новаторство Птушко поразило воображение зрителей. Раньше нельзя было представить кинокартину с такими грандиозными массовыми сценами, в которых участвовали бы куклы, казавшиеся в фильме Птушко совершенно живыми. Песня «Моя лилипуточка» разнеслась по всей стране.
Дочь режиссёра Наталия Птушко писала, намекая на Сталина:
«В нашей стране был один Гулливер, и ему фильм понравился».
Несмотря на то что фильм вышел лозунговый, пропагандирующий коммунистическую идеологию, его чудеса покорили Запад — он с огромным успехом прошёл в американском прокате, и о нём восторженно отзывался сам Чарли Чаплин. Искусство оказалось сильнее политики.
В 1936 году вышла и тут же обрела огромную популярность повесть Алексея Толстого о Буратино. Через три года Птушко поставил «Золотой ключик», изменив многие сюжетные линии книги в сторону политичности. И вновь режиссёр экспериментировал с технологиями: фильм снят одновременно как игровой и мультипликационный. В одних сценах с персонажами-людьми снимались актёры в «кукольных» костюмах, при этом Птушко удавалось добиться иллюзии разницы в росте за счёт совмещения дальнего и ближнего планов. Подобный приём пытался применить Джексон в «Братстве кольца» в сцене битвы с троллем, и стоит отметить, что у Птушко это получилось даже лучше.
Птушко лично придумал множество изобретений для развития анимации и визуальных эффектов в кино, позволявшие создавать настоящее экранное волшебство и мультипликационный объём задолго до эры компьютерных эффектов и 3D. Его методика по созданию объёмной анимации легла в основу чешской мультипликации, которая начала активно развиваться с 1950‑х годов, тогда как в СССР, к сожалению, так и не была создана школа мультипликаторов-объёмщиков.
Фэнтезийные миры Птушко необыкновенно богаты, прихотливы, «предметны» и отличаются редкой красотой. Любая деталь, попадающая в кадр, заслуживает изучения. Трудно представить, что «Каменный цветок» (1946) по сказке Бажова был снят всего через год после окончания войны. Миниатюрная женщина-ящерица в блестящей «шкурке», изысканный малахитовый цветок-чаша, сокровища в сказочной пещере Хозяйки Медной горы, её меняющиеся в каждой сцене наряды и великолепные украшения — на создание подобной роскоши, кажется, должны были уйти годы!
Для масштабных постановок Птушко требовались большие бюджеты. Но в них «Мосфильм» никогда ему не отказывал, что позволило режиссёру снять в 1952 году эпичную сагу «Садко». Размах, который демонстрировался в этом фильме, на тот момент не снился западному кинематографу.
Великий Новгород, словно по волшебству перенесённый назад во времени, с белокурой славянской красавицей Любавой, сыгранной популярнейшей актрисой Аллой Ларионовой. Подводное царство с морскими чудищами и печальной Ильмень-царевной уже не славянской, а какой-то сказочной, эльфийской красоты (её роль исполнила ещё не такая известная артистка Нинель Мышкова).
Наконец, Индия с огромными храмами, слонами, золотыми статуями и самым экзотическим созданием, появлявшимся на тот момент на советском экране, — птицей Феникс, сыгранной Лидией Вертинской, которая появилась в фильме в первой яркой роли. Птушко одним из первых советских режиссёров не чурался «кассовости» за счёт привлечения актрис, чья внешность сама по себе была спецэффектом.
Новгородский флот, битва с варягами, бегство на морском коньке, великолепные костюмы, птица с женской головой… Мир был потрясён грандиозностью и красотой советской сказки. Сыгравший Садко 40-летний Сергей Столяров стал звездой мирового масштаба. На Венецианском кинофестивале его внесли в список лучших актёров мира за 50 лет истории кино, а фильму присудили «Серебряного льва». «Садко» стал одной из первых картин-сказок, получивших международную фестивальную награду, что вообще большая редкость для фантастических фильмов.
Режиссёр Роджер Корман был так впечатлён советской сказкой, что в обход авторских прав сделал английский дубляж фильма и выпустил его в прокат под названием «Волшебное путешествие Синдбада». При этом он урезал хронометраж, поменял имена героев на английские и придал фильму легкомысленное звучание. Сценарий адаптации написал никто иной, как 23-летний Фрэнсис Форд Коппола. Подобное безобразие Корман проделал с ещё одним фэнтези-эпиком Птушко — «Сампо» (1959), снятым по мотивам «Калевалы» совместно с финнами. В западный прокат картина вышла под очень американским названием «День, когда Земля замёрзла». В «Сампо», с его ледяными пещерами, морскими бурями, волшебным огнём, гигантским светящимся кристаллом и настоящим северным сиянием, вновь ощущался свойственный Птушко размах.
Но самым масштабным фильмом великого сказочника, пожалуй, стоит считать «Илью-Муромца» — снятый в 1956 году первый советский широкоэкранный фильм. В нём не только появлялся огромный великан Святогор, а русский богатырь в исполнении Бориса Андреева бился с гигантским Змеем-Горынычем, но и состоялось сражение, самое близкое по масштабу к грандиозной битве при Минас-Тирите, которая в будущем поразит мир во «Властелине колец» — нашествие многотысячной тугарской орды. Все эти великие тысячи всадников и пеших воинов под бегущими по ясному небу быстрыми облаками сыграли относительно немногочисленные статисты: изображение тысячи человек снимали с помощью специальной множественной зеркальной приставки. С помощью этого приёма были показаны и поражённые в сражении враги: это настоящая гора трупов, по которой победно скачет Илья. Снято было с таким техническим мастерством, что позволило обмануть экспертов, и очень долго считалось, что в массовке Птушко участвовало 104 тысячи человек.
В 1964 году, уже при оттепели, Птушко снимает «Сказку о потерянном времени» — единственный его фильм на современном материале, в несвойственном ему минимализме. Фильм получился не таким зловещим, как повесть Евгения Шварца, хотя собрание сухо бубнящих себе под нос старичков-колдунов в затянутом мерцающей паутиной волшебном лесу до сих пор способно вызвать лёгкую дрожь. В картине снялся целый букет блестящих комических актёров, включая Рину Зелёную и Георгия Вицина.
На излёте жизни Птушко обращается к Пушкину, как очень уважаемые им, но недооценённые в советском кино Никитченко и Невежин. Двухсерийный фильм «Руслан и Людмила» (1972) режиссёр снимал уже глубоко больным, но многие считают его вершиной творчества мастера.
Фильм недаром был заявлен Мосфильмом как «национальный проект». Масштаб и сложность работ над фильмом поражают. Список специальных конструкций, созданных для съёмок, насчитывает сотню пунктов. Это не только отдельные механизмы, но и целые комплексы инженерных объектов. Над деталями аллеи в саду Черномора три месяца работал скульптор, а над мумиями «вздыбленных коней» трудился специально приглашённый скульптор-лошадник. Другие скульптуры изготавливал сам Птушко, который зачастую занимался этим для души в перерывах между съёмками. Созданием стеклянных рыбок и застывших фонтанов в садах занимался мастер-стеклодув. Художник-мультипликатор делал прорисовки 15–16 тысяч фаз Руслана, скачущего по воздуху на коне. Реквизит пополняли предметы из самых диковинных материалов: кораллы, кокосовые орехи, ракушки, моржовые бивни… Битва с печенегами вышла почти «в натуральную величину»: в ней задействованы две тысячи статистов.
«Руслан и Людмила» — один самых впечатляющих «спецэффектных» фильмов, снятых до эры CGI. Он заставляет задуматься: как только это делали раньше, без графики? Вот так и делали — колоссальным трудом, с поистине сказочными усилиями и воображением, в котором больше волшебства, чем в современном зелёном экране с компьютерными эффектами. Рисованное волшебство заметно уступает «предметному». Плоские миры современных фильмов-фэнтези заметно проигрывают советским сказкам, в которых создавались рукотворные чудеса.
Официальная нечистая сила СССР
Александр Птушко любил мужественных героев богатырского телосложения, ярких и экзотических красавиц. Герои другого великого режиссёра-сказочника Александра Роу — выходцы не из того народа, который с плакатов, а скорее из того, который из общественного транспорта. Его добры молодцы похожи на обычных парней, пьющих пиво после смены, а красны девицы земные или нестандартной внешности, как живая аниме Наталья Седых, сыгравшая в двух его фильмах. К тому же Роу явно предпочитал отрицательных персонажей — в его лентах они всегда затмевают положительных. Роу ввёл в советские киносказки трикстеров и антигероев, задорных и лихих персонажей вместо эпичных богатырей и томных красавиц.
Сказки Роу отличает юмор всех сортов и видов: ирония, фарс, иногда балаганщина в лучшем смысле, то есть юмор ярмарок, скоморохов и площадных театров. Играет весёлая музыка, много гэгов, забавных ситуаций и других элементов комедии. Декорации и обстановка нарочито просты, иногда даже условны, и Роу никогда не делает ставку на визуальные эффекты. Птушко стремился сделать сказку максимально непохожей на жизнь, Роу придавал ей черты реализма, что больше свойственно современному постмодернистскому кино.
Роу начинал с пионером российского кинематографа Яковом Протазановым, с которым работал помощником режиссёра над несколькими картинами. Его первой самостоятельной работой стала сказка «По щучьему веленью» (1938), в основу которой легли сразу три народные сказки. И с этого же фильма началось многолетнее сотрудничество режиссёра с великим характерным актёром Георгием Милляром. В «По щучьему велению» он сыграл противного царя Гороха с таким комическим блеском, что сразу же всем запомнился и полюбился.
В следующем фильме Роу «Василиса Прекрасная» (1940), где доброго молодца играл Столяров, Милляр, словно в противовес эпическому пафосу, с которым ассоциировался звёздный актёр, впервые предстал в образе Бабы-Яги. Поначалу Роу хотел брать актрису, подумывая о Фаине Раневской, но Милляр его отговорил. Актёр рассказывал об источнике своего вдохновения:
«В Ялте я старушку увидел — коз пасла на Чайной горке. Старая-престарая гречанка, сгорбленная, нос крючком, недобрый взгляд, в руках короткая палочка. Чем не Баба-яга? А ещё обильный материал мне дала соседка по коммуналке. Характер у неё был ужасный, склочница, ей надо было обязательно кого-нибудь поссорить».
Так родился образ, ставший легендарным. Всего Милляр сыграл в 16 фильмах Роу, обычно исполняя несколько ролей в каждом, в общей сложности их было 30. Роу называл его «официальным представителем нечистой силы в кинематографе».
Поначалу Баба-Яга Милляра была по-настоящему страшной злой ведьмой. В «Василисе Прекрасной» с ней конкурировал только гигантский говорящий паук, явно дальний родственник Шелоб: сцены в пещере с пауком очень близки к фильму ужасов. Ещё страшнее получился Кощей в «Кощее Бессмертном» (1944), самом серьёзном фильме Роу, в котором были сильные аллюзии на войну с Германией, а Кощей, по замыслу режиссёра, напоминал Гитлера. Жизнь сыграла роль одного из соавторов фильма: Милляр переболел малярией и был настолько истощен, что весил 48 килограммов. Он играл практически без грима — жуткий живой труп, которого боялась лошадь; ей приходилось завязывать глаза, чтобы она подпускала к себе артиста.
Столяров в роли Никиты Кожемяки суров и мрачен. Марью Моревну сыграла самая романтическая из красавиц, появлявшихся в фильмах режиссёра — актриса Галина Григорьева с печальными глазами измученной женщины.
Но война кончилась, и Роу вернулся к свойственной ему ироничности и необычным решениям. Пронырливого Кота в «Новых похождениях Кота в сапогах» (1958) сыграла актриса-травести Мария Барабанова, а сам фильм пестрит колоритными отрицательными героями, один другого лучше. В следующей сказке «Марья-искусница» (1959) по пьесе Евгения Шварца главный «хороший парень» — не молодой эпичный богатырь, а отставной солдат с сединой на висках (Михаил Кузнецов), а у Марьи-искусницы (Нинель Мышкова) есть сын-подросток, фактически это мать-одиночка, отличающаяся от обычных сказочных красавиц и возрастом, и жизненным опытом. Милляра для фильма красили зеленой краской и обували в ласты: он играл морское чудище, но уже не страшное, а очень смешное.
В 1963 году Роу вновь отдал дань любви к отрицательным персонажам в «Королевстве кривых зеркал», где Лидия Вертинская в роли Анидаг стала первой роковой женщиной в советском кино. Пионерка Оля, которая несла бы у Птушко советские ценности с первого мига появления на экране, у Роу начинает с того, что объедается вареньем и обманывает бабушку — излишняя правильность режиссёру несимпатична.
В 1964 году Роу снимает свой главный шедевр — «Морозко» по сценарию замечательного драматурга и сценариста Михаила Вольпина. Милляр вновь блистает в двух ролях, но в этот раз актёра затмили. Марфушенька-душенька в исполнении Инны Чуриковой стала настоящей народной антигероиней, которую помнят и любят до сих пор. Как она грызёт орехи! Как она хамит Морозко! Диалоги с матерью (великолепная острохарактерная актриса Вера Алтайская) давно разобраны на цитаты.
— Прынцесса! Как есть прынцесса!
— Правда?
— Нет! Не прынцесса!
— А хтожа?
— Королевна!
Последней работой Роу стала сказка «Золотые рога» (1972) о двух маленьких сестричках, которых Баба-Яга превращает в ланей. Это апофеоз творчества режиссёра: много ярких женских героинь (его сказки были не такими патриархальными, как у Птушко), много прекрасной русской природы, существенный перевес нечисти и близкие связи с реальностью. Чихающий месяц, у которого мама похищенных девочек просит помощи, объясняет своё плачевное состояние вполне обычной, а не сказочной болезнью:
«Хвораю я. Гриппую…»
«Финист — Ясный сокол» (1975), к которому Роу написал сценарий, но снять уже не успел, посвящён памяти режиссёра. Картина вышла не совсем в его стиле, хотя одна деталь, безусловно, могла быть придумана только Роу: трио насмешливых старушек-веселушек, которые смеются сразу над всеми, и над зрителем тоже. По-доброму, но с хитринкой. И Милляр сразу в трёх отличных отрицательных ролях.
Крошки мои, за мной!
Если выбирать фильм, который можно было бы назвать символом советского «сказочного» кинематографа, то большинство зрителей назвали бы «Золушку» (1947) Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро. Картина сразу же обрела популярность: в год выпуска её посмотрели 18 миллионов зрителей, вознеся фильм на четвёртое место по посещаемости в прокате. Так начался «сказочный» путь Кошеверовой в кинематографе.
Роль написана специально для Янины Жеймо с её крошечными детскими ручками и 31‑м размером ноги, как у настоящей Золушки. Ничуть не помешало то, что актрисе на момент съёмок уже исполнилось 38 лет, и сцены с её участием снимались лишь в вечернее время, когда лицо выглядело наиболее отдохнувшим. Перед съёмками актрису отправили в санаторий, чтобы она немного «откормилась» и пришла в форму. Несмотря на все сложности, Кошеверова хотела видеть в роли только Жеймо. Режиссёр рассказывала:
«В сорок четвертом году, возвращаясь из эвакуации, я встретила в Москве Жеймо. Она сидела в уголке — такая маленькая, растерянная… Я взглянула на неё и неожиданно предложила: Яничка, вы должны сыграть Золушку!»
Изначально идея фильма принадлежала театральному режиссёру и художнику из Ленинграда Николаю Акимову. Но его в то время травили в рамках борьбы с «космополитизмом», поэтому смог выступить лишь автором костюмов и декораций. В отличие от Птушко, который получал огромные бюджеты, Кошеверова работала в трудных условиях, и фильм буквально был «собран на коленках». Для фантастического наряда Феи использовались, например, детали хрустальной люстры. Но туфельки Золушки были изготовлены на заказ — из оргстекла. Ни ходить, ни танцевать в них было невозможно, и Жеймо лишь пару раз появлялась в них в кадре.
Но сложности не помешали создать по-настоящему волшебную сказку. Без роскошных декораций и дорогостоящего оборудования особую важность приобретали диалоги и актёрская игра. И в этом плане нельзя было желать большего: сценарий написал Евгений Шварц, а едва ли не самые яркие роли в фильме исполнил гениальный комик Эраст Гарин и великая Фаина Раневская. Актриса, не избалованная предложениями о съёмках, подошла к роли с полной отдачей, создав образ, покоривший зрителей и запомнившийся навсегда. Когда разряженная в какие-то дикие перья и банты Мачеха оборачивалась к двум здоровенным девицам и гаркала командирским голосом: «Крошки мои, за мной!», съёмочная группа, а за ними — и все зрители покатывались со смеху. Фразы, произнесённые неподражаемым голосом Раневской, «разошлись» в народ:
«Жалко, королевство маловато, разгуляться мне негде. Ну, ничего, я поссорюсь с соседями. Это я умею!»
Дебютом Кошеверова сразу же обозначила свой особенный стиль: нежные, лиричные, ироничные сказки, которые можно назвать интеллектуальными и даже философскими. С нею сотрудничали лучшие сценаристы и драматурги — Евгений Шварц, Николай Эрдман и Михаил Вольпин. Музыку ко многим фильмам Кошеверовой написал современный классик Моисей Вайнберг, автор 26 симфоний, семи опер и слегка шизофренических мелодий для всенародно любимого мультфильма «Винни-Пух».
Следующий фильм-сказка Кошеверовой — «Каин XVIII» (1963) по сценарию Эрдмана и Шварца с Эрастом Гарином в главной роли — стал одним из самых смелых фильмов советского кинематографа. Это антимилитаристская и антитоталитарная сатира на любое репрессивное государство, и даже странно, что картину пропустила цензура. Все острые моменты прекрасно применимы не только к абстрактным капстранам, но и к Союзу с его собственным «атомным комаром», «тайной полицией» и памятниками вождям.
Премьер-министр: Голубь у нас в королевстве — нецензурная птица. Голубь у нас такое наделал!
Королева Власта: А что он такое наделал?
Премьер-министр: Он наделал на памятник короля.
Но в памяти зрителей Кошеверова осталась в первую очередь автором таких меланхоличных работ, как «Старая, старая сказка» (1968) с Олегом Далем, сыгравшим в трёх фильмах режиссёра. Конец сказки печален: хэппи-энд ожидает героев лишь в фантазиях и снах, и грустный Кукольник вновь отправляется в вечное странствие по миру. Кошеверова закончила эру безоглядного оптимизма советского сказочного кино.
Эхо оттепели
С наступлением эпохи оттепели в советском искусстве начали пробиваться ростки сатиры, гротеска и даже сюрреализма. Многие фильмы в того времени мы воспринимаем сейчас фактически как артхаус, авторские проекты, показательно отстранённые от массового кинематографа. «Айболит-66» (1966) Ролана Быкова по мотивам Корнея Чуковского часто трактуют как настоящий вызов типичным кассовым фильмам. Это вполне авангардное зрелище, которое сам Быков считал первым советским киномюзиклом. В кадре появляется ломающая «четвёртую стену» съёмочная группа, экран периодически меняет форму, превращаясь в какие-то ромбики и круги. Песню «Нормальные герои всегда идут в обход» обычные зрители наравне с киноведами сочли насмешкой над официальной идеологией:
И мы с пути кривого
Обратно не свернём
А надо будет снова
Пойдём кривым путём!
Придерживаясь законов сценической условности и эстетики художников-супрематистов, Павел Арсенов (режиссёр «Гостьи из будущего») поставил вольную экранизацию одноимённой пьесы Карло Гоцци «Король-олень» (1969) с созвездием крупнейших актёров: Юрия Яковлева, Олега Ефремова, Сергея Юрского и Олега Табакова. Получилось уникальное сочетание комедии дель-арте и советского театрального авангарда. Формально детская сказка «Внимание! В городе волшебник!» (1963) Владимира Бычкова разыграна в духе цирковой эксцентрики. Этот мультипликационно-игровой фильм, в котором Юрий Норнштейн создавал одну из своих первых анимаций,«проходится» по той бытовой халтуре, с которой постоянно приходится сталкиваться советскому человеку. Интересно, что отрицательный персонаж (зловредный врач) в конце превращён в надувную куклу, которая лопается, что технически означает смерть.
Следующий выдающийся сказочный артхаус Бычкова «Город мастеров» (1965) в наше время был включен журналом «Искусство кино» в число лучших детских фильмов за столетие существования кинематографа. Фильм поставлен по сценарию Эрдмана, а музыку написал гениальный ленинградский композитор-авангардист Олег Каравайчук.
Позднее Бычков продолжил эксперименты в сказочном жанре. В «Русалочке» (1976) с первой реалистичной ведьмой на советском экране (её сыграла Галина Волчек) звучали песни на современные стихи Беллы Ахмадулиной и Юрия Энтина. «Осенний подарок фей» (1984) вновь по мотивам Андерсена — грустнейшая сюрреалистическая фантазия, где хэппи-энд отвоёван с кровью.
Сказка зачастую давала режиссёрам больше возможностей, чем реализм или почти не существовавшая в те времена в советском кинематографе фантастика. Избавленные от оков соцреализма, находившегося под самым строгим взглядом цензуры, авторы сказочных фильмов были намного ближе к чистому аполитичному искусству.
Буратино и постмодернизм
1970‑е в СССР стали десятилетием интеллектуального кинематографа, и даже фильмы, «для самых маленьких» перестали быть простенькими и наивными. Кроме того, даже сказки окончательно отказались от политики. В «Буратино» (1975) белорусского режиссёра Леонида Нечаева Карабас-Барабас, Дуремар, Лиса Алиса и Кот Базилио — не какие-нибудь образцово-показательные примеры звериного оскала капитализма, против которых борются, изнемогая от усилий, куклы-бедняки, а просто великолепные мерзавцы в харизматичном исполнении звёзд советского кино. В «Буратино» влюбились все зрители независимо от возраста. Фильм покорял замечательной игрой взрослых и юных актёров и запоминающимися песнями, которые мы до сих пор помним наизусть:
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На хвастуна не нужен нож,
ему немного подпоёшь —
И делай с ним, что хошь!
Во всех последующих работах Нечаев не опускал высочайшую планку, заданную своей дебютной сказкой. «Про Красную Шапочку» (1977), «Рыжий, честный, влюблённый» (1984), «Питер Пэн» (1987) — образцы детского кино, которое заставляет вспомнить истину: для детей нужно снимать точно так же, как для взрослых, только ещё лучше.
Режиссёр-сказочник Борис Рыцарев начал в 1960‑х годах с фильмов скорее детских, но неизменно остроумных и тонких. «Волшебная лампа Аладдина» (1966) открыла для советского кино мир восточных сказок и вошла в историю не только отменными спецэффектами, но и песенкой «В Багдаде все спокойно», в которой публика усмотрела сатирические обертоны.
Со следующего десятилетия сказки Рыцарева становятся всё серьёзнее и взрослее: в них появляются элементы хоррора, как в готической «Принцессе на горошине» (1976), поднимаются темы болезни и смерти, как в «Подарке чёрного колдуна» (1978) и «Ученике лекаря» (1983). Одну из последних киноработ Рыцарева «На златом крыльце сидели» (1986) можно назвать постмодернистской сказкой: это комедийный пересказ классических произведений мировой литературы, от Пушкина до «Книги тысячи и одной ночи». Фильм был снят в 3D-формате «Стерео-70» и показывался в кинотеатрах на специальном экране, либо с помощью поляризационных очков.
С середины 1970‑х годов обычные классические сказки почти исчезли с экрана. Сказочные фильмы снимались или уже откровенно для взрослых, или действие перемещалось в современность, когда герои сталкивались с волшебством в обычной жизни либо становились «попаданцами». Так прогрессивных младшеклассников заносит в волшебный лес в «Новогодних приключениях Маши и Вити» (1975), где ребята одолевают колдовство с помощью науки. Трио сказочных злодеев пародирует выступления сразу всех популярных ВИА вместе взятых. Михаил Боярский от души голосит на музыку Геннадия Гладкова:
Эх, бараночки-конфеты,
Бары-растабары,
Мы лесные самоцветы —
«Дикие гитары»!
Один из самых удачных кроссоверов обычной и сказочной реальности — музыкальный фильм «Там, на неведомых дорожках» (1982) по книге Эдуарда Успенского «Вниз по волшебной реке». Бабушкой обычного школьника оказывается Баба-Яга в исполнении замечательной Татьяны Пельтцер. Добрых сказочных персонажей спасает от Кощея (по-настоящему страшный Александр Филиппенко) научно-технический прогресс, а разница между магическими артефактами и техническими объектами стирается, например, волшебное блюдечко с наливным яблочком, показывающие, что делается на свете, работает по принципу телевизора. Мир этой сказки максимально близок к «Гарри Поттеру», где маги и маглы существуют рядом друг с другом и даже иногда пересекаются. В фильме прозвучала песня Владимира Дашкевича на слова великого барда Юлия Кима «Приходите в сказку», ставшая негласным гимном всего советского сказочного кино:
Если вы не так уж боитесь Кощея
Или Бармалея и Бабу-Ягу,
Приходите в гости к нам поскорее,
Там, где зелёный дуб на берегу.
Самой любимой зрителями сказкой для взрослых стала вторая экранизация (первую чёрно-белую снимали ещё в 1964 году с Эрастом Гариным) пьесы Евгения Шварца «Обыкновенное чудо». В постановке 1979 года режиссёра Марка Захарова участвовали звёзды его театра «Ленком». Фильм, как обычно у Захарова, очень камерный, снятый в театральной манере, ироничный и не слишком весёлый. Это одна из лучших ролей великого Евгения Леонова, сыгравшего Короля. Очаровательная Евгения Симонова, с её интеллигентной красотой, стала одной из самых любимых советских принцесс. Что до Александра Абдулова, то роль Медведя надолго обрекла его на работу «лицом» в кино, хотя талант актёра, несомненно, заслуживал большего. Песни и цитаты из фильма пополнили культурное достояние страны, чего с первой классической экранизацией пьесы, при всех её достоинствах, не случилось. Вряд ли будет преувеличением сказать, что «Обыкновенное чудо» — один из лучших во всем кинематографе фильмов о любви.
— Нищие, безоружные люди сбрасывают королей с престола из-за любви к ближнему. Из-за любви к Родине солдаты попирают смерть ногами, и та бежит без оглядки. Мудрецы поднимаются в небо и бросаются в самый ад из-за любви к истине. А что сделал ты из-за любви к девушке?
— Я отказался от неё.
Дракон и новое время
Сказки 1980‑х годов становились всё ближе к городскому фэнтези и магическому реализму, как новогодний мюзикл «Чародеи» (1982) по сценарию братьев Стругацких. В нём не оставили камня на камне от «Понедельник начинается в субботу», но это всё равно отличный образец слияния обыденности и волшебства, рождённый в борьбе за передовую магию. В фильме сильна сатирическая интонация, высмеивающая особенности советского быта: непритязательный сервис, блат, бюрократизм, подковёрные интриги на работе. До перестроечной смелости в кино ещё не дошли, но были уже очень к ней близки.
Детский мюзикл «Выше радуги» (1986) Георгия Юнгвальд-Хилькевича по одноимённой повести фантаста Сергея Абрамова продолжил размывать границы между волшебством и реальностью. Фильм, прославившийся песнями Аллы Пугачёвой и Владимира Преснякова, вышел под слоганом: «Очень современная и очень музыкальная сказка». Мечтательный подросток (Дима Марьянов) встречает Ивана-дурака не в сказочном, а в самом обычном лесу, а волшебницу Сирену и вовсе освобождает из плена лишь в воображении, а не наяву. Пришло время магии лишь слегка оттенять реальность.
А сказочная реальность становилась всё мрачнее. «Сказка странствий» (1983) Александра Митты скорее относится к жанру тёмного фэнтези. Появлявшаяся в фильме персонифицированная Чума могла всерьёз напугать не только детей, но и взрослых, а смерть бродячего учёного Орландо (изумительный Андрей Миронов) стала первым случаем в советском фильме-сказке, снятом номинально для юного зрителя, когда погибал положительный персонаж.
Но то же самое происходит в трагикомедии «Не покидай» (1989) — пожалуй, лучшем фильме Леонида Нечаева, где погибает самая чистая и наивная героиня истории, юная служанка Марцелла. Финал этой прекрасной музыкальной сказки вообще окрашен глубокой грустью: разрушенная королевская семья, разочарование в любви и политзаключённые, которых, кажется, так никто и не выпустил из тюрьмы.
А Марк Захаров снимает свой самый жёсткий фильм — сказку для взрослых, притчу или тёмное фэнтези «Убить дракона» (1988), расходящуюся с пьесой Шварца «Дракон» по интонации. Фильм намного мрачнее, его отличает неприятный натурализм, а царящее настроение близко к безнадёжному. Кажется, лишь десятилетия гуманистического творчества в последний момент останавливают режиссёра от того, чтобы не превратить Ланселота (возможно, лучшая роль Александра Абдулова) в нового обезумевшего тирана. Захаров вроде бы даже даёт возможность искупления поверженному Дракону, показанному в финале в толпе беззаботных играющих детей, хоть и посреди угрюмого заснеженного пейзажа, напоминающего картины Брейгеля.
Развал СССР и наступление новых времён подействовало на кинематограф стремительным обеднением. О крупных бюджетах больше не мечтали, и сказка окончательно переместилась в «наше» время. В 1991 году Михаил Козаков снимает «Тень, или Может быть, всё обойдётся» по пьесе Шварца. Сказочный элемент из фильма почти изъят, это остросоциальная картина в современном сеттинге. Марина Неёлова, сыгравшая в 1971 году капризную, но милую Принцессу и нежную дочь трактирщика в «Тени» Надежды Кошеверовой, появилась в новой постановке в роли сломленной духом придворной певицы. Мощный вокал Ларисы Долины, певшей за актрису, вызывает дрожь и слёзы в трагической сцене исполнения песни «Не надо голову терять». Хэппи-энд вышел довольно натянутым.
Но всё же дух оптимизма советской сказки был утрачен не до конца. Лёгкий и солнечный мюзикл «Рок-н-ролл для принцесс» (1991), где принцессы выглядят как обычные городские девчонки, — настоящая энциклопедия жизни девяностых. Конкурсы красоты, лосины, частное предпринимательство… Счастливый конец со свадьбой в этом симпатичном фильме совершенно оправдан. Ведь это сказка, дорогие читатели и зрители. В конце всё будет хорошо, а если ещё не хорошо — значит, это пока не конец.
История советских фильмов-сказок настолько богата, что о ней невозможно рассказать в одной статье, маловато будет даже целой книги. В отечественных сказочных фильмах работали прекрасные режиссёры и актёры, сценаристы и композиторы, декораторы и художники. Сказки отображали своё время и бежали от него, помогали зрителям окунуться в волшебство и лучше узнать обычную жизнь, заставляли плакать и смеяться.
Очарование этих сказок не тускнеет со временем и возрастом — самих фильмов и зрителей. Их стоит смотреть. Даже не потому, что это наша история — историю можно изучать и по учебникам. Просто они, наверное, полезны для души. И помогают верить в чудеса, возможные даже в обычной жизни. Как говорили в «Обыкновенном чуде»:
― Извини меня, пожалуйста. Не хочу вмешиваться в твои дела. Но, по-моему, произошло чудо.
― Да, пожалуй. Что ж тут удивительного?
Читайте также наш материал «Иосиф Хейфиц. Ровесник советского кино».