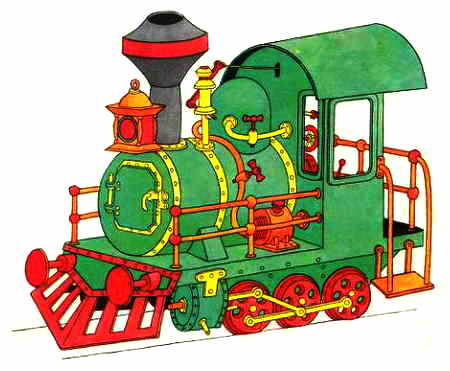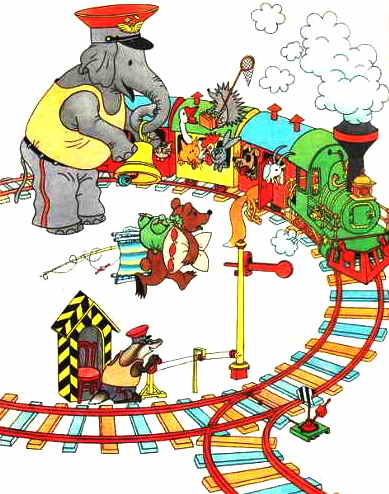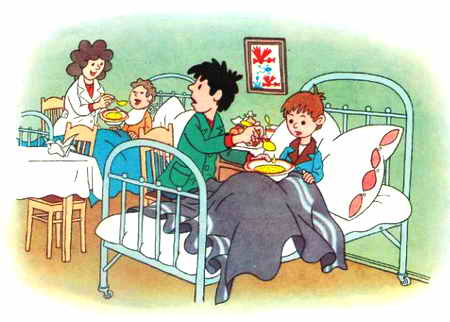Как я помог авиации — Сегель Я. — Как я был мамой
- Подробности
- Категория: Отечественные писатели
Страница 3 из 4
Как я был мамой

Дежурный учитель очень удивился, почему это вдруг я перестал носиться как пуля, а сел прямо на пол посредине школьного коридора и сижу.
— А ну-ка поднимайся сейчас же! — сказал он.
Я попробовал.
— Ой! — вскрикнул я и стал белый как мел.
Тут учитель тоже стал белый как мел и остановил двух мальчиков из второго класса — Юлика и Валерика. Оба они носили очки, на переменах не бегали как угорелые, не кричали, а спокойно прогуливались и беседовали о разном.
— А ну-ка, хлопцы, помогите солдату! — сказал учитель, и они втроём потащили меня к школьному врачу.
Мне очень понравилось, что учитель назвал меня солдатом, и я тут же придумал про себя, что ранен в бою с врагами.
— Возможно, это аппендицит, — сказал доктор и вызвал по телефону «скорую помощь».
Когда меня понесли на носилках вниз, вся школа сбежалась смотреть.
Ну я, конечно, тут же придумал, что все они — и ученики и учителя — прибежали проводить меня, своего защитника.
Только нянечка из школьного гардероба не знала, в чём дело, и, когда меня проносили мимо неё, проворчала:
— Допрыгался один, доигрался!..
Наша «скорая помощь» летела по городу как ветер, и все другие машины уступали ей дорогу, а она пронзительно гудела: «Дорогу! Дорогу!!! Я спасаю раненого гер-р-р-о-я-я-я!!!» — и пролетала на красные светофоры.
— Аппендицит. Надо оперировать.
Меня тут же раздели, помыли в ванне и, чистого, в больничной пижаме, привезли на каталке в большую белую комнату — палату.
Я огляделся. В палате, кроме моей, стояло ещё три кровати, покрашенные в белый цвет. На этих кроватях лежали разные мальчики.
В углу у дверей лежал Серёжа.
Ему уже исполнилось целых десять лет, и он учился в четвёртом классе. Серёже пять дней тому назад сделали операцию — вырезали его аппендикс, и он выздоравливал — бродил целыми днями по палатам с шахматами под мышкой и искал, с кем бы поиграть.
Он уже обыграл всех ребят, у которых ещё не вырезали аппендикс, всех, у которых его уже вырезали, и теперь ему очень хотелось сразиться с главным доктором, но у того никогда не было ни одной свободной минутки, он всё время вырезал у ребят аппендиксы.
Аппендикс — это такой совершенно ненужный отросток у одной из кишок. Если он не болит, то его и не надо трогать, а уж если заболит, то лучше его удалить, а то он может доставить человеку много неприятностей.
В углу у окна лежал другой мальчик — Вова. Этому Вове было всего два года, ему тоже уже три дня, как удалили аппендикс. Теперь он должен был немножко полежать спокойно, но он всё время вертелся на своей кроватке и громко смеялся, такой уж у него был весёлый характер.
Доктор позволил Вовиной маме сидеть рядом со своим сыном, потому что Вова был ещё маленький, а его мама жила в этом же городе, недалеко от больницы, и ещё потому, что никто, кроме этой мамы, не мог успокоить этого весёлого Вову.
Мама кормила Вову, умывала его и старалась, чтобы он не слишком шалил.
А ещё в нашей палате в другом углу, у другого окна, лежал другой мальчик — Саша. Ему через два дня тоже должны были вырезать аппендикс. А мне через четыре.
Саше, как и Вове, было всего два года, но возле него не сидела его мама, потому что она жила далеко от нашего города, в колхозе, и там у неё ещё была Сашина сестричка, совсем маленькая.
Саша очень скучал без мамы, ведь ему было всего два года. Он тихонечко плакал и звал:
— Мама-а-а… ма-а-а-ма-а-а…
Тогда однажды я решил подойти к нему.
— Ну, здравствуй, орёл! — весело сказал я, как мне обычно по утрам говорил мой папа.
— Да, — сказал Саша и перестал на секундочку плакать. Слово «здравствуй» он ещё не умел говорить.
— Хочешь? — спросил я и протянул ему конфетку.
— Дай, — сказал Саша, съел конфету и приготовился опять плакать, но я быстренько протянул ему вторую конфету.
Он съел и её, я — третью, он и третью съел и совсем забыл, что хотел плакать. Тогда я ему сделал из бумаги голубя, который замечательно летал; потом тоже из бумаги сделал такую птицу, которая могла махать крыльями, если её дёргали за хвост; потом, когда Саша оторвал птице хвост, я его научил пускать солнечный зайчик, и он пускал его, пока не зашло солнце.
Но тут принесли ужин, и нянечка попросила меня:
— Помоги нам, пожалуйста, покормить маленького.
И я стал Сашу кормить.
Я смотрел, как Вовина мама кормит Вову, и делал точно так же: она набирала неполную ложечку, и я набирал неполную ложечку; Вовина мама ждала, пока её Вова прожуёт всё до конца, и я ждал, пока мой Саша всё прожуёт; Вовина мама вытирала рот своему сыну, а я вытирал Саше.
Потом я перестелил своему Саше постель, уложил его поудобнее, а потом… потом Вовина мама тихонечко запела своему сыну колыбельную песню, а я не мог, потому что все детские колыбельные песни уже забыл.
Но тут я вспомнил одну песню, которую больше всего любил мой папа. Правда, она совсем не была колыбельной, а даже наоборот:
Наш паровоз вперёд лети,
В коммуне — остановка!
Иного нет у нас пути,
В руках у нас винтовка!
Конечно, эту песню надо было петь громко-громко, но я пел её тихонечко, поэтому она получилась совсем как колыбельная, и Саша уснул.
На другое утро, когда к мальчику Вове пришла его мама, Саше, наверное, очень захотелось, чтобы и рядом с ним сидела его мама.
Он потянул меня за руку и вдруг сказал:
— Мама…
Я немножко удивился, ведь я всё-таки был мальчик, но с той минуты он меня по-другому и не называл: «мама» и «мама».
«Мама, дай! Мама, на! Мама, иди…»
Теперь, когда он только начинал хныкать, я говорил:
— Саша, не плачь, мама здесь!
И он тут же успокаивался.
Назавтра Саше сделали операцию. Когда его привезли в нашу палату, он ещё спал, это ему дали такое специальное сонное лекарство — наркоз.
А когда он наконец проснулся, первым, кого он увидел перед собой, был я.
— Мама! — обрадовался он и улыбнулся.
Весь день я ухаживал за ним, выдавливал ему в стакан апельсин и поил соком, умывал, показывал разные фокусы и книжки с картинками, следил, чтобы он не слишком кувыркался в своей кроватке, а он всё время называл меня мамой и совсем не скучал со мной.
А ещё на другой день сделали операцию и мне. Как её делали, я, конечно, не помню, потому что мне тоже дали наркоз и я спал.
Проснулся я уже в своей палате. Сначала увидел лампочку над головой, потом стену, а потом кто-то меня погладил по щеке, и я увидел… Сашу. Он стоял босиком рядом с моей кроватью, трогал меня своей ладошкой и приговаривал:
— Мама… мама… мама…
И я тогда решил, когда я вырасту большой и у меня будет сын, я обязательно назову его Сашей. Только тогда я, конечно, буду не мамой, а папой.
Как я был мамой
Однажды, когда я был уже вполне большой и учился в первом классе, у меня заболел живот.
Дежурный учитель очень удивился, почему это вдруг я перестал носиться как пуля, а сел прямо на пол посредине школьного коридора и сижу.
— А ну-ка поднимайся сейчас же! — сказал он.
Я попробовал.
— Ой! — вскрикнул я и стал белый как мел.
Тут учитель тоже стал белый как мел и остановил двух мальчиков из второго класса — Юлика и Валерика. Оба они носили очки, на переменах не бегали как угорелые, не кричали, а спокойно прогуливались и беседовали о разном.
— А ну-ка, хлопцы, помогите солдату! — сказал учитель, и они втроём потащили меня к школьному врачу.
Мне очень понравилось, что учитель назвал меня солдатом, и я тут же придумал про себя, что ранен в бою с врагами.
— Возможно, это аппендицит, — сказал доктор и вызвал по телефону «скорую помощь».
Когда меня понесли на носилках вниз, вся школа сбежалась смотреть.
Ну я, конечно, тут же придумал, что все они — и ученики и учителя — прибежали проводить меня, своего защитника.
Только нянечка из школьного гардероба не знала, в чём дело, и, когда меня проносили мимо неё, проворчала:
— Допрыгался один, доигрался!..
Наша «скорая помощь» летела по городу как ветер, и все другие машины уступали ей дорогу, а она пронзительно гудела: «Дорогу! Дорогу!!! Я спасаю раненого гер-р-р-о-я-я-я!!!» — и пролетала на красные светофоры.
Доктор в больнице пощупал мой живот и сказал:
— Аппендицит. Надо оперировать.
Меня тут же раздели, помыли в ванне и, чистого, в больничной пижаме, привезли на каталке в большую белую комнату — палату.
Я огляделся. В палате, кроме моей, стояло ещё три кровати, покрашенные в белый цвет. На этих кроватях лежали разные мальчики.
В углу у дверей лежал Серёжа.
Ему уже исполнилось целых десять лет, и он учился в четвёртом классе. Серёже пять дней тому назад сделали операцию — вырезали его аппендикс, и он выздоравливал — бродил целыми днями по палатам с шахматами под мышкой и искал, с кем бы поиграть.
Он уже обыграл всех ребят, у которых ещё не вырезали аппендикс, всех, у которых его уже вырезали, и теперь ему очень хотелось сразиться с главным доктором, но у того никогда не было ни одной свободной минутки, он всё время вырезал у ребят аппендиксы.
Аппендикс — это такой совершенно ненужный отросток у одной из кишок. Если он не болит, то его и не надо трогать, а уж если заболит, то лучше его удалить, а то он может доставить человеку много неприятностей.
В углу у окна лежал другой мальчик — Вова. Этому Вове было всего два года, ему тоже уже три дня, как удалили аппендикс. Теперь он должен был немножко полежать спокойно, но он всё время вертелся на своей кроватке и громко смеялся, такой уж у него был весёлый характер.
Доктор позволил Вовиной маме сидеть рядом со своим сыном, потому что Вова был ещё маленький, а его мама жила в этом же городе, недалеко от больницы, и ещё потому, что никто, кроме этой мамы, не мог успокоить этого весёлого Вову.
Мама кормила Вову, умывала его и старалась, чтобы он не слишком шалил.
А ещё в нашей палате в другом углу, у другого окна, лежал другой мальчик — Саша. Ему через два дня тоже должны были вырезать аппендикс. А мне через четыре.
Саше, как и Вове, было всего два года, но возле него не сидела его мама, потому что она жила далеко от нашего города, в колхозе, и там у неё ещё была Сашина сестричка, совсем маленькая.
Саша очень скучал без мамы, ведь ему было всего два года. Он тихонечко плакал и звал:
— Мама-а-а… ма-а-а-ма-а-а…
Тогда однажды я решил подойти к нему.
— Ну, здравствуй, орёл! — весело сказал я, как мне обычно по утрам говорил мой папа.
— Да, — сказал Саша и перестал на секундочку плакать. Слово «здравствуй» он ещё не умел говорить.
— Хочешь? — спросил я и протянул ему конфетку.
— Дай, — сказал Саша, съел конфету и приготовился опять плакать, но я быстренько протянул ему вторую конфету.
Он съел и её, я — третью, он и третью съел и совсем забыл, что хотел плакать. Тогда я ему сделал из бумаги голубя, который замечательно летал; потом тоже из бумаги сделал такую птицу, которая могла махать крыльями, если её дёргали за хвост; потом, когда Саша оторвал птице хвост, я его научил пускать солнечный зайчик, и он пускал его, пока не зашло солнце.
Но тут принесли ужин, и нянечка попросила меня:
— Помоги нам, пожалуйста, покормить маленького.
И я стал Сашу кормить.
Я смотрел, как Вовина мама кормит Вову, и делал точно так же: она набирала неполную ложечку, и я набирал неполную ложечку; Вовина мама ждала, пока её Вова прожуёт всё до конца, и я ждал, пока мой Саша всё прожуёт; Вовина мама вытирала рот своему сыну, а я вытирал Саше.
Потом я перестелил своему Саше постель, уложил его поудобнее, а потом… потом Вовина мама тихонечко запела своему сыну колыбельную песню, а я не мог, потому что все детские колыбельные песни уже забыл.
Но тут я вспомнил одну песню, которую больше всего любил мой папа. Правда, она совсем не была колыбельной, а даже наоборот:
Наш паровоз вперёд лети,
В коммуне — остановка!
Иного нет у нас пути,
В руках у нас винтовка!
Конечно, эту песню надо было петь громко-громко, но я пел её тихонечко, поэтому она получилась совсем как колыбельная, и Саша уснул.
На другое утро, когда к мальчику Вове пришла его мама, Саше, наверное, очень захотелось, чтобы и рядом с ним сидела его мама.
Он потянул меня за руку и вдруг сказал:
— Мама…
Я немножко удивился, ведь я всё-таки был мальчик, но с той минуты он меня по-другому и не называл: «мама» и «мама».
«Мама, дай! Мама, на! Мама, иди…»
Теперь, когда он только начинал хныкать, я говорил:
— Саша, не плачь, мама здесь!
И он тут же успокаивался.
Назавтра Саше сделали операцию. Когда его привезли в нашу палату, он ещё спал, это ему дали такое специальное сонное лекарство — наркоз.
А когда он наконец проснулся, первым, кого он увидел перед собой, был я.
— Мама! — обрадовался он и улыбнулся.
Весь день я ухаживал за ним, выдавливал ему в стакан апельсин и поил соком, умывал, показывал разные фокусы и книжки с картинками, следил, чтобы он не слишком кувыркался в своей кроватке, а он всё время называл меня мамой и совсем не скучал со мной.
А ещё на другой день сделали операцию и мне. Как её делали, я, конечно, не помню, потому что мне тоже дали наркоз и я спал.
Проснулся я уже в своей палате. Сначала увидел лампочку над головой, потом стену, а потом кто-то меня погладил по щеке, и я увидел… Сашу. Он стоял босиком рядом с моей кроватью, трогал меня своей ладошкой и приговаривал:
— Мама… мама… мама…
И я тогда решил, когда я вырасту большой и у меня будет сын, я обязательно назову его Сашей. Только тогда я, конечно, буду не мамой, а папой.

Страница 3 из 4
Как я был мамой

Дежурный учитель очень удивился, почему это вдруг я перестал носиться как пуля, а сел прямо на пол посредине школьного коридора и сижу.
— А ну-ка поднимайся сейчас же! — сказал он.
Я попробовал.
— Ой! — вскрикнул я и стал белый как мел.
Тут учитель тоже стал белый как мел и остановил двух мальчиков из второго класса — Юлика и Валерика. Оба они носили очки, на переменах не бегали как угорелые, не кричали, а спокойно прогуливались и беседовали о разном.
— А ну-ка, хлопцы, помогите солдату! — сказал учитель, и они втроём потащили меня к школьному врачу.
Мне очень понравилось, что учитель назвал меня солдатом, и я тут же придумал про себя, что ранен в бою с врагами.
— Возможно, это аппендицит, — сказал доктор и вызвал по телефону «скорую помощь».
Когда меня понесли на носилках вниз, вся школа сбежалась смотреть.
Ну я, конечно, тут же придумал, что все они — и ученики и учителя — прибежали проводить меня, своего защитника.
Только нянечка из школьного гардероба не знала, в чём дело, и, когда меня проносили мимо неё, проворчала:
— Допрыгался один, доигрался!..
Наша «скорая помощь» летела по городу как ветер, и все другие машины уступали ей дорогу, а она пронзительно гудела: «Дорогу! Дорогу!!! Я спасаю раненого гер-р-р-о-я-я-я!!!» — и пролетала на красные светофоры.
— Аппендицит. Надо оперировать.
Меня тут же раздели, помыли в ванне и, чистого, в больничной пижаме, привезли на каталке в большую белую комнату — палату.
Я огляделся. В палате, кроме моей, стояло ещё три кровати, покрашенные в белый цвет. На этих кроватях лежали разные мальчики.
В углу у дверей лежал Серёжа.
Ему уже исполнилось целых десять лет, и он учился в четвёртом классе. Серёже пять дней тому назад сделали операцию — вырезали его аппендикс, и он выздоравливал — бродил целыми днями по палатам с шахматами под мышкой и искал, с кем бы поиграть.
Он уже обыграл всех ребят, у которых ещё не вырезали аппендикс, всех, у которых его уже вырезали, и теперь ему очень хотелось сразиться с главным доктором, но у того никогда не было ни одной свободной минутки, он всё время вырезал у ребят аппендиксы.
Аппендикс — это такой совершенно ненужный отросток у одной из кишок. Если он не болит, то его и не надо трогать, а уж если заболит, то лучше его удалить, а то он может доставить человеку много неприятностей.
В углу у окна лежал другой мальчик — Вова. Этому Вове было всего два года, ему тоже уже три дня, как удалили аппендикс. Теперь он должен был немножко полежать спокойно, но он всё время вертелся на своей кроватке и громко смеялся, такой уж у него был весёлый характер.
Доктор позволил Вовиной маме сидеть рядом со своим сыном, потому что Вова был ещё маленький, а его мама жила в этом же городе, недалеко от больницы, и ещё потому, что никто, кроме этой мамы, не мог успокоить этого весёлого Вову.
Мама кормила Вову, умывала его и старалась, чтобы он не слишком шалил.
А ещё в нашей палате в другом углу, у другого окна, лежал другой мальчик — Саша. Ему через два дня тоже должны были вырезать аппендикс. А мне через четыре.
Саше, как и Вове, было всего два года, но возле него не сидела его мама, потому что она жила далеко от нашего города, в колхозе, и там у неё ещё была Сашина сестричка, совсем маленькая.
Саша очень скучал без мамы, ведь ему было всего два года. Он тихонечко плакал и звал:
— Мама-а-а… ма-а-а-ма-а-а…
Тогда однажды я решил подойти к нему.
— Ну, здравствуй, орёл! — весело сказал я, как мне обычно по утрам говорил мой папа.
— Да, — сказал Саша и перестал на секундочку плакать. Слово «здравствуй» он ещё не умел говорить.
— Хочешь? — спросил я и протянул ему конфетку.
— Дай, — сказал Саша, съел конфету и приготовился опять плакать, но я быстренько протянул ему вторую конфету.
Он съел и её, я — третью, он и третью съел и совсем забыл, что хотел плакать. Тогда я ему сделал из бумаги голубя, который замечательно летал; потом тоже из бумаги сделал такую птицу, которая могла махать крыльями, если её дёргали за хвост; потом, когда Саша оторвал птице хвост, я его научил пускать солнечный зайчик, и он пускал его, пока не зашло солнце.
Но тут принесли ужин, и нянечка попросила меня:
— Помоги нам, пожалуйста, покормить маленького.
И я стал Сашу кормить.
Я смотрел, как Вовина мама кормит Вову, и делал точно так же: она набирала неполную ложечку, и я набирал неполную ложечку; Вовина мама ждала, пока её Вова прожуёт всё до конца, и я ждал, пока мой Саша всё прожуёт; Вовина мама вытирала рот своему сыну, а я вытирал Саше.
Потом я перестелил своему Саше постель, уложил его поудобнее, а потом… потом Вовина мама тихонечко запела своему сыну колыбельную песню, а я не мог, потому что все детские колыбельные песни уже забыл.
Но тут я вспомнил одну песню, которую больше всего любил мой папа. Правда, она совсем не была колыбельной, а даже наоборот:
Наш паровоз вперёд лети,
В коммуне — остановка!
Иного нет у нас пути,
В руках у нас винтовка!
Конечно, эту песню надо было петь громко-громко, но я пел её тихонечко, поэтому она получилась совсем как колыбельная, и Саша уснул.
На другое утро, когда к мальчику Вове пришла его мама, Саше, наверное, очень захотелось, чтобы и рядом с ним сидела его мама.
Он потянул меня за руку и вдруг сказал:
— Мама…
Я немножко удивился, ведь я всё-таки был мальчик, но с той минуты он меня по-другому и не называл: «мама» и «мама».
«Мама, дай! Мама, на! Мама, иди…»
Теперь, когда он только начинал хныкать, я говорил:
— Саша, не плачь, мама здесь!
И он тут же успокаивался.
Назавтра Саше сделали операцию. Когда его привезли в нашу палату, он ещё спал, это ему дали такое специальное сонное лекарство — наркоз.
А когда он наконец проснулся, первым, кого он увидел перед собой, был я.
— Мама! — обрадовался он и улыбнулся.
Весь день я ухаживал за ним, выдавливал ему в стакан апельсин и поил соком, умывал, показывал разные фокусы и книжки с картинками, следил, чтобы он не слишком кувыркался в своей кроватке, а он всё время называл меня мамой и совсем не скучал со мной.
А ещё на другой день сделали операцию и мне. Как её делали, я, конечно, не помню, потому что мне тоже дали наркоз и я спал.
Проснулся я уже в своей палате. Сначала увидел лампочку над головой, потом стену, а потом кто-то меня погладил по щеке, и я увидел… Сашу. Он стоял босиком рядом с моей кроватью, трогал меня своей ладошкой и приговаривал:
— Мама… мама… мама…
И я тогда решил, когда я вырасту большой и у меня будет сын, я обязательно назову его Сашей. Только тогда я, конечно, буду не мамой, а папой.
Страницы: 1 2 3 4
Текст книги «Как я помог авиации»
Автор книги: Яков Сегель
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Яков Александрович Сегель
Как я помог авиации
Рисунки Германа Огородникова
Для тех, кто тянется вверх
Мой дорогой читатель!
Вполне возможно, что ты ещё не умеешь читать, просто ещё не успел научиться, но обязательно научишься, только немного позже. А пока эту книжку тебе прочтёт твоя мама, или твой папа, или твоя тётя, или твой дядя, или бабушка, или дедушка, или старший брат, или старшая сестра – в общем, кто-нибудь обязательно прочтёт.
И я пишу это предисловие не только для тебя, но и для тех, кто уже умеет читать.
…Я приподнимаюсь на цыпочки, оглядываюсь назад и вижу там, в прошлом, обыкновенного прекрасного мальчишку со светлой кучерявой головой.
Он тоже приподнимается на цыпочки, чтобы увидеть меня, а ещё он тянется вверх, потому что ему хочется поскорее вырасти.
Он носит моё имя, этот мальчик, но его ещё не называют по отчеству, и в этом его неоспоримое превосходство передо мной.
И мне захотелось рассказать о нём, ведь я знаю так много об этом мальчишке!
А ещё я думаю, что сегодняшним ребятам будет интересно с ним познакомиться, потому что во многом они похожи.
И для начала я вспомнил вот что:
Как я был обезьянкой
Когда я был уже не очень маленький, но ещё не совсем большой, когда мне было три с половиной года, папа в один прекрасный день сказал:
– Мы идём в цирк!
Ну, я, конечно, тут же запрыгал и закричал что было сил:
– Ура! Ур-ра!
Мама тоже очень обрадовалась, но кричать и прыгать не стала: взрослые почему-то это делать стесняются.
Мы все очень любили цирк – и папа, и мама, и я. но в этот прекрасный день там было особенно интересно, так как в цирке выступал папин друг, знаменитый дрессировщик зверей Анатолий Анатольевич Дуров.
И его отец, и дяди, и племянники, и другие родственники – все были дрессировщиками. Они дрессировали самых разных животных, учили их самым невероятным штукам, и звери с удовольствием выступали в цирке перед зрителями, потому что все Дуровы очень любили своих питомцев, никогда не обижали их и не наказывали.
Сделает, например, заяц всё как следует (а он умел бить в барабан), Дуров тут же даёт ему морковку. А все зайцы, между прочим, любят морковку больше всего на свете, морковку и капусту.
Кошке Дуров давал молочко, медведю – мёд, козе – берёзовые веники, а мышкам-сладкоежкам – сахар.
Вот только я не знаю, что он давал лисе, чтобы она дружила с петухом, и что он давал волку, чтобы тот не обижал козу. Так до сих пор и не знаю, а спросить об этом Дурова в детстве как-то не успел.
Но самое замечательное, чему научил Дуров своих животных, – это ездить на поезде!
Папа так много мне рассказывал об этом, что скоро мне даже стало казаться, что я сам, своими собственными глазами видел этот удивительный поезд.
Всё в этом поезде было точь-в-точь как в настоящем, только маленькое: впереди пыхтел настоящий, но маленький паровоз, а за ним по маленьким рельсам катились настоящие, но маленькие вагончики. На паровозе в костюме машиниста ехала обезьянка. Дуров научил её высовываться в окошко и дёргать за специальную верёвочку – тогда паровоз громко гудел.
А когда поезд прибывал на станцию, Анатолий Анатольевич угощал машиниста сладкими орешками.
Только бедного слона не брали в поезд, потому что он был такой громадный, что не помещался ни в один вагон, и такой тяжёлый, что мог раздавить всю железную дорогу.
Чтобы слон сильно не расстраивался, на него надели громадную красную фуражку и назначили начальником станции. Теперь, когда нужно было отправлять поезд, слон звонил в большой медный колокол, полосатый енот поднимал семафор, обезьянка-машинист давала гудок, паровоз дёргал, и сразу из всех вагонных окон высовывались головы разных зверят.
А бедный слон только грустно махал своим печальным хоботом вслед поезду, тяжело вздыхал и очень жалел, что вырос такой большой и поэтому не может покататься вместе со всеми.
И вот мы идём в цирк!
Сегодня наконец я сам увижу эту замечательную железную дорогу!
Приходим к Дурову, а он сидит грустный-грустный и чуть не плачет.
– Толик, что с тобой? – говорит мой папа. – Что случилось?!
– Ах, Саша! – отвечает Дуров. – Яшенька заболел…
– Что вы! – удивилась моя мама и посмотрела на меня. – Он совершенно здоров!
– Нет, – грустно усмехнулся Дуров, – заболел не ваш сын Яша, а моя обезьянка Яшка, машинист нашего поезда.
– А что с ней? – спросила моя мама. – Может, животик?
– Не знаю, – вздохнул Дуров. – Она же не разговаривает и объяснить мне не может.
– Значит, железной дороги не будет? – спросил я.
Дуров только развёл руками:
– Значит, не будет, без машиниста нам не обойтись.
– Жалко обезьянку, – сказал папа. – Ну что ж, Толик, до свидания. Передавай привет своему машинисту Яшке, пусть поправляется поскорее. А мы пойдём в зрительный зал садиться на свои места, а то скоро уже представление начнётся.
Мне было очень жалко обезьянку и обидно, что не увижу железной дороги.
– Ты, Яшенька, не расстраивайся, – сказала мне моя мама. – Доктор посмотрит обезьянку, даст ей лекарство, и когда она будет опять здорова, мы ещё раз придём к дяде Дурову.
Мы.все встали, чтобы уходить, но тут знаменитый дрессировщик вдруг посмотрел на меня как-то особенно и сказал:
– Подождите, подождите! Мне, кажется, пришла в голову одна замечательная мысль! – И Дуров спросил меня: – Ты смелый мальчик?
Я на всякий случай прижался к маме и сказал еле слышно:
– Смелый…
– Кажется, мы спасены! – воскликнул Дуров и спросил меня – Хочешь сегодня быть обезьянкой?.. То есть я хотел сказать – машинистом! Хочешь? А?
Я даже не знал, что сразу ответить, но мама мне помогла:
– Ну обезьянкой, наверное, нет, – сказала она, – а машинистом, наверное, да.
– Конечно, не обезьянкой! – рассмеялся Дуров. – Я только хочу просить вашего Яшеньку прокатиться в костюме нашего Яшки на нашем паровозе, вот и всё. И не волнуйтесь, пожалуйста, ничего опасного. Хорошо?
– Не знаю, – сказала мама. – Надо спросить у мужчин. – И она спросила у папы и у меня: – Ну как, мальчики?
– Соглашайся, сынок! – сказал папа. – Другого такого случая в жизни не будет! Эх, был бы я сам поменьше ростом!..
В эту минуту мой папа был похож на слона, которого не брали в поезд.
– Ну, – Дуров ласково заглянул мне в глаза, – согласен?
– Хорошо, – сказал я еле слышно.
– Мы ничего не поняли, – сказала мама. – Говори, пожалуйста, громче.
– Ты же у нас смелый, – сказал папа.
И тогда я почти крикнул:
– Да!
Что тут началось!
Не успел я опомниться, как меня уже одевали в костюм машиниста, он пришёлся на меня в самый раз – мы с обезьянкой Яшкой оказались одного роста. Железнодорожную фуражку мне нахлобучили поглубже, из-под лакированного козырька торчал только кончик моего носа.
А из зрительного зала до нас долетала музыка – там, наверное, уже началось представление!
Я очень любил цирк и тут же представил себе, как на ярко освещённый манеж (манежем называется цирковая сцена) вышел седой мужчина в чёрном костюме – шпрехшталмейстер – и объявил:
«Первым номером нашейпро-гр-р-р-аммы!..» – и выпустил на манеж ловких и сильных акробатов. Они уже, наверное, ходят там сейчас по красному ковру на руках, делают разные сальто-мортале и всякие другие трюки!..
А потом там, на манеже, весёлые жонглёры станут кидать и ловить сразу двадцать разноцветных шариков, а на голове у них в это время будет свистеть кипящий самовар.
Там будут кувыркаться и смешно падать в опилки смешные клоуны.
Там, на манеже, будет, наверное, и ещё очень много интересного, но я всего этого теперь не увижу, потому что надо помогать Дурову, ведь только я могу заменить больную обезьянку.
Пока я так думал, из меня делали машиниста: чтобы никто не мог догадаться, что вместо обезьянки на паровозе едет нормальный мальчик, мне намазали лицо специальной коричневой краской – гримом, а на руки мне мама надела свои перчатки.
И наконец дядя Толя Дуров показал мне свой паровоз. Он был зелёный, с чёрной трубой, с блестящими медными фонарями и медными краниками.
– Всё очень просто, – сказал Дуров. – Ничего не трогай, он сам поедет, когда нужно.
– А гудок? – спросил я.
– Молодец! – похвалил Дуров. – Гудок – это самое главное! Как дёрнешь за эту верёвку, паровоз загудит. Понял?..
Ну конечно, я всё понял, и мне очень хотелось хорошенько рассмотреть этот паровоз, но кругом было так много и другого интересного, что у меня просто сразу разбежались глаза.
А через минуту я уже совсем не жалел, что не попал на представление. Оказывается, цирковые» артисты, прежде чем выйти на манеж, раз по десять проделывают все свои трюки и фокусы здесь, за кулисами.
Зритель сидит себе спокойненько на своих местах и даже не подозревает, что в это время в цирковых коридорах – за кулисами – идёт напряжённая работа, подготовка к представлению: запрягают цирковых лошадей в яркие, праздничные сбруи, до блеска натирают цирковые велосипеды, фокусники готовят свои удивительные чудеса, а канатоходцы проверяют канаты.
Здесь, за кулисами, я увидел даже больше, чем мог бы увидеть, сидя на своём месте в зрительном зале.
Но тут все забегали, заволновались – начиналось выступление Анатолия Анатольевича Дурова.
– Будь молодцом! – сказал он мне. – Жду тебя на манеже!
Анатолий Анатольевич широко заулыбался, потому что к зрителям он всегда появлялся только с улыбкой, и вышел от нас на освещённый манеж. И тут же мы услышали оттуда радостные аплодисменты– это зрители здоровались со своим любимым артистом.
Ой!.. Мне становилось то холодно, то жарко, ведь через минуту должен буду выехать на паровозе и я…
Мама стояла рядом и то бледнела, то краснела – она волновалась больше всех.
– Наш сын уже, кажется, пахнет обезьянкой, – пошутила мама от волнения.
– Пустяки! – Папа тоже волновался. – Вечером отмоем все запахи. Ототрём!
И тут откуда-то издалека раздался громкий голос:
– Давайте железную дорогу!
Мне стало страшно, но я не заплакал, потому что машинисты не плачут, и мы покатились по какому-то тёмному коридору.
Потом какой-то весёлый человек крикнул:
– Ну, Яшка, не бойся! Гуди побольше, машинист! Счастливого пути!
Я дёрнул за верёвку, паровоз загудел, и из тёмного коридора мы выкатились на освещённый манеж.
Играла прекрасная музыка, зрители весело смеялись и громко хлопали: они ждали, когда появится поезд с дуровскими животными.
Мой паровоз гудел, и я даже не заметил, как перестал бояться.
Так мы проехали целых три круга, а потом Дуров тут же, при зрителях, угощал всех пассажиров: зайцу дал морковку, кошке – молочка, мышкам – сахару, а мне – сладких орешков.
*
…Как давно был этот прекрасный день!
Сейчас я, наверное, уже тоже похож на слона, которого нельзя пускать в маленький поезд…
С тех пор мне никогда не попадались такие вкусные орешки.
Как я помог авиации
Когда мне было четыре года и пять месяцев, самолёты ещё назывались аэропланами, а лётчики – пилотами.
Многое с тех пор переменилось. Ну, например, сейчас всем в диковинку, если по городу лошадь тащит телегу, а тогда лошадей и телег на улицах было столько, сколько сегодня автомобилей, и никто этому не удивлялся. Зато автомобили тогда встречались редко, а о самолётах, то есть аэропланах, и говорить нечего.
Это было давно…
Однажды летом папа, мама и я отправились за город на аэродром. Сюда для показательных полётов должен был прилететь на новом аэроплане один знаменитый пилот, с которым мой папа был знаком с самого детства.
В тот прекрасный, безоблачный день в наш город прилетели даже не один, а целых два аэроплана: на одном папин друг, на другом незнакомый нам пилот.
Заиграл оркестр.
Зрители знали, что сейчас увидят в небе нечто удивительное, и заранее в благодарность за это подарили обоим лётчикам, то есть пилотам, букеты цветов. Потом подняли пилотов на руки и стали подбрасывать высоко в воздух.
Подбрасывали их довольно осторожно, чтобы отважных гостей не укачало.
Наконец их опустили на землю, и мой папа обнялся и расцеловался со знаменитым пилотом, ведь он был его старым товарищем.
А потом знаменитый пилот надвинул на глаза выпуклые очки и залез в свой аэроплан. Механик раскрутил пропеллер. Поднялся такой сильный ветер, что трава заходила волнами, а те, кто был в шапках, схватились за них руками, чтобы шапки не сдуло.
Аэроплан затрещал и покатился по траве, покачиваясь и переваливаясь, как утка. Потом подпрыгнул слегка и полетел.
Все тут же захлопали в ладоши от радости.
Так начались показательные полёты. Пилоты на своих аэропланах по очереди стали показывать просто настоящие чудеса! Эти чудеса на их языкё назывались фигурами высшего пилотажа.
Первым летал папин друг.
Для начала он показал нам «горку». Для этого пилот разогнал свой аэроплан побыстрее, а потом с разгону взлетел на нём вверх, будто на санках в горку.
Потом мы увидели «пике» – это когда аэроплан смело ныряет с большой высоты носом вниз, падает, падает, падает и выравнивается уже над самой землёй.
У всех зрителей даже дух захватило, а машина так низко и с таким оглушительным треском пронеслась над нашими головами, что многие опять схватились за шапки, а некоторые от испуга даже присели на корточки, но всё же успели заметить, что пилот улыбается из своей кабины и машет кожаной перчаткой.
Я уже подумал, что теперь этот аэроплан сядет на землю отдохнуть, но он вдруг стал подниматься всё выше, и выше, и выше и, наконец, забрался так высоко, что стал похож на небольшую птицу.
– Сейчас, наверное, сделает «мёртвую петлю», – негромко сказал мой папа и угадал.
Аэроплан понёсся к земле носом вниз. Всё ниже, ниже, ниже… Потом, когда все уже опять готовы были испугаться, он перестал падать, выровнялся, начал задирать нос вверх, перекувырнулся в воздухе – сделал знаменитую «мёртвую петлю», снова выровнялся и, наконец, сел на землю, приземлился.
Все, конечно, опять громко захлопали, но тут затрещал другой аэроплан, взлетел, и зрители стали смотреть, что будет показывать второй пилот.
А мы с папой побежали к аэроплану папиного друга.
– Ну, – спросил меня папин друг, – понравилось?
Я кивнул:
– Очень!
– А сколько тебе лет? – спросил пилот.
– Четыре года и пять месяцев, – сказал я и показал ему свой возраст на пальцах.
– Ого! – удивился пилот. – Солидно!
А я уставился на него, как на какого-нибудь богатыря из сказки.
Пилот был одет во всё кожаное: кожаный шлем, кожаная куртка, кожаные перчатки, кожаные ботинки, а над ними до колен, похожие на бутылки, кожаные краги. Даже штаны на нём были кожаные.
– А катать желающих будешь? – спросил папа.
– Обязательно, – сказал пилот. – Только потом. Полетаю ещё немного, бензина станет поменьше, аэроплан полегче, тогда покатаю. А то, я смотрю, ты вырос очень большой и стал, пожалуй, чересчур тяжёлый!.. Сколько же мы с тобой не виделись?
– Целых десять лет, – вздохнул мой папа. Он, должно быть, действительно за это время сильно вырос и стал очень большой и тяжёлый: ростом метра два и весом килограммов сто.
– А вот сынишка у тебя ещё лёгонький, – сказал пилот и поднял меня высоко над головой. – Его бы я мог покатать хоть сейчас! Мне как раз не хватает килограммов двадцать добавочного груза.
Он опустил меня на землю и посмотрел на папу, папа – на него. Потом оба они посмотрели на меня, и пилот спросил:
– Ну как, хочешь помочь авиации?
Он, наверное, думал, что я испугаюсь летать, но я не испугался. То есть мне, конечно, было страшно, но я сделал смелое лицо и сказал:
– Очень хочу! – И на всякий случай добавил: – Пожалуйста!
Папа сам подсадил меня в кабину. Пилот пристегнул меня к сиденью специальными ремнями, чтобы я случайно не вывалился на лету из аэроплана.
У пилота даже нашёлся для меня настоящий кожаный шлем и настоящие очки, как у него самого. Теперь и я стал похож на настоящего пилота.
Мотор взревел, поднялся страшный ветер, и мы покатились по полю.
«Подумаешь! – подумал я, – едем, как будто на трамвае или автобусе. Ничего особенного».
Пилот помахал моему папе рукой, и я помахал моему папе рукой; пилот надвинул очки, и я надвинул очки. Аэроплан разогнался как следует, оторвался от земли, и мы стали подниматься всё выше и выше.
Теперь аэроплан перестал казаться мне похожим на трамвай или автобус. Люди внизу стали маленькими-маленькими, как муравьи, и я уже, конечно, не мог узнать среди них, где там мои мама и папа.
Тут пилот обернулся ко мне и спросил что-то, чего я не услышал за шумом мотора.
Он мог спросить меня:
– Нравится?
Или он мог спросить:
– Боишься?
Я не хотел обманывать пилота и покивал ему головой. Ведь это была правда – мне очень нравилось летать, хотя и было немножко страшно.
Наш самолёт качало, как будто он ехал по неровной дороге. Что-то в нём скрипело, трещало, но пилот впереди меня был совсем спокоен, и я тоже успокоился.
А внизу, на земле, в это время происходило вот что (это уже потом рассказывали мои родители). Папа как ни в чём не бывало подошёл к зрителям, которые стояли задрав головы вверх, и как ни в чём не бывало стал рядом с мамой.
– Какая всё-таки прелесть этот аэроплан! – воскликнула мама.
– Да, – согласился папа.
– Как он плавно летит! – сказала мама. – Просто плывёт по воздуху!
– Да, – опять сказал папа и почему-то вздохнул.
Тут мама только на одну секундочку оторвала глаза от аэроплана и посмотрела вниз, туда, где возле папиного колена должен был стоять я.
– А где наш сын? – улыбнулась мама. Она подумала, что я прячусь за папой. – Где же он?
– Там, – сказал папа как можно спокойнее.
– Где? – Мама ещё ничего не поняла, но улыбаться уже перестала.
– Там, – как можно спокойнее повторил папа и показал на небо.
– Не пугай меня, пожалуйста, – попросила мама. – Серьёзно, где он?
– Летает.
Хотя папа очень волновался, он постарался сказать «летает» так, как будто это было «гуляет», совсем спокойно.
Теперь папа и мама волновались вместе.
– По-моему, – сказала мама, – этот аэроплан летает слишком быстро.
– Так только кажется, – успокоил её папа. – По-моему, он летает нормально.
– Не знаю, – сказала мама, – но, по-моему, ему уже пора спускаться.
Тут аэроплан, как будто услышал маму, пошёл на снижение и скоро сел невдалеке.
Наверное, ни мама, ни папа ещё никогда в своей жизни не бегали так быстро.
Пилот даже не успел спрыгнуть на землю, а мои мама и папа уже вытащили меня из аэроплана.
Они меня тискали, целовали, вертели, осматривали, как будто не видели уже целый год.
Они так крепко вцепились в меня, что от них невозможно было вырваться, и тогда я закричал что было сил:
– Минуточку!!!
Услышав это, мама и папа даже застыли от удивления, а я спокойно снял кожаный шлем с очками, отдал их пилоту и сказал:
– Большое спасибо за полёт.
– Это тебе спасибо, – сказал пилот. – Моему аэроплану как раз не хватало такого смелого мальчика килограммов около двадцати. Давай твою руку, ты очень помог нашей авиации. Спасибо!
Как я был мамой
Однажды, когда я был уже вполне большой и учился в первом классе, у меня заболел живот.
Дежурный учитель очень удивился, почему это вдруг я перестал носиться как пуля, а сел прямо на пол посредине школьного коридора и сижу.
– А ну-ка поднимайся сейчас же! – сказал он.
Я попробовал.
– Ой! – вскрикнул я и стал белый как мел.
Тут учитель тоже стал белый как мел и остановил двух мальчиков из второго класса – Юлика и Валерика. Оба они носили очки, на переменах не бегали как угорелые, не кричали, а спокойно прогуливались и беседовали о разном.
– А ну-ка, хлопцы, помогите солдату! – сказал учитель, и они втроём потащили меня к школьному врачу.
Мне очень понравилось, что учитель назвал меня солдатом, и я тут же придумал про себя, что ранен в бою с врагами.
– Возможно, это аппендицит, – сказал доктор и вызвал по телефону «скорую помощь».
Когда меня понесли на носилках вниз, вся школа сбежалась смотреть.
Ну я, конечно, тут же придумал, что все они – и ученики и учителя – прибежали проводить меня, своего защитника.
Только нянечка из школьного гардероба не знала, в чём дело, и, когда меня проносили мимо неё, проворчала:
– Допрыгался один, доигрался!..
Наша «скорая помощь» летела по городу как ветер, и все другие машины уступали ей дорогу, а она пронзительно гудела: «Дорогу! Дорогу!!! Я спасаю раненого гер-р-р-о-я-я-я!!!» – и пролетала на красные светофоры.
Доктор в больнице пощупал мой живот и сказал:
– Аппендицит. Надо оперировать.
Меня тут же раздели, помыли в ванне и, чистого, в больничной пижаме, привезли на каталке в большую белую комнату – палату.
Я огляделся. В палате, кроме моей, стояло ещё три кровати, покрашенные в белый цвет. На этих кроватях лежали разные мальчики.
В углу у дверей лежал Серёжа.
Ему уже исполнилось целых десять лет, и он учился в четвёртом классе. Серёже пять дней тому назад сделали операцию – вырезали его аппендикс, и он выздоравливал – бродил целыми днями по палатам с шахматами под мышкой и искал, с кем бы поиграть.
Он уже обыграл всех ребят, у которых ещё не вырезали аппендикс, всех, у которых его уже вырезали, и теперь ему очень хотелось сразиться с главным доктором, но у того никогда не было ни одной свободной минутки, он всё время вырезал у ребят аппендиксы.
Аппендикс – это такой совершенно ненужный отросток у одной из кишок. Если он не болит, то его и не надо трогать, а уж если заболит, то лучше его удалить, а то он может доставить человеку много неприятностей.
В углу у окна лежал другой мальчик – Вова. Этому Вове было всего два года, ему тоже уже три дня, как удалили аппендикс. Теперь он должен был немножко полежать спокойно, но он всё время вертелся на своей кроватке и громко смеялся, такой уж у него был весёлый характер.
Доктор позволил Вовиной маме сидеть рядом со своим сыном, потому что Вова был ещё маленький, а его мама жила в этом же городе, недалеко от больницы, и ещё потому, что никто, кроме этой мамы, не мог успокоить этого весёлого Вову.
Мама кормила Вову, умывала его и старалась, чтобы он не слишком шалил.
А ещё в нашей палате в другом углу, у другого окна, лежал другой мальчик – Саша. Ему через два дня тоже должны были вырезать аппендикс. А мне через четыре.
Саше, как и Вове, было всего два года, но возле него не сидела его мама, потому что она жила далеко от нашего города, в колхозе, и там у неё ещё была Сашина сестричка, совсем маленькая.
Саша очень скучал без мамы, ведь ему было всего два года. Он тихонечко плакал и звал:
– Мама-а-а… ма-а-а-ма-а-а…
Тогда однажды я решил подойти к нему.
– Ну, здравствуй, орёл! – весело сказал я, как мне обычно по утрам говорил мой папа.
– Да, – сказал Саша и перестал на секундочку плакать. Слово «здравствуй» он ещё не умел говорить.
– Хочешь? – спросил я и протянул ему конфетку.
– Дай, – сказал Саша, съел конфету и приготовился опять плакать, но я быстренько протянул ему вторую конфету.
Он съел и её, я – третью, он и третью съел и совсем забыл, что хотел плакать. Тогда я ему сделал из бумаги голубя, который замечательно летал; потом тоже из бумаги сделал такую птицу, которая могла махать крыльями, если её дёргали за хвост; потом, когда Саша оторвал птице хвост, я его научил пускать солнечный зайчик, и он пускал его, пока не зашло солнце.
Но тут принесли ужин, и нянечка попросила меня:
– Помоги нам, пожалуйста, покормить маленького.
И я стал Сашу кормить.
Я смотрел, как Вовина мама кормит Вову, и делал точно так же: она набирала неполную ложечку, и я набирал неполную ложечку; Вовина мама ждала, пока её Вова прожуёт всё до конца, и я ждал, пока мой Саша всё прожуёт; Вовина мама вытирала рот своему сыну, а я вытирал Саше.
Потом я перестелил своему Саше постель, уложил его поудобнее, а потом… потом Вовина мама тихонечко запела своему сыну колыбельную песню, а я не мог, потому что все детские колыбельные песни уже забыл.
Но тут я вспомнил одну песню, которую больше всего любил мой папа. Правда, она совсем не была колыбельной, а даже наоборот:
Наш паровоз вперёд лети,
В коммуне – остановка!
Иного нет у нас пути,
В руках у нас винтовка!
Конечно, эту песню надо было петь громко-громко, но я пел её тихонечко, поэтому она получилась совсем как колыбельная, и Саша уснул.
На другое утро, когда к мальчику Вове пришла его мама, Саше, наверное, очень захотелось, чтобы и рядом с ним сидела его мама.
Он потянул меня за руку и вдруг сказал:
– Мама…
Я немножко удивился, ведь я всё-таки был мальчик, но с той минуты он меня по-другому и не называл: «мама» и «мама».
«Мама, дай! Мама, на! Мама, иди…»
Теперь, когда он только начинал хныкать, я говорил:
– Саша, не плачь, мама здесь!
И он тут же успокаивался.
Назавтра Саше сделали операцию. Когда его привезли в нашу палату, он ещё спал, это ему дали такое специальное сонное лекарство – наркоз.
А когда он наконец проснулся, первым, кого он увидел перед собой, был я.
– Мама! – обрадовался он и улыбнулся.
Весь день я ухаживал за ним, выдавливал ему в стакан апельсин и поил соком, умывал, показывал разные фокусы и книжки с картинками, следил, чтобы он не слишком кувыркался в своей кроватке, а он всё время называл меня мамой и совсем не скучал со мной.
А ещё на другой день сделали операцию и мне. Как её делали, я, конечно, не помню, потому что мне тоже дали наркоз и я спал.
Проснулся я уже в своей палате. Сначала увидел лампочку над головой, потом стену, а потом кто-то меня погладил по щеке, и я увидел… Сашу. Он стоял босиком рядом с моей кроватью, трогал меня своей ладошкой и приговаривал:
– Мама… мама… мама…
И я тогда решил, когда я вырасту большой и у меня будет сын, я обязательно назову его Сашей. Только тогда я, конечно, буду не мамой, а папой.
— Там, — как можно спокойнее повторил папа и показал на небо.
— Не пугай меня, пожалуйста, — попросила мама. — Серьёзно, где он?
— Летает.
Хотя папа очень волновался, он постарался сказать «летает» так, как будто это было «гуляет», совсем спокойно.
Теперь папа и мама волновались вместе.
— По-моему, — сказала мама, — этот аэроплан летает слишком быстро.
— Так только кажется, — успокоил её папа. — По-моему, он летает нормально.
— Не знаю, — сказала мама, — но, по-моему, ему уже пора спускаться.
Тут аэроплан, как будто услышал маму, пошёл на снижение и скоро сел невдалеке.
Наверное, ни мама, ни папа ещё никогда в своей жизни не бегали так быстро.
Пилот даже не успел спрыгнуть на землю, а мои мама и папа уже вытащили меня из аэроплана.
Они меня тискали, целовали, вертели, осматривали, как будто не видели уже целый год.
Они так крепко вцепились в меня, что от них невозможно было вырваться, и тогда я закричал что было сил:
— Минуточку!!!
Услышав это, мама и папа даже застыли от удивления, а я спокойно снял кожаный шлем с очками, отдал их пилоту и сказал:
— Большое спасибо за полёт.
— Это тебе спасибо, — сказал пилот. — Моему аэроплану как раз не хватало такого смелого мальчика килограммов около двадцати. Давай твою руку, ты очень помог нашей авиации. Спасибо!
Однажды, когда я был уже вполне большой и учился в первом классе, у меня заболел живот.
Дежурный учитель очень удивился, почему это вдруг я перестал носиться как пуля, а сел прямо на пол посредине школьного коридора и сижу.
— А ну-ка поднимайся сейчас же! — сказал он.
Я попробовал.
— Ой! — вскрикнул я и стал белый как мел.
Тут учитель тоже стал белый как мел и остановил двух мальчиков из второго класса — Юлика и Валерика. Оба они носили очки, на переменах не бегали как угорелые, не кричали, а спокойно прогуливались и беседовали о разном.
— А ну-ка, хлопцы, помогите солдату! — сказал учитель, и они втроём потащили меня к школьному врачу.
Мне очень понравилось, что учитель назвал меня солдатом, и я тут же придумал про себя, что ранен в бою с врагами.
— Возможно, это аппендицит, — сказал доктор и вызвал по телефону «скорую помощь».
Когда меня понесли на носилках вниз, вся школа сбежалась смотреть.
Ну я, конечно, тут же придумал, что все они — и ученики и учителя — прибежали проводить меня, своего защитника.
Только нянечка из школьного гардероба не знала, в чём дело, и, когда меня проносили мимо неё, проворчала:
— Допрыгался один, доигрался!..
Наша «скорая помощь» летела по городу как ветер, и все другие машины уступали ей дорогу, а она пронзительно гудела: «Дорогу! Дорогу!!! Я спасаю раненого гер-р-р-о-я-я-я!!!» — и пролетала на красные светофоры.
Доктор в больнице пощупал мой живот и сказал:
— Аппендицит. Надо оперировать.
Меня тут же раздели, помыли в ванне и, чистого, в больничной пижаме, привезли на каталке в большую белую комнату — палату.
Я огляделся. В палате, кроме моей, стояло ещё три кровати, покрашенные в белый цвет. На этих кроватях лежали разные мальчики.
В углу у дверей лежал Серёжа.
Ему уже исполнилось целых десять лет, и он учился в четвёртом классе. Серёже пять дней тому назад сделали операцию — вырезали его аппендикс, и он выздоравливал — бродил целыми днями по палатам с шахматами под мышкой и искал, с кем бы поиграть.
Он уже обыграл всех ребят, у которых ещё не вырезали аппендикс, всех, у которых его уже вырезали, и теперь ему очень хотелось сразиться с главным доктором, но у того никогда не было ни одной свободной минутки, он всё время вырезал у ребят аппендиксы.
Аппендикс — это такой совершенно ненужный отросток у одной из кишок. Если он не болит, то его и не надо трогать, а уж если заболит, то лучше его удалить, а то он может доставить человеку много неприятностей.
В углу у окна лежал другой мальчик — Вова. Этому Вове было всего два года, ему тоже уже три дня, как удалили аппендикс. Теперь он должен был немножко полежать спокойно, но он всё время вертелся на своей кроватке и громко смеялся, такой уж у него был весёлый характер.
Доктор позволил Вовиной маме сидеть рядом со своим сыном, потому что Вова был ещё маленький, а его мама жила в этом же городе, недалеко от больницы, и ещё потому, что никто, кроме этой мамы, не мог успокоить этого весёлого Вову.
Мама кормила Вову, умывала его и старалась, чтобы он не слишком шалил.
В одно прекрасное детство (fb2) — В одно прекрасное детство 309K скачать: (fb2) — (epub) — (mobi) — Яков Александрович Сегель
Яков Сегель
В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ ДЕТСТВО
Повесть в двух частях для тех, кто ещё не очень большой,
но уже и не такой маленький
Часть первая
КАК Я БЫЛ ОБЕЗЬЯНКОЙ
Глава первая
ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ
Самолёт летел по городу…
Да, да, это не ошибка! Он летел не НАД городом, а ПО городу.
Я уже знаю, вы сейчас скажете, так не бывает, самолёты летают только по небу, а по улицам — никогда!
Но не торопитесь. Пожалуйста, не торопитесь. Этот самолёт летел именно по городу, просто по городским улицам, прямо по тротуарам, где ходят пешеходы.
Он вылетел из дома на бульваре Космонавтов и полетел по проспекту Мира.
Один раз этот удивительный самолёт даже попробовал залететь в троллейбус номер четырнадцать, но у него ничего не получилось: троллейбусные двери оказались для него слишком узкими, а крылья — слишком широкими.
На того, кто управлял этим самолётом, даже закричали:
— Вы куда?!
В такси самолёт тоже не поместился, и тогда дед Петя решил тащить его на руках до самого того дома, где жил его внук, тоже Петя, которому он нёс этот самолёт в подарок.
Теперь вам понятно, почему самолёт летел не над городом, а по городу, по городским улицам, по тротуарам, где ходят пешеходы? Понятно?
Тогда слушайте дальше.
Глава вторая
ТИХИЙ УЖАС
А в это самое время Петины родители как ни в чём не бывало поднялись на лифте на шестой этаж, отперли дверь своей квартиры, вошли в прихожую и вдруг… насторожились: мебель стояла совсем не на своих местах, все вещи были разбросаны, и можно было подумать, что недавно здесь пронеслась сильная буря или произошло ужасное землетрясение.
Вполне возможно, эта буря ещё бушевала в большой комнате, потому что оттуда доносилось какое-то непонятное гудение.
Мама удивлённо поглядела на папу, папа — на маму, и оба на всякий случай побледнели.
А загадочное гудение в большой комнате становилось всё громче и громче и наконец превратилось в какое-то непонятное завывание. Можно было подумать, что это воет голодный волк.
Тогда испуганная мама на цыпочках подошла к двери, заглянула в неё и чуть было не упала от неожиданности.
Мамины глаза широко открылись, она побледнела ещё больше и прошептала дрожащими губами:
— Тихий ужас!…
Она, может быть, и упала бы, но сзади её поддержал Петин папа. Через мамино плечо он тоже заглянул в большую комнату, перестал бледнеть, покраснел и тоже сказал:
— Тихий ужас!..
Он бы, наверное, сам упал от неожиданности, но, во-первых, был мужчиной и должен был поддерживать Петину маму, чтобы не упала она, а во-вторых, за его спиной оказалась стена, которая поддержала его, как он поддержал маму.
Прямо перед мамой и папой, посреди большой комнаты, готовился взлететь другой замечательный самолёт. Он был почти как настоящий.
Глава третья
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ САМОЛЁТ ВНУКА ПЕТИ
Петя построил свой самолёт из всей мебели, какая только нашлась в квартире.
Спинки двух стульев, положенных набок, были точь-в-точь как крылья, а между их ножек получилась очень удобная кабина лётчика. Ну, все, конечно, знают, что перед лётчиком должны находиться приборы управления с кнопками и рычажками. Петя подумал и вместо приборов поставил перед собой на кухонный табурет папину пишущую машинку под названием «Эрика». Папа очень любил свою машинку, и поэтому Петя старался обращаться с ней очень аккуратно. Хвост своего самолёта Петя построил из четырёх других стульев, а кабину для пассажиров сделал из полосатой доски, на которой мама обычно гладила бельё.
Впереди самолёта крутился большой голубой вентилятор, а прямо за ним, там, где полагалось быть мотору, Петя поставил мамину швейную машину, она очень пригодилась для этого случая.
Как известно, всякий нормальный самолёт должен сильно гудеть. И Петя придумал — поставил под спинкой стула пылесос и включил его.
Только с большим платяным шкафом Петя не знал, что делать: он оказался таким тяжёлым, что его просто невозможно было сдвинуть с места. И тогда Петя сообразил: пусть этот шкаф будет аэровокзалом! Петя настежь распахнул его дверцы и теперь, когда нужно, заходил в него и выходил обратно по разным авиационным делам.
Всё наконец было готово, и наступило время посадки в самолёт.
Чтобы не скучать в полёте, Петя пригласил в пассажирскую кабину двух писателей: Александра Сергеевича Пушкина и Льва Николаевича Толстого. До посадки в самолёт их бронзовые бюсты скучали на папином столе далеко друг от друга, но теперь Петя так удобно поставил их рядом на полосатую гладильную доску, что Александр Сергеевич мог в полёте сколько угодно разговаривать с Львом Николаевичем о разных интересных вещах.
Петя зорко оглядел всю комнату: что бы ещё такое использовать в его самолёте?..
Ага! На шкафу стоял большой глобус… Отлично! Петя расположил его около своих ног. Теперь, если этот глобус слегка поворачивать, будет казаться, что летишь над земным шаром. Если, к примеру, земля на глобусе похожа на сапог, это значит, что самолёт летит над Италией, а если земля на глобусе точь-в-точь как собака, значит, ты летишь над Норвегией.
И Петя полетел!
Сначала его самолёт нёсся над самой землёй, потом стал подниматься выше, выше, выше, и вот уже под Петей поплыли облака, похожие на большие белые подушки.
— Стоп! — закричал Петя и бросился в спальню. Он принёс оттуда две большие подушки и положил их под спинки стульев, то есть под крылья.
Теперь действительно стало похоже, будто его самолёт летит высоко-высоко над облаками.
Но Петя не торопился лететь, ему ещё чего-то не хватало. Он подумал, подумал и вспомнил. Конечно, ему не хватало теперь только одного — гермошлема.
Вчера он сам видел по телевизору, что у настоящих лётчиков на голове обязательно бывает надет гермошлем, такой шлем, в котором всегда тепло и всегда есть воздух, даже если самолёт поднимается так высоко, что становится очень холодно и нечем дышать.
Значит, гермошлем просто совершенно необходим!
«А из чего его можно сделать? — подумал Петя. — Где его взять?..»
Подумал, подумал и тут же сообразил: «На кухне!»
Там в мамином хозяйстве было сколько угодно прекрасных кастрюль.
Но когда Петя стал примерять эти кастрюли себе на голову, то оказалось, что подходящую найти не так-то просто. Одни кастрюли были большие и тяжёлые, в них ничего не было видно, и они больно давили на плечи и макушку, а другие были такие маленькие, что даже не закрывали ушей и всё время падали с головы.
И вдруг Петя неожиданно наткнулся на кастрюлю, которая как будто только того и дожидалась, чтобы стать лётным гермошлемом. Она хорошо надевалась, плотно прижимала уши и не соскакивала, даже если сильно потрясти головой.
Ура! В такой кастрюльке, то есть в таком гермошлеме, можно было вполне отправляться в дальний рейс.
Петя опять забрался на своё пилотское место, нажал на кнопки папиной пишущей машинки, крутанул ногами глобус и… полёт продолжался снова.
Его самолёт летел высоко над облаками-подушками, а далеко внизу поворачивался земной шар — глобус. Петя уже пролетел над Италией, похожей на сапог, над Норвегией, похожей на собаку, когда в дверь вошли папа и мама, побледнели и сказали:
— Тихий ужас!..
Глава четвёртая
ЧТО ТУТ НАЧАЛОСЬ!
И мама и папа, конечно, очень рассердились, что все вещи лежат не на своих местах.
Пете казалось, что он построил замечательный самолёт, а маме и папе казалось, что он устроил страшный беспорядок. Ну и конечно, родители тут же стали разрушать Петин самолёт и расставлять всё по прежним местам.
Первым делом папа отобрал у Пети свою любимую пишущую машинку под названием «Эрика».
— Это же мои приборы! — простонал Петя.
— Ха-ха! — сказал папа. — Пока ещё это моя машинка!
— А это мой мотор! — попробовал объяснить Петя своей маме, но та даже не захотела его слушать.
— Ошибаешься! — заявила она и вынула из-под лётчика свою швейную машину.
Тут папа схватил Льва Николаевича Толстого и Александра Сергеевича Пушкина, прижал их к груди и грозно спросил сына:
— Ну хорошо, а писатели, они тебе кто — приятели?! Папа так сердился, что даже сам не заметил, как заговорил стихами: «писатели — приятели». Это получилось, наверное, потому, что он прижимал к себе бронзового Пушкина, а Пушкин, как известно, довольно хорошо сочинял стихи.
А мама уже ставила на место свою гладильную доску и поднимала с пола стулья, которые до сих нор были самолётными крыльями.
Без лишних разговоров Петин гермошлем опять превратился в обыкновенную кастрюлю, мотор перестал гудеть, потому что папа выключил пылесос, остановился вентилятор, стулья заняли свои прежние места вокруг стола.
— За что вы на меня сердитесь? — спросил Петя своих родителей. — Я же только немного хотел полетать.
Тут папа стал похож на чайник, который закипел и на котором начала подпрыгивать крышечка. От волнения у него снова — совершенно случайно — получились стихи:
На стульях нечего летать!
Иди-ка, милый, лучше спать.
Папа говорил негромко и вежливо, но грозно.
Петя хотел было сказать, что ему ещё рано укладываться, что из телевизора ещё не сказали: «Спокойной ночи, мальчики, спокойной ночи, девочки…» Но он даже не успел раскрыть рот, как папа подхватил его под мышку, будто он какой-нибудь портфель, и понёс в детскую.
Через секунду с него сняли штаны, ещё через секунду — трусики, ещё через секунду — рубашку, а ещё через секунду на Петю надели пижамку, уложили в постель, накрыли одеялом, потушили свет и закрыли дверь.
Петя остался один.
Он лежал, отвернувшись к стене, и думал: «Ну почему маме и папе совсем не понравился мой самолёт?..»
Глава пятая
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ САМОЛЁТ ДЕДА ПЕТИ
И вот как раз в это самое время по городу летел самолёт, который нёс Пете Петин дед Петя.
Он сделал свой самолёт сам, своими руками, из разных палочек, прутиков, бумаги, ниток, блестящих обёрток от конфет, старых медных пуговиц из разной ненужной чепухи, которую дед Петя вовсе не считал чепухой, а терпеливо собирал уже много лет.
Когда-то очень давно дед Петя работал киномехаником. Целыми днями и вечерами он трудился у своего киноаппарата. Он показывал людям кино и, конечно, смотрел его сам. Тогда, давно, он показал и просмотрел, может быть, миллион фильмов.
А теперь он состарился, стал пенсионером, не работал и очень скучал оттого, что ему нечем заняться.
И вот однажды он решил построить своему внуку Пете этот самолёт.
Сначала он нарисовал его на бумаге.
— Да-а… — покачала головой Петина бабушка. — Чего это ты тут накалякал? Это что — скамейка или вешалка для пальто?.. Не пойму никак…
Дедушка только засопел и взял чистый лист бумаги. Он знал, что, раз начал, нужно работу довести до конца. И он нарисовал самолёт ещё раз. Дед Петя очень старался, и второй рисунок получился у него уже лучше, чем первый. Дедушка нарисовал третий, четвёртый, и наконец перед ним на бумаге получился замечательный самолёт, точно такой, какие летали в дедушкиной молодости.
Дед Петя даже немного подпрыгнул от радости и тихонько крикнул «ура».
— Ты чего, старый, распрыгался? — удивилась бабушка и заглянула через плечо деда. Теперь рисунок понравился даже ей. — Молодец! — похвалила она и погладила дедушку по лысине. — Ты у меня настоящий художник!
Дед Петя ещё немного полюбовался своим рисунком и приступил к постройке самолёта.
У него была специальная коробка, куда он складывал всякие винтики, гвоздики, колёсики, проволочки, дощечки, шарики, гайки, трубки и разное другое. Во второй коробке у него хранился инструмент: молоток, клещи, плоскогубцы, круглогубцы, несколько напильников, стамеска, пила, шило — в общем, всё, что может понадобиться.
В молодости жена дедушки, Петина бабушка, сердилась на деда Петю, ворчала на него за то, что он тащит в дом разный мусор, но с годами она поняла, что это совсем не мусор, а очень полезные вещи, которые когда-нибудь могут пригодиться.
Ну вот, например, поломанный игрушечный автомобиль на трёх колёсах, кому он нужен? А дед Петя решил взять от него два колеса на резиновых шинах и приделать их к своему самолёту. Или вот старая пластмассовая бутылка из-под растительного масла… Куда её приспособить? А дед Петя придумал: если эту бутылку хорошенько вымыть и правильно разрезать, из неё вполне может получиться великолепная кабина лётчика. Или старый ботинок. Ну на что он годен?! Тут дедушке помогла бабушка:
— Из ботинка можно сделать кожаные сиденья для лётчиков.
И действительно, сиденья получились совсем как настоящие, только маленькие.
Впереди своего самолёта дедушка приладил маленький электромотор, внутри спрятал батарейку, и теперь, когда нужно, у самолёта как бешеный крутился пропеллер.
Оставалось только покрасить самолёт, и всё, и он будет готов. Но, наверное, дед Петя не смог бы сделать это так аккуратно и красиво, если бы ему всё время не давала советы Петина бабушка. Она подсказывала и как нужно держать кисточку, и как обмакивать её в краску, и как водить ею по самолёту, чтобы не капнуть на стол и не испачкать собственные брюки. Бабушка, как всегда, знала про всё больше, чем дедушка, и он с ней даже не спорил.
— И чего-то всё-таки не хватает, — сказала бабушка, когда они вместе с дедушкой со всех сторон осмотрели готовый самолёт.
Он был совсем как настоящий, но только маленький. Маленький, но не очень: когда дедушка раскинул руки в стороны, он еле-еле смог дотянуться от одного конца крыла до другого.
Самолёт получился таким, какие летали, когда дедушка и бабушка были ещё молодыми, а внука Пети даже на свете не было. Ведь внук Петя родился всего пять с половиной лет назад, и, значит, ему исполнилось только пять с половиной лет.
Дед Петя надел шляпу и собрался уже нести своего красавца в подарок внуку Пете, но вдруг его остановила бабушка.
— А звёзды?! — закричала она. — Я так и знала заранее, что ты обязательно что-нибудь забудешь! Ты же забыл нарисовать на крыльях пятиконечные красные звёзды!
Дедушка уже привык к тому, что бабушка обо всём знала заранее, но всё-таки спросил:
— А почему же ты мне это заранее не подсказала?
— Я просто заранее хотела, — строго сказала бабушка, — чтобы ты об этом догадался сам.
Глава шестая
ВСЕ ВЗРОСЛЫЕ — БЫВШИЕ ДЕТИ
И вот, как вы уже знаете, зелёный самолёт с красными звёздами на крыльях летит по улицам.
А мимо него идут разные люди, и все думают о разном.
Вот, например, идёт физик. Он совсем не смотрит по сторонам, не отвлекается и, вполне, вполне возможно, думает о том, что если воду разделить на маленькие капельки, а каждую такую капельку разделить опять, то получатся совсем маленькие капелюшечки, которые называются молекулами, и если разделить такую молекулу, то получатся ещё меньшие частички, которые называются атомы, но и их можно разделить, и если это сделать…
Но улица шумит и мешает физику думать, а тут вдруг он ещё видит замечательный старинный самолёт, который летит ему навстречу.
«Интересно, — думает физик, — откуда берутся такие самолёты, где такие самолёты продают? Эх, хорошо бы купить такой, поставить его на пол в кабинете и опять стать маленьким мальчиком! Можно было бы даже позвать поиграть кого-нибудь из знакомых академиков…»
Умный физик подумал так и тяжело вздохнул, потому что сам когда-то был ребёнком, но в детстве так и не успел наиграться как следует.
А вот по улице идёт толстый повар и, конечно, думает о вкусной и здоровой пище. При виде самолёта у него моментально потекли слюнки, и ему тоже захотелось снова стать маленьким мальчиком…
И астроном, увидев зелёный самолёт с красными звёздами, моментально перестал думать о своих звёздах. И строитель забыл о домах, а взрослые женщины, увидев этот самолёт, вспомнили о куклах, которых нянчили в далёком детстве…
Глава седьмая
ВНУК ПЕТЯ И ДЕД ПЕТЯ
Внук Петя лежал под одеялом лицом к стене и думал, почему это слёзы такие солёные.
Он бы очень хотел не плакать, но слёзы сами собой выкатывались из глаз и по щекам стекали на подушку.
Петя, конечно, понимал, что настоящие лётчики не плачут, но никак не мог остановиться: его замечательный самолёт был разрушен и теперь он никогда не сможет его построить, потому что папину пишущую машинку «Эрика» трогать нельзя, мамину швейную машину трогать нельзя, пылесос — нельзя, Александр Сергеевич Пушкин и Лев Николаевич Толстой тоже не куклы, глобусом тоже нельзя играть, как какими-нибудь кубиками…
Ну почему же слёзы такие солёные, прямо как будто кто-то специально размешал в тёплой воде целую ложку соли?
И вдруг… И вдруг Петя снова услышал знакомое гудение, оно было очень похоже на то, которое издавал совсем недавно его самолёт. Но ведь этого самолёта уже не существовало!..
Петя перестал на секундочку плакать и прислушался.
Непонятное, загадочное гудение раздавалось из коридора и становилось всё сильнее и сильнее.
Петя приподнялся на локтях и стал глядеть на закрытую дверь: ведь если в прихожей гудит какой-нибудь самолёт, он каждую секунду может влететь сюда, в Петину комнату.
В следующую секунду дверь действительно сама собой открылась и в комнату действительно влетел зелёный самолёт с красными звёздами на крыльях и мягко приземлился на коврике около Петиной кровати.
Петя ещё никогда в жизни не видел таких удивительных, таких замечательных самолётов! Он был похож на довольно толстую стрекозу, покрашенную зелёной краской и стоящую вместо ножек на высоких колёсах. В кабине этого прекрасного самолёта сидели две куклы в кожаных шлемах и специальных очках.
— Нравится? — спросил дед Петя. Он ещё тяжело дышал, потому, что очень спешил к внуку Пете и потому что нести такой большой самолёт и одновременно гудеть не так-то легко, — Нравится?
Петя даже ничего не смог ответить от восторга. Конечно, нравится! Какой может быть разговор?!
Теперь он больше не удивлялся, почему его слёзы такие солёные, он вообще перестал плакать, и щёки его как-то сами собой очень быстро высохли.
Петя не мог оторвать глаз от этой чудесной зелёной стрекозы с красными звёздами на крыльях и только спросил у деда еле слышно, потому что ещё не мог поверить своему счастью:
— Это мне?..
Деду Пете было очень приятно, что его подарок так понравился внуку. Теперь даже ему самому этот самолёт стал нравиться ещё больше. Замечательный самолёт!
Он стоял на пушистом ковре возле Петиной кроватки и, казалось, собирался взлететь с поля, поросшего высокой травой.
— Дед, это мне? — снова спросил внук, и дед Петя кивнул:
— А кому же ещё?! Конечно, тебе!
Тут внук Петя в одну секунду спрыгнул со своей кровати и три раза обполз вокруг дедушкиного подарка.
— А можно его немножечко потрогать? — спросил он. — Совсем немножечко…
— Потрогай, — разрешил дед. — Можешь даже повернуть пропеллер.
Внук Петя вытянул палец и совсем легонько дотронулся до маленького деревянного пропеллера, и пропеллер… немного повернулся.
Петя даже отдёрнул руку, подумал, что поломал что-то, но дед его успокоил:
— Всё в порядке. — И подсказал: — Там есть такая красненькая кнопочка, нажми-ка на неё.
Ага, вот она, эта кнопочка. Петя нажал её, и… пропеллер завертелся. Он вертелся всё быстрее и быстрее, он уже вертелся как бешеный. Казалось, самолёт сейчас покатится по пушистому ковру, как по траве, разгонится хорошенько и взлетит.
У внука Пети даже дыхание перехватило.
— Дед, — спросил он шёпотом, — а ты летал когда-нибудь на таком самолёте?
Дед Петя закрыл глаза и, наверное, вспомнил то время, когда ещё ходил в коротких штанишках.
— Летал, — произнёс он с удовольствием. — Тогда, давно, лётчики назывались ещё пилотами, а самолёты — аэропланами. Я уже был не очень маленький, но и не совсем большой, мне было тогда, как тебе сейчас, пять с половиной лет. И вот однажды, в один прекрасный день…
— Ты полетел! — догадался внук.
— Подожди, — улыбнулся дед. — Ты очень торопишься.
В тот прекрасный день полетел я только вечером, а ведь до этого ещё было утро… Одно прекрасное утро.
— А что было утром? — спросил маленький Петя.
— А утром… — Дед Петя придвинулся совсем близко к внуку Пете. — А утром я ещё успел ненадолго превратиться в обезьянку.
— Как?! — удивился маленький Петя.
— А вот так. Слушай и не перебивай, я расскажу тебе всё по порядку.
Глава восьмая
В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ УТРО
Это было очень давно, когда по улицам ещё ездили извозчики, а автомобилям разрешалось гудеть сколько хочешь.
И вот в одно прекрасное утро мой папа, твой прадедушка, разбудил меня и сказал:
— Вставай, Петя, вставай, сынок! Сегодня мы идём в цирк!
Ой, что тут началось! Ну, во-первых, тут же заиграла музыка. Это в соседней комнате мама завела патефон, и по всей квартире зазвучал весёлый танец, такой весёлый, что я тут же стал танцевать от радости.
Мы все очень любили цирк: и папа, и мама, и я, — но в этот прекрасный день там было особенно интересно, так как в цирке выступал папин друг детства, знаменитый дрессировщик зверей Анатолий Анатольевич Дуров.
И его отец, и дядя, и племянники, и другие родственники — все были дрессировщиками. Они дрессировали самых разных животных, учили их самым невероятным штукам, и звери с большим удовольствием выступали в цирке перед зрителями, потому что все Дуровы очень любили своих питомцев, никогда не обижали их и не наказывали.
Сделает, например, заяц всё как следует (а он умел бить в барабан), Дуров тут же даёт ему морковку. А все зайцы, между прочим, любят морковку больше всего на свете, их просто хлебом не корми, а дай только морковку и капусту.
Кошке Дуров давал молочко, медведю — мёд, козе — берёзовые веники, а мышкам-сладкоежкам — сахар.
Вот только я до сих пор не знаю, что он давал лисе, чтобы она дружила с петухом, и что он давал волку, чтобы тот не обижал козу.
Но самое замечательное, чему научил Дуров своих животных, — это ездить на поезде!
Папа так много мне рассказывал об этом, что скоро мне стало даже казаться, что я сам, своими собственными глазами видел этот удивительный поезд.
Всё в этом поезде было точь-в-точь как в настоящем, только маленькое: впереди пыхтел настоящий, но маленький паровоз, а за ним по маленьким рельсам катились настоящие, но маленькие вагончики. На паровозе в костюме машиниста ехала обезьянка. Дуров научил её высовываться в окошко и дёргать за специальную верёвочку — тогда паровоз громко гудел.
А когда поезд прибывал на станцию, Анатолий Анатольевич угощал машиниста-обезьянку сладкими орешками.
Только бедного слона не брали в поезд, потому что он был такой громадный, что не помещался ни в один вагон, и такой тяжёлый, что мог раздавить всю железную дорогу.
Чтобы слон сильно не расстраивался, на него надели громадную красную фуражку и назначили начальником станции. Когда нужно было отправлять поезд, слон звонил в большой медный колокол, полосатый енот поднимал семафор, обезьянка-машинист давала гудок, паровоз дёргал, и сразу из всех вагонных окон высовывались головы разных зверят.
А бедный слон только грустно махал своим печальным хоботом вслед поезду, тяжело вздыхал и очень жалел, что вырос такой большой и поэтому не может покататься вместе со всеми.
Как раз недавно на улице папа показал мне большую цирковую афишу, на которой был нарисован огромный слон в красной фуражке. Слон дёргал за верёвку большого медного колокола, а вокруг него по маленьким рельсам ехал маленький поезд, в вагончиках сидело разное зверьё: куры, лисы, кошки, мышки, зайцы, поросята, коза и ещё кто-то, кого я даже не запомнил.
Я готов был рассматривать ту замечательную афишу без конца, но папа сказал мне:
— Интересно? Так вот, сынок, я обещаю тебе, что на днях мы пойдём в цирк и ты всё это увидишь сам, не на афише, а на самом деле. Я даже познакомлю тебя с Анатолием Анатольевичем Дуровым, потому что Толик — мой друг детства.
В то далёкое время я ещё не дорос до пионеров, а мой папа уже давно их перерос, но в самые важные минуты жизни мы давали друг другу Честное пионерское слово.
Вот и теперь, когда папа пообещал мне цирк, я спросил:
— Честное пионерское?
И папа, сделав пионерский салют над своим совсем не пионерским галстуком, сказал:
— Честное пионерское!
Глава девятая
В ЦИРК!
И вот мы идём в цирк, вернее, не идём, а едем.
Мы едем на мотоцикле: папа — в седле, мы с мамой — в коляске.
Мама говорит, что у папы золотые руки и он смастерил наш мотоцикл из старой консервной банки, мясорубки и паяльной лампы.
Мы с мамой трясёмся в коляске, мотоцикл трещит и стреляет, как пулемёт, из него вырывается пламя и клубы синего дыма, но, видимо, так и должно быть, потому что папа управляет им совершенно спокойно, невозмутимо глядя перед собой сквозь специальные мотоциклетные очки, которые он тоже сделал сам из старого кожаного портфеля и ещё чего-то стеклянного.
Папа сидит в седле мотоцикла, как будёновец на коне, — у него гордая, прямая спина и очень серьёзное лицо.
Маме ехать в коляске значительно труднее, чем папе в седле. Папа только управляет мотоциклом, а мама должна следить, во-первых, за тем, правильно ли он это делает, во-вторых, чтобы я не вывалился на повороте, и в-третьих, чтобы у неё не соскочила шляпка, которую она прилаживала к голове всё утро.
Но в то прекрасное утро всё обошлось благополучно: папа управлял правильно, я не вывалился на повороте, мамина шляпка не соскочила и мотоцикл не взорвался.
Мы остановились перед цирком.
Огромный брезентовый шатёр был украшен яркими праздничными флажками. Над входом в цирк на специальном балкончике весело играл оркестр, а перед цирком шумела, смеялась, ела мороженое и даже пританцовывала толпа людей, которые пришли посмотреть на цирковое представление.
Но мама, папа и я даже и не подумали идти через главный вход. Мы же пришли в гости лично к известному дрессировщику Анатолию Анатольевичу Дурову, к самому Дурову, и поэтому прямиком направились за кулисы цирка через калитку в высоком заборе, на которой висела строгая надпись:
«ПОСТОРОННИМ ВХОД ЗАПРЕЩЁН!»
Но папа смело распахнул перед нами эту калитку, и мы вошли в цирковой двор, то есть за кулисы.
Кто никогда не был за кулисами цирка, тот даже и представить себе не может, сколько там невероятного и удивительного.
Первой удивилась моя мама. Она подняла глаза вверх, туда, где над брезентовой крышей цирка-шапито висели яркие буквы из фанеры, и спросила папу:
— Шурик, а что такое КРИЦ?
Папа погладил маму по головке, как маленькую, и рассмеялся:
— Дорогая моя, КРИЦ — это ЦИРК, только наоборот, мы же смотрим на эту надпись с другой стороны, мы же за кулисами!
Глава десятая
В ЦИРКОВОМ ДВОРЕ
И действительно, всё здесь, в этом цирковом дворе, было наоборот. Вот, например, все люди обычно ездят на велосипедах, сидя на седле и держась руками за руль, а здесь целая семья — папа, мама и их дети — ездила задом наперёд. Они сидели на рулях своих велосипедов лицом к седлу, а руками вообще ни за что не держались. И никто на этом дворе даже не удивлялся при виде такого, потому что они совсем и не хотели кого-то удивить, а просто тренировались, репетировали, чтобы потом, на представлении, всё у них получилось хорошо и гладко, как говорится, без сучка и задоринки, без всяких ошибок.
Это всё равно как школьник, чтобы хорошо ответить в школе урок, должен перед этим несколько раз повторить его дома.
И велофигуристы ездили и ездили без конца задом наперёд, да к тому же весело улыбались, потому что на представлении зрителям должно казаться, что это совсем не трудно, что ездить так — одно сплошное удовольствие.
А чуть в стороне, у забора, репетировала семья музыкальных эксцентриков. Их было немного побольше, чем велофигуристов: кроме папы, мамы и их собственных детей, в этом номере участвовали ещё два двоюродных племянника и очень старенькая бабушка.
Папа, сплошь увешанный разнообразными музыкальными инструментами — хлопушками, свистульками, пищалками, бубенчиками и рожками, — умудрялся играть сразу на всём одновременно, да ещё дирижировать этим оркестром: один племянник громко трубил в трубу, стоя вверх ногами на голове другого племянника, который играл на скрипке: древняя бабушка от старости уже не могла делать ничего особенного и поэтому только скребла под музыку скалкой по стиральной доске. Но самую главную партию в этом оркестре исполняла мама. Она была могучей женщиной и играла на арфе, в то время как на её широких плечах удобно расположились дочь и сын, жонглируя разноцветными шариками.
Извините, пожалуйста, — обратилась моя мама ко всей музыкальной семье сразу. — Извините, что мы вам помешали, но нам очень нужно найти Анатолия Анатольевича Дурова.
Как только мама начала говорить, вся музыкальная семья перестала играть и повернулась к ней, только старенькая бабушка, которая, видимо, плохо слышала, продолжала в тишине скрести деревянной скалкой по железной стиральной доске, но это уже не могло помешать маме докончить свои объяснения:
— Мой муж Шурик — друг детства Дурова, и поэтому мы сегодня пришли к нему в гости, но, к сожалению, не знаем, где его тут у вас найти. Помогите нам, пожалуйста.
Музыкальные эксцентрики оказались очень любезными людьми. Их мама протянула свою могучую руку в сторону зелёного вагончика и музыкально сказала:
— Там.
Тут вся музыкальная семья тоже протянула руки в том же направлении и музыкально подтвердила:
— Там-там!..
И только их папа, у которого руки были заняты различными музыкальными инструментами, протянул не руку, а нос, но зато тут же придумал новую песенку:
— Там-там! Тари-тари-там! Тари-тари, тари-тари, тари-тари-там!
Вся семья дружно подхватила эту новую мелодию и, наверное, даже не услыхала, как папа, мама и я громко прокричали им:
— Спасибо!
Услышала наше «спасибо» только старенькая бабушка, которая к этому времени уже устала скрести под музыку деревянной скалкой по железной стиральной доске и теперь отдыхала, обмахиваясь беленьким платочком.
Найти Дурова оказалось не так-то легко. Кругом стояли вагончики, в которых жили цирковые артисты. Эти вагончики были раскрашены в разные цвета, наверное, чтобы сами хозяева не перепутали их и не заблудились.
Мы шли к вагончику Дурова, обходя разный цирковой реквизит: яркие цветные ящики, блестящие подставки, длинные лестницы, тумбы для слонов, «волшебные» столы, «волшебные» ширмы. Конечно, они были не по-настоящему волшебные, потому что по-настоящему волшебного ничего не бывает, но здесь их называли волшебными, во-первых, чтобы зрителям было интересней, а во-вторых, потому что во время представления с их помощью артисты цирка творили просто волшебные чудеса.
Вот, например, мы ещё не успели дойти до вагончика Дурова, как увидели удивительную женщину.
Она лежала на специальной высокой подставочке лицом вверх и своими длинными ногами ловко подбрасывала, а затем ловила красивую большую куклу с голубым бантом.
Сама эта женщина была одета в сверкающий купальный костюм, который, как ты понимаешь, был пошит совсем не для купания, а для циркового выступления.
Я просто окаменел, глядя на большую, прекрасную куклу. Мне даже показалось, что она совсем не кукла, а живая девочка, которая ничуточки не боится подлетать высоко в воздух, переворачиваться, стоять на голове.
Мой папа тоже окаменел, но смотрел он совсем не на куклу, а на женщину, на её ноги, потому что, наверное, удивился, как она так ловко ими работает, будто это совсем не ноги, а руки.
Только маме почему-то не показались интересными ни кукла, ни женщина, и она даже рассердилась, что мы с папой задерживаемся по пустякам, когда надо спешить к Анатолию Анатольевичу Дурову.
Но женщина как раз в эту минуту закончила подкидывать куклу, поймала её руками и села на своей подставочке, свесив набок длинные ноги в золотых туфлях, села и улыбнулась нам приветливо.
— Здравствуйте, — сказала она, — Вы кого-то ищете?
Светлые волосы закрывали её лицо, и она одним движением головы отбросила их за спину.
Куклу она небрежно отложила в сторону, и теперь я окончательно убедился, что это была не девочка.
Женщина улыбалась нам большими голубыми глазами, они были такого же цвета, как бант на голове куклы.
— Не могу ли я вам чем-нибудь помочь? — спросила она.
В этот момент мне показалось, что она похожа на фею из сказки. Папе, наверное, тоже так показалось, и он уже было собрался спросить у этой феи, как нам пройти к Дурову, но ему помешала сказать мама. — Мерси! — произнесла она почему-то по-французски, что по-русски означало «спасибо». — Мерси! Всё, что надо, нам уже известно.
Мама дёрнула за руку меня, я — папу, и мы заспешили дальше.
«Ап-чхи!» — раздалось за нашими спинами.
Папа уже издали крикнул фее на ходу:
— Будьте здоровы!
Но я заметил, что чихнула совсем не фея, а кукла, которая всё-таки оказалась живой девочкой.
Глава одиннадцатая
МЕНЯ СЖИГАЮТ
Я даже не успел пожалеть, что мы так быстро ушли от этой удивительной женщины и её куклы, как уже через несколько шагов мы натолкнулись на новое невероятное зрелище: другая женщина развешивала на верёвке выстиранное бельё, а её муж помогал ей, подавая это бельё из белого эмалированного таза.
Ты, конечно, можешь спросить, что же тут невероятного. Всё как полагается, мужчина всегда должен помогать женщине.
Это, разумеется, правильно. Но невероятным было другое: бельевые верёвки они натянули на высоте второго этажа и развешивали своё бельё, стоя на… высоченных ходулях.
Нет, такое можно было увидеть только в этом чудесном цирковом дворе!
Мы сделали ещё несколько шагов, и вдруг мама громко вскрикнула от испуга:
— Ой!
Она так прижалась к папе, будто попала в клетку со львом или тигром, но оказалось, что она просто натолкнулась на другое симпатичное животное.
— Успокойся, — улыбнулся папа. — Это же просто пони. По-ни — так называются эти милые маленькие лошадки.
Пони, на которого натолкнулась моя мама, был ростом с большую собаку.
Но и этого пони мы не успели разглядеть хорошенько, потому что за нашей спиной кто-то тихонько покашлял, чтобы привлечь внимание, и сказал:
— Здравствуйте, товарищи…
Мы, конечно, тут же обернулись.
Перед нами стоял высокий, тощий мужчина с грустным, белым лицом. Одет он был в чёрный фрак и носил на голове высокий цилиндр.
— Я фокусник, — вздохнул мужчина и, чтобы мы ему поверили, тут же показал нам фокус.
Он накрыл совершенно пустую руку совершенно пустым платком, прикоснулся к этому платку палочкой, которая, по всей вероятности, тоже называлась волшебной, а когда после этого сдёрнул платок, то в его до этого пустой руке непонятным образом оказалась большая электрическая лампочка.
— Вот! — обрадованно воскликнул он, накрыл лампочку газетой и ударил по ней блестящим молотком.
Раздался звон разбитого стекла, фокусник снял газету, под ней было пусто — ни лампочки, ни даже осколков стекла.
Фокусник загадочно улыбался: покамест всё получалось хорошо…
Но вот он снова накрыл совершенно пустую руку совершенно пустым платком, снова прикоснулся к этому платку своей волшебной палочкой и сдёрнул платок.
Чтобы лучше видеть, я даже приподнялся на цыпочки.
Но фокус не удался, пустая рука по-прежнему оставалась пустой.
Фокусник очень огорчился.
— Ну что ты будешь делать! — воскликнул он с досадой. — Прямо кошмар какой-то!.. — И он почти заплакал: — Ну куда она делась, просто ума не приложу!
Он снял свой цилиндр и поскрёб в затылке. В эту самую секунду мы увидели исчезнувшую лампочку — она торчала прямо из головы фокусника, как цветок на клумбе. Мало того, она вдруг ярко вспыхнула, но сам фокусник её, видимо, даже не заметил, печально вздохнул, надел свой цилиндр и пожаловался:
— Я фокусник, но со мной случилось страшное несчастье: я прекрасно помню, как начинаются все мои фокусы, но совершенно забыл, как они заканчиваются. Вот, например, куда девалась эта несчастная лампочка?
Я уже хотел было сказать, чтоб он не огорчался, что она у него на голове под цилиндром, но не успел, потому что фокусник вдруг предложил:
— А хотите, я вам покажу ещё один фокус? — Он таинственно поднял правую бровь, а левую таинственно опустил и добавил: — Но для этого фокуса мне нужен один живой человек.
Моя мама была смелой женщиной и любила разные приключения. Она тут же сделала шаг вперёд и поправила шляпку:
— Пожалуйста. Я гожусь?
— О! — восторженно воскликнул тощий фокусник. — Вы прекрасны! Вы прекрасны, но для этого фокуса несколько… продолговаты.
Мама скромно опустила глаза и вздохнула:
— Очень жаль.
На самом деле мама была довольна, ведь фокусник похвалил её, назвав продолговатой, а продолговатые женщины всегда были в моде.
Тогда вперёд выступил папа.
— А я? — спросил он. — Вам нужен живой человек, я к вашим услугам! По-моему, я живой. Пожалуйста! — И он пошевелил плечами, чтобы все видели, какой он сильный.
— О! — снова воскликнул фокусник. — Вы тоже прекрасны, но вы несколько тяжеловаты.
Тут фокусник посмотрел на меня и радостно закричал:
— А вот то, что нам как раз нужно! — И, подхватив меня под мышки, закричал ещё радостней: — Да! Это именно то самое!
Через секунду он поставил меня на высокую подставочку, а ещё через секунду накрыл лёгким колпаком из папиросной бумаги.
— Внимание! — закричал он, сверкая глазами. — Начинаю! — И фокусник зажёг большой факел.
В последний момент мама и папа увидели на бумажном колпаке мою тень, она шевелилась.
Ещё ничего страшного не произошло, но мама на всякий случай испугалась и воскликнула:
— Осторожней, это же ребёнок!
Папа — тоже на всякий случай — закрыл маме глаза ладошкой, чтобы она меньше волновалась, и — тоже на всякий случай — предупредил фокусника:
— Ребёнок это!
Но фокусника уже невозможно было остановить.
— Пожалуйста, не волнуйтесь! — крикнул он. — Это абсолютные пустяки!
Фокусник поднёс пылающий факел к губам и дунул изо всех сил. В следующее мгновение огненная струя из его рта ударила прямо в бумажный колпак, под которым стоял я, колпак моментально вспыхнул и… сгорел, тут же сгорел.
На высокой подставочке, где только что находился я, теперь никого не было.
Папа даже не успел понять, что произошло, но фокус ему так понравился, что он громко захлопал в ладоши и закричал:
— Браво!
А маме как раз этот фокус не понравился, она бросилась к подставочке, где три секунды назад стоял я, а теперь догорала папиросная бумага.
— Где мой ребёнок? — прошептала мама. — Мой сыночек…
Тут и папа перестал хлопать, он тоже, видимо, вспомнил, что у него три секунды назад на этом месте был сын, который теперь исчез неизвестно куда.
— Да, — строго спросил папа у фокусника, — действительно любопытно: где наш ребёнок?
— Минуточку! — взмолился фокусник, которому мои папа и мама сейчас мешали соображать. — Минуточку тишины! — И он оглушительно выстрелил в воздух из своего, наверное, тоже волшебного пистолета.
Наступила полная тишина, и фокусник стал думать. Он, бедный, прекрасно помнил, как начинается этот его фокус, но совершенно забыл, как он заканчивается.
Глава двенадцатая.
ДЕВОЧКА НА ШАРЕ
А секрет у этого фокуса оказался совсем простым: пока фокусник накрывал меня бумажным колпаком, пока брал в руки факел, пока зажигал его, пока кричал моим родителям, чтобы они не волновались и что всё это пустяки, я уже успел исчезнуть из-под бумажного колпака.
Куда? Сейчас расскажу…
Дно у подставочки, на которую меня поставил фокусник, неожиданно раздвинулось, и я оказался в каком-то тёмном коридоре. Пошёл, пошёл по нему и очутился в каком-то большом барабане.
Вот в эту самую секунду фокусник как раз и поднял свой пистолет.
Выстрел получился таким громким, что его услышали даже на соседних улицах, а мои папа и мама и даже сам фокусник чуть не оглохли — так мне они потом рассказывали. И только я не услышал этого выстрела, потому что в ту же самую секунду с громким треском лопнул барабан, в котором я находился.
Как я туда попал, не знал никто, кроме фокусника, но и он сам, к сожалению, забыл этот свой секрет. Зато ты его теперь знаешь.
Я вылез из барабана и огляделся.
Наверное, это был самый тихий уголок циркового двора, здесь никто не ходил, не разговаривал и только клоун в костюме Чарли Чаплина смахивал метёлкой пыль с больших цирковых афиш.
Ах, я забыл, что ты ещё не знаешь, кто такой Чарли Чаплин!
Настоящий Чарли Чаплин родился в Англии. Он был ещё очень маленьким, когда стал вместе со своим папой выступать перед зрителями. Тогда он научился разным ловким трюкам: прекрасно кувыркался, ходил на руках, жонглировал, танцевал на канате и умел ещё многое другое, но самое главное, он мог рассмешить любого грустного человека, а это совсем нелегко, потому что попадаются такие унылые люди, которые за всю жизнь ни разу не улыбнутся. Это не очень умные люди. Ну вот, а на Чарли Чаплина просто невозможно было смотреть без смеха, и он веселил людей всякий раз, когда они приходили его посмотреть.
А потом он уплыл на пароходе за океан, в Америку, и стал там сниматься в кино. Теперь, глядя на его проделки, зрители хохотали не только в каком-нибудь одном театре или каком-нибудь одном цирке, а во всём мире, потому что кино показывают везде.
Весело смеяться — очень полезно для здоровья. Кто много и весело смеётся, тот становится крепким, сильным и добрым.
Но настоящий Чарли Чаплин один, а каждый цирк хотел иметь своего. И тогда самых весёлых и умных клоунов, самых умелых и ловких стали одевать в смешной чаплинский костюм: на голове маленький котелок, вместо нормального пиджака — смешной узенький сюртучок, мешковатые брюки и огромные ботинки с загнутыми носами. В руках все Чарли Чаплины держали тоненькую бамбуковую тросточку, с которой никогда не расставался настоящий Чарли Чаплин.
Вот и в этом цирке, куда мы пришли с мамой и папой, был свой Чарли Чаплин. Про него даже говорили, что он так похож на настоящего, что если бы тот увидал его, то подумал бы, что смотрит на себя в зеркало.
Здешний Чарли Чаплин стоял перед большой цирковой афишей, на которой была нарисована маленькая девочка в голубом цирковом трико. Девочка стояла, изогнувшись, на большом шаре, а перед ней на каком-то ящике спиной к нам сидел огромный, сильный мужчина, то ли её отец, то ли старший брат, в общем, наверное, какой-нибудь родственник.
Когда-то точно такую же девочку и точно такого же мужчину где-то увидел знаменитый испанский художник Пабло Пикассо, увидел и нарисовал. С тех пор весь мир знает эту девочку в голубом.
Только я подумал, что и девочка на афише тоже нарисована, как мужчина, сидевший на ящике, неожиданно зашевелился, вытянул губы и стал насвистывать какую-то очень весёлую песенку, а девочка, услышав её, моментально ожила и стала под эту песенку танцевать. Оказывается, это была никакая не афиша, а просто цирковые артисты устроили себе небольшой перерыв и отдыхали после утомительной репетиции.
Если ты когда-нибудь попробуешь хотя бы немного постоять на шаре, то поймёшь, как это трудно: шар всё время норовит выкатиться из-под твоих ног. А ведь девочке нужно было ещё и танцевать на нём, да при этом весело улыбаться! И мало того, она вдруг встала на этом шаре на руки, потом снова на ноги, потом опять на руки, на ноги… на руки… на ноги… Она вертелась так быстро, что у меня замелькало в ногах, то есть в руках, то есть, конечно, в глазах — просто у меня в голове всё перепуталось.
Наверное, девочке было довольно трудно так вертеться, но огромный мужчина нисколечко не помогал ей, а только насвистывал весёлую мелодию. Потом на представлении он тоже будет выступать перед зрителями, он будет поднимать огромные, тяжеленные гири, которые никто на свете, кроме него, поднять не может. А пока он отдыхал и помогал сестрёнке репетировать свой номер, насвистывал ту мелодию, какую потом, на представлении, сыграет для девочки цирковой оркестр.
— Отдохни, — остановил он наконец девочку, и та, закончив свой танец, устало сказала:
— Уф!..
Она уселась отдохнуть на своём шаре. Положив на колени подбородок, она тяжело дышала, и по лицу её катился пот.
Добрый Чарли Чаплин достал белый носовой платок и вытер девочке лицо и шею. Он-то знал, как нелегко сделать так, чтобы зрителям потом было легко и весело.
— Спасибо, — тихо сказала девочка.
Тут я подошёл поближе к ним и сказал:
— Здравствуйте.
— Здравствуй, — ответили девочка и Чаплин.
Огромный брат девочки повернулся ко мне и тоже кивнул.
Я знал, что, когда люди знакомятся, надо всегда называть имя.
— Меня зовут Петя, — сказал я.
— А я Настя, — сказала девочка и сделала реверанс, то есть чуть-чуть присела, как это полагается при знакомствах.
Наверное, я немного помешал их отдыху и поэтому постарался вспомнить все вежливые слова, которые знал:
— Извините, будьте любезны, скажите, пожалуйста, если вам не трудно, где сейчас Анатолий Анатольевич Дуров, будьте добры. — Наверное, теперь надо было объяснить, откуда я тут взялся, и я сказал: — Анатолий Анатольевич Дуров друг детства моего папы, и сегодня мы всей семьёй пришли к нему в гости, но я случайно сгорел и потерялся. А потом почему-то попал в этот барабан.
— Как сгорел?! — удивилась девочка.
У Чарли Чаплина тоже от удивления поднялись брови, а девочкин родственник даже захохотал:
— Ну, ты даёшь, парень! Нам говоришь, сгорел, а сам стоишь целый и невредимый.
— Нет, вы меня просто не поняли, — объяснил я. — Я не по-настоящему сгорел, это просто такой фокус. Просто один дядя накрыл меня бумажным колпаком, и я просто почему-то оказался здесь…
— A-а! — тут же догадалась Настя. — Это, наверное, дядя Митя! Наверное, показывал вам своё сжигание живого человека на глазах у публики. Ой! Он такой растеряха, этот дядя Митя, он, наверное, уже сам волнуется и не знает, куда ты девался.
Она засмеялась, а мне очень захотелось заплакать, но при этой смелой девочке плакать было стыдно, и я только глубоко вздохнул:
— А что же мне теперь делать?
Все немного помолчали, задумались, но думали не очень долго, а потом Настин брат или папа сказал мне своим густым басом:
— Ты, парень, не бойся, мы тебя в беде не оставим, поможем. Сейчас наш Чарли Чаплин проводит тебя к твоим родителям.
— До свидания, Петя! — улыбнулась мне на прощание Настя. — Ты ещё увидишь меня на представлении.
Настин брат или папа потряс мне на прощание руку своей огромной ручищей и пробасил:
— Бывай, мы ещё увидимся.
Чарли Чаплин обнял меня за плечи, и мы отправились на поиски моих родителей.
Тогда я и представить себе не мог, какие новые приключения ожидают меня впереди!
Вот слушай…
Глава тринадцатая.
УКРОТИТЕЛЬ КОБРЫ
На вагончике, к которому мы подошли, на всех его стенах были изображены змеи. Казалось, будто эти нарисованные змеи ползут, извиваясь, между разными восточными растениями и цветами, тоже нарисованными по всему вагончику.
Чарли Чаплин приложил к губам палец: перед этим вагончиком нужно было почему-то сохранять полную тишину…
На занавеске, которая загораживала дверь, тоже была изображена змея. Она обвилась вокруг ножки высокой чаши и с любопытством заглядывала в неё сверху.
Я где-то уже видел и эту змею, и эту чашу. Но где?
A-а! Вспомнил! Весной я как-то бегал по холодным лужам, промочил ноги, простудился, стал кашлять. Меня уложили в постель, пришёл доктор, я показал ему язык, а он посмотрел мне в горло и прописал лекарство от кашля… Вот на бутылочке с этим лекарством и была нарисована точно такая же змея, как на этой занавеске.
Из вагончика пищала какая-то дудочка…
Чарли Чаплин отодвинул занавеску, и я заглянул внутрь.
Там, на пухлой подушке с золотыми кистями, сидел пухлый, как подушка, индус и играл на дудочке «Барыню». На голове у него красовалась чалма, сделанная из цветных купальных полотенец, а перед ним посредине яркого восточного ковра стояла большая корзина.
Индус уже весь взмок от пота, но всё дудел в свою дудочку и терпеливо ждал, когда из корзины кто-то покажется. Но оттуда никто не хотел показываться.
Тогда заклинатель змей, или, как их называют, факир, а это был именно он, сунул свою дудочку в корзину и покрутил ею там, как повар, когда он размешивает суп в кастрюле.
Сначала в корзине кто-то почмокал спросонок, потом лениво зашипел, и оттуда нехотя высунулась большая кобра — так называются эти змеи. Кобра широко зевнула, показывая свои большие ядовитые зубы и раздвоенный язык. Глаза у змеи были заспанные.
И тут факир заговорил, но почему-то по-русски:
— Танцуй, пожалуйста, я тебя очень прошу!
Голос у факира был очень ласковый, но кобра покачала головой — она не хотела танцевать.
— Ну, миленькая!.. Ну, потанцуй! — просил факир. — А я тебе поиграю на дудочке, а?..
Но кобра опять покачала головой: нет, она хотела спать.
Тогда факир потерял всякое терпение и ужасно разозлился.
— Ну и пожалуйста! — крикнул он своей кобре. — Спи на здоровье! Но запомни, лентяйка, не хочешь работать — не получишь на обед своих любимых лягушек! Кто не работает, тот не ест! Смотреть на тебя стыдно!
Факир даже отвернулся от своей змеи и только тут заметил нас.
— Ой, а разве вы умеете говорить по-русски? — удивился я. — Вы же, наверное, из Индии, вы индус?..
— Здравствуйте, я ваша тётя! — захохотал факир, и его кругленький животик даже затрясся.
— Во-первых, вы не моя тётя, — сказал я. — А во-вторых, вы вообще не тётя, а дядя.
Животик у факира затрясся ещё сильней.
— Ой, не могу! — застонал он. — Ой, умру от смеха! Конечно, я не тётя, это только такая поговорка. Ну какой же я индус?! Русский я, русский!..
Факир ещё немного посмеялся, потом успокоился, вытер слёзы и спросил:
— Ну, говорите, чего вы ищете. Чем смогу — помогу.
Я рассказал ему, как мы с мамой и папой шли в гости к Дурову, как по пути познакомились с красивой тётей, у которой ноги такие же ловкие, как руки, как потом фокусник сжёг меня на глазах у родителей, как я потом оказался в барабане, как познакомился с девочкой на шаре, её родственником и Чарли Чаплином, как…
— Стоп! Остановись! — прервал меня факир. — Всё ясно! Сейчас мы сообразим, где можно найти Дурова. Сейчас, сейчас… — Факир сдвинул свою чалму на лоб и почесал в затылке: — Слушайте! А может, он кормит своего слона?.. — И он показал куда-то вправо.
— А может, морских львов?.. — И Чарли Чаплин показал влево.
— А может, он у пеликанов? — предположил факир.
— Или у зебры?..
— Или у поросят?..
Я смотрел то на факира, то на Чарли Чаплина, и мне даже стало казаться, что они играют в какую-то взрослую считалочку:
— Может, куры?..
— Может, гуси?..
— Может, волки?..
— Может, овцы?..
— Может, кошки?..
— Может, мышки?..
— Или, может, петухи?..
Но тут Чарли Чаплин схватил меня за руку:
— Пойдём, Петя. Мы сделаем вот что: пробежим-ка сейчас по всему цирку и где-нибудь обязательно найдём твоего Дурова.
— Правильно! — обрадовался факир. — Это вернее всего! А я вернусь к своей кобре и всё-таки научу её, лентяйку, танцевать «Барыню». Желаю успеха!
Он помахал нам рукой с порога своего вагончика, и мы с Чарли Чаплином отправились на поиски Дурова, а за нашими спинами снова заиграла дудочка факира…
Глава четырнадцатая.
В МЕНЯ МЕЧУТ… ТОМАГАВКИ
Не успели мы отойти подальше от вагончика факира, как я услышал непонятный звук — вжи-и-ик! И перед моим носом пролетело что-то цветастое и блестящее. Оно пролетело так быстро, что я даже не смог заметить, что это такое.
Я уже хотел посмотреть туда, откуда оно вылетело, как меня окликнули оттуда, куда оно улетело:
— Мальчик!
Я быстро повернул голову и увидел обыкновенную тётю в необыкновенном костюме: кофточка на ней была надета такая коротенькая, что даже не закрывала живота, но зато шаровары из лёгкой прозрачной материи были такие широкие, что в них свободно могли уместиться ещё три-четыре таких же тёти.
На голове у этой тёти сверкала какая-то непонятная штуковина с разноцветными стёклышками, потом я узнал, что такое украшение называется диадемой.
Чтобы зря не терять ни минуты, эта деловая тётя что-то вязала на спицах, кажется носки. Она, наверное, плохо видела, и поэтому на переносице у неё было надето пенсне на цепочке, такие очки, их сейчас уже не носят.
Вжи-и-ик! Что-то опять пролетело мимо моего уха и вонзилось совсем рядом с тётиным в толстую доску.
Теперь я смог разглядеть, что это было: в доску около тётиного уха вонзился и остался там торчать острый топорик на длинной раскрашенной ручке. Но храбрая тётя даже глазом не моргнула, даже не вздрогнула, а продолжала себе спокойненько вязать.
— Ой, топор! — удивился я совсем тихо и даже от испуга прикрыл рот ладошкой.
Но эта тётя всё-таки услышала меня и поправила:
— По-индейски такие топоры называются томагавками.
Вжи-и-ик! Под мышкой у тёти вонзился ещё один такой томагавк. Я оглянулся и увидел того, кто их кидал.
Это был высокий мужчина с большим орлиным носом.
Из-за этого носа он и стал метателем томагавков.
В молодости он попробовал выступать как жонглёр, но шарики, которые он ещё в детстве научился ловко подкидывать, цеплялись за его выдающийся нос и падали на пол. Он попробовал дрессировать попугаев, но птицам казалось, что он своим носом всё время их передразнивает, они обижались и не хотели его слушаться. Он оставил попугаев и попробовал ходить по канату, но тяжёлый нос мешал ему сохранять равновесие. Он чуть было не стал клоуном, ведь стоило ему с его невероятным носом выйти на манеж перед зрителями, как те уже начинали хохотать до упаду, но тут кто-то вспомнил, что такие носы попадаются на каждом шагу у индейцев, — вот бы и ему стать индейцем…
И тогда он пошёл в метатели томагавков. Пришлось придумать себе и жене красивую индейскую фамилию, нельзя же, в самом деле, чтобы индеец был просто Васей Кукушкиным! И вот теперь цирковой шпрехшталмейстер перед их номером торжественно объявлял публике:
— ОТВАЖНЫЕ ИРОКЕЗЫ САНТОС-КУКУШКИНЫ!
Зрители громко хлопали, и никто уже не говорил, что у него длинный нос, или невероятный, или тяжёлый, все теперь восхищались, что он у него такой красивый, орлиный, настоящий индейский.
На голове Сантос-Кукушкина торчали, как полагается у индейцев, разноцветные перья, а чтобы уж совсем быть похожим на отважного ирокеза, Вася раскрасил себе лицо белыми и чёрными полосами.
Вот он достал из ведра новый топорик и грозно замахнулся им. Его орлиный нос даже помогал ему точнее прицеливаться.
— Не бойся, — прошептал мне на ухо Чарли Чаплин. — Он добрый дядя и очень бережёт свою жену.
В то же мгновение этот добрый дядя снова швырнул свой топор в тётю.
Вжи-и-ик!.. Топор вонзился прямо над тётиной макушкой. Мне было так страшно, что я даже забыл, что эти топоры называются томагавками.
— Мальчик! — ласково окликнула меня несчастная тётя. — Ты не мог бы мне немного помочь? Это совершенно безопасно.
Тут только я заметил, что бедная тётя привязана к доске толстыми канатами, какими обычно привязывают пароходы к пристани, чтобы они не уплыли, поэтому и она, наверное, не могла отойти от этого опасного места.
— Поможешь? — спросила она, улыбаясь.
И мне очень захотелось помочь этой отважной женщине.
— Пожалуйста! — крикнул я. — Я помогу вам, а как?..
Тут эта тётя спокойненько вылезла из своих канатов, которые, оказывается, висели на ней только для вида. Она поставила меня на своё место и сказала ласково:
— Вот спасибо! Постой здесь немного вместо меня, а я тем временем успею до представления ещё сбегать на рынок за покупками. Это очень удачно, что нам подвернулся такой удивительно симпатичный мальчик! Как тебя зовут?
— Петя, — негромко сказал я.
— Замечательное имя! — воскликнула тётя, чтобы подбодрить меня. — Просто исключительное! Ты смелый мальчик!
Я уже готов был занять место этой отважной тёти, но тут Чарли Чаплин вежливо приподнял свой котелок и сказал:
— Давайте-ка лучше я постою вместо вас, я, а не этот мальчик. Он ещё слишком мал и неопытен.
— Нет! — закричал я отчаянно и прямо-таки вцепился в тётю обеими руками. — Нет, я большой, мне уже пять с половиной лет!
Как мне хотелось самому постоять на месте этой тёти!
— Вы напрасно волнуетесь, — успокоила она Чарли Чаплина. — Этот смелый мальчик получит удовольствие. Мой муж мог бы, конечно, порепетировать и с нашим сыном, ему как раз тоже пять с половиной лет, но он сегодня плохо завтракал, и мы его за это наказали — пусть часок постоит в углу на руках. — Она схватила корзинку для покупок и, уже убегая, крикнула своему носатому мужу: — Не ленись, Вася, репетируй!
Мне всё-таки стало немного страшно, и я закрыл глаза, видя, что этот Вася Сантос-Кукушкин снова замахивается блестящим томагавком.
Но неожиданно вместо пронзительного «Вжи-и-ик!» раздался ещё более пронзительный крик моей мамы:
— Не позволю!
Я открыл глаза.
Милая, дорогая моя мама! Она твёрдо знала, что в её сына не следует швырять топоры, даже если они называются томагавками, она считала это опасным занятием, она… она… не хотела!
— Не позволю!
Мама смело заслонила меня своим телом. Она была взволнована и тяжело дышала. Сейчас она была похожа на львицу, которая защищает своего львёнка, на тигрицу, защищающую тигрёнка, на орлицу, защищающую орлёнка, на кошку, защищающую котёнка, на мышь, защищающую мышонка, — моя мама в эту секунду была похожа на нормальную маму, защищающую своего ребёнка.
— Будьте добры, — сказала она так тихо и так вежливо, что отважный ирокез Вася Сантос-Кукушкин перепугался насмерть. — Будьте настолько любезны, репетируйте, пожалуйста, свой номер со своим собственным сыном, но с моим крошкой этот номер у вас не пройдёт. Не надейтесь!
Индеец Вася даже побледнел под красной краской, покрывающей его лицо, а его орлиный нос покрылся каплями холодного пота, он даже не стал спорить.
— Пожалуйста, — тут же согласился он. — Ваше дело.
Глава пятнадцатая.
БОЛЬНАЯ ОБЕЗЬЯНКА
Чарли Чаплин помог нам наконец отыскать папиного друга детства Анатолия Анатольевича Дурова. Тот сидел перед столиком с зеркалом и мазал лицо специальной белой краской — гримом.
Папа тихонько подкрался к Дурову сзади, закрыл ему ладонями глаза и спросил нарочно страшным голосом:
— Угадай, кто я?!
Он думал, что Дуров нипочём не догадается, ведь они столько лет не видались, но Анатолий Анатольевич сразу узнал папу, хотя тот изменил свой голос до неузнаваемости.
— Шурик?! — радостно воскликнул Анатолий Анатольевич и обернулся.
— Толик! — воскликнул мой папа и хлопнул Дурова по плечу.
Они обнялись и от радости стали хлопать друг друга по спине.
— Шурик! — воскликнул Дуров и хлоп моего папу.
— Толик! — воскликнул папа и хлоп Дурова.
— Шурик! — хлоп…
— Толик! — хлоп…
— Шурик!
— Толик!
— Шурик!
— Толик!
Нам с мамой было очень приятно смотреть, как друзья детства обнимаются и громко хлопают друг друга по спинам: Хлоп-хлоп!.. Хлоп-хлоп! Хлоп-хлоп!..
Но они не просто хлопали друг друга, а при этом ещё вспоминали что-нибудь интересное из своего детства.
— А помнишь, Толик, — вспомнил мой папа, — как ты хотел научить кошку играть на балалайке?!
— А помнишь, Шурик, — вспомнил Дуров, — как ты однажды окунул голову в ведро с водой и не дышал целых две минуты?!
— А помнишь?!
— А помнишь?!
Смотреть на эту встречу было так весело, что даже Чарли Чаплину самому захотелось дружески похлопать кого-нибудь, но, так как под рукой у него не оказалось никого подходящего, он просто радостно захлопал в ладоши.
Но мой папа вдруг перестал хлопать Дурова, он вспомнил про нас с мамой.
— Познакомься, пожалуйста, Толик, это моя жена, а это мой сын.
Дуров поцеловал маме руку, а потом присел передо мной на корточки.
— Ну, здравствуйте, юноша! Как же вас зовут?
— Петя, — тихо сказал я. Меня впервые назвали на «вы».
Но тут лицо у Дурова стало вдруг грустным-грустным, таким грустным, что мой папа даже встревожился:
— Что случилось, Толик?
— Мы тут с вами радуемся, — вздохнул Дуров, — а бедный Петька заболел…
Моя мама, конечно, сразу прижала меня к себе и стала внимательно разглядывать.
— Что вы меня пугаете?! — заволновалась она. — Мой Петя совершенно здоров. Правда, Петенька?
Но Дуров только грустно улыбнулся:
— Заболел не ваш сын Петенька, а машинист нашего поезда, обезьянка Петька. Вот она…
Только тут мы заметили, что невдалеке, на маленькой детской кроватке, лежит, укрывшись одеялом, больная обезьянка, а рядом с ней на стуле сидит доктор в белом халате и белой шапочке.
— Попрошу полную тишину, — строго сказал доктор и стал выслушивать больную обезьянку.
Когда я простужался, детский доктор выслушивал меня точно так же, просил глубоко дышать, совсем не дышать, а когда нужно, покашлять.
— Пожалуйста, покашляй, — попросил доктор обезьянку, которую он выслушивал специальной трубкой.
Больная обезьянка только смотрела на доктора большими печальными глазами, но кашлять не кашляла.
Тогда доктор попросил Дурова:
— Анатолий Анатольевич, сделайте, пожалуйста, так, чтобы она немного покашляла.
Но знаменитый дрессировщик только бессильно развёл руками.
— К сожалению, — грустно усмехнулся он, — я её этому не научил. Она умеет ездить на паровозе, умеет кувыркаться и кланяться, умеет шалить, а кашлять не умеет.
— А может, у неё болит животик? — спросила моя мама. Она, наверное, вспомнила, как один раз я поел немытое яблоко и потом у меня от этого сильно болел живот, так что доктор даже прописал мне касторку. — Нашему Петеньке, — сказала мама, — очень помогла касторка, попробуйте дать её и обезьянке.
— Не знаю, — вздохнул Дуров. — Она же не разговаривает по-человечьи и не может нам объяснить, что у неё болит. Ну, Петенька, может, у тебя действительно болит живот?
Обезьянка молчала.
— Значит, железной дороги не будет? — спросил я.
Дуров только развёл руками:
— Значит, не будет, без машиниста нам не обойтись.
— Жалко твою обезьянку, — вздохнул и папа. — Ну что ж, Толик, до свидания. Пусть ваш машинист Петька поправляется поскорее. А мы пойдём в зрительный зал садиться на свои места, а то скоро уже начинается представление.
Мне было очень жалко обезьянку и обидно, что не увижу железной дороги.
— Ты, Петенька, не расстраивайся, — сказала мне моя мама. — Доктор вылечит её, даст лекарство, поставит горчичники, и, когда она будет опять здорова, мы ещё раз придём к дяде Дурову.
И мы снова пошли к выходу через весь цирковой двор. Мы прошли мимо велофигуристов, которые по-прежнему ездили задом наперёд; мимо семьи музыкальных эксцентриков, которые играли на разных инструментах, а их старенькая бабушка под музыку старательно скребла скалкой по стиральной доске; мимо приветливой женщины с голубыми глазами, которая своими длинными ногами, как руками, подкидывала и ловила смелую девочку, похожую на куклу; мимо маленькой лошади под названием пони; мимо фокусника, который помнил, как начинаются, но не помнил, как кончаются его фокусы; мимо смешного и грустного Чарли Чаплина; мимо заклинателя змей с его сонной коброй; мимо индейца Васи Сантос-Кукушкина и его жены. Мы шли очень быстро, но я всем успел крикнуть:
— До свидания!
Из цирка уже доносилась музыка, и, наверное, вот-вот должно было начаться представление. Мы побежали бегом, как вдруг за нашей спиной кто-то громко закричал:
— Стойте, стойте!
Это кричал Анатолий Анатольевич Дуров.
Знаменитый дрессировщик догнал нас, когда мы уже выходили с циркового двора. Сначала он не мог произнести ни слова — так он запыхался. И только выдохнул: «Ффу!»
Потом немного отдышался и сказал моим родителям:
— Подождите, мне, кажется, пришла в голову одна замечательная мысль! — И Дуров присел возле меня на корточки. — Ты смелый мальчик?
Я на всякий случай прижался к маме и сказал еле слышно:
— Смелый…
Я сказал это не совсем решительно, но Дуров очень обрадовался.
— Кажется, мы спасены! — воскликнул он и спросил меня: — А хочешь сегодня быть обезьянкой?.. То есть, я хотел сказать, машинистом! Хочешь? А?..
Я даже не сообразил, что сразу ответить, но мама мне помогла:
— Ну, обезьянкой, наверное, нет. — Она поправила мне причёску и воротничок, чтобы всем было ясно, что я совсем не похож на обезьянку. — А машинистом, наверное, да.
— Конечно, не обезьянкой! — рассмеялся Дуров. — Я только хочу просить вашего Петеньку прокатиться в костюме нашего Петьки на нашем паровозе, вот и всё. И не волнуйтесь, пожалуйста, ничего опасного. Хорошо?
— Не знаю… — колебалась моя мама. — Надо спросить у мужчин. — И она спросила у папы и у меня: —Ну как, мальчики?
— Соглашайся, сынок! сказал мой папа, и у него засверкали глаза. — Другого такого случая в жизни не будет! Эх, был бы я сам поменьше ростом!..
В эту минуту мой папа показался мне похожим на слона, которого не брали в маленький поезд, потому что он мог его раздавить.
— Ну, — Дуров ласково заглянул мне в глаза, — согласен?
— Хорошо, — сказал я еле слышно.
— Мы ничего не поняли, — сказала мама. — Говори, пожалуйста, громче.
— Ты же у нас самый смелый, — подбодрил меня папа. И тогда я крикнул:
— Да!
Глава шестнадцатая.
Я ПРЕВРАЩАЮСЬ В ОБЕЗЬЯНКУ
Эх! Что тут началось!
Не успел я опомниться, как меня уже одевали в костюм машиниста, он пришёлся на меня в самый раз — мы с обезьянкой Петькой оказались одного роста. Только вот обезьянкина фуражка не лезла на мою голову, она оказалась мне совсем мала.
Я думаю, так получилось потому, что человек всё-таки умнее, и голова у меня поэтому больше, чем у обезьянки.
Что делать?..
Но тут на помощь нам пришёл цирковой контролёр, который при входе проверял билеты. В своей великолепной фуражке с золотым околышем и блестящим козырьком он был похож на генерала.
— Эта не подойдёт? — спросил он и надел на меня свою фуражку, очень похожую на генеральскую.
Теперь из-под большого лакированного козырька торчал только кончик моего носа, лица почти не было видно.
— Вот и прекрасно! — закричал Дуров. — Ведь зритель должен думать, что на паровозе едет настоящая обезьянка!..
А из зрительного зала до нас долетала музыка: там уже началось представление.
Я очень любил цирк и тут же представил себе, как на ярко освещённый манеж (манежем называется цирковая сцена) вышел седой мужчина в чёрном костюме — шпрехшталмейстер — и объявил:
— Первым номером нашей програ-м-м-мы!.. — И выпустил на манеж ловких и сильных акробатов. Они уже, наверное, ходят там сейчас по красному ковру на руках, делают разные сальто-мортале и всякие другие трюки!..
А потом там, на манеже, весёлые жонглёры станут кидать и ловить сразу двадцать разноцветных шариков, а на головах у них в это время будут свистеть кипящие самовары.
Там будут кувыркаться и смешно падать в опилки смешные клоуны, и мой знакомый Чарли Чаплин станет веселить зрителей.
Там, на манеже, будет, наверное, и ещё очень много интересного: будет мой знакомый фокусник, голубоглазая женщина со своей куклой-девочкой, индеец Вася с топориками, заклинатель змей, моя знакомая девочка на шаре со своим родственником, семья музыкальных эксцентриков с их бабушкой… Но я всего этого, к сожалению, не увижу, потому что надо помогать Дурову, ведь только я могу заменить больную обезьянку.
Теперь, чтобы я совсем не был похож на человека, нужно было что-то сделать с моим лицом, ведь у всех обезьянок мордочки тёмные, совсем не такие, как у нормальных, умытых мальчиков.
— Гримёра! — скомандовал Анатолий Анатольевич.
И тут же прибежал гримёр. Он был одет в белый халат и держал в руках коробочку с гримом — специальной краской, которой покрывают лица артистов.
— Сделайте, пожалуйста, из этого мальчика обезьянку, — попросил Дуров, и гримёр тут же принялся за работу.
Приближалось время, когда должен был начаться весь звериный аттракцион.
Гримёр художественно намазал мне щёки коричневой краской, и через пять минут моё лицо невозможно было отличить от мордашки настоящей обезьянки, да и весь я в костюме машиниста Петьки стал похож на эту мартышку, только руки мои оставались ещё белыми, и кто-нибудь мог догадаться, что я не обезьянка, а обыкновенный, нормальный мальчик. Но тут мама надела мне свои тёмные кожаные перчатки.
— Это для полного сходства, — сказала она, и тогда наконец дядя Толя Дуров показал мне свой паровоз.
Он был замечательный! Совсем как настоящий: зелёный, с чёрной трубой, блестящими медными фонарями и медными краниками.
Мне, конечно, тут же захотелось до всего дотронуться и всё покрутить, но дядя Толя остановил меня:
— Пожалуйста, ничего не трогай, он сам поедет, когда нужно.
— А гудок? — спросил я.
— Молодец! — похвалил Дуров. — А я от волнения чуть не забыл про гудок. Гудок в паровозе — это самое главное! Как только дёрнешь за эту верёвку, паровоз сразу загудит. Понял?
Ну конечно, я всё понял! Я даже хотел тут же попробовать погудеть, но Дуров сказал:
— Подожди, успеешь. А теперь запомни: когда я тихонько крикну тебе на манеже: «Салют!», ты повернёшь этот маленький рычажок. Понял?
— Понял, — поспешил ответить я, хотя там было много разных рычажков и я не совсем понял, на какой из них показал мне Дуров.
Потом ты узнаешь, что из-за этого приключилось, но сейчас вокруг было столько интересного, что я даже не обратил никакого внимания на какой-то там рычажок.
Я глазел по сторонам и уже не очень жалел, что не попал на представление. Зритель там сидит себе спокойненько на своих местах и даже не подозревает, что в это время в цирковых коридорах — за кулисами — идёт напряжённая работа, подготовка к представлению: надевают на цирковых лошадей яркие, праздничные сбруи, до блеска натирают цирковые велосипеды, фокусники готовят свои удивительные чудеса, а канатоходцы проверяют свои канаты.
В это же время, наверное, досыта кормят львов, тигров и других хищников, чтобы во время представления, на манеже, им даже в голову не пришла мысль закусить своими дрессировщиками.
Здесь, за кулисами, я увидел даже больше, чем мог бы увидеть, сидя на своём месте в зрительном зале.
Но тут все забегали, заволновались — начиналось выступление Анатолия Анатольевича Дурова.
— Будь молодцом! — сказал он мне, — Жду тебя на манеже!
Анатолий Анатольевич широко заулыбался, потому что перед зрителями он всегда появлялся только с улыбкой, и вышел от нас на освещённый манеж. И тут же мы услышали оттуда радостные аплодисменты — это зрители здоровались со своим любимым артистом.
Ой!.. Мне становилось то холодно, то жарко, ведь через минуту должен буду выехать на паровозе и я…
Мама стояла рядом и то бледнела, то краснела — она волновалась больше Дурова, больше папы и даже больше меня, она волновалась больше всех.
— Наш сын уже, кажется, пахнет обезьянкой, — пошутила мама от волнения.
— Пустяки! — Папа тоже волновался. — Вечером отмоем все запахи. Ототрём!
Откуда-то издалека раздался голос:
— Давайте железную дорогу!
У паровоза тут же появился какой-то чумазый, деловой парнишка, который больше всех понимал в технике. Он стал поворачивать какие-то краники — одни отворачивал, а другие заворачивал.
Мне стало страшно, но я не заплакал, потому что знал: машинисты не плачут, — и мы покатились по какому-то тёмному коридору.
Тут чумазый деловой парнишка повернул какой-то последний краник и весело крикнул: — Ну, Петька, не бойся! Гуди побольше, машинист! Счастливого пути!
Я дёрнул за верёвку, паровоз загудел, и из тёмного коридора мы выкатились на освещённый манеж.
Глава семнадцатая.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ!
Заиграла весёлая музыка, зрители громко захлопали, но Анатолий Анатольевич поднял руку, и на минуту в цирке наступила полная тишина, только иногда было слышно, как из паровоза негромко шипит пар.
Дурова осветили яркие лучи из четырёх прожекторов, и он произнёс торжественным голосом:
Привет вам, милые друзья,
Мои родные зрители!
Мне радостно, что вижу я
Ребят и их родителей!
Знаком я с вами много лет,
Но каждый раз с волнением
Я встречи жду, и мой привет —
Начало представления!
Тут большой цветастый петух, который до этого молчал и важно дремал на левом плече Анатолия Анатольевича, приподнялся, вытянул шею да как заголосит во всё своё петушиное горло:
«Ку-ка-ре-ку!»
Услышав это «ку-ка-ре-ку», внимательный слон в огромной красной фуражке начальника станции ухватил хоботом толстую верёвку и изо всех сил ударил в большой медный колокол. Это означало, что можно начинать посадку.
И началась посадка!
Никто не подгонял пассажиров, они сами со всех ног бросились занимать места в вагонах. Топот поднялся страшный, потому что у каждого пассажира было четыре ноги, ведь это же, как ты понимаешь, были не люди, а дрессированные дуровские животные. Хрюкали на ходу поросята, пищали белые мыши, мяукала кошка, блеяла коза, лаяли собаки, пыхтел и сопел ёжик, крякали утки, шипели гуси, кудахтали куры.
Хотя, извини, я забыл, не у всех дуровских животных было по четыре ноги — утки и гуси, например, шлёпали по цирковому ковру только двумя ногами, только по две ноги было у кур, но всё равно, всё равно на манеже царило шумное веселье, никто не хотел опоздать на поезд.
Но вот все четвероногие и двуногие расселись в зелёных вагончиках по своим местам и нетерпеливо высунулись в окна, потому что пассажирам нашего поезда хотелось уже скорее отправиться в путь-дорогу.
Скажу тебе по секрету, все они так торопились потому, что уже привыкли в конце своего небольшого путешествия получать от Анатолия Анатольевича что-нибудь вкусненькое.
Вот, оказывается, почему они так спешили и почему так любили ездить на этом поезде!
Но об этом я узнал только потом. А сейчас солидный начальник станции, неторопливый слон, дождавшись команды Дурова, дал ещё два звонка, и поезд наконец тронулся.
Как только наш удивительный поезд отошёл от станции, шум поднялся ещё сильнее: громче захрюкали поросята, запищали белые мыши, замяукала кошка, заблеяла коза, залаяли собаки, засопел ёжик, зашипели гуси, закрякали утки, закудахтали куры и, вдобавок ко всему, я всё время давал гудки, так что можешь себе представить, что творилось на манеже.
Мои папа и мама в это время наблюдали за мной сквозь узкую щёлочку в занавесе и, конечно, по-прежнему страшно волновались.
И все цирковые артисты волновались тоже, потому что знали: на паровозе вместо заболевшей обезьянки Петьки едет обыкновенный мальчик Петя, который ещё никогда не был машинистом.
А зрители об этом даже не догадывались. Правда, один из них, очень внимательно приглядевшись ко мне, сказал своей соседке:
— Какая же это мартышка? Это никакая не мартышка. Это самая обыкновенная макака. Меня не проведёшь! Что я, макак не знаю, что ли?!
А мы к этому времени уже проехали целых три круга, и вот тут чуть было не случилась та самая неприятность, которая могла испортить всё представление.
Вот слушай, как это получилось.
Глава восемнадцатая.
ЧУТЬ БЫЛО НЕ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА
Анатолий Анатольевич совсем близко подошёл к рельсам, и, когда мой паровоз проезжал мимо него, он незаметно махнул мне рукой и негромко скомандовал:
— Салют…
А я совсем забыл, какой рычажок надо повернуть.
Тогда Дуров крикнул ещё раз, чуть погромче:
— Салют!
А я совсем растерялся, смотрел на все эти блестящие колёсики, краники, рычажки и кнопки и совершенно не знал, что мне нужно делать: нажать на что-нибудь, дёрнуть или повернуть?
— Салют!! — ещё громче крикнул Дуров, и я уже приготовился заплакать, как вдруг на помощь мне бросился Чарли Чаплин.
Милый, добрый, смелый Чарли Чаплин! Он на ходу догнал паровоз, вскочил на подножку и на ходу повернул рукоятку, которую должен был повернуть я.
И в ту же секунду над нашим поездом засверкал салют!
Мой паровоз загудел, и я даже сам не заметил, как перестал бояться.
Когда на Новый год зажигают палочки бенгальского огня, кажется, что в воздух начинают бить огненные фонтанчики, но тогда мне давали подержать в каждой руке только по одной такой палочке, а теперь над каждым вагоном нашего поезда вверх ударили целых десять таких фонтанчиков, а в дуровском поезде таких вагончиков было целых пять! Вот и посчитай: пять умножить на десять — получится пятьдесят. Значит, пятьдесят огненных фонтанчиков засверкали, заискрились, затрещали над нашим поездом, а тут ещё мой паровоз гудел что есть силы — замечательно!
Потом погасли бенгальские огни, и Дуров тут же, при зрителях, стал угощать своих питомцев. И никто из них не капризничал, не ломался: «Этого я не хочу! Того не буду!…» Честно говоря, мне даже стало немного стыдно — все пассажиры нашего поезда с удовольствием ели то, чем их угощал Анатолий Анатольевич.
Зайцам Дуров дал морковку. Ам — и нет морковки. Мышкам — сахару. Хруп-хруп — и нет сахара. Кошке — молочка, козе — берёзовых веников, а когда дошла очередь угостить машиниста, Анатолий Анатольевич подмигнул мне и дал то, чем обычно угощал обезьянку, — сладких орешков…
Дед Петя вздохнул и закрыл глаза.
«Наверное, сейчас он вспоминает своё одно прекрасное детство, — подумал внук Петя. — И, наверное, деду хочется опять стать маленьким… Жаль, конечно, что это невозможно, а то бы мы могли целыми днями играть вместе с ним во что-нибудь весёлое…»
— Как давно был этот замечательный день! — сказал дед Петя. — И знаешь, вот прошло уже столько длинных лет, но мне с тех пор никогда больше не попадались такие вкусные орешки… — Дед встал. — Всё. А теперь спи.
Но внуку совсем не хотелось спать.
— Дед, а дальше?..
— А дальше прошла целая длинная жизнь.
— Нет, я про то, что было дальше тогда, когда ты был маленьким. Что было тогда дальше?
— Дальше… — Дед улыбнулся. — А дальше мои мама и папа схватили меня, унесли за кулисы, быстренько сняли обезьяний костюмчик и стали одевать меня в мой собственный, человечий. Мама при этом всё время приговаривала: «Ах ты моя обезьяночка! Ох ты моя обезьяночка! Ах! Ох! Ах! Ох!..» А папа хохотал и говорил: «Вот теперь я верю, что человек произошёл от обезьяны!»
— А дальше?.. А Дуров? Что в это время делал Дуров?
— А Дуров в это время уже заканчивал своё выступление. Оказывается, пока мама и папа переодевали меня, коза так подружилась с волком, что без остановки катала его в пролётке и всё время хотела угостить своей любимой капустой, но волк вежливо отказывался, потому что любил полакомиться совсем другим.
Рыжая лиса играла с петухом в салочки: она убегала, а он догонял и норовил клюнуть в пушистый хвост.
Но самое интересное, я думаю, досталось кошке Мурке: она так подружилась с мышками, что ни за что не хотела с ними расставаться, и Анатолий Анатольевич позволил им вместе полетать на аэроплане. А теперь спи. Закрой глаза и спи…
Но как только дед Петя произнёс слово «аэроплан», внук Петя тут же, конечно, вспомнил о дедушкином подарке — замечательном зелёном самолёте, который по-прежнему стоял на пушистом ковре, как на траве, и, казалось, вот-вот покатится, разбежится получше и… взлетит.
— Дед, — попросил маленький Петя, — а теперь расскажи мне историю про него, ты же обещал…
— Про аэроплан?
— Ага, — кивнул внук.
Но дед Петя встал и погасил свет.
— Я всегда выполняю свои обещания,—сказал он.-—Но про аэроплан я расскажу тебе завтра, потому что это уже совершенно другая история. Так что давай-ка переворачивайся на правый бок, и спокойной ночи.
Внук Петя послушно лёг на правый бок и, уже почти засыпая, спросил:
— Дед, а если бывает «одно прекрасное утро», «один прекрасный день» и «один прекрасный вечер», то, значит, должна быть и «одна прекрасная ночь»?..
— И «одно прекрасное детство»! — согласился дед Петя.—А как же! Так что давай засыпай скорей, и прекрасной тебе ночи!
И внук Петя тут же уснул, и очень скоро ему приснилось всё то, о чём рассказывал дедушка.
Наверное, эта ночь как раз и оказалась прекрасной, потому что Пете снилось, что он всё время слышит замечательную цирковую музыку и на паровозе едет он сам — едет и гудит, а над его головой высоко в небе летит зелёный аэроплан, похожий на большую стрекозу.
Часть вторая
КАК Я ПОМОГ АВИАЦИИ
Глава девятнадцатая.
НА ДРУГОЙ ДЕНЬ
…Уже совсем перед тем, как проснуться, маленькому Пете приснилось ещё что-то очень интересное — кажется, слон и, кажется, медведь.
Когда же он проснулся и раскрыл глаза, то увидел, что ночь давно кончилась и уже наступило утро следующего дня.
Разумеется, Петя тут же вспомнил про вчерашний дедушкин подарок. А может, прекрасный зелёный аэроплан только приснился ему во сне?
Но дедушкин подарок по-прежнему стоял рядом с Петиной кроватью, упираясь высокими красными колёсами в пушистый ковёр. И пилоты сидели на своих местах. Только теперь они, наверное, спали в своих креслах, ведь всю ночь Пете снилось, что они летали без устали.
С первой же минуты этого дня Петя постарался всё делать очень быстро, чтобы поскорей наступил вечер, пришёл дедушка и рассказал ему обещанную историю про аэроплан.
Петина мама ничего не могла понять и очень удивлялась, почему её сын совсем не повалялся в своей кроватке, не понежился, как обычно, а сразу сунул ноги в тапочки и побежал делать вместе с папой физзарядку.
— Раз-два! Раз-два!
Руки вверх, руки в стороны! Руки вверх, руки в стороны!
— Раз-два! Раз-два! Раз-два!..
Присели — подпрыгнули! Присели — подпрыгнули! Присели — подпрыгнули!
— Раз-два! Раз-два!
И бегом — под душ! Ах, как замечательно!
Петя даже почувствовал, что руки и ноги у него стали сильнее, чем вчера, мускулы больше, а сам он немножечко подрос.
После душа они с папой крепко вытерлись махровыми полотенцами, так крепко, что папа стал красным, как варёный рак, а Петя розовым, как поросёнок.
Потом Петя сам оделся, сам постелил свою постель и отправился завтракать.
Позавтракал он без всяких капризов, прямо как взрослый, и даже сам, без всяких напоминаний, почистил зубы после еды. Но до вечера, до прихода деда, всё-таки оставалось ещё очень много времени.
— Не скучайте без меня, — сказал Петя маленьким пилотам, которые сидели в своём зелёном аэроплане. — Я скоро вернусь.
И Петя отправился погулять во двор, подышать свежим воздухом.
Он прихватил с собой свой двухколёсный велосипед, потому что твёрдо решил научиться ездить задом наперёд, как в цирке.
Во дворе он встретил своего лучшего друга Гришу и рассказал ему всё, что слышал вчера от деда.
Кое-что он, конечно, уже немного забыл, а кое-что немного придумал сам. Ну, например, он придумал, что в конце представления все звери встали на головы.
— И даже медведь?! — удивился Гриша.
— А что особенного! — воскликнул Петя. — Он же дрессированный.
— И слон? — не переставал удивляться Гриша.
— И слон, — подтвердил Петя. — И даже гусь.
— С такой длинной шеей? — не поверил Гриша. — Она же могла сломаться…
— Подумаешь! — хмыкнул Петя, он так разошёлся, что уже начал сам верить в свои выдумки. — Там даже жирафы могут стоять на голове, это же цирк!
Тут Гриша стал помогать Пете учиться ездить на велосипеде задом наперёд.
Петя уселся на руль, ноги поставил на педали, а Гриша придерживал велосипед за седло.
Сначала они наехали на столб. Встали, отряхнулись, поехали дальше.
Потом они наскочили на детские качели. Хорошо ещё, что на них в это время никто не качался. Встали, отряхнулись, поехали дальше.
В третий раз они налетели на стол, за которым старички пенсионеры играли в домино.
Наши велофигуристы так сильно разогнались, что, когда стукнулись об этот стол, все доминошные костяшки, как кузнечики, разлетелись в разные стороны, и старички пенсионеры очень огорчились, особенно лысые, потому что ещё бы немножко — и они победили бы усатых, а теперь пришлось начинать всю игру сначала.
— Лучше потренируемся что-нибудь подкидывать ногами, — предложил Петя. — Как та артистка с голубыми глазами. Давай?
— Давай, — охотно согласился лучший друг Гриша. — А что будем подкидывать? Хорошо бы какого-нибудь подходящего ребёнка…
Но ни одна бабушка, ни одна мама и ни одна няня не захотела, чтобы их детей подкидывали ногами, как это обычно делают в цирке.
Тогда друзья отправились к девчонкам, искать подходящую куклу, но и подходящую куклу они не нашли: все куклы оказались слишком маленькие. Что делать?..
И неожиданно Петя и Гриша наткнулись в дальнем углу двора на старый, выброшенный кем-то огнетушитель. Он был точь-в-точь то, что нужно!
Петя лёг спиной на скамейку и поднял вверх ноги, а Гриша стал укладывать ему на пятки огнетушитель. Очень мешали ботинки, Петя снял их и остался босиком. Он очень старался, но тяжёлый огнетушитель всё время скатывался с Петиных пяток, потому что был круглый, а пятки у Пети — тоже круглые.
Наконец огнетушитель неподвижно застыл над Петиной головой.
Петя тут же представил себе, что выступает в цирке перед зрителями, что на него светит яркий свет прожекторов, играет громкая музыка, а он лежит в красивом костюме и ногами подбрасывает вверх девочку с голубым бантом, похожую на куклу…
В эту секунду Пете даже показалось, что выступать в цирке не так уж и трудно.
— Отпускай! — скомандовал Петя, и его друг убрал руки…
В ту же секунду Петины колени задрожали, ноги сами собой подогнулись, поехали в сторону и непослушный, тяжёлый огнетушитель скатился с Петиных пяток вниз и больно ударил его по лбу. Ещё хорошо, что Гриша успел его немного придержать.
В эту секунду Петя понял, что выступать в цирке всё-таки довольно трудно.
На лбу у Пети тут же, прямо на глазах, вздулась огромная лиловая шишка, но он удержался и не заплакал, а его лучший друг Гриша при виде этой шишки даже придумал вот что.
— Слушай! — закричал он. — Ты теперь с этой шишкой стал такой смешной, что вполне можешь быть клоуном в цирке! Только тебе ещё нужно сделать красный нос.
Но увидеть свою шишку без зеркала Петя, к сожалению, не мог и поэтому только потрогал её. Было больно, и ему почему-то больше не хотелось подбрасывать огнетушитель вместо девочки с голубым бантом. И клоуном быть не хотелось.
— Чтобы мускулы стали крепкими, надо хорошо есть, — сказал Петя. — Пойду-ка пообедаю.
И он покатил домой свой велосипед.
* * *
После обеда Петина мама сказала:
— Ты, я вижу, очень устал, раздевайся — и в постель. Тихий час!.. И твоя шишка на лбу за это время тоже пройдёт.
Тут Петя в первый раз за весь день немного покапризничал, сказал, что спать не хочет, что хочет ещё немного погулять, что во дворе его ждут разные важные дела.
Но как только Петина голова прикоснулась к подушке, он моментально заснул и проспал не один тихий час, а целых два с половиной.
Мама, чтобы не разбудить сына, ходила по квартире на цыпочках, а Пете опять приснился слон из дедушкиного детства.
На слоне была надета большая красная фуражка, и он звонил в медный колокол: дин-дон-н-н, дин-дон-н-н. дин-дон-н-н!..
Но теперь на рельсах стоял не дуровский поезд, а зелёный аэроплан, готовый в любую минуту взлететь. Во сне может всё перепутаться, и, наверное, поэтому Пете приснилось, что впереди у зелёного аэроплана пыхтит и дымит труба, как у паровоза. Дин-дон-н-н, дин-дон-н-н, дин-дон-н-н!..
Петя проснулся, открыл глаза, но сразу даже не смог понять, проснулся он на самом деле или ещё нет, потому что никакого слона в комнате уже не было, но колокол тем не менее продолжал звонить.
«Как же так, — подумал Петя, — ведь колокол был во сне!»
И вдруг он понял: это звонит вовсе не колокол, а звонок на входной двери, это пришёл дедушка.
— Дедушка! — что есть сил закричал Петя и бросился открывать дверь.
Ну, как дедушка вытирал ноги и здоровался, — это не очень интересно; как он после улицы мыл руки, а потом за чаем рассказывал маме, что ему сказал доктор про его кишечник, — тоже не очень интересно, но потом… Потом наконец дед Петя вспомнил о самом главном, для чего он пришёл, и рассказал внуку Пете свою вторую историю.
Глава двадцатая.
НЕОЖИДАННОЕ ИЗВЕСТИЕ
— Ну, слушай дальше, — сказал дед Петя и уселся поудобнее…
Чтобы начать вторую историю, надо закончить первую, а чтобы закончить первую, надо, чтобы закончилось цирковое представление, а чтобы закончилось цирковое представление, надо об этом объявить публике. Нужно сказать зрителям всего два слова, но это очень важные слова, только после них зрители смогут встать со своих мест и отправиться домой. Но хотя все давно знают, что рано или поздно цирковой шпрехшталмейстер произнесёт специальным торжественным голосом: «Представление окончено!», всем очень не хочется, чтобы оно оканчивалось, потому что это значит, что окончился праздник, потому что после этого погаснут яркие цирковые огни, потому что всем станет немножечко грустно и не захочется уходить из цирка.
Поэтому цирковой шпрехшталмейстер всегда старается произнести эти слова как можно веселей, чтобы у зрителей ещё долго сохранилось хорошее настроение, чтобы они не забывали цирк и хотели бы прийти сюда ещё когда-нибудь.
И вот большой седой мужчина — шпрехшталмейстер — вышел на яркий цирковой ковёр, в лучи прожекторов, которые через несколько секунд погаснут, набрал в грудь побольше воздуха и своим необыкновенным голосом начал объявлять;
— Представление окон…
Но он не успел договорить до конца эти свои два знаменитых слова, как на весь цирк раздался другой голос, молодой и звонкий:
— Стойте, стойте! Подождите!..
Брови у шпрехшталмейстера сами собой поползли вверх, а рот от удивления сам собой открылся: такого он ещё никогда не слышал в своей большой цирковой жизни. Не слышал и не видел. Прямо к нему на манеж, через центральный вход, который в цирке называется форгангом и из которого обычно появляются к публике цирковые артисты или выходит он сам, шпрехшталмейстер, выбежала невысокая девушка с комсомольским значком на груди.
Она, видимо, так торопилась, так бежала и так поэтому запыхалась, что теперь не могла произнести ни слова, а только тяжело дышала и широко, как рыба, раскрывала рот.
Все вокруг терпеливо ждали, понимая, что она хочет сказать им сейчас что-то очень важное, но просто не может и должна сначала немного отдышаться.
Но вот наконец она отдышалась и звонко, на весь цирк, объявила:
— Дорогие товарищи! Сегодня в наш замечательный город, на своих замечательных аэропланах прилетают…
Тут дед Петя заметил, что его внук Петя недоверчиво улыбнулся.
— Ты совершенно напрасно улыбаешься, — сказал дед. — Это было такое замечательное время, когда все вокруг казалось нам замечательным: трава замечательная, солнце замечательное, ветер замечательный! Поэтому нет ничего удивительного, что та девушка, кстати и сама вполне замечательная, именно так и сказала:
— Прилетают два замечательных красных пилота…
Тут она развернула скомканную записочку, где у неё были записаны фамилии замечательных красных пилотов, но так волновалась, что прочесть их не смогла.
— Позвольте я, — любезно предложил ей шпрехшталмейстер негромким басом. — Это же моя профессия. — Он поднёс записку к глазам, откашлялся и оглушительно, как будто объявлял цирковой номер, произнёс на весь цирк: — Прилетают отважные покорители воздуха — В.П. Белуха и В.Т. Барановский! Похлопаем, товарищи!
Все захлопали, а шпрехшталмейстер вернул записку девушке с комсомольским значком, и та продолжала:
— Дорогие товарищи! Эти два замечательных красных пилота будут показывать замечательные фигуры высшего пилотажа, а потом, возможно, будут катать желающих на аэропланах. Так что приглашаем всех вас на лётное поле, куда скоро прилетят наши замечательные гости…
Шпрехшталмейстер уже хотел было снова прийти на помощь девушке, но на этот раз она отлично справилась сама, и снова весь цирк услышал имена пилотов, только теперь уже в её исполнении:
— …наши замечательные гости, отважные пилоты В.П. Белуха и В.Т. Барановский!
Мой папа за кулисами даже подпрыгнул от радости:
— Ты слышал?! Ты слышал, Толик, кто прилетает?!
— Конечно, — спокойно сказал Дуров. — По-моему, она объявила выступление знаменитых пилотов, о которых до сих пор мы только читали в газетах, а теперь увидим их самих.
Мой папа даже расхохотался:
— Ха-ха, в первый раз?! А ты не догадался, Толик, кто такой В.Т. Барановский?..
Анатолий Анатольевич посмотрел на папу с недоумением и вдруг хлопнул себя ладонью по лбу:
— Постой, постой… Так это же Витька Барановский! В.Т. Барановский — Это Витька-пискля, наш друг детства! Ура-а-а!..
В эту минуту оба они, и мой папа и Анатолий Анатольевич, готовы были просто танцевать от радости.
И вот снова под нами подпрыгивает и стреляет, как пулемёт, папин мотоцикл, только теперь к нам прибавился ещё один пассажир, Анатолий Анатольевич Дуров. Он трясётся за папиной спиной на высоком седле, и его длинные волосы развеваются на встречном ветру.
Ура-а-а! Мы едем на лётное поле!..
Глава двадцать первая.
НА ЛЁТНОМ ПОЛЕ
Это теперь тяжёлые и огромные самолёты с оглушительным рёвом поднимаются с аэродромов и садятся на аэродромы, это теперь для взлёта и посадки им нужны специальные бетонированные дорожки длиной больше километра. А раньше… Даже смешно! Раньше ничего подобного не было, потому что маленькие и лёгонькие аэропланы, чтобы взлететь, разбегались не очень быстро и не очень долго — им для этого вполне хватало небольшого ровного поля, поросшего травой.
В тот далёкий день на такое лётное поле собрался почти весь наш город.
Светило солнце, играл духовой оркестр, люди улыбались.
Всем сейчас хотелось петь и танцевать, как будто этот день был праздником вроде Первого мая!
Все так громко шумели и смеялись, что даже не слышали, что им пытался сказать с трибуны молоденький комсомолец. Он изо всех сил кричал что-то в большой железный рупор, хотел, видимо, что-то объявить, но его не было слышно. В конце концов парнишка так охрип от крика, что уже не мог сказать ни слова.
Но тут ему на помощь подоспела та самая девчушка, которая недавно приглашала зрителей из цирка прийти на лётное поле. Она привела с собой того самого циркового шпрехшталмейстера, у которого был такой сильный голос, что он мог перекричать любой самый сильный шум.
— Помогите нам! — попросила девушка. — Пожалуйста!
Шпрехшталмейстер охотно поднялся на трибуну и, конечно, сразу понял, что надо объявить. Он только совсем забыл, что находится не на представлении, и поэтому у него сначала получилось так:
— Уважаемые зрители, дорогие друзья! Сегодня впервые под куполом нашего цирка…
— Что вы, что вы?! — замахал на него руками охрипший парнишка и что-то зашептал ему на ухо. Кричать он не мог, а шептать мог.
— Понимаю, понимаю, — покивал головой шпрехшталмейстер. — Сейчас я скажу правильно… — И он начал снова: — Дорогие друзья, дорогие товарищи! Сегодня под голубым куполом нашего неба выступит группа отважных покорителей воздуха под руководством и при участии двух бесстрашных красных пилотов — В.П. Белухи и В.Т. Барановского! — Но тут шпрехшталмейстер всё-таки не выдержал и сказал, как привык, совсем по-цирковому: — Попросим наших любимцев на манеж! — И он первым захлопал в ладоши, глядя в небо, туда, откуда должны были показаться аэропланы.
И все, кто сейчас был на ноле, тоже дружно захлопали, как будто сидели в цирке и ждали выхода каких-нибудь акробатов или жонглёров.
Но вдруг та самая девушка, которая прибегала в цирк, запрыгала от радости, замахала косынкой и закричала, глядя направо:
— Летят, летят!
Все моментально закричали «Урра!» и повернули головы направо.
Главный трубач взмахнул своей трубой, и оркестр заиграл что-то очень весёлое. И тут все заметили, что летит не один аэроплан и даже не два и не три, а много, целая стая, и что все они… машут крыльями. Тут, конечно, все поняли, что ошиблись и это вовсе не аэропланы, а галки, целая стая чёрных галок.
Но никто даже не успел огорчиться, потому что та же самая нетерпеливая девушка уже повернулась в другую сторону и снова закричала:
— Летят, летят!
На этот раз она не ошиблась: из-за лесочка низко-низко, над самой землёй, летели два аэроплана.
Сначала все их увидели, а потом услышали. Когда они были ещё далеко, казалось, что строчит швейная машина, а когда подлетели поближе, они затрещали, как мотоциклы. На несколько секунд все затихли и с открытыми ртами слушали, как трещат аэропланы, а потом как все снова закричат: «Ур-ра-а-а!» — и никаких аэропланов сразу не стало слышно.
Мальчишки выпустили в небо голубей, за голубями полетели разноцветные детские воздушные шары, опять грянул духовой оркестр, и, наконец, аэропланы с грохотом пролетели над толпой.
Они пролетели так низко над головами людей, что многие с непривычки от испуга даже присели на корточки, а некоторые даже сели на траву.
Было очень весело.
Разноцветные шары в голубом небе смешались с белыми голубями, пионеры подняли вверх длинные блестящие фанфары, и все услышали торжественный пионерский сигнал.
Аэропланы коснулись колёсами земли и покатились, подпрыгивая, по зелёной траве.
Все, кто был на лётном поле, хотели уже броситься к аэропланам, чтобы немного покачать отважных пилотов, поприветствовать их и передать цветы, но милиционеры, взявшись за руки, никого не пускали, потому что радость радостью, а порядок нарушать не надо.
Но моего папу, Дурова и меня они всё же пропустили, потому что папа успел сказать главному милиционеру:
— Мы друзья детства одного из пилотов.
Тогда главный милиционер взял ладонью под козырёк и негромко сказал не самому главному:
— Пропустите их: они друзья детства одного из пилотов.
Тогда не самый главный милиционер тоже взял под козырёк, повернулся кругом и громко сообщил всем остальным милиционерам:
— Приказано пропустить: они друзья детства одного из пилотов. Ура!
— Ура-а-а! — закричали остальные милиционеры, и мы что было силы побежали к аэропланам.
Глава двадцать вторая.
ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ ДЕТСТВА
А пилоты к этому времени уже выбрались из своих тесных кабин, спрыгнули на траву и немедленно приступили к физзарядке, чтобы размять затёкшие в полёте руки и ноги. Шумно вдыхая и выдыхая, они выполняли известные в ту пору упражнения «колун», «русская присядочка» и «пожарный насос».
Папа приложил палец к губам, чтобы мы не шумели, и мы на цыпочках прокрались за спину пилоту, когда тот как раз делал «колун». Он высоко поднимал сцепленные в один кулак руки, сам поднимался на носки, как будто замахивался колуном на полено, и потом с громким выдохом «Ха!» сгибался в поясе пополам, как будто колол дрова.
Но на этот раз поднять он руки поднял, а опустить не смог: папа успел просунуть свои руки ему под мышки, легонько сжал его голову ладонями и спросил нарочно не своим голосом:
— Угадай, кто я?!.
Это получилось так смешно, что мы с Дуровым едва не расхохотались.
Пилот сначала удивился, попробовал повертеть головой в кожаном шлеме, но вырваться из могучих папиных рук ему не удалось и пришлось ему угадывать.
— Николай Митрофанович? — спросил пилот тонким голосом.
— Не-а! — засмеялся папа от радости, потому что по голосу сразу узнал своего друга, — недаром они ещё в детстве прозвали Витьку Барановского писклёй.
— Товарищ Синельников? — снова пропищал пилот.
— Не-а! — захохотал Дуров вместе с папой.
— Кузьма Лукич? — спросил пилот почти женским голосом.
Тут уж мы захохотали все втроём, а бедный пилот чуть не заплакал:
— Ну кто же это тогда, кто, кто?!
— Сдаёшься? — грозно спросил папа чужим, страшным голосом.
— Сдаюсь, — проговорил пилот.
Тут папа поворачивает его и целует, но, поскольку всё лицо пилота закрыто большими лётными очками и мохнатым шарфом, поцеловать его удаётся только в нос.
— Ну, здравствуй, Витёк, здравствуй, дорогой друг детства!
Не успевает пилот опомниться, как его уже обнимает Дуров:
— Витюша! Дружочек! Здравствуй!
Но тут происходит небольшое недоразумение: пилот стаскивает с головы кожаный шлем с очками и оказывается не мужчиной, а… женщиной…
— Я, конечно, очень рада и, конечно, здравствуйте, — говорит она вежливо. — Только вы, видимо, ошиблись, я не Витя, и не Витюша, и не Витёк, а Валя, Валентина Павловна Белуха.
Мой папа очень смутился и даже покраснел, Дуров тоже смутился.
— Извините его, — сказал Анатолий Анатольевич. — Надеюсь, он не сделал вам больно, когда схватил за голову.
— Пустяки! — засмеялась женщина. — На ошибках мы учимся.
— Не сердитесь на нас, — попросил Дуров и поцеловал женщине-пилоту руку.
— Чепуха на постном масле! — сказала женщина-пилот. — Я ни капельки не сержусь, а Виктор Тимофеевич Барановский, ваш друг детства Витюша, вон там. — Она показала рукой на второй аэроплан.
И вот мы снова идём на цыпочках. Стараясь не шуметь, мы подкрадываемся ко второму пилоту.
Папа незаметно заходит к нему за спину и хватает его точно так же, как и первого пилота. Но теперь папа не спешит: а вдруг снова произошла ошибка и этот пилот, тоже окажется не их друг детства, а совершенно чужой человек? Поэтому сначала папа вежливо уточняет:
— Простите, вы Витя из Ростова-на-Дону?..
Пилот кивает:
— Он самый.
Конечно, с того далёкого времени, как Витьку Барановского дразнили писклёй, он вырос, и голос у него переменился, и его стали называть Виктором Тимофеевичем, но папа с Дуровым всё равно узнали его. Они страшно обрадовались, перемигнулись за его спиной, и папа, как в детстве, стал тереть своему другу детства уши.
— Угадай, кто я?! — спросил он снова не своим голосом.
Витя из Ростова-на-Дону попробовал вырваться из могучих папиных рук, но и ему это не удалось. Тогда он стал угадывать:
— Петр Спиридонович?..
— Не-а! — захохотал папа.
А я встал перед пилотом и тоже сказал:
— Не-а! — и стал его разглядывать: я же видел настоящих пилотов первый раз в своей жизни.
Он был одет во всё кожаное: кожаный шлем, кожаная куртка, даже штаны на нём были кожаные, а на ногах кожаные краги, похожие на бутылки. Из-под больших лётных очков у пилота торчал красный, обветренный нос и густые усы.
А пилот продолжал угадывать:
— Товарищ Груздев?..
— Не-а! — закричали мы вместе с папой.
— Лука Кузьмич?..
— Не-а! — закричали мы вместе с Анатолием Анатольевичем.
— Ну, кто это, кто?! — взмолился пилот, как маленький мальчик.
Мне стало его жалко, и я спросил:
— Сдаётесь?!
Пилот сдался, и папа отпустил его.
— Ну! — закричал папа. — Здравствуй, Витёк! Узнаёшь своих друзей детства?!
Пилот во все глаза смотрел на Дурова и папу, переводил взгляд с одного на другого и никак не мог их вспомнить. Потом попробовал догадаться:
— Ты Чевка, а ты Барыба? — неуверенно произнёс он. Но папа и Дуров затрясли головами:
— Не-а, не-а!
Тут папа решил больше не мучить пилота и признался:
— Я Шурик-длинный, помнишь?
И Дуров сказал, указывая на себя пальцем:
— А я Толик-артист, помнишь?
В далеком детстве это были их прозвища, и пилот, услышав их, невероятно обрадовался.
От радости все трое бывших мальчишек обнялись и даже пустились в пляс.
Но тут, откуда ни возьмись, появился какой-то очень длинный дядька в клетчатой кепке, надетой козырьком назад. На плече он держал жёлтый деревянный треножник с каким-то ящиком сверху.
— Прекрасно! — закричал он. — Встреча старых друзей — это то, что нужно! Я кинооператор, я хочу снять вас для кино! Продолжайте ликовать!
Дядька в кепке козырьком назад поставил свой киноаппарат и начал крутить ручку. Он крутил ручку и одновременно командовал.
— Товарищ мальчик! — кричал он мне. — Подойдите к пилоту и по-мужски пожмите ему руку! Товарищ Дуров, трогательно возьмите мальчика на руки, как будто это ваша обезьянка! Товарищ пилот, крепко обнимите своих друзей детства! А теперь, товарищи, все вместе весело засмейтесь. Для улыбки я спою вам сейчас специальную песенку!
Аппарат трещал, а кинооператор успевал крутить ручку, да ещё при этом смешно пританцовывать и петь свою песенку, которую он, наверное, сам придумал:
Я снимаю вас для кино,
Но никто не знает одно:
Это — удивительное чудо!
Вас оно сохранит на века,
И когда-нибудь издалека
Сами себе вы улыбнётесь отсюда…
Но не успел он допеть своей песенки до конца, как сюда с рёвом и криками «Ура!» нахлынула восторженная толпа народа и принялась качать папиного друга детства.
Он подлетал в воздух всё выше и выше, но подбегали всё новые люди, и, конечно, каждому хотелось самому покачать славного пилота, и он снова и снова взлетал высоко над толпой.
И вдруг… Вдруг все услышали, как кто-то начал громко чихать, и мой папа сразу понял: это чихает его знаменитый друг детства, замечательный пилот В.Т. Барановский. Он сразу вспомнил, что давным-давно, когда они ещё были маленькими, его друг Витя-пискля никогда не влезал на качели, не катался на лодке и не кружился на карусели, потому что, как только его укачивало, он начинал чихать.
Но потом, когда Витя Барановский немного подрос и очень захотел стать пилотом, он начал упорно заниматься спортом, каждый день много бегал, прыгал, плавал, подтягивался на турнике, приседал, упражнялся с гантелями и, конечно, хорошо ел, чтобы стать посильнее, обтирался холодной водой, чтобы не простуживаться, вовремя ложился спать, вовремя вставал, всё делал по расписанию и… перестал чихать, Теперь он мог сколько угодно качаться на качелях, грести на лодке, крутиться на карусели, он стал крепким и смелым и даже забыл, когда чихал в последний раз.
И вот сейчас пилот Виктор Тимофеевич Барановский снова расчихался, как когда-то Витька-пискля. Это значит, восторженные зрители укачали его сильнее всякого аэроплана, сильнее всяких качелей и каруселей.
Конечно, мой папа моментально бросился на помощь своему другу детства. Он поймал его на руки после того, как знаменитого пилота подкинули особенно высоко, поймал и никому не отдал.
— Не качайте его больше! — громко крикнул мой папа. — Его укачивает, и он от этого чихает!
— Это правда, — согласился знаменитый пилот, сидя на руках у моего папы, и опять чихнул: — А-ап-чхи! Не отдавай меня больше никому, пожалуйста…
И папа с Дуровым, конечно, никому его больше не отдали.
Тут подоспели милиционеры и попросили всех отойти подальше от аэропланов — всех, кроме самых близких друзей, друзей детства.
Праздник продолжался!
Глава двадцать третья.
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ
Первой поднялась в небо женщина-пилот Валентина Павловна Белуха. Её аэроплан забрался так высоко, что его стало еле-еле видно с земли и еле-еле слышно. Просто казалось, что там, далеко среди облаков, летает какая-то стрекоза.
Охрипший парнишка заглянул в свою записку и прошептал что-то на ухо цирковому шпрехшталмейстеру, а уж тот своим невероятным голосом прогремел над всем полем:
— Уважаемые зрители, дорогие друзья, товарищи! Сегодня впервые в небе нашего города очаровательная женщина-пилот, непревзойдённая Валентина Белуха исполнит неповторимую фигуру высшего пилотажа — «мёртвую петлю», или «петлю Нестерова».
Он объявил об этом точно так, как каждый вечер объявлял в цирке выступление акробатов, или канатоходцев, или той красивой женщины с голубыми глазами, которая своими длинными ногами могла делать всё, что обычные люди привыкли делать руками.
Закончив объявление, шпрехшталмейстер широко улыбнулся зрителям, как это делал на выступлении в цирке, и вместе со всеми уставился в небо, где женщина-пилот Валентина Белуха должна была сделать сейчас что-то невероятное.
И наступила тишина, такая тишина, что стало слышно, как у папы в кармане тикают часы, и все увидели, как аэроплан с выключенным мотором стал валиться носом вниз. Всё ниже, ниже, ниже… Потом, когда все уже готовы были испугаться, он перестал падать, выровнялся, начал задирать нос вверх, перекувырнулся в воздухе — сделал знаменитую «мёртвую петлю», или «петлю Нестерова», — и опять полетел нормально.
Тут все зрители ужасно обрадовались, закричали: «Ура-а-а-а!» — и стали подкидывать в небо шапки, кепки, шляпки, тюбетейки, панамки, канотье, бескозырки, платочки — словом, кидали вверх от радости всё, что оказалось на голове.
Было очень весело: головные уборы в воздухе так перепутались и перемешались, что потом на голове у паренька оказалась женская шляпка, а у девушки — матросская бескозырка.
А женщина-пилот Валентина Белуха выделывала под облаками такое, что Петина мама даже не заметила, что рядом с ней нет ни Дурова, ни Пети, ни его папы. В эту минуту она, наверное, жалела, что сама в молодости не стала пилотом. «Эх! Умела бы я летать, я бы показала всем, какая я ловкая, смелая, лёгкая!..» — так думала моя мама, стоя на земле и глядя в голубое небо.
А тем временем охрипший парнишка опять заглянул в свою записочку, и цирковой шпрехшталмейстер снова прогремел на всё поле:
— Внимание! Нервных попрошу отвернуться и не смотреть! Сейчас будет исполнен гвоздь нашей программы — бреющий полёт!
И действительно, разогнавшись над дальним лесом, аэроплан отважной тёти Вали приближался к лётному полю низко-низко, почти над самой землёй. Казалось, ещё немного, и он заденет колёсами за головы людей, и, хотя это только казалось, многие на всякий случай присели, а отдельные нервные зрители от испуга даже легли на землю и закрыли голову руками.
Самыми смелыми в эти секунды оказались четыре юных пионера. Когда аэроплан с грохотом пролетал над ними, они высоко подняли свои блестящие фанфары, и все вокруг услышали торжественный пионерский сигнал: тра-та-та-та! Та-та-а-а-а!..
Глава двадцать четвёртая.
САМАЯ ОПАСНАЯ…
А потом наступило самое главное в этот день.
Не успел аэроплан Валентины Белухи приземлиться, как друг папиного детства, дядя Витя Барановский, сам стал готовиться к полёту, потому что наступила его очередь.
Я думаю, моему папе и Дурову тоже очень хотелось подняться в воздух, но они стеснялись попросить об этом своего друга, и поэтому Дуров спросил, как будто случайно:
— А желающих катать будете?
— Ап-чхи! — ответил дядя Витя. — То есть я хотел сказать, обязательно, только потом. Полетаем ещё немного, бензина станет поменьше, аэроплан — полегче, тогда и покатаю. А то я смотрю, ты, Шурик, стал, пожалуй, чересчур тяжёлый, а ты, Толик, чересчур длинный. Сколько же лет мы не виделись?..
— Лет десять, — предположил Анатолий Анатольевич. Он действительно сильно вырос за это время.
— Да… — вздохнул мой папа. — Десять лет — не шуточки…
Папа за это время на самом деле стал очень тяжёлый, килограммов сто весом.
— А я и не тяжёлый и не длинный, — сказал я как будто между прочим. — Я лёгонький.
— Точно! — обрадовался пилот. — Вот сынишка у тебя в самый раз, подходящий! Сынишка просто то, что надо! — Он поднял меня высоко над головой. — Его бы я мог покатать хоть сейчас! Мне как раз не хватает килограммов двадцать добавочного груза.
Он опустил меня на землю и посмотрел на папу и Дурова, а пана и Дуров — на него. Потом все трое посмотрели на меня, и пилот спросил:
— Ну как, хочешь помочь авиации?
Он, наверное, думал, что я испугаюсь летать, а я не испугался. То есть мне, конечно, было страшно, но я сделал смелое лицо и сказал:
— Очень хочу! — И на всякий случай добавил: — Пожалуйста!
«Отлично!» — хотел сказать дядя Витя и уже открыл для этого рот, но у него опять получилось «Ап-чхи!» — так сильно его укачали. Потом он снова открыл рот:
— А… а…
Я подумал, что он опять чихнёт, но он вместо этого сказал:
— А сколько тебе лет?
Я бы мог, конечно, сказать «пять с половиной», но сказал «полшестого», потому что так всё-таки выглядело побольше, ведь шесть больше, чем пять.
— Взрослый человек, — одобрительно сказал пилот. — Солидный. — Он оглядел меня ещё раз с ног до головы и скомандовал: — Залезай!
Папа и Дуров помогли мне забраться сначала на крыло, а потом и в кабину. У пилота нашёлся для меня настоящий кожаный шлем, настоящие лётные очки и даже настоящие лётные перчатки, как у него самого. Теперь и я стал похож на пилота.
Дядя Витя пристегнул меня к сиденью специальными ремнями.
— Это зачем? — спросил мой папа и побледнел от волнения.
— Чтобы случайно на ходу не вывалился, — строго объяснил пилот. — Бывали такие досадные неприятности.
Мой папа побледнел ещё больше. Он тут же представил себе, как на него рассердится моя мама за то, что он разрешил их дорогому сыночку полетать на аэроплане.
Лицо у папы стало такое же белое, как у Анатолия Анатольевича Дурова, но только у того оно было напудрено белой пудрой для представления, а у папы побелело от волнения.
— Не шали в воздухе, — сказал он мне дрожащим голосом. — Слушайся дядю Витю.
— Заводи! — скомандовал пилот.
Папа и Дуров схватились за пропеллер и покрутили его, сколько нужно, пока дядя Витя не крикнул им:
— От винта! — И снова чихнул.
Потом чихнул мотор у аэроплана, потом — опять дядя Витя, потом — снова мотор… И пропеллер завертелся. Он вертелся всё быстрее и быстрее, и скоро его не стало видно. Теперь казалось, что впереди аэроплана вращается прозрачный круг. А за хвостом поднялся такой страшный ветер, что у моего папы сорвало с головы кепку. Но пропеллер закрутился ещё быстрее, и мы покатили по полю.
Аэроплан слегка трясся и покачивался, и я подумал: «Едем, как будто на трамвае или на папином мотоцикле».
Пилот на прощание помахал папе и Дурову рукой в кожаной перчатке, и я помахал им рукой в такой же перчатке, пилот надвинул очки, и я надвинул очки, пилот поправил усы, но, так как у меня их ещё не было, мне пришлось кожаной перчаткой только почесать под носом.
Мы разогнались как следует, и вдруг наш аэроплан перестало трясти, а это означало, что мы оторвались от земли и стали подниматься всё выше и выше.
Теперь аэроплан перестал казаться мне похожим на трамвай или мотоцикл. Люди внизу сделались крошечными, и я уже не мог узнать, где там среди них мои папа и мама.
Дядя Витя в своё зеркальце заметил, что я верчусь, стараясь что-то разглядеть на земле, и крикнул мне:
— Вон они, смотри, твои мама и папа! Правее лошади, видишь?.. Рядом с мотоциклом!
Вон они, видишь?!
От громкого крика у него, наверное, зачесалось в носу, и он опять стал чихать.
Глава двадцать пятая.
А В ЭТО ВРЕМЯ НА ЗЕМЛЕ….
А в это время на земле произошло вот что (это уже потом рассказали мне мои родители).
Папа как ни в чём не бывало подошёл к зрителям, которые стояли, задрав головы вверх, и как ни в чём не бывало стал рядом с мамой и тоже стал смотреть в небо.
— Какая всё-таки прелесть этот аэроплан! — воскликнула мама.
— Да! — тут же согласился с ней папа. — Действительно, полная прелесть! Похож на какое-то лёгкое пёрышко! Восхитительное зрелище!
— Как он плавно летит! — Мама была просто в восторге. — Просто плывёт по воздуху!
— Да! — поспешил согласиться с ней папа и невольно вздохнул. — Просто плывёт, как рыбка…
— Очаровательно! — снова воскликнула мама. — А тебе нравится, Петенька?..
Она оторвала глаза от аэроплана и посмотрела вниз, туда, где возле папиного колена должен был стоять я.
— А где же наш сын? — улыбнулась она и заглянула за папину спину. — Где наш Петушок, а?
— Там… — как можно спокойней сказал папа и небрежно показал рукой вверх.
— Где… там?.. — Мама ещё ничего не поняла, но улыбаться уже перестала.
— Там, — ещё более спокойно повторил папа. — Вон, между облаком, которое похоже на барана, и облаком, которое похоже на чайник…
— Не пугай меня, пожалуйста, — попросила мама. — Серьёзно, где он?
— Летает, — сказал бледный папа как можно веселее. — Ему сейчас там хорошо, прохладно… Правда, Толик?
— Да, — тревожно вздохнул Дуров. — Ему сейчас, пожалуй, даже чересчур хорошо… — Дуров изо всех сил постарался улыбнуться, но моя мама от этих его слов заволновалась ещё больше.
А в это время в нашем аэроплане произошло вот что: дядя Витя вдруг снова чихнул, да так сильно, как ещё не чихал до сих пор, так, что весь аэроплан вздрогнул и закачался в воздухе.
— Будьте здоровы! — закричал я, стараясь перекричать мотор, который трещал, как пулемёт, и ветер, который свистел как бешеный.
— Большое спасибо! — прокричал мне в ответ дядя Витя и снова чихнул.
— Будьте здоровы! — опять закричал я.
А он опять:
— Ап-чхи!
А я опять:
— Будьте здоровы!
А он опять:
— Ап-чхи!
Теперь он чихал непрерывно и никак не мог остановиться, а наш аэроплан из-за этого кувыркался и переворачивался в воздухе, как осенний листок на ветру.
Хорошо ещё, что дядя Витя успел мне крикнуть:
— Петя!.. Ап-чхи!.. Перебирайся, пожалуйста, ко мне… Ап-чхи!.. А то, когда я чихаю… у меня сами собой закрываются глаза… Ап-чхи!..
Я, конечно, тут же отстегнул привязные ремни и начал перебираться в кабину дяди Вити. Это оказалось очень трудным и опасным делом, потому что встречный ветер дул, как ураган, и мне еле хватало сил, чтобы удержаться и не свалиться вниз.
Хорошо, что мы с папой каждый день занимались физзарядкой и у меня поэтому были довольно крепкие руки.
— А куда ставить ногу?.. — прокричал я, когда выбрался из своей кабины.
— Ап-чхи! — услышал я в ответ. — Там есть такая специальная ступенечка… Ап-чхи! Только осторожней!..
Ступенька эта оказалась такой маленькой, что я еле-еле уместил на ней свою ногу.
— Скорее! — звал меня дядя Витя. — Поторопись, пока я не чихаю!..
Я собрал последние силы, сжал зубы и через несколько секунд всё же добрался до кабины пилота.
— Прекрасно! — обрадовался дядя Витя. — Ап-чхи! Мы спасены! Хватайся за эту рукоятку и толкай её от себя. Ап-чхи!..
Наш аэроплан летел так высоко, что с земли невозможно было разглядеть, что там с ним приключилось, но всё равно мама, папа и Дуров просто сходили с ума от волнения.
— По-моему, всё-таки, — пролепетала мама, — этот аэроплан летает как-то уж слишком высоко, а?..
— Да? — нарочно удивился пала, чтобы мама не волновалась. — А по-моему, он летит вполне нормально. Правда, Толик?..
— Абсолютно нормально! — быстро согласился Дуров и, чтобы ещё больше успокоить маму, добавил: — По-моему, он летит даже нормальнее, чем нужно! Я, кстати, вспомнил один очень интересный случай из нашей цирковой жизни… — И Анатолий Анатольевич совсем некстати рассказал про одного слона, по имени Яша, который после представления случайно вышел не в те двери и отправился гулять по городу. Он трубил хоботом в окна домов, переводил стрелки на уличных часах, жители угощали его с балконов разными сладостями. А потом этот Яша спокойненько вернулся в цирк, и всё кончилось вполне благополучно.
Но мою маму уже ничем нельзя было отвлечь.
— Вы рассказали очень смешную историю, — произнесла она дрожащими губами, — но всё равно, по-моему, этот аэроплан летает как-то уж слишком высоко и совсем не плавно. Вы замечаете, он всё время как-то странно подпрыгивает?!
— Что вы! — горячо возразил Дуров. — Это только так кажется. А я, кстати, вспомнил ещё один смешной случай: однажды в цирке наш удав, по имени Валерик, случайно сам завязался в такой узел, что мы его три часа не могли развязать, представляете? Смешно, правда?..
Но ни рассмешить, ни успокоить мою маму уже не возможно было ничем. От волнения она даже закусила зубами кончик носового платка.
— Ну, успокойся, — сказал папа и сам от волнения вместо маминой руки поцеловал руку Анатолию Анатольевичу.
Как раз в это время наш аэроплан сделал фигуру под названием «бочка».
— Кстати, о бочке! — воскликнул Дуров. — Однажды к нам в цирк привезли восемь бочек огурцов для бегемота Юлика…
Но мама обхватила голову ладонями, и, наверное, от волнения у неё совершенно случайно получились стихи:
— Я не хочу вас слушать и затыкаю уши! И хватит им уже летать — ребёнку время кушать!
— Ничего! — бодрым голосом сказал папа. — Пусть немного проголодается, лучше будет аппетит.
— Конечно! — попробовал пошутить Дуров. — Мои мышки, когда проголодаются, готовы съесть кошку!
Но никто не услышал даже этой весёлой шутки, так как в это время наш аэроплан уже коснулся колёсами травы и запрыгал по полю — мы благополучно приземлились.
Тут зрители как захлопают, как закричат:
— Ура-а-а-а, ура-а-а-а! Да здравствует наша авиация!
И снова все, кто был на лётном поле, стали подкидывать вверх шапки, кепки, тюбетейки, панамки, бескозырки, платочки, канотье и разное другое!
Светило солнце, громко играл оркестр, пионеры трубили в фанфары!
Чтобы поскорее обнять своего дорогого сыночка, мама и папа бросились в мотоцикл, но впопыхах перепутали места, и мама оказалась в седле за рулём, а папа — в коляске. Они даже не заметили этого, а мотоцикл уже затрещал и понёсся по полю.
Наверное, папин мотоцикл ещё никогда в жизни не ездил так быстро!
Уже у самого аэроплана от нетерпения мама на ходу выскочила из-за руля, а папа — из коляски, но мотоцикл, как будто от радости, сам продолжал носиться вокруг, хотя им уже никто не управлял.
Пилот дядя Витя не успел ещё даже спрыгнуть на землю, а мои папа и мама уже вытащили меня из аэроплана.
Они тискали меня, целовали, вертели, осматривали, как будто не видели уже целый год.
Глава двадцать шестая.
БУКЕТ НА ТОНКИХ НОЖКАХ
А в это время Анатолий Анатольевич Дуров попросил шпрехшталмейстера сделать последнее объявление.
Тот торжественно подошёл к самому краю трибуны, откашлялся, набрал в грудь побольше воздуха, и все, кто был на лётном поле, затихли, чтобы услышать от него что-то очень важное. Но шпрехшталмейстер сказал всего только одно слово:
— Цветы!
Ну конечно, все сразу поняли, что цветы нужны, чтобы преподнести их отважным покорителям воздуха.
И тут же все цветы, которые принесли с собой люди на лётное поле, стали стекаться к Анатолию Анатольевичу Дурову. Их набралось столько, что могло показаться, будто он держит в руках целую клумбу!
Он был большой выдумщик, этот Дуров, — он не понёс сам эти цветы, он передал букет Насте. Помнишь?.. Насте, той самой девочке, которая танцевала на шаре.
Цветов оказалось так много, а девочка была такая маленькая, что её сразу не стало видно и можно было подумать, что это совсем не девочка, а такой удивительный букет, у которого снизу растут ножки.
И вот этот букет на тонких ножках теперь бежал сюда к нам, к аэроплану, где стояли пилоты и где всё ещё ощупывали меня мои мама и папа.
Цветы подбежали к нам, и мы услышали, что они тяжело дышат. Цветы дышат?! Конечно! Там же, внутри букета, находилась Настя!
Она протянула цветы мне, я взял их и тут же сам превратился в букет на тонких ножках.
— Это всё мне? — удивился я.
Но Настя сказала:
— Это тем, кто летал!
— Спасибо! — закричал я из букета и передал его пилоту тёте Вале Белухе. Ведь в первую очередь цветы всегда преподносят женщинам и героям.
— Это всё мне? — удивилась женщина-пилот.
Тут подоспел Анатолий Анатольевич Дуров.
— Вам в первую очередь, — сказал он. — И затем всем, кто летал в небе, от всех, кто был на земле!
Дядя Витя Барановский крепко пожал мне руку:
— Значит, и тебе! Ты сегодня очень помог авиации!
Мы все трое сняли свои кожаные шлемы и раскланивались, как артисты в цирке после представления. А невдалеке стояли мои счастливые родители и от радости немного плакали, потому что от радости плакать не стыдно.
И вдруг я услышал, как дядя Витя тихонько прошептал мне на ухо:
— Только, пожалуйста, не рассказывай никому, что когда я чихаю, у меня закрываются глаза.
И я с тех пор никому об этом не рассказывал. Тебе первому.
Вот и вся история.
Глава двадцать седьмая.
САМАЯ ПОСЛЕДНЯЯ И САМАЯ КОРОТКАЯ
— Дед, — спросил внук Петя. — И всё это было на самом деле, всё, всё до капельки?..
Дед Петя улыбнулся:
— Почти всё, и только совсем немножечко я придумал, чтобы было интересней… Но, честное слово, совсем немножечко, потому что я кое-что уже забыл, ведь оно было очень давно — это моё одно прекрасное детство!..
Оглавление
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
Сегель Яков » Как я помог авиации — читать книгу онлайн бесплатно

Конец
Книга закончилась. Надеемся, Вы провели время с удовольствием!
Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями:
Оглавление:
-
Как я помог авиации
1
-
Для тех, кто тянется вверх
1
-
Как я был обезьянкой
1
-
Как я помог авиации
3
-
Как я был мамой
4
-
Честное слово
6
Настройки:
Ширина: 100%
Выравнивать текст