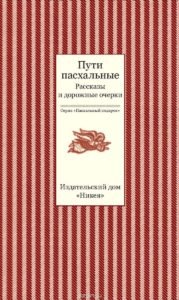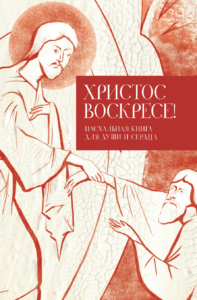|
| Борис Кустодиев. Пасхальный обряд |
Главное свойство произведений этого жанра — глубокий психологизм, попытка понять, насколько душа готова воскреснуть от греха к новой, преображенной жизни. По форме пасхальный рассказ может напоминать сказку, часто в нем говорится о простом и насущно необходимом, «обыкновенном» чуде, но в центре его всегда находится чудо единственное, необыкновенное и непреходящее — чудо Воскресения Христова. В русской литературе пасхальный рассказ был не менее популярен, чем рассказ рождественский.
Разумеется, в пасхальных рассказах существовали свои стереотипы. Вот как писала о них Тэффи: «Многие, наверное, помнят те традиционные праздничные рассказы, которые печатались в газетах и журналах в рождественских и пасхальных номерах. А те, кто их не читал, те, конечно, знают понаслышке, так как рассказы эти столько раз высмеивались. Темы этих рассказов были специальные. Для рождественского — замерзающий мальчик или ребенок бедняка на богатой елке. Для пасхального рассказа полагалось возвращение блудного мужа к жене, одиноко тоскующей над куличом. Или возвращение блудной жены к брошенному мужу, обливающему одинокими слезами бабу. Примирение и прощение происходило под звон пасхальных колоколов. Таковы были строго выбранные и установленные темы. Почему дело должно было происходить именно так — неизвестно. Муж с женой отлично могли бы помириться и в ночь под Рождество, а бедный мальчик вместо елки мог бы так же трогательно разговеться среди богатых детей. Но обычай вкоренился так прочно, что и подумать об этом было нельзя. Возмущенные читатели стали бы писать негодующие письма, и тираж журнала пошатнулся бы непременно».
Но на то и даны стереотипы, чтобы находились люди умеющие их обходить, или использовать ко благу. Пасхальные рассказы составляют целую традицию в русской литературе. Их писали Лесков, Чехов, Горький и другие великие прозаики. Не все произведения нашей пасхальной десятки строго соответствуют канонам жанра пасхального рассказа, но все они, без исключения являются жемчужинами русской литературы.
1. «Баргамот и Гараська» — первый рассказ Леонида Андреева, который принес ему признание читателей, одновременно это и самый совершенный рассказ автора, который в полной мере проявил его незаурядный стиль. Написан он был для пасхального номера московской газеты «Курьер», где Андреев работал в качестве судебного хроникера. «Гостинец» — еще один прекрасная вещь Леонида Андреева в которой звучит пасхальная тема.
2. «Пасхальный дождь» Владимира Набокова — совершенно нетипичный для этого автора пронзительный и трогательный рассказ с удивительной историей. Опубликован он был в пасхальном номере берлинского еженедельника «Русское эхо» 12 апреля 1925 года. Это — первая и последняя его публикация. Считалось, что этот номер еженедельника не сохранился. Не удалось найти рассказ и в архивах писателя, казалось, он утерян навсегда. Однако в 1995 году Светлане Польской удалось разыскать уникальный номер «Русского эха» в одной из библиотек бывшей Восточной Германии. В России «Пасхальный дождь» был напечатан в журнале «Звезда» в №4 за 1999 год. И теперь историю старой гувернантки Жозефины Львовны может прочитать каждый из нас. Разве это не чудо?
 |
| Александр Маковский. Пасхальный стол |
3. Как человек, имеющий отношение к журналистике, Александр Иванович Куприн написал немало рассказов на пасхальную тему. Правда, чаще они были трагическими, чем благостными. Рассказ «Инна» имеет подзаголовок «рассказ бездомного человека». Это — история безответной любви и предательства (громкие слова, но что поделать, речь именно об этом). В рассказе «Святая ложь» чуда не происходит, но, возможно чудом является сама жизнь тихого и незаметного праведника, из породы людей, на которых вечно «валятся все шишки». Мелкий чиновник, с треском уволенный со службы и обвиненный в воровстве, проживает в сыром подвале среди таких же бедолаг. Но несколько раз в год, по большим церковным праздникам он, собрав всеми правдами и неправдами немного денег и приведя себя в приличный вид, идет в богадельню, навестить старушку-мать, которая уверена, что ее сын служит в департаменте. В рассказе «Бонза» описана «маленькая неприятность с японским болванчиком», первая в жизни несправедливость, оставившая глубокий след в детской душе. Откройте томик Куприна, и начните читать: «Это было в ночь под светлое Христово Воскресенье. Я и мой близкий приятель, доктор Субботин, долго ходили по улицам города…»
4. В рассказе Антона Павловича Чехова «На Страстной неделе» говорится о чуде, о чуде детской исповеди. Возможно, кто-то из наших читателей этого рассказа не помнит, или читал его давно, еще в детстве, сейчас самое время освежить его в памяти. А как переживал герой другого рассказа Чехова, «Казак»: «Обидели казака, не дали казаку разговеться!» А рассказ «Студент», где вспоминают о событиях Страстной седмицы — помните? Многие произведения Антона Павловича хочется перечитать именно на Светлой неделе — «Архиерей», «Святою ночью»… Даже в рассказе «На Святках», несмотря на название, тоже слышны пасхальные мотивы.
5. Мы решили включить в нашу пасхальную десятку рассказ, который сам автор относил к святочным. «Сон Макара» Владимира Галактионовича Короленко. Лютой зимой, в канун Рождества, крестьянин Макар в лесу осматривал лисьи ловушки, да заблудился и стал замерзать, выпимши был. И во сне увидел суд Божий, на котором решалось, что будет с пропащей его душой. Этот рассказ Короленко пользовался у современников большой популярностью, а ныне — незаслуженно забыт.
6. «Мужик Марей» Федора Михайловича Достоевского, краткий рассказ, состоящий из сплошного «вдруг». Попробуйте сосчитать, сколько раз встречается в тексте это слово. Рассказ этот, якобы, является не более, чем записью детского воспоминания, но не так прост наш Федор Михайлович, даже в таком небольшом произведении, где, казалось бы, все лежит на поверхности, у него много скрытых, глубоких смыслов.
 |
| Николай Кошелев. Дети, катающие пасхальные яйца |
7. Если кто из русских писателей для журналов и газет писал, значит и пасхальные рассказы у него имеются. Есть они и у Надежды Александровны Лохвицкой, которую мы знаем под псевдонимом Тэффи. Ее рассказы, короткие и смешные, давно и по праву вошли в сокровищницу русской словесности. Книгу Тэффи ее современники всегда старались взять в дальнюю дорогу. И мы на Светлой неделе с удовольствием перечитаем «Пасхальный рассказ», «Кишмиш» «Светлый праздник», «Семья разговляется», «Пасхальное дитя» и другие рассказы. Их можно читать вслух в семейном кругу.
8. Коль скоро мы заговорили и о юморе, вспомним и о сатире. Рассказы Аркадия Аверченко «Дебютанты» и Саши Черного «Пасхальный визит» тоже относятся к пасхальным.
9. Нежный и лиричный «Путь в Еммаус» Федора Сологуба является классическим пасхальным рассказом. Интересно и поучительно будет перечитать его же рассказ «Старый дом».
10. Разумеется, говоря о пасхальных традициях в русской литературе, нельзя не вспомнить о «Запечатленном ангеле» Николая Семеновича Лескова. Эта маленькая повесть еще при жизни писателя стала общепризнанным шедевром, который, по словам автора, «нравился и царю, и пономарю». Это произведение о вере, и радости, в нем есть немало чудесного, а написано оно прекрасным русским языком, сочным и колоритным. А еще Лесков в своих рассказах и повестях создал чудесную галерею портретов русских праведников, причем все персонажи этих произведений, по словам автора «писаны с натуры». История создания цикла «Праведники» такова. Однажды Н.С. Лескова обвинили в том, что он во всех соотечественниках лишь дурное. И стал Лесков «искать праведных» по всей земле русской: в столицах и в глуши, в преданьях старины и в газетных сводках, среди разных сословий и укладов. И нашел их — бескорыстных чудаков и мастеров-самоучек, мучеников и страдальцев, человеколюбцев и философов… Есть ли праведники сейчас, или этот тип людей, прямодушных и совестливых, утрачен безвозвратно? В поисках ответа на этот вопрос перечитайте рассказы Лескова «Фигура», «Человек на часах», «Несмертельный Голован» и другие.
Впервые опубликовано 18 апреля 2012 года
День православного Востока,
Святись, святись, Великий день,
Разлей свой благовест широко
И всю Россию им одень!
Ф. И. Тютчев

Христианство оказало глубокое воздействие на мировую литературу. Во многих произведениях нашли свое художественное воплощение и события Священной истории, и память о них ‒ церковные праздники.
Пасха дала русской литературе больше чем образы, мотивы, сюжеты, эпизоды ‒ она дала жанр пасхального рассказа. Судя по всему, жанр возник спонтанно ‒ и у него было много начал. Пасхальный рассказ был неизбежен в русской литературе. С 80-х годов XIX века пасхальный рассказ встречается практически у всех сколько-нибудь значительных рассказчиков.

Одним из первых
провозвестников этого жанра был А. С. Хомяков, который в 1844 году перевел на
русский язык «Рождественскую песнь в прозе» Чарльза Диккенса и издал анонимно
под новым характерным заглавием «Светлое Христово Воскресенье. Повесть для
детей», перевод имел успех и был дважды переиздан в журналах в следующем году.
В английской литературе «Рождественская песнь в прозе» Диккенса дала жанр «рождественского рассказа». Сохранив многое от оригинала, Хомяков сделал английскую «Рождественскую песнь в прозе» русской: перенес место действия в Россию, дал героям русские имена, подробно разработал русский «колорит», но главное ‒ заменил Рождество Пасхой, что изменило смысл повести.
Пасхальное время,
говоря словами переложения Хомякова, «связано со всем, что есть святого в нашей
вере. Это одно время в круглом году, когда каждый готов открыть другому всю
свою душу, когда недруги готовы снова подать друг другу руку и забыть все
прошедшее и когда все люди, высшие и низшие, равно чувствуют себя братьями в
одном общем светлом торжестве!»…

…Провозвестником жанра пасхального рассказа был и Достоевский, у которого этот жанр возник в пасхальных эпизодах его романов. Впервые он представлен рассказом Нелли в «Униженных и оскорбленных», затем первым сном Раскольникова об избиении и убиении «лошадки», эпизодом предсмертного сна Свидригайлова о девочке-самоубийце, «Мужиком Мареем» из «Дневника писателя», рассказами из «Жития старца Зосимы» в «Братьях Карамазовых». Как самостоятельный жанр выделен в романе «Подросток» рассказ Макара Долгорукого о спасении души изверга и великого грешника купца Скотобойникова…

Пасхальный рассказ связан с праздниками всего Пасхального цикла от Великого поста до Троицы и Духова дня, а это прежде всего Великий пост, Страстная и Святая недели, Пасха, Вознесение, Троица, Духов день. Пасхальный рассказ назидателен ‒ он учит добру и Христовой любви; он призван напомнить читателю евангельские истины.
Пасхальные рассказы Н. Лейкина понравились А. Чехову, который писал автору: «Особенно врезался в мою память один рассказ, где купцы с пасхальной заутрени приходят. Я захлебывался, читая его. Мне так знакомы эти ребята, опаздывающие с куличом, и хозяйская дочка, и праздничный «сам», и сама заутреня…».
Православные праздники становятся у Н. Лейкина
поводом для бытовых зарисовок, раскрывающих юмористическое несоответствие
современных нравов и христианских заповедей, что вполне понятно, если учесть,
что Пасха 1879 года, когда рассказы были написаны, отмечалась 1 апреля.

Сам А. Чехов, откликаясь на просьбу А. С. Суворина, обещал 18 марта 1887 года: «Пасхальный рассказ постараюсь прислать». Чехов не успел написать к пасхальному номеру «Нового времени» (Пасха приходилась на 5 апреля), но две недели спустя был опубликован рассказ «Миряне», позже переименованный в «Письмо».
Годом раньше писал для
пасхального номера «Русских ведомостей» Н. Щедрин, но не успел, и его предание
«Христова ночь» появилось в сентябре 1876 года.
Н. Лесков предпочитал писать «святочные», иногда «рождественские» рассказы, но и у него есть пасхальный рассказ «Фигура» (1889), в котором поведано об одном киевском чудаке, крестьянине с виду, а прежде офицере.
В это время пасхальный
рассказ уже признавался как жанр, о чем свидетельствует не только серьезная, но
и полемическая его интерпретация. Так, в 1895 году редакция «Самарской газеты»
обратилась через М. Горького к В. Короленко с просьбой прислать пасхальный
рассказ. Короленко не смог выполнить заказ, как он объяснял, из-за того, что
«сильно занят уже начатыми работами и вообще пасхальных рассказов давно как-то
не писал».
Вместо Короленко заказ исполнил Горький, написавший для пасхального номера «Самарской газеты» рассказ «На плотах». Он назван в подзаголовке «пасхальным рассказом», хотя, по сути дела, это антипасхальный рассказ, в котором все дано наоборот: язычество торжествует над христианством, снохач Силан Петров возвеличен, христианский аскетизм его болезненного сына Митрия осмеян и отвергнут, сильный прав, слабый повержен.

При явном равнодушии к
церковным праздникам пасхальный рассказ написал Л. Толстой. Это его
хрестоматийный рассказ «После бала». Бал в этом рассказе случился в последний
день масленицы ‒ в Прощеное воскресение, накануне Великого Поста, который
начинается Чистым понедельником. То, чему стал свидетелем герой рассказа,
происходит не по-христиански: «братцы» не милосердствовали ‒ кто по приказу,
кто по своей воле. Рассказ не только раскрывает нравственный конфликт героя и
нехристианской власти, от имени которой вершатся дурные дела, но и
устанавливает нравственный закон в споре, «что хорошо, что дурно».
В рассказах «Студент» и
«Архиерей» Чехов напомнил читателю о Христе, о смысле истории и смысле жизни
человека. В них ясно выражены общие для пасхального рассказа умиление и
упование на народную веру и русское Православие.

Среди бунинских пасхальных рассказов есть и знаменитое «Легкое дыхание», действие которого в начале и в конце происходит на кладбище в апреле, где «над свежей глиняной насыпью стоит новый крест из дуба, крепкий, тяжелый, гладкий». …Что такое апрельские воскресенья, хорошо известно русскому человеку: это время пасхальных праздников, которые идут своей вечно повторяющейся чередой от Великого Поста до Троицы. И этот православный календарь вносит новый художественный смысл в то, что случилось с Олей Мещерской и как ее смерть отозвалась среди людей, почему на ее могилу ходит классная дама, знающая тайну «легкого дыхания» Оли Мещерской.
Как жанр пасхальный
рассказ един, но это единство многообразия: сохраняя жанровую сущность
неизменной, каждый автор мог выразить в пасхальном рассказе свое, задушевное. И
каждый проявил в этом жанре свою меру таланта и литературного мастерства.
У пасхального рассказа славное прошлое в русской литературе. По понятным причинам он исчез из советской литературы, но остался и долго держался в литературе русского зарубежья. Сегодня у него почти нет настоящего. Возможно ли будущее ‒ зависит от нас.
(По материалам статьи В.Н. Захарова «Пасхальный рассказ как жанр русской литературы»).
Е. Черноволова.
Христианство оказало глубокое воздействие на мировую литературу. Во многих произведениях нашли свое художественное воплощение и события Священной истории, и память о них — церковные праздники. Их перечень различен у православных, католиков, протестантов; кроме общехристианских — у многих народов есть свои святые, и храмы, и праздники в их честь, но у всех есть Рождество, Пасха, Троица, Вознесение.
В западных христианских церквах главным праздником стало Рождество, в Православии — Пасха. Литературное значение Рождества давно признано и писателями, и читателями: есть свой круг авторов и есть жанр «рождественского рассказа». У нас его часто смешивают со «святочным рассказом», хотя очевидно, что это не одно и то же, тем более что исконно западноевропейский «рождественский рассказ» и русский «святочный рассказ» говорят о разном: один — о христианских заповедях и добродетелях, другой — об испытании человека Злым Духом. Хронологическое совпадение — а оба жанра приурочены к Рождеству — имело свои последствия: русский святочный рассказ усвоил кое-что из «рождественского», но их национальная и конфессиональная почва различна.
Так же и Пасха, праздник в честь воскресения Христа из мертвых. В Православии — это праздник праздников, торжество из торжеств.
Многим памятны слова Гоголя о том, как по-разному празднуется «Светлое воскресение» у нас и в «чужой стороне»:»В русском человеке есть особенное участие к празднику Светлого Воскресения. Он это чувствует живее, если ему случится быть в чужой земле. Видя, как повсюду в других странах день этот почти не отличен от других дней, — те же всегдашние занятия, та же вседневная жизнь, то же будничное выраженье в лицах, — он чувствует грусть и обращается невольно к России». Впрочем, взгляд сатирика трезв, и, не раз подмечая признаки суетливого честолюбия и тщеславия, Гоголь отмечает: «День этот есть тот святой день, в который празднует святое, небесное свое братство все человечество до единого, не исключив из него человека». Многое из сказанного тогда Гоголем, в том числе и то, что сказано в назидание русскому человеку девятнадцатого столетия, сегодня звучит как утешение — и нам остались вопросы и ответы русского гения:
«Отчего же одному русскому еще кажется, что праздник этот празднуется, как следует, и празднуется так в одной его земле? Мечта ли это? Но зачем же эта мечта не приходит ни к одному другому, кроме русского? Что, значит, в самом деле, что самый праздник исчез, а видимые признаки его так ясно носятся по лицу земли нашей: раздаются слова: ’’Христос воскрес!» — и поцелуй, и всякий раз также торжественно выступает святая полночь, и гулы всезвонных колоколов гудят и гудут по сей земле, точно как бы будят нас! Где носятся так очевидно признаки, там не даром носятся; где будят, там разбудят. Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными. Умирают в букве, но оживают в духе. Померкают временно, умирают в пустых и выветрившихся толпах, но воскресают с новой силой в избранных, затем, чтобы в сильнейшем свете от них разлиться по всему миру. Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено Самим Христом. Разнесется звонкими струнами поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее — праздник Светлого Воскресения воспразднуется, как следует, прежде у нас, чем у других народов! На чем основываясь, на каких опираясь данных, заключенных в сердцах наших, можем сказать это? Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? никого мы не лучше, а жизни еще неустроенней и беспорядочней всех их. ’’Хуже мы всех прочих», — вот что мы должны всегда говорить о себе. Но есть в нашей природе то, что нам пророчит это».
И Гоголь объясняет смысл своего пророчества:
«Что есть много в коренной природе нашей, нами позабытой, близкого закону Христа — доказательство тому уже то, что без меча пришел к нам Христос, и приготовленная земля сердец наших призывала сама собой Его слово; что есть уже начало братства Христова в самой нашей славянской природе, и побратание людей было у нас родней даже и кровного братства; что еще нет у нас непримиримой ненависти сословия противу сословия и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе и которые поставляют препятствие непреоборимое к соединению людей и братской любви между ними; что есть, наконец, у нас отвага, никому несродная, и если предстанет нам всем какое-нибудь дело, решительно невозможное ни для какого другого народа, хотя бы даже, например, сбросить с себя вдруг и разом все недостатки наши, все позорящее высокую природу человека, то с болью собственного тела, не пожалев себя, как в двенадцатом году, не пожалев имуществ, жгли домы свои и земные достатки, так рванется у нас все сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас, ни одна душа не отстанет от другой, и в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды — все бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия — один человек. Вот на чем основываясь, можно сказать, что праздник Воскресения Христова воспразднуется прежде у нас, чем у других. И твердо говорит мне это душа моя; и это не мысль выдуманная в голове. Такие мысли не выдумываются. Внушеньем Божьим порождаются они разом в сердцах многих людей, друг друга не видавших, живущих на разных концах земли, и в одно время, как бы из одних уст, изглашаются. Знаю я твердо, что не один человек в России, хотя я его и не знаю, твердо верит тому и говорит: „У нас прежде, чем во всякой другой земле, воспразднуется Светлое Воскресение Христово!“».
Гоголю как никому другому удалось связать Пасху с национальным характером русского народа, прошлой и будущей историей России. Он определил эстетическое значение этого праздника в русской жизни и тем самым предопределил его возможный художественный смысл в русской литературе.
Пасха получала разное художественное значение в русской литературе. Поэты чаще всего писали и рассуждали о последних событиях земной жизни Христа, обращались к темам и образам четырех Евангелий. Существует огромная, во многом пока не собранная поэтическая антология пасхальных стихотворений, в создании которой участвовали почти все русские поэты. С этой точки зрения русская поэзия еще не прочитана. Многое не переиздавалось в советские времена, но многое и не узнано. Так, пасхальный смысл имеет стихотворение Ф. Тютчева «Святая ночь на небосклон взошла», в котором речь идет не об одиночестве, а о богооставленности человека в ночь, когда умер Бог, —
И человек, как сирота бездомный,
Стоит теперь и немощен и гол,
Лицом к лицу пред пропастию темной.
На самого себя покинут он —
Упразднен ум и мысль осиротела —
В. душе своей, как в бездне, погружен,
И нет извне опоры, ни предела…
Часто Пасха была условной весенней датой: без указания на конкретный год переходящий праздник не мог быть точной датой. Иногда это примета православного быта русского человека, его образа жизни. Однако духовная природа этого великого христианского праздника такова, что уже само обращение к нему писателей в своем творчестве зачастую увлекало их на решение таких задач, которые были бы достойны этого праздника. И условной дате, и описанию праздника придавалось иное более серьезное и глубокое, подчас символическое значение.
Конечно же, не случайно «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя завершаются главой «Светлое воскресение» — это финальное обобщение смысла непонятой и отвергнутой книги Гоголя. Второй том «Мертвых душ» горел дважды — дважды писатель отверг написанное, посчитав, что он не справился с продолжением своей «поэмы». Вполне возможно, что так и было: ему не удалось воскресить «мертвые души» своих героев; но идея воскрешения русского человека и России стала пасхальным сюжетом его «Выбранных мест». Художественная сверхзадача второго тома «Мертвых душ» была решена в проповеднической публицистике «Выбранных мест из переписки с друзьями».
Пасха стала ключевыми эпизодами в произведениях одного из многих критиков великой книги Гоголя — у Достоевского. Правда, за этим проникновением в православный смысл Пасхи стоял каторжный духовный опыт писателя, о котором он поведал в «Записках из Мертвого Дома». Символическое значение праздника возникает в романах «Униженные и оскорбленные», «Преступление и наказание», «Идиот», «Подросток» и «Братья Карамазовы».
Не случайно и то, что раскаяние охватило Порфирия Владимирыча (Иудушку) Головлева в конце Страстной недели. «Совесть пробудилась, но бесплодно», — заметил по этому поводу автор. Прозрение вывело «истого идолопоклонника», каким был в своей вере Порфирий Владимирыч, в Великую Субботу на дорогу, «на могилку к покойнице матушке проситься». Наутро возле дороги нашли «закоченевший труп головлевского барина»: Светлое Воскресение не наступило — воскрешения героя не произошло.
Пасха сохраняла свой христианский смысл даже при сложных отношениях писателя с церковью. Л. Толстой в «Исповеди» откровенно поведал свои сомнения насчет веры и открыл читателю свой конфликт с православной церковью. Как и многие люди его круга, он был равнодушен к церковной жизни, исполнял обряды православной церкви, не вникая в их сокровенный смысл. Рассказывая о своих чувствах по поводу «празднования главных праздников», Толстой писал: «Помнить день субботний, т. е. посвятить один день на обращение Богу, мне было понятно. Но главный праздник был воспоминание о событии воскресения, действительность которого я не мог себе представить и понять. И этим именем воскресенья назывался еженедельно празднуемый день. И в эти дни совершалось таинство евхаристии, которое было мне совершенно непонятно. Остальные все двенадцать праздников, кроме Рождества, были воспоминания о чудесах, о том, о чем я старался не думать, чтобы не отрицать: Вознесенье, Пятидесятница, Богоявленье, Покров и т. д. При праздновании этих праздников, чувствуя, что приписывается важность тому самому, что для меня составляет самую обратную важность, я или придумывал успокоивавшие меня объяснения, или закрывал глаза, чтобы не видать того, что соблазняет меня».
Эти сомнения и отпадение писателя от Церкви нашли свое выражение в концепции ряда его произведений. Например, в романе «Воскресение» постыдный грех с Катюшей Масловой Нехлюдов совершил именно на Пасху — праздник не остановил его и не просветлил его душу. Евгений Иртенев женился на Красную горку и «начинает новую жизнь», но позже через два года в Троицу он почувствовал, как «вдруг страстная похоть обожгла его, как рукой хватила за сердце», сделав жизнь невыносимой мукой (повесть «Дьявол»). Монашеское служение не уберегло отца Сергия от падения в праздник Преполовения (повесть «Отец Сергий»).
В то же время и название, и сюжет романа «Воскресение» безусловно пасхальны. «Знание веры», которое Толстой искал и обрел от мужика, проявилось во многих его произведениях (в том числе и в рассказе «После бала»), и это было выражением дорогого ему народного христианского взгляда на мир, Россию, человека. Став внецерковным человеком, Л. Толстой остался все же христианином.
Замечательны пасхальные эпизоды в удивительной книге И. Шмелева «Лето Господне», в гениальном поэтическом цикле романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» («Чудо», «Дурные дни», две «Магдалины», «Гефсиманский сад»).
Пасха дала русской литературе больше чем образы, мотивы, сюжеты, эпизоды — она дала жанр пасхального рассказа.
Судя по всему, жанр возник спонтанно — и у него было много начал. Пасхальный рассказ был неизбежен в русской литературе.
Одним из первых провозвестников этого жанра был А. С. Хомяков, который, как установил это В. А. Кошелев, в 1844 году перевел на русский язык «Рождественскую песнь в прозе» Чарльза Диккенса и издал анонимно под новым характерным заглавием «Светлое Христово Воскресенье. Повесть для детей», перевод имел успех и был дважды переиздан в журналах в следующем году.
В английской литературе «Рождественская песнь в прозе» Диккенса дала жанр «рождественского рассказа». В русской литературе «Рождественская песнь в прозе» создала некоторые жанровые затруднения переводчиков: первый перевод вышел в журнале «Репертуар и Пантеон» и назывался «Святочные видения» — неизвестный русской литературе жанр был отнесен к «святочным рассказам»; Хомяков вышел из затруднения иначе — он создал новый в русской литературе жанр пасхальной повести.
Сохранив многое от оригинала, Хомяков сделал английскую «Рождественскую песнь в прозе» русской: перенес место действия в Россию, дал героям русские имена, подробно разработал русский «колорит», но главное — заменил Рождество Пасхой, что изменило смысл повести. Как отмечает В. А. Кошелев, «Пасха, праздник искупления, предрасположена к морали гораздо больше, чем Рождество». Пасхальное время, говоря словами переложения Хомякова, «связано со всем, что есть святого в нашей вере. Это одно время в круглом году, когда каждый готов открыть другому всю свою душу, когда недруги готовы снова подать друг другу руку и забыть все прошедшее и когда все люди, высшие и низшие, равно чувствуют себя братьями в одном общем светлом торжестве!»; когда «нет той христианской души на земле, которая бы не радовалась и не приветствовала своего воскресшего Спасителя». После чудесного перерождения скряга Петр Скруг замечает, «что его душа теперь несла в себе светлую радушную улыбку и кроткое любящее чувство ко всему, что только дышит и движется на великом Божьем мире».
Замена Рождества на Пасху преобразила жанр: английская «A Christinas carol in prose» стала русской пасхальной повестью «Светлое Христово Воскресенье», в которой герои живут не только в Петербурге и в России, но и в православном мире русской жизни: радостно празднуют Пасху, красят яйца, разговляются пасхальным куличом, христуются — а те, кому только сейчас открывается истинный духовный смыл праздника, уже не могут не жить по-христиански.
Провозвестником жанра пасхального рассказа был и Достоевский, у которого этот жанр возник в пасхальных эпизодах его романов. Впервые он представлен рассказом Нелли в «Униженных и оскорбленных», затем первым сном Раскольникова об избиении и убиении «лошадки», эпизодом предсмертного сна Свидригайлова о девочке-самоубийце, рассказом Макара Долгорукого о купце Скотобойникове, «Мужиком Мареем» из «Дневника писателя», рассказами из «Жития старца Зосимы» в «Братьях Карамазовых». Некоторые из названных выше эпизодов являются самостоятельными проявлениями жанра.
Нелли в «Униженных и оскорбленных» рассказывает историю вражды и гибели непримиримых в ссоре ее родных накануне Пасхи, укоряя другого непримиримого в своих обидах старика Ихменева словами: «Послезавтра Христос воскрес, все целуются и обнимаются, все мирятся, все вины прощаются… Я ведь знаю… Только вы один, вы… у! жестокий! Подите прочь!». В романе этот эпизод представлен в форме диалога. Позже, в 1879 году, Достоевский извлек его и переделал в рассказ для чтения на литературном вечере. Для этого он перевел диалог в монолог, и эпизод в романе предстал во время чтения самостоятельным жанром, в данном случае пасхальным рассказом.
Как самостоятельный жанр выделен в романе «Подросток» рассказ Макара Долгорукого о спасении души изверга и великого грешника купца Скотобойникова, причем этот пасхальный рассказ представлен автором романа с такими характеристиками рассказчика, из которых следует, что Макар Долгорукий «несколько художник, много своих слов, но есть и не свои. Несколько хром в логическом изложении, подчас отвлеченен; с порывами сентиментальности, но совершенно народной, или, лучше сказать, с порывами того самого общенародного умиления, которое так широко вносит народ наш в свое религиозное чувство», в его рассказах есть «чистосердечие и незлобивость», «нравоучения какого-нибудь или общего направления нельзя было выжать, разве то, что все более или менее умилительны». Это характерные стилистические признаки поэтики не только данного пасхального рассказа или пасхальных рассказов Достоевского (аналогично поданы, в частности, пасхальные рассказы старца Зосимы о брате Маркеле и «таинственном посетителе» в «Братьях Карамазовых»), но и жанра вообще. Одно из высших проявлений жанра пасхального рассказа — «Мужик Марей» из «Дневника писателя».
Пасхальный рассказ связан с праздниками всего Пасхального цикла от Великого поста до Троицы и Духова дня, а это прежде всего — назову главные — Великий пост, Страстная и Святая недели, Пасха, Вознесение, Троица, Духов день. Пасхальный рассказ назидателен — он учит добру и Христовой любви; он призван напомнить читателю евангельские истины. Его сюжеты — «духовное проникновение», «нравственное перерождение человека», прощение во имя спасения души, воскрешение «мертвых душ», «восстановление» человека. Два из трех названных признаков обязательны: приуроченность времени действия к Пасхальному циклу праздников и «душеспасительное» содержание. Иначе без этих ограничений если не все, то многое в русской литературе окажется пасхальным. Оба жанровых критерия важны не сами по себе, а в их взаимосвязи. Немало рассказов, приуроченных к Пасхе, не являются пасхальными именно по своему содержанию.
История пасхального рассказа пока не написана, но с 80-х годов XIX века пасхальный рассказ встречается практически у всех сколько-нибудь значительных рассказчиков.
В это время пасхальный рассказ стал массовым жанром газетно-журнальной беллетристики. Редакторы заказывали для пасхальных номеров своих изданий стихи и рассказы — авторы в меру своих возможностей и способностей откликались на эти просьбы. Это обычный повод появления большинства пасхальных рассказов. Многое в этой беллетристике осталось и останется невостребованным. Впрочем, кое-что по разным историко-литературным обстоятельствам попадает в современные издания.
Пасхальные рассказы Н. Лейкина понравились А. Чехову, который писал автору: «Особенно врезался в мою память один рассказ, где купцы с пасхальной заутрени приходят. Я захлебывался, читая его. Мне так знакомы эти ребята, опаздывающие с куличом, и хозяйская дочка, и праздничный „сам“, и сама заутреня… Не помню только, в какой это книжке… В этой же книжке, кстати сказать, есть фраза, которая врезалась в мою память: „Тургеневы разные бывают“, — фраза, сказанная продавцом фотографий». Последние слова письма относятся к рассказу «Птица», действие которого происходит в Вербную неделю; общие рассуждения вызваны другим рассказом «После Светлой заутрени». Православные праздники становятся у Н. Лейкина поводом для бытовых зарисовок, раскрывающих юмористическое несоответствие современных нравов и христианских заповедей, что вполне понятно, если учесть, что Пасха 1879 года, когда рассказы были написаны, отмечалась 1 апреля.
Сам А. Чехов, откликаясь на просьбу А. С. Суворина, обещал 18 марта 1887 года: «Пасхальный рассказ постараюсь прислать». Чехов не успел написать к пасхальному номеру «Нового времени» (Пасха приходилась на 5 апреля), но две недели спустя был опубликован рассказ «Миряне», позже переименованный в «Письмо». Рассказ в полной мере удовлетворяет концепции жанра. Христово Воскресение бросает новый свет на житейские неурядицы дьякона Любимова и отца Афанасия; прощение и умиротворение разливается в их душах — жизнь оказывается милосерднее гневного обличительного письма, которое было написано под диктовку благочинного отца Федора Орлова. В конце концов дьякон задумался о том, чему призван пасхальный рассказ:»Думалось одно лишь хорошее, теплое грустное, о чем можно думать, не утомляясь, хоть всю жизнь».
Чехов живо откликнулся на Пасху 1887 года: кроме «Письма» написал рассказ о бестолковой обывательской жизни в Прощеное воскресение («Накануне поста»); если бы не время действия (март), то мог бы вполне показаться «святочным» рассказ «Недоброе дело»; пробуждается живое и трогательное христианское чувство в душе ребенка в рассказе «На Страстной неделе»; юмористически разрешается «спиритическая» загадка ежегодных росписей некоего Федюкова в пасхальном подписном листе (рассказ «Тайна»). От того, что арендатор Максим Торчаков послушался злую жену, не исполнил православный обычай и не разговелся пасхальным куличом с больным казаком, его семейная жизнь пошла под откос (рассказ «Казак»).
Годом раньше писал для пасхального номера «Русских ведомостей» Н. Щедрин, но не успел, и его предание «Христова ночь» появилось в сентябре 1876 года. В комментариях к советскому собранию сочинений сатирика сказано: «В „Христовой ночи“, посвященной моральным проблемам, Салтыков использует евангельские мифы и форму христианской проповеди. <…> Салтыкову не чужда была мысль о воздействии на совесть эксплуататоров, вместе с тем он не разделял концепций о возможности достижения социального равенства путем их морального исправления». Это достаточно неуклюжая попытка отретушировать творческий и духовный портрет названного революционным демократом великого сатирика, который прежде всего был русским православным человеком и в этом пасхальном рассказе представил вдохновенно и поэтично свои и народные чаяния, связанные с Христовым Воскресением.
Н. Лесков предпочитал писать «святочные», иногда «рождественские» рассказы, но и у него есть пасхальный рассказ «Фигура» (1889), в котором поведано об одном киевском чудаке, крестьянине с виду, а прежде офицере. Когда-то в Светлое Воскресение он, вопреки сословной морали, поступил по-христиански: простил обидчика из нижних чинов. Этого отсутствия «дворянской гордости» ему не простили ни начальство, ни сослуживцы. Что стало с ним после исключения из военной службы, известно читателю: битый офицер «опростился» — стал подгородным киевским землепашцем.
В это время пасхальный рассказ уже признавался как жанр, о чем свидетельствует не только серьезная, но и полемическая его интерпретация. Так, в 1895 году редакция «Самарской газеты» обратилась через М. Горького к В. Короленко с просьбой прислать пасхальный рассказ. Короленко не смог выполнить заказ, как он объяснял, из-за того, что «сильно занят уже начатыми работами и вообще пасхальных рассказов давно как-то не писал».
Вместо Короленко заказ исполнил Горький, написавший для пасхального номера «Самарской газеты» рассказ «На плотах». Он назван в подзаголовке «пасхальным рассказом», хотя, по сути дела, это антипасхальный рассказ, в котором все дано наоборот: язычество торжествует над христианством, снохач Силан Петров возвеличен, христианский аскетизм его болезненного сына Митрия осмеян и отвергнут, сильный прав, слабый повержен, и во всем проступает упоение автора ницшеанскими идеями, а разрешается греховный конфликт «молитвенным» пожеланием не любви, а смерти ближнему. В такой полемической трактовке христианской морали уже обозначен будущий путаный духовный путь творца советской литературы и социалистического реализма М. Горького, его конфликт с вековыми традициями русской литературы. Примечательно, что рассказ «Ha плотах» был осужден многими рецензентами в прижизненной критике.
Пасхальный рассказ может быть обращен к любому празднику Пасхального цикла. Независимо от того, к какому дню пасхального календаря приурочено время действия рассказов (впрочем, здесь есть свои нюансы), «пасхальные» идеи и проблематика остаются общими, неизменными, и в них выражается содержательная сущность жанра.
При явном равнодушии к церковным праздникам пасхальный рассказ написал Л. Толстой. Это его хрестоматийный рассказ «После бала». Напомню, что бал в этом рассказе случился в последний день масленицы — в Прощеное воскресение, накануне Великого Поста, который начинается Чистым понедельником. То, что произошло после бала, глубоко оскорбляет нравственное чувство героя, который был влюблен и разлюбил, хотел жениться и не женился, мечтал пойти на военную службу и нигде не служил. Неизбежность этого конфликта задана православным календарем. То, чему стал свидетелем герой рассказа, происходит не по-христиански: «братцы» не милосердствовали — кто по приказу, кто по своей воле. Рассказ не только раскрывает нравственный конфликт героя и нехристианской власти, от имени которой вершатся дурные дела, но и устанавливает нравственный закон в споре, «что хорошо, что дурно».
В рассказе И. Бунина «Чистый понедельник» любовь, расцвет которой пришелся на первый день Великого Поста, греховна в глазах религиозной героини, вскоре скрывшейся от возлюбленного и соблазнов мирской жизни в монастырь. И все же в этой любви и неожиданном разрыве осталась своя тайна, которая обнаружилась и тут же исчезла, когда под Новый год во время крестного хода былые любовники на мгновение встретились глазами. И подсказка к разгадке этой тайны (воспоминание героя о «незабвенном» Чистом понедельнике) снова возвращает нас к названию рассказа и к православному календарю, к глубинным основам русской народной жизни.
В рассказах «Студент» и «Архиерей» Чехов напомнил читателю о Христе, о смысле истории и смысле жизни человека. В них ясно выражены общие для пасхального рассказа умиление и упование на народную веру и русское Православие.
Есть это настроение и в других пасхальных рассказах. Так, в рассказе И. Бунина «На чужой стороне» Светлая ночь застает мужиков на вокзале и сколь трогательны они в своем скромном и тихом благоговении перед праздником. В другом рассказе «Весенний вечер» мужик убил и ограбил нищего на Фоминой неделе и сам ужаснулся своему преступлению, настолько все случившееся оказалось бессмысленным и противоестественным.
Среди бунинских пасхальных рассказов есть и знаменитое «Легкое дыхание», действие которого в начале и в конце происходит на кладбище в апреле, где «над свежей глиняной насыпью стоит новый крест из дуба, крепкий, тяжелый, гладкий». В крест вделан медальон, «а в медальоне — фотографический портрет гимназистки с радостными, поразительно живыми глазами». В финале рассказа в те же апрельские дни «каждое воскресенье, после обедни, по Соборной улице» на эту могилу идет маленькая женщина, классная дама Оли Мещерской. Что такое апрельские воскресенья, хорошо известно русскому человеку: это время пасхальных праздников, которые идут своей вечно повторяющейся чередой от Великого Поста до Троицы. Кроме того, пасхальные праздники тесным образом связаны с поминовением умерших. И этот православный календарь вносит новый художественный смысл в то, что случилось с Олей Мещерской и как ее смерть отозвалась среди людей, почему на ее могилу ходит классная дама, знающая тайну «легкого дыхания» Оли Мещерской.
Пасхальные рассказы широко представлены в русской литературе. Ему отдали дань творческого увлечения такие русские писатели, как Ф. Достоевский, Л. Толстой, Н. Лесков, А. Чехов, Л. Андреев, А. Куприн, Ф. Сологуб, И. Шмелев, К. Коровин, И. Бунин и многие другие. Среди пасхальных рассказов есть признанные шедевры русской и мировой литературы: «Мужик Марей» Ф. Достоевского, «После бала» Л. Толстого, «Студент» и «Архиерей» А. Чехова, «Легкое дыхание» И. Бунина.
Как жанр пасхальный рассказ един, но это единство многообразия: сохраняя жанровую сущность неизменной, каждый автор мог выразить в пасхальном рассказе свое, задушевное. И каждый проявил в этом жанре свою меру таланта и литературного мастерства.
У пасхального рассказа славное прошлое в русской литературе. По понятным причинам он исчез из советской литературы, но остался и долго держался в литературе русского зарубежья. Сегодня у него почти нет настоящего. Возможно ли будущее — зависит от нас. Возродится Россия, воскреснет православный мир русской жизни — вернется и этот жанр.
Приблизительное время чтения: 6 мин.
«Если бы не было на земле Пасхи, почернел бы человек от горя! Нужна Пасха человеку!» – воскликнул один из героев произведения Василия Никифорова-Волгина. Мы сделали для вас небольшую подборку книг о самом главном православном празднике.
Приятного чтения!
1. Пути пасхальные. Рассказы и дорожные очерки
Эта книга – о странствиях души, о внутренних путях, которые проходит каждый человек, чтобы постичь радость Христова Воскресения. Сборник состоит из рассказов и дорожных очерков русских писателей о встрече Пасхи и обретении истинного праведного Пути.
Одним из самых ярких текстов, включённых в сборник и связанных с темой пути, является произведение Власа Дорошевича «В Земле обетованной (Палестина)» – настоящий художественный путеводитель по Святой земле.
Отрывок из главы «С Елеонской горы»
«Я поднимаюсь на колокольню церкви Вознесения, и вот она вся передо мной, эта Святая земля, привлекающая к себе сердца и мысли всего мира… Я могу различить отсюда и Вифлеем, и Аримафею, и Вифанию, и Иерихон…
Я вижу отсюда изумрудной зеленью сверкающие долины Иудеи и тёмную зелень Иорданской долины…
Внизу Иерусалим, полный великого и священного прошлого…
И голубым пологом раскинувшееся надо всем небо, безоблачное, ясное, нежное, доброе и милосердное…»
2. Христос воскресе! Пасхальная книга для души и сердца
«Христос воскресе! Пасхальная книга для души и сердца» – совсем миниатюрное издание, содержащее мудрые цитаты известных богословов о смыслах главного православного праздника, а также их наставления и поучения, полезные для каждого человека.
Цитаты:
«Пасха, двери райские нам отверзающая», – поем мы в Пасхальном каноне. Не бывает, дорогие мои, радости светлее, чем наша пасхальная радость. Ибо мы радуемся тому, что в Воскресении открылась наша вечная жизнь. Наша радость пасхальная – это радость о преображении (изменении) всей нашей жизни в жизнь нетленную, в стремлении нашем к неумирающему добру, к нетленной красоте»
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
«Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?! Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и никто не мертв во гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, — первенец из умерших. Ему слава и держава во веки веков! Аминь»
Святитель Иоанн Златоуст
3. Праздников Праздник. Большая книга пасхальных произведений
Писатель Фазиль Искандер говорил: «Вся серьезная русская и европейская литература – это бесконечный комментарий к Евангелию. И комментарию этому никогда не будет конца». Эта красочная книга состоит из повестей, рассказов и стихотворений русских писателей и поэтов о Пасхе – «праздников Празднике и Торжестве из торжеств» (Иоанн Златоуст).
Цитаты:
Михаил Салтыков-Щедрин «Христова ночь» (Предание):
«Воскрес бог и наполнил собой вселенную. Широкая степь встала навстречу ему всеми своими снегами и буранами. За степью потянулся могучий лес и тоже почуял приближение воскресшего. Подняли матерые ели к небу мохнатые лапы; заскрипели вершинами столетние сосны; загудели овраги и реки; выбежали из нор и берлог звери, вылетели птицы из гнезд; все почуяли, что из глубины грядет нечто светлое, сильное, источающее свет и тепло, и все вопияли: «Господи! Ты ли?»
Александр Куприн «Пасхальные колокола»:
– Как невыразимо вкусен душистый чай с шафранным куличом и с пасхой, в которой каких только нет приправ: и марципан, и коринка, и изюм, и ваниль, и фисташки. Но ешь и пьешь наспех. Неотразимо зовет улица, полная света, движения, грохота, веселых криков и колокольного звона. Скорее, скорее!… — на колокольню! Все ребятишки Москвы твердо знают, что в первые три дня Пасхи разрешается каждому человеку лазить на колокольню и звонить, сколько ему будет удобно. Даже и в самый большой колокол”.
4. Пасхальные рассказы русских писателей
Накануне дня Христова Воскресения самое время обратиться к удивительному жанру русской литературы – пасхальному рассказу. Для того чтобы передать свои впечатления от великого праздника и по-новому раскрыть для читателя смысл важнейших для православного человека дней, в книге собраны пасхальные рассказы русских писателей разных эпох: Фёдора Достоевского, Николая Лескова, Антона Чехова, Александра Солженицына и других авторов.
Цитаты:
Антон Чехов, «Архиерей»:
«А на другой день была Пасха. В городе было сорок две церкви и шесть монастырей; гулкий, радостный звон с утра до вечера стоял над городом, не умолкая, волнуя весенний воздух; птицы пели, солнце ярко светило. На большой базарной площади было шумно, колыхались качели, играли шарманки, визжала гармоника, раздавались пьяные голоса. На главной улице после полудня началось катанье на рысаках, — одним словом, было весело, всё благополучно, точно так же, как было в прошлом году, как будет, по всей вероятности, и в будущем».
Василий Никифоров-Волгин, «Канун Пасхи»:
«На столе лежали душистые куличи с розовыми бумажными цветами, красные яйца и разбросанные прутики вербы. Все это освещалось солнцем, и до того стало весело мне, что я запел:
— Завтра Пасха! Пасха Господня!»
5. Книга пасхальной радости. 50 дней от Пасхи до Пятидесятницы
В этой книге собраны краткие чтения — молитвы и литературные отрывки, интервью священников, рассказывающих о личном опыте веры. Все это помогает читателю понять тайну Христа и Его жертвы, ощутить радость Его присутствия. Листая эту книгу в праздничные дни от Пасхи до Троицы, читателя не покинет светлое пасхальное настроение.
Отрывок из интервью с протоиереем Сергием Правдолюбовым:
«Я учился параллельно обычной школе и в музыкальной, в соседнем городе по классу скрипки. И заканчивал как раз в 1967 году музыкальную школу. А наш директор был коммунистом. И вот была получена установка устраивать концерты и другие мероприятия в дни церковных праздников, чтобы на службы никто не ходил. И в тот год директор назначил лекцию-концерт на Великую Субботу… Я ему сказал, что не приду. «Ты что? Сорвешь лекцию и концерт?» Отвечаю: «Виталий Иванович, вы разве не знаете, что это Великая Суббота? В Великую Субботу я играть не буду». Мне уже все-таки было почти семнадцать лет, я уже был почти взрослый человек. «Да? – сказал он. – Посмотрим». Подозвал он еще учительницу, а она говорит: «А я тоже не буду играть в Великую Субботу». И мы сорвали лекцию-концерт.
Директор был в ярости. Он подписал приказ о моем отчислении из музыкальной школы без права аттестата. И меня отчислили. Мы на Великую Субботу поем, на Пасху поем в храме, а лекция сорвана. Потом я приезжаю, а мне говорят: «А ты уже не ученик. Никакого тебе аттестата не будет». Помню, иду по улице рядом с ним, он меня ругает, а рядом жена ему говорит: «Виталий, ну дай ты ему аттестат. Ну зачем ты так? Не надо этого делать. Дай». – «Нет. Не дам. Я коммунист. Не дам».
Но соль в том, что я все-таки поступил в Гнесинское училище без этого аттестата. Я поступил, а все остальные выпускники моего года никуда не поступили. И кстати, меня все равно потом позвали выступить в на концерте, который состоялся позже, уже после Пасхи, и я пришел как свободный художник, а не ученик школы. А играли мы струнный квартет, между прочим. Это для нас был серьезный уровень. Сыграли мы вдохновенно – «Сарабанду» Грига из Гольдберг-сюиты, и это было настоящее торжество Православия. Я и сейчас, когда слушаю «Сарабанду» Грига, вспоминаю те события, и для меня эта музыка звучит как гимн в защиту Православия».
Читайте также:
Детям — о Пасхе
2. Слово «Пасха» пришло из греческого языка и означает «прехождение», «избавление», то есть праздник Воскресения Христова обозначает прохождение от смерти к жизни и от земли к небу.
В первые века христианства Пасху праздновали в разных церквях в разное время. На Востоке, в Малоазийских церквях, ее праздновали в 14‑й день нисана (по нашему счету март ‑ апрель), на какой бы день седмицы ни приходилось это число.
3.Именно Гоголю – первому из русских писателей – принадлежит заслуга емко и точно сформулировать особую значимость Пасхи для России.
В русском человеке есть особенное участие к празднику Светлого Воскресения. Он это чувствует живей, если ему случится быть в чужой земле. Видя, как повсюду в других странах день этот почти не отличен от других дней, – те же всегдашние занятия, та же вседневная жизнь, то же будничное выраженье на лицах, – он чувствует грусть и обращается невольно к России. Ему кажется, что там как-то лучше празднуется этот день, и сам человек радостней и лучше, нежели в другие дни, и самая жизнь какая-то другая, а не вседневная. Ему вдруг представятся – эта торжественная полночь, этот повсеместный колокольный звон, который как всю землю сливает в один гул, это восклицанье “Христос Воскрес!”, которое заменяет в этот день все другие приветствия, этот поцелуй, который только раздается у нас, – и он готов почти воскликнуть: “Только в родной России празднуется этот день так, как ему следует праздноваться!”
4. классике пасхальной поэзии, в которой представлены все архетипические сюжеты, мотивы и образы, соответствующие Пасхе, можно отнести евангельские стихи Бориса Пастернака из цикла «Стихотворения Юрия Живаго»: «На Страстной», «Дурные дни», «Магдалина I», «Магдалина II», «Чудо», «Гефсиманский сад». Стихи из тетради Юрия Живаго пропитаны тоской, болью и ощущением неотвратимого конца.
5. К жанру пасхального рассказа обращались многие известные русские писатели: В.Г.Короленко и М.Е Салтыков-Щедрин, Ф.М Достоевский и Н.С. Лесков, А. П.Чехов и А.И. Куприн, И.С Шмелёв и И.А.Бунин и другие. Пасхальные рассказы воплотили в себе евангельские истины и всепобеждающую Любовь ко всему сущему.
- С.Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука»
- Первая весна в деревне
- А.П. Чехов. Студент
- В.А. Никифоров-Волгин. Великая Суббота
- В.А. Никифоров-Волгин. Светлая заутреня
- И.С. Шмелев. Пасха
Рассказы и стихи прозаиков и поэтов XIX–XX веков, посвященные Пасхе, молитве к Богу и милосердию к ближнему – это не только совершенные художественные произведения. Это еще и – настоящая христианская проповедь, которая лучше всяких слов свидетельствует о духовной основе всякого подлинного творчества, о непобедимом стремлении человеческой души – к Богу… (Отрывок из книги Малягина В.Ю. “Детям о Христе”)
С.Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука»
Первая весна в деревне
В середине великого поста, именно на середокрестной неделе, наступила сильная оттепель. Снег быстро начал таять, и везде показалась вода. Приближение весны в деревне производило на меня необыкновенное раздражающее впечатление. Я чувствовал никогда не испытанное мною, особого рода волнение.
Заключенный в доме, потому что в мокрую погоду меня и на крыльцо не выпускали, я тем не менее следил за каждым шагом весны. В каждой комнате, чуть ли не в каждом окне, были у меня замечены особенные предметы или места, по которым я производил мои наблюдения: из новой горницы, то есть из нашей спальни, с одной стороны виднелась Челяевская гора, оголявшая постепенно свой крутой и круглый взлобок, с другой – часть реки, давно растаявшего Бугуруслана, с противоположным берегом; из гостиной чернелись проталины на Кудринской горе, особенно около круглого родникового озера, в котором мочили конопли; из залы стекленелась лужа воды, подтоплявшая грачовую рощу; из бабушкиной и тетушкиной горницы видно было гумно на высокой горе и множество сурчин по ней, которые с каждым днем освобождались от снега. Шире, длиннее становились грязные проталины, полнее наливалось озеро в роще, и, проходя сквозь забор, уже показывалась вода между капустных гряд в нашем огороде. Все замечалось мною точно и внимательно, и каждый шаг весны торжествовался, как победа! С утра до вечера бегал я из комнаты в комнату, становясь на свои наблюдательные сторожевые места. Чтенье, письмо, игры с сестрой, даже разговоры с матерью – все вылетело у меня из головы. О том, чего не мог видеть своими глазами, получал я беспрестанные известия от отца, Евсеича, из девичьей и лакейской. «Пруд посинел и надулся, ездить по нем опасно, мужик с возом провалился, подпруда подошла под водяные колеса, молоть уж нельзя, пора спускать воду; Антошкин овраг ночью прошел, да и Мордовский напружился и почернел, скоро никуда нельзя будет проехать; дорожки начали проваливаться, в кухню не пройдешь. Мазан провалился с миской щей и щи пролил, мостки снесло, вода залила людскую баню», – вот что слышал я беспрестанно, и неравнодушно принимались все такие известия. Грачи давно расхаживали по двору и начали вить гнезда в грачовой роще; скворцы и жаворонки тоже прилетели. И вот стала появляться настоящая птица, дичь, по выражению охотников. Отец с восхищением рассказывал мне, что видел лебедей, так высоко летевших, что он едва мог разглядеть их, и что гуси потянулись большими станицами. Евсеич видел нырков и кряковых уток, опустившихся на пруд, видел диких голубей по гумнам, дроздов и пигалиц около родников… Сколько волнений, сколько шумной радости! Вода сильно прибыла. Немедленно спустили пруд – и без меня. Погода была слишком дурна, и я не смел даже проситься. Рассказы отца отчасти удовлетворили моему любопытству. С каждым днем известия становились чаще, важнее, возмутительнее! Наконец Евсеич с азартом объявил, что «всякая птица валом валит, без перемежки!» Переполнилась мера моего терпенья. Невозможно стало для меня все это слышать и не видеть, и с помощью отца, слез и горячих убеждений выпросил я позволенья у матери, одевшись тепло, потому что дул сырой и пронзительный ветер, посидеть на крылечке, выходившем в сад, прямо над Бугурусланом. Внутренняя дверь еще не была откупорена. Евсеич обнес меня кругом дома на руках, потому что везде была вода и грязь. В самом деле, то происходило в воздухе, на земле и на воде, чего представить себе нельзя, не видавши, и чего увидеть теперь уже невозможно в тех местах, о которых я говорю, потому что нет такого множества прилетной дичи. Река выступила из берегов, подняла урему на обеих сторонах и, захватив половину нашего сада, слилась с озером грачовой рощи. Все берега полоев были усыпаны всякого рода дичью; множество уток плавало по воде между верхушками затопленных кустов, а между тем беспрестанно проносились большие и малые стаи разной прилетной птицы: одни летели высоко, не останавливаясь, а другие – низко, часто опускаясь на землю; одни стаи садились, другие поднимались, третьи перелетывали с места на место: крик, писк, свист наполнял воздух. Не зная, какая это летит или ходит птица, какое ее достоинство, какая из них пищит или свистит, я был поражен, обезумлен таким зрелищем. Мало-помалу привык я к наступившей весне и к ее разнообразным явлениям, всегда новым, потрясающим и восхитительным; говорю: «привык», в том смысле, что уже не приходил от них в исступление. Погода становилась теплая, мать без затруднения пускала меня на крылечко и позволяла бегать по высохшим местам; даже сестрицу отпускала со мной.
В Страстную Субботу мы уже гуляли с сестрицей по высохшему двору. В этот день мой отец, тетушка Татьяна Степановна и тетушка Александра Степановна, которая на то время у нас гостила, уехали ночевать в Неклюдово, чтобы встретить там в храме Божием Светлое Христово Воскресение. Проехать было очень трудно, потому что полая вода хотя и пошла на убыль, но все еще высоко стояла; они пробрались по плотине в крестьянских телегах и с полверсты ехали полоями; вода хватала выше колесных ступиц, и мне сказывали провожавшие их верховые, что тетушка Татьяна Степановна боялась и громко кричала, а тетушка Александра Степановна смеялась. Я слышал, как Параша тихо сказала Евсеичу: «Эта чего испугается!» – и дивился тетушкиной храбрости. С четверга на Страстной начали красить яйца: в красном и синем сандале[1], в серпухе[2] и луковых перьях; яйца выходили красные, синие, желтые и бледно-розового, рыжеватого цвета. Мы с сестрицей с большим удовольствием присутствовали при этом крашенье. Но мать умела мастерски красить яйца в мраморный цвет разными лоскутками и шемаханским шелком. Сверх того, она с необыкновенным искусством простым перочинным ножичком выскабливала на красных яйцах чудесные узоры, цветы и слова: «Христос воскрес». Она всем приготовила по такому яичку и только я один видел, как она над этим трудилась. Мое яичко было лучше всех, и на нем было написано: «Христос воскрес, милый друг Сереженька!» Матери было очень грустно, что она не услышит заутрени Светлого Христова Воскресенья, и она удивлялась, что бабушка так равнодушно переносила это лишенье; но бабушке, которая бывала очень богомольна, как-то ни до чего уже не было дела.
Я заснул в обыкновенное время, но вдруг отчего-то ночью проснулся: комната была ярко освещена, кивот с образами растворен, перед каждым образом в золоченой ризе теплилась восковая свеча, а мать, стоя на коленях, вполголоса читала молитвенник, плакала и молилась. Я сам почувствовал непреодолимое желанье помолиться вместе с маменькой и попросил ее об этом. Мать удивилась моему голосу и даже смутилась, но позволила мне встать. Я проворно вскочил с постели, стал на коленки и начал молиться с неизвестным мне до тех пор особого рода одушевленьем; но мать уже не становилась на колени и скоро сказала: «Будет, ложись спать». Я прочел на лице ее, услышал в голосе, что помешал ей молиться. Я из всех сил старался поскорее заснуть, но не скоро утихло детское мое волненье и непостижимое для меня чувство умиленья. Наконец мать, помолясь, погасила свечки и легла на свою постель. Яркий свет потух, теплилась только тусклая лампада; не знаю, кто из нас заснул прежде. К большой моей досаде, я проснулся довольно поздно: мать была совсем одета; она обняла меня и, похристосовавшись заранее приготовленным яичком, ушла к бабушке. Вошел Евсеич, также похристосовался со мной, дал мне желтое яичко и сказал: «Эх, соколик, проспал! Ведь я говорил тебе, что надо посмотреть, как солнышко на восходе играет и радуется Христову Воскресенью». Мне самому было очень досадно; я поспешил одеться, заглянул к сестрице и братцу, перецеловал их и побежал в тетушкину комнату, из которой видно было солнце, и, хотя оно уже стояло высоко, принялся смотреть на него сквозь мои кулаки. Мне показалось, что солнышко как будто прыгает, и я громко закричал: «Солнышко играет! Евсеич правду сказал». Мать вышла ко мне из бабушкиной горницы, улыбнулась моему восторгу и повела меня христосоваться к бабушке. Она сидела в шелковом платке и шушуне на дедушкиных креслах; мне показалось, что она еще более опустилась и постарела в своем праздничном платье. Бабушка не хотела разгавливаться до полученья петой пасхи и кулича, но мать сказала, что будет пить чай со сливками, и увела меня с собою.
Отец с тетушками воротился еще до полден, когда нас с сестрицей только что выпустили погулять. Назад проехали они лучше, потому что воды в ночь много убыло; они привезли с собой петые пасхи, куличи, крутые яйца и четверговую соль. В зале был уже накрыт стол; мы все собрались туда и разговелись. Правду сказать, настоящим-то образом разгавливались бабушка, тетушки и отец: мать постничала одну Страстную неделю (да она уже и пила чай со сливками), а мы с сестрицей – только последние три дня; но зато нам было голоднее всех, потому что нам не давали обыкновенной постной пищи, а питались мы ухою из окуней, медом и чаем с хлебом. Для прислуги была особая пасха и кулич. Вся дворня собралась в лакейскую и залу; мы перехристосовались со всеми; каждый получил по кусочку кулича, пасхи и по два красных яйца, каждый крестился и потом начинал кушать. Я заметил, что наш кулич был гораздо белее того, каким разгавливались дворовые люди, и громко спросил: «Отчего Евсеич и другие кушают не такой же белый кулич, как мы?» Александра Степановна с живостью и досадой отвечала мне: «Вот еще выдумал! едят и похуже». Я хотел было сделать другой вопрос, но мать сказала мне: «Это не твое дело». Через час после разгавливанья пасхою и куличом приказали подавать обед, а мне с сестрицей позволили еще побегать по двору, потому что день был очень теплый, даже жаркий. Дворовые мальчишки и девочки, несколько принаряженные, иные хоть тем, что были в белых рубашках, почище умыты и с приглаженными волосами, – все весело бегали и начали уже катать яйца…
Погода переменилась, и остальные дни Святой недели были дождливы и холодны. Дождя выпало так много, что сбывавшая полая вода, подкрепленная дождями и так называемою земляною водою, вновь поднялась и, простояв на прежней высоте одни сутки, вдруг слила. В то же время также вдруг наступила и летняя теплота, что бывает часто в апреле. В конце Фоминой недели началась та чудная пора, не всегда являющаяся дружно, когда природа, пробудясь от сна, начнет жить полною, молодою, торопливою жизнью: когда все переходит в волнение, в движенье, в звук, в цвет, в запах. Ничего тогда не понимая, не разбирая, не оценивая, никакими именами не называя, я сам почуял в себе новую жизнь, сделался частью природы, и только в зрелом возрасте сознательных воспоминаний об этом времени сознательно оценил всю его очаровательную прелесть, всю поэтическую красоту Тогда я узнал то, о чем догадывался, о чем мечтал, встречая весну в Уфе, в городском доме, в дрянном саду или на грязной улице. В Сергеевку я приехал уже поздно и застал только конец весны, когда природа достигла полного развития и полного великолепия; беспрестанного изменения и движения вперед уже не было.
А.П. Чехов. Студент
Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. Протянул один вальдшнеп, и выстрел по нем прозвучал в весеннем воздухе раскатисто и весело. Но когда стемнело в лесу, некстати подул с востока холодный пронизывающий ветер, все смолкло. По лужам протянулись ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой.
Иван Великопольский, студент духовной академии, сын дьячка, возвращаясь с тяги домой, шел все время заливным лугом по тропинке. У него закоченели пальцы и разгорелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потемки сгустились быстрее, чем надо». Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огородах около реки светился огонь; далеко же кругом и там, где была деревня, версты за четыре, все сплошь утопало в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что, когда он уходил из дому, его мать, сидя в сенях на полу, босая, чистила самовар, а отец лежал на печи, кашлял; по случаю Страстной пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре и что при них были точно такие же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета – все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой.
Огороды назывались вдовьими потому, что их содержали две вдовы, мать и дочь. Костер горел жарко, с треском, освещая далеко кругом вспаханную землю. Вдова Василиса, высокая, пухлая старуха в мужском полушубке, стояла возле и в раздумье глядела на огонь; ее дочь, Лукерья, маленькая, рябая, с туповатым лицом, сидела на земле и мыла котел и ложки. Очевидно, только что отужинали. Слышались мужские голоса; это здешние работники на реке поили лошадей.
– Вот вам и зима пришла назад, – сказал студент, подходя к костру. – Здравствуйте! Василиса вздрогнула, но тотчас же узнала его и улыбнулась приветливо.
– Не узнала, Бог с тобой, – сказала она. – Богатым быть.
Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, а потом в няньках, выражалась деликатно, и с лица ее все время не сходила мягкая, степенная улыбка; дочь же ее Лукерья, деревенская баба, забитая мужем, только щурилась на студента и молчала, и выражение у нее было странное, как у глухонемой.
– Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр, – сказал студент, протягивая к огню руки. – Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!
Он посмотрел кругом на потемки, судорожно встряхнул головой и спросил:
– Небось была на Двенадцати Евангелиях?
– Была, – ответила Василиса.
– Если помнишь, во время Тайной Вечери Петр сказал Иисусу: «С Тобою я готов и в темницу, и на смерть». А Господь ему на это: «Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, то есть петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь Меня». После Вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, он никак не мог побороть сна. Спал. Потом, ты слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал Его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били, а Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, невыспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед. Он страстно, без памяти любил Иисуса и теперь видел издали, как Его били…
Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента.
– Пришли к первосвященнику – продолжал он, – Иисуса стали допрашивать, а работники тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грелись. С ними около костра стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь. Одна женщина, увидев его, сказала: «И этот был с Иисусом», – то есть что и его, мол, нужно вести к допросу. И все работники, что находились около огня, должно быть, подозрительно и сурово поглядели на него, потому что он смутился и сказал: «Я не знаю его». Немного погодя опять кто-то узнал в нем одного из учеников Иисуса и сказал: «И ты из них». Но он опять отрекся. И в третий раз кто-то обратился к нему: «Да не тебя ли сегодня я видел с Ним в саду?» Он третий раз отрекся. И после этого раза тотчас же запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые Он сказал ему на вечере… Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. В Евангелии сказано: «И исшед вон, плакася горько». Воображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие его рыдания…
Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слезы, крупные, изобильные, потекли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слез, а Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль.
Работники возвращались с реки, и один из них верхом на лошади был уже близко, и свет от костра дрожал на нем. Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошел дальше. И опять наступили потемки, и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима, и не было похоже, что послезавтра Пасха.
Теперь студент думал о Василисе; если она заплакала, то, значит, все происходившее в ту страшную ночь с Петром имеет к ней какое-то отношение…
Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему – к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра.
И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. «Прошлое, – думал он, – связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого». И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: едва дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.
А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкою полосой светилась холодная, багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы – ему было только 22 года – и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья, овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.
В.А. Никифоров-Волгин. Великая Суббота
В этот день, с самого зарания показалось мне, что старый сарай напротив нашего окна как бы обновился. Стал смотреть на дома, заборы, палисадник, складницу березовых дров под навесом, на метлу с сизыми прутиками в засолнеченных руках дворника Давыдки, и они показались обновленными. Даже камни на мостовой были другими. Но особенно возрадованно выглядели петухи с курами. В них было пасхальное.
В комнате густо пахло наступающей Пасхой. Помогая матери стряпать, я опрокинул на пол горшок с вареным рисом, и меня «намахали» из дому:
– Иди лучше к обедне! – выпроваживала меня мать. – Редкостная будет служба… Во второй раз говорю тебе; когда вырастешь, то такую службу поминать будешь…
Я зашел к Гришке, чтобы и его зазвать в церковь, но тот отказался:
– С тобою сегодня не пойду! Ты меня на вынос Плащаницы зеброй полосатой обозвал! Разве я виноват, что яичными красками тогда перемазался?
В этот день церковь была как бы высветленной, хотя и стояла еще Плащаница и духовенство служило в черных погребальных ризах, но от солнца, лежащего на церковном полу, шла уже Пасха. У Плащаницы читали «часы», и на амвоне стояло много исповедников.
До начала обедни я вышел в ограду. На длинной скамье сидели богомольцы и слушали долгополого старца в кожаных калошах:
– Дивен Бог во святых Своих, – выкруглял он зернистые слова. – Возьмем к примеру преподобного Макария Александрийского, его же память празднуем 19 января… Однажды приходит к нему в пустынное безмолвие медведица с медвежонком. Положила его у ног Святого и как бы заплакала…
Что за притча? – думает Преподобный. Нагинается он к малому зверю и видит: слепой он! Медвежонок-то! Понял Преподобный, почто пришла к нему медведица! Умилился он сердцем, перекрестил слепенького, погладил его, и совершилось чудо: медвежонок прозрел!
– Скажи на милость! – сказал кто-то от сердца.
– Это еще не все, – качнул головою старец, – на другой день приносит медведица овечью шкуру. Положила ее к ногам преподобного Макария и говорит ему глазами: «Возьми от меня в дар, за доброту твою»…
Литургия Великой Субботы воистину была редкостной. Она началась как всенощное бдение – пением вечерних песен. Когда пропели «Свете Тихий», то к Плащанице вышел чтец в черном стихаре и положил на аналой большую, воском закапанную книгу.
Он стал читать у гроба Господня шестнадцать паремий. Больше часа читал он о переходе евреев через Чермное море, о жертвоприношении Исаака, о пророках, провидевших через века пришествие Спасителя, крестные страдания Его, погребение и Воскресение… Долгое чтение пророчеств закончилось высоким и протяжным пением:
– Господа пойте, и превозносите во вся веки…
Это послужило как бы всполошным колоколом. На клиросе встрепенулись, зашуршали нотами и грянули волновым заплеском:
– Господа пойте, и превозносите во вся веки…
Несколько раз повторял хор эту песню, а чтец воскликал сквозь пение такие слова, от которых вспомнил я слышанное выражение: «боготканные глаголы».
Благословите солнце и луна
Благословите дождь и роса
Благословите нощи и дни
Благословите молнии и облацы
Благословите моря и реки
Благословите птицы небесныя
Благословите звери и вcu скоти.
Перед глазами встала медведица со слепым медвежонком, пришедшая к святому Макарию:
– Благословите звери!..
«Поим Господеви! Славно бо прославися!» Пасха! Это она гремит в боготканных глаголах: «Господа пойте, и превозносите во вся веки!»
После чтения «Апостола» вышли к Плащанице три певца в синих кафтанах. Они земно поклонились лежащему во гробе и запели:
«Воскресни, Боже, суди земли, яко Ты наследиши во всех языцех».
Во время пения духовенство в алтаре извлачало с себя черные страстные ризы и облекалось во все белое. С престола, жертвенника и аналоев снимали черное и облекали их в белую серебряную парчу.
Это было до того неожиданно и дивно, что я захотел сейчас же побежать домой и обо всем этом диве рассказать матери…
Как ни старался сдержать восторг, ничего с собою поделать не мог.
– Надо рассказать матери… сейчас же! Прибежал, запыхавшись, домой, и на пороге крикнул:
– В церкви все белое! Сняли черное, и кругом – одно белое… и вообще Пасха!
Еще что-то хотел добавить, но не вышло, и опять побежал в церковь. Там уж пели особую херувимскую песню, которая звучала у меня в ушах до наступления сумерек:
Да молчит всякая плоть человеча
и да стоит со страхом и трепетом
и ничтоже земное
в себе да помышляет.
Царь бо царствующих
и Господь Господствующих
приходит заклатися
и датися в снедь верным…
В.А. Никифоров-Волгин. Светлая заутреня
Над землей догорала сегодняшняя литургийная песнь: «Да молчит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом».
Вечерняя земля затихала. Дома открывали стеклянные дверцы икон. Я спросил отца:
– Это для чего?
– Это знак того, что на Пасху двери райские отверзаются!
До начала заутрени мы с отцом хотели выспаться, но не могли. Лежали на постели рядом, и он рассказывал, как ему мальчиком пришлось встречать Пасху в Москве.
– Московская Пасха, сынок, могучая! Кто раз повидал ее, тот до гроба поминать будет. Грохнет это в полночь первый удар колокола с Ивана Великого, так словно небо со звездами упадет на землю! А в колоколе-то, сынок, шесть тысяч пудов, и для раскачивания языка требовалось двенадцать человек! Первый удар подгоняли к бою часов на Спасской башне…
Отец приподнимается с постели и говорит о Москве с дрожью в голосе:
– Да… часы на Спасской башне… Пробьют, – и сразу же взвивается к небу ракета… а за ней пальба из старых орудий на Тайницкой башне – сто один выстрел!..
Морем стелется по Москве Иван Великий, а остальные сорок сороков вторят ему, как реки в половодье! Такая, скажу тебе, сила плывет над первопрестольной, что ты словно не ходишь, а на волнах качаешься маленькой щепкой! Могучая ночь, грому Господню подобная! Эй, сынок, не живописать словами пасхальную Москву!
Отец умолкает и закрывает глаза.
– Ты засыпаешь?
– Нет. На Москву смотрю.
– А где она у тебя?
– Перед глазами. Как живая…
– Расскажи еще что-нибудь про Пасху!
– Довелось мне встречать также Пасху в одном монастыре. Простотой да святолепностью была она еще лучше московской! Один монастырь-то чего стоит! Кругом – лес нехоженый, тропы звериные, а у монастырских стен – речка плещется. В нее таежные деревья глядят и церковь, сбитая из крепких смолистых бревен. К Светлой заутрене собиралось сюда из окрестных деревень великое множество богомольцев. Был здесь редкостный обычай. После заутрени выходили к речке девушки со свечами, пели «Христос Воскресе», кланялись в пояс речной воде, а потом – прилепляли свечи к деревянному кругляшу и по очереди пускали их по реке.
Ты вообрази только, какое там было диво! Среди ночи сотня огней плывет по воде, а тут еще колокола трезвонят, и лес шумит!
– Хватит вам вечать-то[3], – перебила нас мать, – выспались бы лучше, а то будете стоять на заутрене соныгами![4]
Мне было не до сна. Душу охватывало предчувствие чего-то необъяснимо огромного, похожего не то на Москву, не то на сотню свечей, плывущих по лесной реке. Встал с постели, ходил из угла в угол, мешал матери стряпать и поминутно ее спрашивал:
– Скоро ли в церковь?
– Не вертись, как косое веретено! – тихо вспылила она. – Ежели не терпится, то ступай, да не балуй там!
До заутрени целых два часа, а церковная ограда уже полна ребятами.
Ночь без единой звезды, без ветра и как бы страшная в своей необычности и огромности. По темной улице плыли куличи в белых платках – только они были видны, а людей как бы и нет.
В полутемной церкви около Плащаницы стоит очередь охотников почитать Деяния апостолов. Я тоже присоединился. Меня спросили:
– Читать умеешь?
– Умею.
– Ну, так начинай первым!
Я подошел к аналою и стал выводить по складам: «Первое убо слово сотворих о Феофиле», и никак не мог выговорить «Феофил». Растерялся, смущенно опустил голову и перестал читать. Ко мне подошли и сделали замечание:
– Куда ж ты лезешь, когда читать не умеешь?
– Попробовать хотел!..
– Ты лучше куличи пробуй, – и оттеснили меня в сторону.
В церкви не стоялось. Вышел в ограду и сел на ступеньку храма.
– Где-то сейчас Пасха? – размышлял я. – Витает ли на небе, или ходит за городом, в лесу, по болотным кочкам, сосновым остинкам[5], подснежникам, вересковыми и можжевельными тропинками, и какой имеет образ? Вспомнился мне чей-то рассказ, что в ночь на Светлое Христово Воскресение спускается с неба на землю лествица, и по ней сходит к нам Господь со святыми апостолами, преподобными, страстотерпцами и мучениками. Господь обходит землю; благословляет поля, леса, озера, реки, птиц, человека, зверя и все сотворенное святой Его волей, а святые поют «Христос воскресе из мертвых…» Песня святых зернами рассыпается по земле, и от этих зерен зарождаются в лесах тонкие душистые ландыши…
Время близилось к полуночи. Ограда все гуще и полнее гудит говором. Из церковной сторожки кто-то вышел с фонарем.
– Идет, идет! – неистово закричали ребята, хлопая в ладоши.
– Кто идет?
– Звонарь Лександра! Сейчас грохнет!
И он грохнул…
От первого удара колокола по земле словно большое серебряное колесо покатилось, а когда прошел гуд его, покатилось другое, а за ним третье, и ночная пасхальная тьма закружилась в серебряном гудении всех городских церквей.
Меня приметил в темноте нищий Яков.
– Светловещанный звон! – сказал он, и несколько раз перекрестился.
В церкви начали служить «великую полунощницу». Пели «Волною морскою». Священники в белых ризах подняли Плащаницу и унесли в алтарь, где она будет лежать на Престоле, до праздника Вознесения. Тяжелую золотую гробницу с грохотом отодвинули в сторону, на обычное свое место, и в грохоте этом тоже было значительное, пасхальное, – словно отваливали огромный камень от гроба Господня.
Я увидал отца с матерью. Подошел к ним и сказал:
– Никогда не буду обижать вас! – прижался к ним и громко воскликнул:
– Весело-то как!
А радость пасхальная все ширилась, как Волга в половодье, про которое не раз отец рассказывал. Весенними деревьями на солнечном поветрии заколыхались высокие хоругви. Стали готовиться к крестному ходу вокруг церкви. Из алтаря вынесли серебряный запрестольный крест, золотое Евангелие, огромный круглый хлеб – артос, заулыбались поднятые иконы, и у всех зажглись красные пасхальные свечи.
Наступила тишина. Она была прозрачной, и такой легкой, если дунуть на нее, то заколеблется паутинкой. И среди этой тишины запели: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси». И под эту воскрыляющую песню заструился огнями крестный ход. Мне наступили на ногу, капнули воском на голову, но я почти ничего не почувствовал и подумал: «так полагается» – Пасха! Пасха Господня! – бегали по душе солнечные зайчики. Тесно прижавшись друг к другу ночными потемками, по струям воскресной песни, осыпаемые трезвоном и обогреваемые огоньками свечей, мы пошли вокруг белозорной от сотни огней церкви и остановились в ожидании у крепко закрытых дверей. Смолкли колокола. Сердце затаилось. Лицо запылало жаром. Земля куда-то исчезла – стоишь не на ней, а как бы на синих небесах. А люди? Где они? Все превратилось в ликующие пасхальные свечи!
И вот, огромное, чего охватить не мог вначале, – свершилось! Запели «Христос воскресе из мертвых».
Три раза пропели «Христос воскресе», и перед нами распахнулись створки высокой двери. Мы вошли в воскресший храм, – и перед глазами, в сиянии паникадил, больших и малых лампад, в блестках серебра, золота и драгоценных каменьев на иконах, в ярких бумажных цветах на куличах, – вспыхнула Пасха Господня! Священник, окутанный кадильным дымом, с заяснившимся лицом, светло и громко воскликнул: «Христос воскресе», и народ ответил ему грохотом спадающего с высоты тяжелого льдистого снега – «Воистину воскресе».
Рядом очутился Гришка. Я взял его за руки и сказал:
– Завтра я подарю тебе красное яйцо! Самое наилучшее! Христос воскресе!
Неподалеку стоял и Федька. Ему тоже пообещал красное яйцо. Увидел дворника Давыда, подошел к нему и сказал:
– Никогда не буду называть тебя «подметалой-мучеником». Христос воскресе!
А по церкви молниями летали слова пасхального канона. Что ни слово, то искорка веселого быстрого огня: «Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир видимый же весь и невидимый, Христос бо возста, веселие вечное…»
Сердце мое зашлось от радости, – около амвона увидел девочку с белокурыми косами, которую приметил на выносе Плащаницы! Сам не свой подошел к ней, и весь зардевшись опустив глаза, я прошептал:
– Христос воскресе!
Она смутилась, уронила из рук свечечку, тихим пламенем потянулась ко мне, и мы похристосовались… а потом до того застыдились, что долго стояли с опущенными головами.
А в это время с амвона гремело Пасхальное Слово Иоанна Златоуста:
«Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего добраго и светлаго торжества… Воскресе Христос, и жизнь жительствует!»
И.С. Шмелев. Пасха
Пост уже на исходе, идет весна. Прошумели скворцы над садом, – слыхал их кучер, – а на Сорок Мучеников прилетели и жаворонки. Каждое утро вижу я их в столовой: глядят из сухарницы востроносые головки с изюминками в глазках, а румяные крылышки заплетены на спинке. Жалко их есть, так они хороши, и я начинаю с хвостика. Отпекли на Крестопоклонной маковые «кресты» – и вот уж опять она, огромная лужа на дворе. Бывало, отец увидит, как плаваю я по ней на двери, гоняюсь с палкой за утками, заморщится и крикнет:
– Косого сюда позвать!..
Василь Василич бежит опасливо, стреляя по луже глазом. Я знаю, о чем он думает: «Ну, ругайтесь… и в прошлом году ругались, а с ней все равно не справиться!»
– Старший прикащик ты – или… что? Опять у тебя она? Барки по ней гонять?!
– Сколько разов засыпал‑с!.. – оглядывает Василь Василич лужу, словно впервые видит.
– И навозом заваливал, и щебнем сколько транбовал, а ей ничего не делается! Всосет – и еще пуще станет. Из-под себя, что ли, напущает?.. Спокон веку она такая, топлая… Да оно ничего‑с, к лету пообсохнет, и уткам природа есть…
Отец поглядит на лужу, махнет рукой.
Кончили возку льда. Зеленые его глыбы лежали у сараев, сияли на солнце радугой, синели к ночи. Веяло от них морозом. Ссаживая коленки, я взбирался по ним, до крыши, сгрызать сосульки. Ловкие молодцы, с обернутыми в мешок ногами, – а то сапоги изгадишь! – скатили лед с грохотом в погреба, завалили чистым снежком из сада и прихлопнули накрепко творила.
– Похоронили ледок, шабаш! До самой весны не встанет.
Им поднесли по шкалику, они покрякали:
– Хороша‑а… Крепше ледок скипится.
Прошел квартальный, велел мостовую к Пасхе сколоть, под пыль! Тукают в лед кирками, долбят ломами – до камушка. А вот уж и первая пролетка. Бережливо пошатываясь на ледяной канавке, сияя лаком, съезжает она на мостовую. Щеголь-извозчик крестится под новинку, поправляет свою поярку и бойко катит по камушкам с первым, веселым стуком.
В кухне под лестницей сидит серая гусыня-злюка. Когда я пробегаю, она шипит по-змеиному и изгибает шею – хочет меня уклюнуть. Скоро Пасха! Принесли из амбара «паука», круглую щетку на шестике, – обметать потолки для Пасхи. У Егорова в магазине сняли с окна коробки и поставили карусель с яичками. Я подолгу любуюсь ими: кружатся тихо-тихо, одно за другим, как сон. На золотых колечках, на алых ленточках. Сахарные, атласные…
В булочных – белые колпачки на окнах с буковками – X. В. Даже и наш Воронин, у которого «крысы в квашне ночуют», и тот выставил грязную картонку: «Принимаются заказы на куличи и пасхи и греческия бабы!» Бабы?.. И почему-то греческие! Василь Василич принес целое ведро живой рыбы – пескариков, налимов, – сам наловил наметкой. Отец на реке с народом. Как-то пришел, веселый, поднял меня за плечи до соловьиной клетки и покачал.
– Ну, брат, прошла Москва-река наша. Плоты погнали!.. – И покрутил за щечку.
Василь Василич стоит в кабинете на порожке. На нем сапоги в грязи. Говорит хриплым голосом, глаза заплыли:
– Будь п‑койны‑с, подчаливаем… к Пасхе под Симоновом будут. Сейчас прямо из…
– Из кабака? Вижу.
– Никак нет‑с, из этого… из-под Звенигорода, пять ден на воде. Тридцать гонок березняку, двадцать сосны и елки, на крылах летят‑с! И барки с лесом, и… А у Паленова семнадцать гонок вдрызг расколотило, вроссыпь! А при моем глазе… у меня робята природные, жиздринцы!
Отец доволен: Пасха будет спокойная. В прошлом году заутреню на реке встречали.
– С Кремлем бы не подгадить… Хватит у нас стаканчиков?
– Тыщонок десять набрал‑с, доберу! Сала на заливку куплено. Лиминацию в три дни облепортуем‑с. А как в приходе прикажете‑с? Прихожане летось обижались, лиминации не было. На лодках народ спасали под Доргомиловом… не до лиминации!..
– Нонешнюю Пасху за две справим! Говорят про шиты и звезды, про кубастики, шкалики, про плошки… про какие-то «смолянки» и зажигательные нитки.
– Истечение народа бу-дет!.. Приман к нашему приходу‑с.
– Давай с ракетами. Возьмешь от квартального записку на дозволение. Сколько там надо… понимаешь?
– Красную ему за глаза… пожару не наделаем! – весело говорит Василь Василич. – Запущать – так уж запущать‑с!
– Думаю вот что… Крест на кумполе, кубастиками бы пунцовыми?..
– П‑маю‑с, зажгем‑с. Высоконько только?..
Да для Божьего дела‑с… воздаст‑с! Как говорится, у Бога всего много.
– Щит на кресте крепить Ганьку-маляра пошлешь… на кирпичную трубу лазил! Пьяного только не пускай, еще сорвется.
– Нипочем не сорвется, пьяный только и берется! Да он, будь п‑койны‑с, себя уберегет. В кумполе лючок слуховой, под яблочком… он, стало быть, за яблоко прицепится, захлестнется за шейку, подберется, ко кресту вздрочится, за крест зачепится-захлестнется, в петельке сядет – и качай! Новые веревки дам. А с вами-то мы, бывало… на Христе Спасителе у самых крестов качали, уберег Господь.
Прошла «верба». Вороха роз пасхальных, на иконы и куличи, лежат под бумагой в зале. Страстные дни. Я еще не говею, но болтаться теперь грешно, и меня сажают читать Евангелие. «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду…» Я не могу понять: Авраам же мужского рода! Прочтешь страничку, с «морским жителем» поиграешь, с вербы в окно засмотришься. Горкин пасочницы как будто делает! Я кричу ему в форточку, он мне машет.
На дворе самая веселая работа: сколачивают щиты и звезды, тешут планочки для – X. В. На приступке сарая, на солнышке, сидит в полушубке Горкин, рукава у него съежены гармоньей. Называют его – «филенщик», за чистую работу. Он уже не работает, а так, при доме. Отец любит с ним говорить и всегда при себе сажает. Горкин поправляет пасочницы. Я смотрю, как он режет кривым резачком дощечку.
– Домой помирать поеду, кто тебе резать будет? Пока жив, учись. Гляди вот, винограды сейчас пойдут…
Он ковыряет на дощечке, и появляется виноград! Потом вырезает «священный крест», иродово копье и лесенку – на небо! Потом удивительную птичку, потом буковки – X. В. Замирая от радости, я смотрю. Старенькие у него руки, в жилках.
– Учись святому делу. Это голубок, Дух-Свят. Я тебе, погоди, заветную вырежу пасочку. Будешь Горкина поминать. И ложечку тебе вырежу… Станешь щи хлебать – глядишь, и вспомнишь.
Вот и вспомнил. И все-то они ушли…
Я несу от Евангелий страстную свечку, смотрю на мерцающий огонек: он святой. Тихая ночь, но я очень боюсь: погаснет! Донесу – доживу до будущего года. Старая кухарка рада, что я донес. Она вымывает руки, берет святой огонек, зажигает свою лампадку, и мы идем выжигать кресты. Выжигаем над дверью кухни, потом на погребице, в коровнике…
– Он теперь никак при хресте не может. Спаси Христос… – крестясь, говорит она и крестит корову свечкой. – Христос с тобой, матушка, не бойся… лежи себе.
Корова смотрит задумчиво и жует.
Ходит и Горкин с нами. Берет у кухарки свечку и выжигает крестик над изголовьем в своей каморке. Много там крестиков, с прежних еще годов.
Кажется мне, что на нашем дворе Христос. И в коровнике, и в конюшнях, и на погребице, и везде. В черном крестике от моей свечки – пришел Христос. И все – для Него, что делаем. Двор чисто выметен, и все уголки подчищены, и под навесом даже, где был навоз. Необыкновенные эти дни – страстные. Христовы дни. Мне теперь ничего не страшно: прохожу темными сенями – и ничего, потому что везде Христос.
У Воронина на погребице мнут в широкой кадушке творог. Толстый Воронин и пекаря, засучив руки, тычут красными кулаками в творог, сыплют в него изюму и сахарку и проворно вминают в пасочницы. Дают попробовать мне на пальце: ну, как? Кисло, но я из вежливости хвалю. У нас в столовой толкут миндаль, по всему дому слышно. Я помогаю тереть творог на решете. Золотистые червячки падают на блюдо, – совсем живые! Протирают все, в пять решет; пасох нам надо много. Для нас – самая настоящая, пахнет Пасхой. Потом – для гостей, парадная, еще «маленькая» пасха, две людям и еще – бедным родственникам. Для народа, человек на двести, делает Воронин под присмотром Василь Василича, и плотники помогают делать. Печет Воронин и куличи народу. Василь Василич и здесь, и там. Ездит на дрожках к церкви, где Ганька-маляр висит – ладит крестовый щит. Пойду к Плащанице и увижу. На дворе заливают стаканчики. Из амбара носят в больших корзинах шкалики, плошки, лампионы, шары, кубастики – всех цветов. У лужи горит костер, варят в котле заливку. Василь Василич мешает палкой, кладет огарки и комья сала, которого «мышь не ест». Стаканчики стоят на досках, в гнездышках, рядками, и похожи на разноцветных птичек. Шары и лампионы висят на проволоках. Главная заливка идет в Кремле, где отец с народом. А здесь – пустяки, стаканчиков тысячка, не больше. Я тоже помогаю, – огарки ношу из ящика, кладу фитили на плошки. И до чего красиво! На новых досках, рядочками, пунцовые, зеленые, голубые, золотые, белые с молочком… Покачиваясь, звенят друг в дружку большие стеклянные шары, и солнце пускает зайчики, плющится на бочках, на луже.
Ударяют печально, к Плащанице. Путается во мне и грусть, и радость: Спаситель сейчас умрет… и веселые стаканчики, и миндаль в кармашке, и яйца красить… и запахи ванили и ветчины, которую нынче запекли, и грустная молитва, которую напевает Горкин, – «Иуда не-че-сти-и-вый… си-рибром помрачи-и-ися…» Он в новом казакинчике, помазал сапоги дегтем, идет в церковь.
Перед Казанской толпа, на купол смотрят. У креста качается на веревке черненькое, как галка. Это Ганька, отчаянный. Толкнется ногой – и стукнется. Дух захватывает смотреть. Слышу: картуз швырнул! Мушкой летит картуз и шлепает через улицу в аптеку. Василь Василич кричит:
– Эй, не дури… ты! Стаканчики примай!..
– Дава-ай!.. – орет Ганька, выделывая ногами штуки. Даже и квартальный смотрит. Подкатывает отец на дрожках.
– Поживей, ребята! В Кремле нехватка… – торопит он и быстро взбирается на кровлю.
Лестница составная, зыбкая. Лезет и Василь Василич. Он тяжелей отца, и лестница прогибается дугою. Поднимают корзины на веревках. Отец бегает по карнизу, указывает, где ставить кресты на крыльях. Ганька бросает конец веревки, кричит: «Давай!» Ему подвязывают кубастики в плетушке, и он подтягивает к кресту. Сидя в петле перед крестом, он уставляет кубастики. Поблескивает стеклом. Теперь самое трудное: прогнать зажигательную нитку. Спорят: не сделать одной рукой, держаться надо! Ганька привязывает себя к кресту. У меня кружится голова, мне тошно.
– Готовааа!.. Примай нитку‑у!..
Сверкнул от креста комочек. Говорят – видно нитку по куполу! Ганька скользит из петли, ползет по «яблоку» под крестом, ныряет в дырку на куполе. Покачивается пустая петля. Ганька уже на крыше, отец хлопает его по плечу. Ганька вытирает лицо рубахой и быстро спускается на землю. Его окружают, и он показывает бумажку:
– Как трешницы-то отхватывают! Глядит на петлю, которая все качается.
– Это отсюда страшно, а там – как в креслах!
Он очень бледный. Идет, пошатываясь.
В церкви выносят Плащаницу. Мне грустно: Спаситель умер. Но уже бьется радость: воскреснет, завтра! Золотой гроб, святой. Смерть – это только так: все воскреснут. Я сегодня читал в Евангелии, что гробы отверзлись и многие телеса усопших святых воскресли. И мне хочется стать святым – навертываются даже слезы. Горкин ведет прикладываться. Плащаница увита розами. Под кисеей, с золотыми Херувимами, лежит Спаситель, зеленовато-бледный, с пронзенными руками. Пахнет священно розами.
С притаившейся радостью, которая смешалась с грустью, я выхожу из церкви. По ограде навешены кресты и звезды, блестят стаканчики. Отец и Василь Василич укатили на дрожках в Кремль, прихватили с собой и Ганьку. Горкин говорит мне, что там лиминация ответственная, будет глядеть сам генерал-и-губернатор Долгоруков. А Ганьку «на отчаянное дело взяли».
У нас пахнет мастикой, пасхой и ветчиной. Полы натерты, но кровать еще не постелили. Мне дают красить яйца.
Ночь. Смотрю на образ, и все во мне связывается с Христом: иллюминация, свечки, вертящиеся яички, молитвы, Ганька, старичок.
Горкин, который, пожалуй, умрет скоро… Но он воскреснет! И я когда-то умру, и все. И потом встретимся все… и Васька, который умер зимой от скарлатины, и сапожник Зола, певший с мальчишками про волхвов, – все мы встретимся т а м. И Горкин будет вырезывать винограды на пасочках, но какой-то другой, светлый, как беленькие души, которые я видел в поминаньи. Стоит Плащаница, в церкви, одна, горят лампады. Он теперь сошел в ад и всех выводит из огненной геенны. И это для Него Ганька полез на крест, и отец в Кремле лазит на колокольню, и Василь Василич, и все наши ребята – все для Него это! Барки брошены на реке, на якорях, там только по сторожу осталось. И плоты вчера подошли. Скучно им на темной реке, одним. Но и с ними Христос, везде… Кружатся в окне у Егорова яички. Я вижу жирного червяка с черной головкой с бусинками-глазами, с язычком из алого суконца… дрожит в яичке. Большое сахарное яйцо я вижу – и в нем Христос.
Великая Суббота, вечер. В доме тихо, все прилегли перед заутреней. Я пробираюсь в зал – посмотреть, что на улице. Народу мало, несут пасхи и куличи в картонках. В зале обои розовые – от солнца, оно заходит. В комнатах – пунцовые лампадки, пасхальные: в Рождество были голубые?.. Постлали пасхальный ковер в гостиной, с пунцовыми букетами. Сняли серые чехлы с бордовых кресел. На образах веночки из розочек. В зале и в коридорах – новые красные «дорожки». В столовой на окошках – крашеные яйца в корзинах, пунцовые: завтра отец будет христосоваться с народом. В передней – зеленые четверти с вином: подносить. На пуховых подушках, в столовой на диване – чтобы не провалились! – лежат громадные куличи, прикрытые розовой кисейкой, – остывают. Пахнет от них сладким теплом душистым.
Тихо на улице. Со двора поехала мохнатая телега – повезли в церковь можжевельник. Совсем темно. Вспугивает меня нежданный шепот:
– Ты чего это не спишь, бродишь?..
Это отец. Он только что вернулся.
Я не знаю, что мне сказать: нравится мне ходить в тишине по комнатам и смотреть и слушать, – другое все! – такое необыкновенное, святое.
Отец надевает летний пиджак и начинает оправлять лампадки. Это он всегда сам: другие не так умеют. Он ходит с ними по комнатам и напевает вполголоса: «Воскресение Твое, Христе Спасе… Ангели поют – на небеси…» И я хожу с ним. На душе у меня радостное и тихое, и хочется отчего-то плакать. Смотрю на него, как становится он на стул, к иконе, и почему-то приходит в мысли: неужели и он умрет!.. Он ставит рядком лампадки на жестяном подносе и зажигает, напевая священное. Их очень много, и все, кроме одной, пунцовые. Малиновые огоньки спят – не шелохнутся. И только одна, из детской – розовая, с белыми глазками, – ситцевая будто. Ну до чего красиво! Смотрю на сонные огоньки и думаю: а это святая иллюминация, Боженькина. Я прижимаюсь к отцу, к ноге. Он теребит меня за щеку. От его пальцев пахнет душистым афонским маслом.
– А шел бы ты, братец, спать?
От сдерживаемой ли радости, от усталости этих дней или от подобравшейся с чего-то грусти – я начинаю плакать, прижимаюсь к нему, что-то хочу сказать, не знаю… Он подымает меня к самому потолку, где сидит в клетке скворушка, смеется зубами из-под усов.
– А ну, пойдем-ка, штучку тебе одну…
Он несет в кабинет пунцовую лампадку, ставит к иконе Спаса, смотрит, как ровно теплится и как хорошо стало в кабинете. Потом достает из стола… золотое яичко на цепочке!
– Возьмешь к заутрене, только не потеряй. А ну, открой-ка…
Я с трудом открываю ноготочком. Хруп – пунцовое там и золотое. В серединке сияет золотой, тяжелый; в боковых кармашках – новенькие серебряные. Чудесный кошелечек! Я целую ласковую руку, пахнущую деревянным маслом. Он берет меня на колени, гладит…
– И устал же я, братец… а все дела. Сосни-ка лучше, поди, и я подремлю немножко.
О, незабвенный вечер, гаснущий свет за окнами… И теперь еще слышу медленные шаги, с лампадкой, поющий в раздумье голос:
Ангелы поют на не-бе-си‑и…
Таинственный свет, святой. В зале лампадки только. На большом подносе – на нем я могу улечься – темнеют куличи, белеют пасхи. Розы на куличах и красные яйца кажутся черными. Входят на носках двое, высокие молодцы в поддевках, и бережно выносят обвязанный скатертью поднос. Им говорят тревожно: «Ради Бога, не опрокиньте как!». Они отвечают успокоительно: «Упаси Бог, поберегемся». Понесли святить в церковь.
Идем в молчанье по тихой улице, в темноте. Звезды, теплая ночь, навозцем пахнет. Слышны шаги в темноте, белеют узелочки.
В ограде парусинная палатка, с приступочками. Пасхи и куличи, в цветах, – утыканы изюмом. Редкие свечечки. Пахнет можжевельником священно. Горкин берет меня за руку.
– Папашенька наказал с тобой быть, лиминацию показать. А сам с Василичем в Кремле, после и к нам приедет. А здесь командую я с тобой.
Он ведет меня в церковь, где еще темновато, прикладывает к малой Плащанице на столике: большую, на Гробе, унесли. Образа в розанах. На мерцающих в полутьме паникадилах висят зажигательные нитки. В ногах возится можжевельник. Священник уносит Плащаницу на голове. Горкин в новой поддевке, на шее у него розовый платочек, под бородкой. Свечка у него красная, обвита золотцем.
– Крестный ход сейчас, пойдем распоряжаться.
Едва пробираемся в народе. Пасочная палатка – золотая от огоньков, розовое там, снежное. Горкин наказывает нашим:
– Жди моего голосу! Как показался ход, скричу – вали! – запущай враз ракетки! Ты, Степа… Аким, Гриша… Нитку я подожгу, давай мне зажигальник! Четвертная – с колокольни. Митя, тама ты?!
– Здесь, Михал Панкратыч, не сумлевайтесь!
– Фотогену на бочки налили?
– Все, враз засмолим!
– Митя! Как в большой ударишь разов пяток, сейчас на красный-согласный переходи, с перезвону на трезвон, без задержки… верти и верти во все! Апосля сам залезу. По-нашему, по-ростовски! Ну, дай Господи…
У него дрожит голос. Мы стоим с зажигальником у нитки. С паперти подают – идет! Уже слышно:
…Ангели no-ют на небеси‑и!..
– В‑вали‑и!.. – вскрикивает Горкин – и четыре ракеты враз с шипеньем рванулись в небо и рассыпались щелканьем на семицветные яблочки. Полыхнули «смолянки», и огненный змей запрыгал во всех концах, роняя пылающие хлопья.
– Кумпол-то, кумпол-то!.. – дергает меня Горкин.
Огненный змей взметнулся, разорвался на много змей, взлетел по куполу до креста… и там растаял. В черном небе алым крестом воздвиглось! Сияют кресты на крыльях, у карнизов. На белой церкви светятся мягко, как молочком, матово-белые кубастики, розовые кресты меж ними, зеленые и голубые звезды. Сияет – X. В. На пасочной палатке тоже пунцовый крестик. Вспыхивают бенгальские огни, бросают на стены тени – кресты, хоругви, шапку архиерея, его трикирий. И все накрыло великим гулом, чудесным звоном из серебра и меди.
Хрис-тос воскре-се из ме-ртвых…
– Ну, Христос воскресе… – нагибается ко мне радостный, милый Горкин.
Трижды целует и ведет к нашим в церковь. Священно пахнет горячим воском и можжевельником.
…сме-ртию смерть… по-пра-ав!..
Звон в рассвете, неумолкаемый. В солнце и звоне утро. Пасха красная.
И в Кремле удалось на славу Сам Владимир Андреич Долгоруков благодарил! Василь Василич рассказывает:
– Говорит – удружили. К медалям приставлю, говорит. Такая была… поддевку прожег! Митрополит даже ужасался… до чего было! Весь Кремль горел. А на Москве-реке… чисто днем!..
Отец, нарядный, посвистывает. Он стоит в передней, у корзин с красными яйцами, христосуется. Тянутся из кухни, гусем. Встряхивают волосами, вытирают кулаком усы и лобызаются по три раза. «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе…» – «Со светлым праздничком»… Получают яйцо и отходят в сени. Долго тянутся – плотники, народ русый, маляры – посуше, порыжее… плотогоны – широкие крепыши… тяжелые землекопы-меленковцы, ловкачи – каменщики, кровельщики, водоливы, кочегары.
Угощение на дворе. Орудует Василь Василич, в пылающей рубахе, жилетка нараспашку, – вот-вот запляшет.
Зудят гармоньи. Христосуются друг с дружкой, мотаются волосы там и там. У меня заболели губы…
Трезвоны, перезвоны, красный-согласный звон. Пасха красная.
Обедают на воле, под штабелями леса. На свежих досках обедают, под трезвон. Розовые, красные, синие, желтые, зеленые скорлупки – всюду, и в луже светятся. Пасха красная! Красен и день, и звон.
Я рассматриваю надаренные мне яички. Вот хрустальное-золотое, через него – все волшебное. Вот – с растягивающимся жирным червячком: у него черная головка, черные глазки-бусинки и язычок из алого суконца. С солдатиками, с уточками, резное-костяное… И вот, фарфоровое – отца. Чудесная панорамка в нем… За розовыми и голубыми цветочками бессмертника и мохом, за стеклышком в золотом ободке видится в глубине картинка: белоснежный Христос с хоругвью воскрес из Гроба. Рассказывала мне няня, что, если смотреть за стеклышко, долго-долго, увидишь живого ангелочка. Усталый от строгих дней, от ярких огней и звонов, я вглядываюсь за стеклышко. Мреет в моих глазах – и чудится мне, в цветах, – живое, неизъяснимо-радостное, святое… Бог?.. Не передать словами. Я прижимаю к груди яичко – и усыпляющий перезвон качает меня во сне.
[1] Сандал – краска, извлекаемая из древесины различных деревьев при помощи спирта или эфира.
[2] Серпуха – желтая растительная краска для тканей.
[3] Вечать – то есть совещаться, разговаривать.
[4] Соныга – сонный.
[5] Остинка – здесь иголка.