Имя русского ученого Владимира Яковлевича Проппа (1895–1970) известно по всему миру, а его книга «Морфология сказки», пожалуй, самая знаменитая работа XX века по фольклористике. Она повлияла не только на специалистов, но и на писателей, киносценаристов и т. д. Вторая ключевая работа Проппа, «Исторические корни волшебной сказки», менее известна за рубежом, поскольку не выходила целиком на английском. Сейчас в США готовится ее первый полный перевод, а предисловие к нему написал профессор, доктор филологических наук Сергей Неклюдов (Центр типологии и семиотики фольклора РГГУ). Недавно он выступил с лекцией, посвященной этим двум книгам и научному наследию Проппа: «Горький» совместно с некоммерческим образовательным проектом «Лаборатория ненужных вещей» публикует расшифровку выступления Сергея Юрьевича.
Дорогие коллеги, я решил предложить вам эту лекцию по нескольким причинам. Во-первых, в этом году годовщина — 50 лет со дня смерти Владимира Проппа. Во-вторых, из двух его главных книг, «Морфология сказки» и «Исторические корни волшебной сказки», вторая до сих пор не переведена полностью на английский язык, и потому ее известность крайне ограничена; только сейчас в Америке готовится первое издание полного перевода «Исторических корней». Я недавно закончил предисловие к нему, и эта работа побудила меня вновь вернуться к «пропповской» проблематике в науке о фольклоре. В-третьих, наконец, мне посчастливилось быть знакомым с Проппом, редактировать второе издание «Морфологии сказки» (1969), и это обстоятельство является для меня еще одним, чисто личным поводом поговорить о его научном наследии.
Немного истории
Когда речь заходит о Проппе, в первую очередь вспоминают «Морфологию сказки» и в меньшей степени — «Исторические корни волшебной сказки». Сказковедение занимало, пожалуй, главное место в научном творчестве Проппа. Ему посвящены три из шести его монографий — помимо упомянутых выше еще «Русская сказка», текст которой основан на курсе лекций, прочитанных на филфаке Ленинградского университета (собран, подготовлен и напечатан уже после смерти Проппа, в 1984 году). Пропп занимался изучением сказки непрерывно на протяжении почти двадцати лет, а после он возвращался к сказочной тематике лишь эпизодически, в частности когда готовил издание трехтомника Афанасьева и еще при некоторых других обстоятельствах. «Морфология сказки» вышла в 1928 году в издательстве Academia в серии «Вопросы поэтики», а «Исторические корни волшебной сказки» — в 1946 году в издательстве Ленинградского университета.
Судьба этих книг очень разная: у «Морфологии сказки» всемирная слава, а у «Исторических корней» — очень ограниченная известность. За пределами Советского Союза и России ее знают несравнимо меньше, причем главным образом ввиду отсутствия англоязычного перевода. Нельзя сказать, что ее не переводили совсем. Почти сразу после издания книги появился итальянский перевод, впоследствии многажды переиздававшийся, есть также румынский, испанский, французский и японский переводы. Однако по-английски представлены лишь две главы, вводная и заключительная. Это обстоятельство не только препятствует рецепции «Исторических корней» в мировой науке, но также влияет и на адекватное восприятие «Морфологии сказки».
Славу «Морфологии сказки» невозможно переоценить. В XX веке она стала едва ли не самой знаменитой книгой по фольклору (в действительности ее значение выходит далеко за пределы собственно фольклористики). Она была переведена на языки всех народов, у которых только существует традиция научной фольклористики, она имела огромный резонанс и стимулировала целый ряд продолжающих ее исследований. После «Морфологии» фольклористика изменилась настолько, что можно говорить о ее «допропповском» и «постпропповском» периодах.
Она вызвала отклик и далеко за пределами фольклористического сообщества, например, в исследованиях по информатике, которые проводились еще с конца 1970-х годов. В основном речь идет об опыте порождения сказок с использованием пропповского набора функций. Тексты, которые получаются в результате такого порождения, не самого лучшего качества и мало чему соответствуют в реальной сказочной традиции. Зачем это делается, мне понять трудно. Возможно, для работ по искусственному интеллекту это имеет какое-то значение, но фольклористике такое механическое использование модели Проппа не дает практически ничего.
Можно вспомнить и т. н. дидактические карты Проппа, использовавшиеся на семинаре Джанни Родари и описанные в его книге «Грамматика фантазии». Напомню, что в Италии Пропп известен лучше, чем в других странах, «Исторические корни» там были переведены раньше «Морфологии». Среди прочего Родари писал: «Сравнить приведенный перечень [функций] с сюжетом любого приключенческого фильма; удивительно, как много обнаружится совпадений и как будет почти в точности соблюден тот же порядок <…> Той же канвы придерживаются и многие приключенческие книги». «Нас его функции интересуют потому, что на их основе мы можем строить бесконечное множество рассказов, подобно тому как можно сочинять сколько угодно мелодий, располагая всего-навсего двенадцатью нотами». Тут любопытно, что подход как бы тот же самый, что и у специалистов по информатике, но цели разные, поскольку последние отнюдь не стремились к развитию фантазии.
Из воспоминаний Изалия Земцовского, фольклориста-музыковеда, который был близок с Проппом, а ныне живет в Америке, я узнал, что американская писательница и сценаристка голливудских фильмов Виктория Нельсон говорила следующее: «У нас в Голливуде есть популярная и безотказно спасительная формула — „Do it with Propp!“… Когда нужно в одной фразе изложить суть будущего фильма, особенно в случае хитрого комбинирования, например, двух сюжетов, опытные мастера-сценаристы советуют: „Follow Propp!“. Выведенные им законы построения сказки работают и в кинематографии. Его книга „Морфология сказки“ — второе американское издание 1968 г. — перепечатывалась в США уже не менее 20 раз. Все сценаристы ее имеют. Это их рабочая Библия…» Даже если это преувеличение, комментарий все равно весьма любопытный. Или, скажем, итальянский композитор-экспериментатор Лучано Берио: он выступал с лекцией на тему «Владимир Пропп и анализ оперы», а также сочинил оперу на собственное либретто, задуманное и сделанное исключительно по Проппу, в духе его «Морфологии».
«Прежде всего вредитель принимает чужой облик»
К переизданию 1969 года Пропп заново подготовил рукопись «Морфологии сказки». Речь идет не о механической перепечатке: он довольно сильно правил ее, хотя это не меняло сути исследования и потому не имело особого значения. Но две коррективы мне бы хотелось упомянуть. В предисловии он исправляет «изучение сказки как мифа» на «историческое изучение сказки». Это прямое следствие прожитой жизни, некоторого рода пересмотра своей работы, результат дискуссий (в том числе с Леви-Строссом). Возможно, Пропп хотел таким образом вернуть связку «Морфологии сказки» с «Историческими корнями волшебной сказки», и в то же время убрать жесткую формулировку «изучение сказки как мифа».
Любопытна и вторая замена — термина «вредитель» на термин «антагонист», причем осуществленная по всей книге (кое-где слово «вредитель» сохранилось, но терминологически он четко заменил одно другим). Вероятно, это связано с отказом от политической риторики 1920-х годов. Изначально слово «вредитель» встречалось преимущественно в сельскохозяйственном дискурсе применительно ко вредным насекомым (скажем, жучки, уничтожающие сельскохозяйственные культуры), но примерно с середины 1920-х годов начали говорить про вредителей советской сельской общественности; отмечу, что именно в 1926 году Пропп на заседании Сказочной комиссии презентовал первые результаты своей работы над «Морфологией сказки». Далее это понятие эволюционирует, оформляется уже и образ злейшего идеологического врага.
Похоже, что концепт «вредителя» у Проппа первоначально прямо связан с этим дискурсом. Например, в первой редакции книги мы читаем: «Он пришел, подкрался, прилетел и пр. и начинает действовать. <…> Его [вредителя] роль — нарушить покой счастливого семейства, вызвать какую-либо беду, нанести вред, ущерб. <…> Вредитель пытается обмануть свою жертву, чтобы овладеть ею или ее имуществом. Прежде всего вредитель принимает чужой облик». В том же 1928 году в газете «Правда» публиковалось такое: «Враги пробираются во все наши организации. Они овладевают нашим доверием и зло морочат нас. Они притворяются нашими преданными друзьями и потому опаснее открытых врагов» (6.07.28); «…слишком уж много у этого человека разных масок, и каждую он умеет довольно прилично и естественно носить» (24.05.28).
После 1928 года термин «вредитель» приобретает особенно угрожающий характер. Понятно, почему впоследствии автор старался избавиться от него.
Рукопись «Морфологии сказки», представленная в издательство, включала в себя еще одну главу — в ней намечался будущий труд «Исторические корни волшебной сказки». (Когда я предложил Владимиру Яковлевичу вернуть эту главу в издание 1969 года, он сказал, что она не сохранилась.) По совету Виктора Максимовича Жирмунского эта глава была изъята из книги. К слову, у меня создалось впечатление, что у Проппа была затаенная обида на Жирмунского — Владимир Яковлевич был очень чувствителен к своим текстам, а Жирмунский, как рассказывал Елеазар Моисеевич Мелетинский, шутя говорил: это я сделал из Проппа формалиста. Отсечение этой главы придало монографии большую цельность и завершенность, но отделило ее от изначально планировавшегося продолжения, которое показывало бы истинные цели исследования.
Однако до подлинной оценки замысла этой великой книги оставалось ждать еще двадцать — тридцать лет: книга явно родилась прежде своего времени.
Опубликовав «Морфологию», Пропп приступил к установлению широких этнографических соответствий темам и мотивам волшебной сказки. Почти десять лет спустя первая редакция «Исторических корней волшебной сказки» была завершена и в 1939 году защищена как докторская диссертация. Доработанная монография вышла уже после войны, в 1946 году, в крайне неблагоприятный для советской науки период. Сразу по выходе успела появиться крайне благоприятная и вполне конструктивная рецензия Жирмунского. Ну а дальше началось — партийная критика (в газетах, журналах, на «обсуждениях» в Институте этнографии АН СССР) усмотрела в ней «мистицизм», «извращение и фальсификацию истинной картины общественных отношений», обращение к работам «идеалистов» Фрезера и Леви-Брюля, к «буржуазной» финской школе, отсутствие опоры на труды русских «революционно-демократических» публицистов Добролюбова и Чернышевского, а также «пролетарского писателя» Горького, считавшего волшебные сказки воплощением мечты человека о светлом будущем. Все это была не только брань, но и настоящие угрозы. К сожалению, помимо людей, чьи имена ни в чьей памяти не сохранились, среди засветившихся в обсуждениях встречались и вполне оставшиеся в науке персонажи.
За рубежом эта книга осталась малоизвестной. Исключение — итальянский перевод (1949), не менее шести раз переиздававшийся и позднее позволивший Карло Гинзбургу чрезвычайно высоко оценить «Исторические корни…» — «великую книгу, несмотря на ее недостатки», причем именно как часть задуманной автором дилогии: «Отсылка к Гёте (к Гёте-морфологу) дается у Витгенштейна открыто, так же как и в „Морфологии сказки“ Проппа, написанной в те же самые годы. Но, в отличие от Витгенштейна, Пропп рассматривал морфологический анализ как инструмент, полезный и для исторического исследования, а не как альтернативу последнему» (1986). Определение Гинзбурга очень точное, оно дает понимание действительной цели Проппа в работе над «сказочным» проектом. А вот что еще раньше Гинзбурга написал Джанни Родари (1973): «Теория, выдвинутая В. Я. Проппом, обладает особой притягательностью еще и потому, что только она устанавливает глубокую (кое-кто сказал бы, „на уровне коллективного подсознания“) связь между доисторическим мальчиком, по всем правилам древнего ритуала вступающим в пору зрелости, и мальчиком исторически обозримых эпох, с помощью сказки впервые приобщающимся к миру взрослых. В свете теории Проппа тождество, существующее между малышом, который слышит от матери сказку о Мальчике-с-Пальчик, и Мальчиком-с-Пальчик из сказки, имеет не только психологическую основу, но и другую, более глубокую, заложенную в физиологии». Это еще одна интересная мысль, к которой хотелось бы возвращаться.
Формула Проппа
Поначалу первая книга Проппа имела заголовок «Морфология волшебной сказки», а его предварительное сообщение о результатах исследования именовалось еще точнее: «Морфология русской волшебной сказки». Однако уже тогда, вероятно, у автора возникло ощущение, что итог работы превышает исходный замысел, в результате чего родилось окончательное название — обобщенное и лаконичное. Я, кстати, предлагал вернуть книге во втором издании изначальный заголовок, но Пропп резонно отказался, поскольку, по его словам, общеизвестным стало именно название «Морфология сказки» и ничего менять не надо. Когда в последующих, уже посмертных переизданиях публикаторы восстанавливают слово «волшебной», мне вспоминается этот разговор, и я думаю, что делать так не стоило.
В формулировании своих фольклористических концепций Пропп опирался на труды Александра Веселовского по поэтике, который первым — еще в 1884 году! — употребил само выражение «морфология сказки»: «Было бы интересно сделать морфологию сказки и проследить ее развитие от простейших сказочных моментов до их наиболее сложной комбинации. Тогда бы мы узнали, что чем древнее сказка, тем проще ее схема, и чем новее, тем более она осложняется» (Веселовский А. Н. Из лекций по истории эпоса [1884]). Можно сказать, что Пропп решил задачу, поставленную Веселовским.
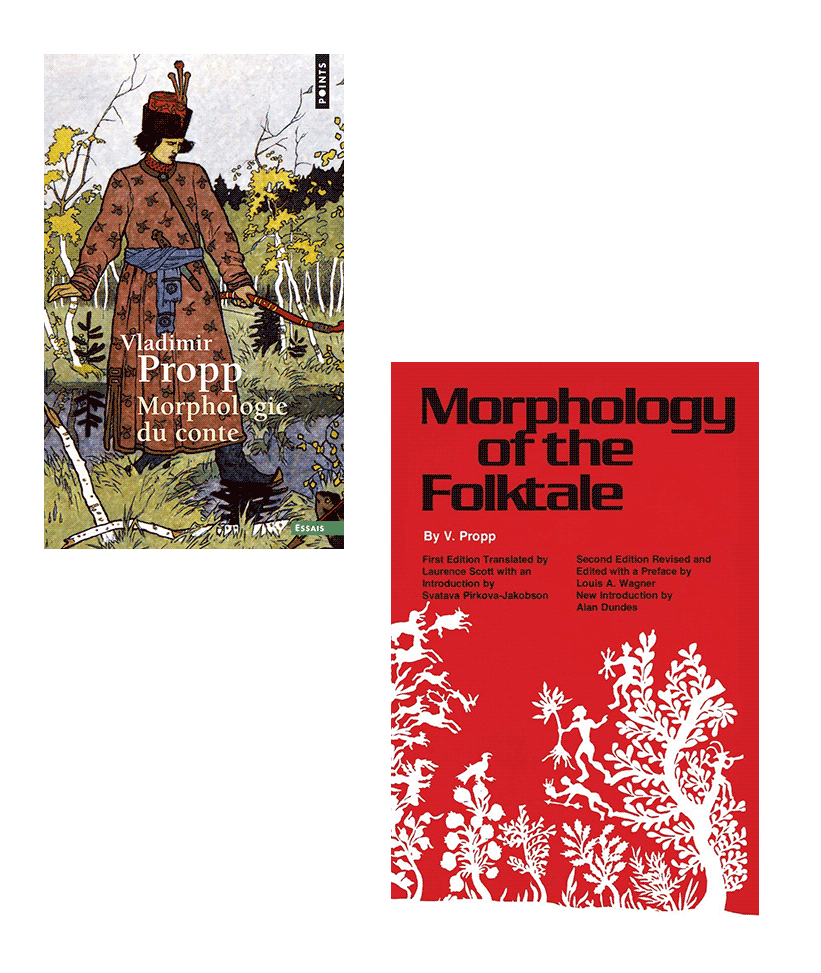
Далее «формула Проппа» выходит из-под контроля создателя и начинает жить самостоятельной жизнью. Впоследствии он неоднократно возражал против слишком уж расширительного толкования своего открытия и даже склонен был отказаться от термина «морфология», заменив его термином «композиция». В последней книге — «Русская сказка» — выражение «морфология сказки» практически не употребляется. Возникает ощущение, что иногда Владимир Яковлевич слушал своих критиков с излишним вниманием.
«Прежде чем ответить на вопрос, откуда сказка происходит, надо ответить на вопрос, что она собой представляет»
«Морфология сказки» и «Исторические корни волшебной сказки» задумывались Проппом как дилогия, причем первой работе отводилась скорее «подготовительная» роль, тогда как следующая монография должна была стать основной и завершающей. Сквозной сюжет этих разысканий — описание структуры явления с целью исследования его генезиса: «Прежде чем ответить на вопрос, откуда сказка происходит, надо ответить на вопрос, что она собой представляет».
Принцип стадиального развития для Проппа аналогичен закону биологической эволюции: «Область природы и область человеческого творчества не разъединены. Есть нечто, что объединяет их, есть какие-то общие для них законы, которые могут быть изучены сходными методами» («Структурное и историческое изучение волшебной сказки»). Это 1966 год, ответ Проппа Леви-Строссу, но тут он вспоминает идеи, которые приходили ему в голову во время работы над «Морфологией сказки». Идея эволюции была тогда для него чрезвычайно важной, он досадовал на снятие переводчиком эпиграфов Гете в английском издании, потому что они имели отнюдь не орнаментальный, а вполне тематический характер: «Изучение сказки во многих отношениях может быть сопоставлено с изучением органических образований в природе… Как здесь, так и там возможны две точки зрения: или внутреннее сходство двух внешне не связанных и не связуемых явлений не возводится к общему генетическому корню — теория самостоятельного зарождения видов, или это морфологическое сходство есть результат известной генетической связи — теория происхождения путем метаморфоз и трансформаций, возводимых к тем или иным причинам».
Таким образом, Пропп предельно четко определяет принципиальные установки своего исследовательского проекта, причем в нем ни отдельно взятая сказка, ни отдельно взятый сюжет не являются предметом изучения, все это — лишь материал для дальнейшего анализа. Он чрезвычайно отчетливо поясняет свой подход к материалу: «Историческому объяснению в первую очередь подлежат не отдельные сюжеты, а та композиционная система, к которой они принадлежат. Тогда между сюжетами откроется историческая связь, и этим прокладывается путь к изучению отдельных сюжетов». Это тоже из ответа Леви-Строссу («Структурное и историческое изучение волшебной сказки», 1966), но сами эти идеи заложены еще в «Морфологии сказки». То, что не всякий критик их увидел, объясняется готовностью (или неготовностью) читателей к их восприятию, потому что сам текст Проппа, с моей точки зрения, в высшей степени прозрачный, ясный и четкий. Сведéние всех волшебных сказок к одной — не ошибка Проппа (как полагал Леви-Строс), а условие достижения поставленной цели: «определить специфику сказки, описать и объяснить ее структурное единообразие» (Е. М. Мелетинский). Кстати, слово сказка он обычно предпочитал употреблять в единственном числе («Морфология сказки», «Исторические корни волшебной сказки», «Русская сказка»), говоря о данном жанровом типе («волшебная сказка») как о некой интегрированной сущности.
«Морфологическая формула» Проппа — результат конструирования модели, которая не может иметь реальных воплощений в историческом прошлом, но способна объяснить все потенциальное многообразие форм данной традиции, порождаемых процессом морфологической эволюции. Широкие этнографические соответствия темам и мотивам волшебной сказки (в «Исторических корнях») позволяют выявить ритуально-мифологический субстрат их семантики и через это — способствовать установлению их генезиса.
Как писал Карло Гинзбург (по другому поводу), «речь идет о некоем мифологическом ядре, которое на протяжении столетий — а возможно, и тысячелетий — сохраняло свою жизнеспособность. Эта преемственность, которая прослеживается за бесчисленными вариациями, не может быть упрощающе сведена к некоей склонности человеческого духа», что «под видом ответа вновь ставит исходную проблему» (туда же «архетипы» и «коллективное бессознательное»).
В синтагматической (морфологической) модели структурные элементы повествования (функции) соединяются по смежности — как устойчивая горизонтальная последовательность. В «Исторических корнях» (парадигматический уровень) каждая функция (в идеале) через широкий этнографический комментарий к опорным элементам данной модели обретает эквивалент в архаической ритуальной традиции и тем самым — глубинную мифологическую семантику (глубинную, то есть существующую лишь как результат реконструкции).
«Исторические корни волшебной сказки» — это, в общем-то, один метасюжет, связанный только с обрядом инициации, а «Морфология сказки» охватывает все сюжетные типы, все сказки. Парадигматические отношения можно использовать для исторического объяснения генезиса волшебной сказки, что Пропп и делает со свойственной ему категоричностью. Его аргументированно критиковали за преувеличение роли архаических посвятительных обрядов в генезисе повествовательных структур и за произвольность отдельных семантических реконструкций. Еще Жирмунский в своей рецензии писал, что по отношению к сказкам типа «дети у людоеда» или «мальчик-с-пальчик» роль архаических посвятительных обрядов выявлена в высшей степени убедительно, однако дальнейшее распространение данного подхода на всю волшебную сказку вызывает много вопросов. Согласно Проппу и другим сторонникам ритуалистической гипотезы, обряд по отношению к фольклорному сюжету первичен, но против подобной точки зрения есть серьезные возражения. Довольно очевидно, что отнюдь не всякий нарратив может быть возведен к сценарию обряда, многие сюжеты (видимо, большинство) с обрядами генетически явно не связаны.
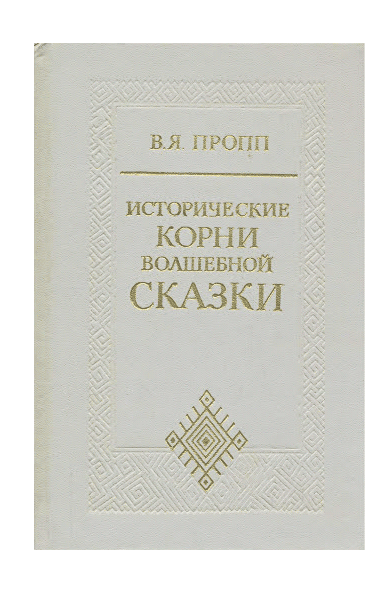
Итак, напомню: Пропп исходит из того, что принцип стадиального развития форм культуры аналогичен закону биологической эволюции, причем исследованию генезиса явления должно предшествовать точное и адекватное описание его структуры. При этом историко-генетическому объяснению подлежат не отдельные сюжеты, а их общая композиционная («морфологическая») система, установление которой открывает историческую связь между сюжетами и прокладывает путь к изучению отдельных сюжетов.
Подобному тому как описание структуры должно предшествовать генетическому исследованию, выявление морфологической жанровой систем должно предшествовать историческому анализу. В нашем случае речь идет о жанре волшебной сказки, но можно, как мы видели, работать и с более широким кругом текстов — вплоть до голливудских сценариев, а это позволяет предположить, что Проппом, действительно, была уловлена какая-то более широкая и «сильная» закономерность. И только после того, как установлена эта общая объяснительная морфологическая система, можно заниматься конкретным изучением отдельных сюжетов, жанров, в конечном счете, — и отдельных текстов.
Полученная таким образом «морфологическая формула» — не «праформа» или «прототекст», а модель, которая способна объяснить потенциальное многообразие форм, порождаемых процессом морфологической эволюции. Этнографические соответствия темам и мотивам волшебной сказки позволяют выявить ритуально-мифологический субстрат их семантики и через это — способствовать установлению их генезиса. Не стоит, кроме того, забывать, что «морфологическая формула» Проппа это не только последовательность функций, но и система персонажей. Она менее разработана, но она тоже должна обязательно присутствовать при оценке «морфологической формулы» Проппа.
Устойчивая горизонтальная последовательность элементов повествования (функций), соединяемых по смежности, представляет его синтагматическую модель, а эквиваленты этих элементов в архаической ритуальной традиции, репрезентирующие их глубинную мифологическую семантику — парадигматический аспект той же модели. Установление эквивалентности между моделями повествовательной и обрядовой — это не столько методологическое открытие, сколько выявление соприродности, если не тождества, самих принципов построения текстов обрядового (акционального) и повествовательного (вербального).
Иными словами, сценарий обряда (посвятительного, родильного, свадебного, похоронного и др.) выстраивается по тем же законам, что и сценарий фольклорного (и не только фольклорного) нарратива. За этим, вероятно, стоят некие управляющие структуры, организующие и нарратив, и обряд, и игры, и самые разные социокультурные практики. В связи с этим можно вспомнить суждения и Карло Гинзбурга, и Джанни Родари, и многих других людей, размышлявших над этой книгой.
Вопросы
— Несомненно, существует не только нарративная структура, но и структура обряда, а ритуал часто выстраивается по законам нарратива. Но где именно возникает этот нарратив обряда? В голове тех, кто в нем участвует? Или в голове тех, кто его описывает? Грубо говоря, не выходит ли так, что для фольклористов и этнографов, которые прочли Проппа, «Морфология сказки» и сюжетопорождающая логика стали своего рода модусом операнди? Иными словами, не повлияло ли это на методологическое описание ритуала? Не рассматриваем ли мы этот нарратив ритуала сквозь призму тех, кто видит его в логике Проппа?
Сергей Неклюдов: Я так не думаю. Описания ритуала, причем подробные, хорошие, принадлежат допропповскому времени. И эквивалентность эта скорее и легче устанавливается по хорошо структурированным допропповским описаниям старых ритуалов, нежели по более поздним. Это первое обстоятельство.
Второе обстоятельство. Возможно, я недостаточно хорошо это высказал, но фокус заключается вот в чем. У меня такое ощущение, что эта дилогия (вынесем за скобки все преувеличения, ошибки и прочее) остается вещью, не до конца прочитанной. В этом смысле сегодня она может быть прочитана по-новому и более свежо, в том числе с учетом того, о чем писал Карло Гинзбург (в своем тонком и интересном исследовании он не случайно написал, что это великая книга, он разглядел это). Я хочу сказать, что такого прочтения Проппа пока еще нет, и с этой точки зрения трудно говорить о какой-то навязанности пропповской модели.
— А если мы говорим о неких управляющих структурах — где их искать?
Сергей Неклюдов: Хочется вспомнить Чехова: если б знать… Я не готов ответить на этот вопрос. По опыту самого разного рода занятий могу сказать, что любая управляющая структура — это не мистическая субстанция, пребывающая где-то отдельно от самих текстов. Управляющие структуры зашиты в сами тексты. Каким образом это должно вычленяться, я не знаю. В конечном счете, думаю, они присутствуют в коллективном сознании (где же еще им быть?). Но как до них добраться или как получить их интегрированный рисунок, я не знаю, не возьмусь даже делать предположения. Сценарии ритуалов зашиты в ритуалах, в ритуальных текстах, а сценарий повествования зашит в повествовании. Но он зашит не в одном повествовании, а в целом комплексе. Мы спрашиваем у сказителя, от кого он получил этот текст. Он отвечает: от такого-то. Но это не совсем точно. То есть он так считает, и в каком-то смысле это правда — он, действительно, «перенял» текст от такого-то. Но помимо этого он слышал еще сто исполнений разных других людей, которые также организованы теми же управляющими структурами. То есть управляющий текст, структурирующий следующее исполнение, — это не только тот текст, на который непосредственно опирается сказитель / рассказчик / исполнитель, но и все тексты традиции, содержащие в себе управляющую структуру, которая, несомненно, шире любого отдельно взятого текста. Я бы так ответил на этот вопрос.
Советский исследователь, предвосхитивший «Тысячеликого героя» Джозефа Кэмпбелла.
Если сегодня про Джозефа Кэмпбелла и его «Тысячеликого героя», благодаря Джорджу Лукасу, знают практически все, то имя Владимира Проппа и его «Морфологию волшебной сказки» едва ли можно встретить за пределами научных статей и монографий. Хотя уже в 1920-х Пропп определил универсальную структуру фольклора, выделил типы действующих лиц и описал то, что спустя полвека станет широко известно как мономиф.
«Мне следовало стать биологом. Я люблю все классифицировать и систематизировать»
Владимир Яковлевич Пропп родился 16 апреля 1895 г. в Санкт-Петербурге в дворянской семье. В начале века, когда Владимир Пропп учился в школе, его отец купил небольшое поместье в Саратовской губернии — хутор Линево с большим садом, домом, пахотной землей, прудом, хозяйственными постройками, лесом.
Среднее образование Пропп получил в Анненском училище, а в 1913 году поступил в Петербургский университет, где занялся изучением немецкой литературы. Но на третьем курсе он перешел на славяно-русское отделение. В одном из документов он так объяснил причины перехода: «В университете я занялся изучением немецкой литературы. Но влечение к России, явившееся отчасти как последствие отвращения к окружавшей меня немецкой грубости и ограниченности, пробивалось все сильнее, к этому влекли и научные знания. С началом войны я перешел на Славяно-Русское отделение нашего факультета».
Когда началась Первая мировая война, Пропп готов был отправиться на фронт, но студенты, ввиду их малочисленности и ценности, мобилизации не подлежали. Закончив курсы, Владимир Пропп добровольно стал работать в лазарете санитаром, а затем братом милосердия.
Позднее он записал в дневнике: «22. IV. 1918 года был для меня одним из лучших в моей жизни. Была Пасха. Самая ранняя, какая может быть, я смотрел на огни Исаакия с 7-го этажа лазарета в Новой Деревне. Тогда я любил Ксению Новикову. Она ходила за ранеными. Было Воскресение в природе, и моя душа воскресла от признания не только своего “я”. Где другой — там любовь. И она была другая, совсем другая, чем я. Я сквозь войну и любовь стал русским. Понял Россию». В том же году Пропп закачивает Историко-филологический факультет Петроградского университета.
Несколько лет он преподавал русский и иностранные языки в гимназиях и средних школах Петрограда — Ленинграда, а с 1926 года начал преподавать немецкий язык в Политехническом институте, а вскоре стал заведующим кафедрой германской филологии во Втором педагогическом Институте иностранных языков. В эти годы он так же трудился в Институте истории искусств, Институте этнографии Академии Наук, Географическом обществе, затем в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР.
Вероятно, интерес к фольклору возник у Проппа еще в университете, хотя никаких свидетельств этого нет. Но о том, что исследованием сказок он занялся сразу после университета, есть запись в «Дневнике» после прочтения сборника сказок составленный Афанасьевым: «У меня проклятый дар: во всем сразу же, с первого взгляда, видеть форму <…> И сразу открылось: композиция всех сюжетов одна и та же».
Тогда же Пропп работает над «Морфологией волшебной сказки» — своим первым исследованием, которое и принесло ему мировую известность. Он писал его почти десять лет, по ночам, по праздникам и на каникулах. Писал он её в одиночку, ни с кем не советуясь, без научного руководителя. Заручившись поддержкой таких исследователей как В. М. Эйхенбаум, Д. К. Зеленин и В. М. Жирмунский. Пропп издаёт её в 1928 г. под редакцией В. М. Жирмунского.
В предисловии к итальянскому изданию о Морфологии волшебной сказки» он писал в 1966 г.: «Книга эта, как и многие другие, вероятно, была бы забыта, и о ней изредка вспоминали бы только специалисты, но вот через несколько лет после войны о ней вдруг снова вспомнили <…>, что же такое произошло и чем можно объяснить этот возродившийся интерес? В области точных наук были сделаны огромные, ошеломляющие открытия. Эти открытия стали возможны благодаря применению новых точных и точнейших методов исследований и вычислений. Стремление к применению новых точных методов перекинулось и на гуманитарные науки. Появилась структуральная и математическая лингвистика».
«Классификация — одна из первых и важнейших ступеней изучения»
Возникновение сказок связывают с периодом распада мифов, и генетически они связаны с ними. Основные герои сказок и сюжеты возникли около тысячи лет назад в мифах разных народов, затем они перешли в сказки.
Мифы, в отличии от сказок, волновала космогония (то есть сотворение и устройство мира, отношения богов и перволюдей (титанов), смена исторических эпох). Тогда как сказочные истории с течением времени стали вбирать в себя более простые сюжеты. В сказках существует установка на увлекательность, сочетающаяся с поучительностью. В мифах же нет морализаторства по отношению к богам, так как они стоят выше простых людей.
До Проппа многие пытались систематизировать отечественные сказки. Как он пишет: «большинство исследователей начинает с классификации, внося ее в материал извне, а не выводя ее из материала по существу. <…> Здесь мы находим одну из причин того тупика [в который зашли исследователи]». Уже в самом начале «Морфологии» автор отмечает сходство между сказками отечественными и западными, только если у нас в дураках оказывается медведь, то на западе чёрт.
Первейший по важности вопрос о классификации сказок к тому моменту не получил убедительного ответа и в Европе. Делить ли их по сюжетам, по разрядам или иным образом? И там, и там — «полный хаос». Как объяснить сходство сказки о царевне-лягушке в России, Германии, Франции, Индии, в Америке у краснокожих и в Новой Зеландии, причем исторически общения народов доказано быть не может?
А так как сказка нередко приписывает одинаковые действия различным персонажам, это позволяет изучать сказку по функциям действующих лиц. Именно функции действующих лиц становятся главным классифицирующим признаком. Но несмотря на многообразие героев, функций этих не так уж и много.
Русские сказки начали собирать только в XIX веке — в такую эпоху, когда они уже начали разлагаться. Сейчас новообразований нет. Но, несомненно, были эпохи чрезвычайно продуктивные и творческие. Финский исследователь Антти Аарне считает, что в Европе такой эпохой было средневековье. Но те столетия, когда сказка жила интенсивно, для науки безвозвратно потеряны.
Исследование Проппа показывает поразительную повторяемость функций. Так, и Баба-Яга, и Морозко, и медведь, и леший испытывают и награждают падчерицу. Персонажи сказки, как бы они ни были разнообразны, часто делают одно и то же. Морозко может действовать несколько иначе, чем Баба-Яга, но его функция не меняется.
Под функцией понимается поступок действующего лица, определенный с точки зрения его значимости для хода действия. Всего Пропп выделил 31 функцию, которые и формируют путь героя. Не все из перечисленных функций могут быть в одной сказке, но даже за изъятием одной или нескольких из них общая последовательность не нарушается.
«Выделение элементов составляет ось всей работы и предопределяет выводы. Опытный читатель сам сумеет дорисовать наброски»
Последовательность элементов допускает некоторые колебания, которые, однако, общей картины не меняют. Так что я не буду перечислять их все, а лишь укажу на несколько важнейших, в которых без труда угадывается классический приключенческий сюжет. Часть формулировок принадлежит Проппу, но так как они сильно перемешаны с моими собственными, то для простоты восприятия я не оформлял их как цитаты.
II. К герою обращаются с запретом: «Ежели придет яга-баба, ты ничего не говори, молчи». Начальная ситуация дает описание особого, иногда подчеркнутого благополучия, что служит контрастным фоном для последующей беды.
III. Запрет нарушается. В сказке появляется новое действующие лицо, которое становится антагонистом героя (вредителем). Его роль — нарушить покой счастливого семейства.
IV. Антагонист пытается произвести разведку. Медведь: «Кто же мне про царских детей скажет, куда они девались?»
VIII. Антагонист наносит одному из членов семьи вред или ущерб. Эта функция чрезвычайно важна, так как именно она и придаёт движение сказке. Отлучка, нарушение запрета, выдача, обман подготавливают эту функцию, создают ее возможность или просто облегчают ее. Поэтому первые семь функций могут рассматриваться как подготовительная часть сказки, тогда как вредительством открывается завязка.
Далеко не все сказки начинают с вреда. Так, сказка о Емеле-дураке начинается с того, что дурак ловит щуку. Однако эти элементы, свойственные середине сказки, иногда выносятся к началу, и такой случай мы имеем здесь. Поимка и пощада животного — типичный срединный элемент.
Сказка, опуская вредительство, очень часто начинает прямо с недостачи: Ивану хочется иметь волшебную саблю или волшебного коня и пр. Как похищение, так и нехватка определяют следующий момент завязки: Иван отправляется на поиски. То же можно сказать о похищенной невесте или просто недостающей невесте.
После того как беда или недостача приходит, к герою обращаются с просьбой или приказанием, отсылают или отпускают его. Например, если похищается девушка, издается клич о помощи с последующей отсылкой героя. Герой покидает дом. И тут в сказку вступает новое лицо. От него герой получает некоторое средство (обычно волшебное), которое позволяет впоследствии ликвидировать беду.
Причём функций у персонажей сказок может быть несколько: отец, отпускающий сына и дающий дубину, есть в то же время и отправитель, и даритель. Яга, похищающая мальчика, сажающая его в печь, затем обворованная мальчиком (у нее похищен волшебный платок), совмещает функции вредителя и дарителя (невольного, враждебного).
XII. Герой испытывается или подвергается нападению, чем подготавливается получение им волшебного средства или помощника.
XVI. Герой и антагонист вступают в непосредственную борьбу. Часто они бьются на открытом поле. Сюда прежде всего относится бой со змеем или с Чудо-Юдой, а также бой с неприятельским войском, с богатырем и т. д.
Антагонист появляется в ходе действия два раза. В первый раз он появляется внезапно, а затем исчезает. Во второй раз он входит в сказку как персонаж, отысканный героем. Обычно героя к нему приводят. Это распределение можно считать сказочной нормой, но есть и свои исключения.
После того как антагонист побеждается начальная беда или недостача ликвидируется. Данная функция под номером XIX образует пару с вредительством из функции VIII. Этой функцией рассказ достигает своей вершины (заколдованный расколдовывается, убитый оживляется и т.д.).
XX. Герой возвращается.
Здесь сказка может закончиться счастливым возвращением героя. Таким образом первая половина может существовать как самостоятельная сказка. Всё это называется ходом. Сказка может состоять из двух и более ходов. Но следующими функциями даётся начало новому рассказу. Новая беда создает новый ход, и таким образом иногда соединяется в целый ряд сказок. Специфических форм повторного вредительства нет, т. е. мы опять сталкиваемся с похищением, убийством и т. д.
Эти же сказки дают типичное для вторых ходов начало, а именно сбрасывание вернувшегося с победой Ивана в пропасть его братьями и пр. Для данных сказок построение по двум ходам канонично. Это одна сказка из двух ходов, основной тип всех сказок. Она очень легко делится пополам.
Вторая половина тоже представляет собой законченную сказку. Стоит заменить братьев на других антагонистов, или просто начать с поисков невесты, как мы имеем самостоятельную сказку. Таким образом, каждый ход может существовать отдельно, но только соединение в два хода дает совершенно полную сказку.
XXI. Герой подвергается преследованию: Змей догоняет Ивана, ведьма летит за мальчиком, гуси летят за девочкой.
XXII. Герой спасается от преследования. Герой бежит, во время бегства ставит преследователю препятствия. Он бросает щетку, гребенку, полотенце, которые превращаются в горы, леса, озера. Затем повторяется все сначала, т. е. опять случайная встреча с дарителем волшебного средства, оказывается услуга и т.д.
XXV. Герою предлагается трудная задача. Это один из любимейших элементов сказки. Испытаний этих великое множество: съесть известное количество быков, возов хлеба, выпить много пива, помыться в чугунной раскаленной бане или выкупаться в кипятке.
После решения задачи героя узнают, а антагонист изобличается. Следом герой получает новый облик (как вариант строит себе новый дворец).
XXX. Враг наказывается. Он расстреливается, изгоняется, привязывается к хвосту лошади, кончает самоубийством и пр.
XXXI. Герой вступает в брак и воцаряется, на чём сказка и завершается.
В пределах этих функций развивается действие решительно всех сказок как отечественных, так и очень многих сказок самых различных народов. Сказка сохраняет в своей основе следы древнейшего язычества, древних обычаев и обрядов. Все эти процессы и создают такое многообразие, в котором чрезвычайно трудно разобраться исследователям. Есть канон интернациональный, есть формы национальные: индийские, арабские, русские, немецкие и т.д. С точки зрения исторической это означает, что волшебная сказка в своих морфологических основах является мифом.
Одна и та же композиция может лежать в основе разных сюжетов. Похищает ли змей царевну или черт крестьянскую, или поповскую дочку — это с точки зрения композиции безразлично. Подобное же строение можно обнаружить и в ряде древнейших мифов.
Пропп заключает: «Если все волшебные сказки так единообразны по своей форме, то не значит ли это, что все они происходят из одного источника? <…> Но от себя мы можем ответить хотя бы в виде предположения: да, похоже, что это так». До Проппа господствовали идеи, что первичным элементом считался либо мотив, либо сюжет в целом. Из этого исходил, например, Веселовский в начале XX века. И также считали на Западе до конца 1930-х годов.
«Народная идея всегда выражает идеалы эпохи, в которую эти идеи создавались и были действенны»
В 1937 году его приняли на работу в ЛИФЛИ (впоследствии филологический факультет ЛГУ), и с этого времени до 1969 г. он преподавал в университете — сначала на кафедре романо-германской филологии, затем на кафедре фольклора, а позднее на кафедры русской литературы. В 1938 году он получил звание профессора, в 1939 году защитил докторскую диссертацию.
И в своей следующей работе «Исторические корни волшебной сказки», вышедшей в 1946 году (хотя написана она была ещё в 1939 году), он дал ответ на вопрос, поставленный 10 лет назад и более подробно сформулировал многое из того, за что стал известен «Тысячеликий герой».
Здесь Пропп более подробно разбирает мотивы и функции в сказках, рассматривая источники сказочных мотивов: «многие из сказочных мотивов восходят к различным социальным институтам, среди них особое место занимает обряд посвящения, который совершался при наступлении половой зрелости и юноша становился полноправным членом общества. Предполагалось, что мальчик во время обряда умирал и затем вновь воскресал уже новым человеком».
Именно поэтому большую роль играют представления о загробном мире, о путешествиях в иной мир и обратно (мальчика символически сжигали, варили, жарили, рубили на куски и вновь воскрешали), а Баба Яга в сказках выступает здесь проводником в царство мёртвых. Она похищает детей и пытается их изжарить, после чего следует бегство и спасение. Тот же Леший есть не что иное, как переименованная Яга. Это даёт максимальное число мотивов. Не менее тщательно в книге рассматриваются все основные элементы сказок вроде избушки на курьих ножках, роль леса, змееборства и многое другое.
Пропп приходит к выводу: «композиционное единство сказки кроется не в каких-нибудь особенностях человеческой психики, не в особенности художественного творчества, оно кроется в исторической реальности прошлого». И сюжетный стержень, однажды возникнув, впитывает в себя из новой, более поздней действительности, новые и новые элементы.
То есть развитие мифов и сказок идет путем наслоений, замен и переосмыслений, а с другой стороны — путем новообразований. Рассказы носившие в момент появления священный и сакральный характер трансформируются в художественные, но отделить, где кончается священный рассказ и начинается сказка, — невозможно.
В своей статье 1960 года, отвечая крупному французскому исследователю Клоду Леви-Строссу на обвинение в формализме, которое он категорически отвергал, Пропп пишет: «“Морфология» и “Исторические корни» представляют собой как бы две части или два тома одного большого труда. Второй прямо вытекает из первого, первый есть предпосылка второго <…>. Я, по возможности строго методически и последовательно, перехожу от научного описания явлений и фактов к объяснению их исторических причин».
Но если Пропп строил своё исследование на основе марксистской методологии, то Кэмбелл опирался на идеи Фрейда и Юнга, выводя мифы не из особенностей общественного развития народов, а из особенностей человеческой психологии. Через всю книги идёт известный подход Фрейда с разбором сновидений, которые часто напоминают по структуре мифы.
Хоть работы Проппа и лишены обилия метафор и многословных отступлений Кэмпбелла, но написаны также красивым литературным русским языком. Уже у Проппа описаны его обязательные стадии и этапы, которые названы функциями. Можете сами сопоставить их со «стадиями» Кэмбелла.
Эти книги по-своему дополняют друг друга. У Кэмбелла масса красочно описанных этнографических наблюдений, а Пропп не задерживаясь на них переходит к объяснению самого феномена мифов. В этом плане Кэмпбелл зацикливается на особенностях индивидуальной психологии, а не на объективных условиях существования общества.
По своему содержанию, работа Кэмпбелла скорее является развёрнутой версией «Морфологии», но на ином материале. Тогда как «Исторически корни» сосредотачиваются на изучении условий, в которых мифы зарождались, транслировались будущим поколениям, как изменялись и что в них сохранилось от первобытного и родоплеменного общества.
«Я, несомненно, сильнее этого знаменитого француза Леви-Стросса, который пишет обо мне с таким пренебрежением»
На английском первую книгу Проппа издали только в 1958 году после мирового успеха структурной филологии и антропологии. Перевод «Морфологии…» имел огромный резонанс. Работа В.Я. Проппа, уже тогда тридцатилетней давности, воспринималась как свежее слово и сразу стала использоваться в качестве образца для структурного анализа фольклора.
Леви-Стросс писал: «Те, кто приступил к структурному анализу устной литературы примерно в 1950 году не без изумления обнаружат в его работе многие формулировки и даже целые фразы, которых они вовсе у него не заимствовали».
По словам Д. Кола Мишель Фуко «даже как-то позволил себе заявить, что все его исследовательское предприятие родилось из культуры русского формализма, связанной с именами Николая Трубецкого и Владимира Проппа». При этом для западных исследователей, в частности Ролана Барта, не существовало принципиальной разницы между мифом и сказкой.
Действительно, миф и сказка отличаются не по форме, а по своей социальной функции. Миф – это рассказ о божествах или божественных существах, в действительность которых народ верит. Если Геракл был божеством, которому воздавался культ, то Иван, отправляющийся, подобно Гераклу, за золотыми яблоками, — герой художественного произведения.
Но в этнографии и фольклористике такие мифы часто называются сказками. «Мифы народов, не дошедших в своем развитии до государственности, — это одно явление, мифы древних культурных государств, известных нам через литературу этих народов, — явление уже иное», — пишет Пропп. Кэмпбелл, в свою очередь, отмечал: «Обычно сказочный герой добивается локальной победы в пределах своего микрокосма, а герой мифа – победы всемирно-исторического, макрокосмического масштаба».
В 1955 году вышел другой его фундаментальный труд «Русский героический эпос». В монографии о русском эпосе В. Я. Пропп прежде всего определил жанр былин, отделив их от духовных стихов, баллад, сказок и исторических песен. Целью своей работы автор считал историческое изучение эпоса, которое должно состоять в раскрытии связи «развития эпоса с ходом развития русской истории и в установлении характера этой связи».
В последние годы жизни Пропп увлекся древнерусским искусством: русской иконописью, архитектурой православных храмов. Он собрал тысячи изображений (фотографий, репродукций) икон, соборов, церквей, часовен. Он даже собирался написать работу о систематизации форм православных храмов.
В 1966 году ЛГУ выдвинул Владимира Яковлевича Проппа в члены-корреспонденты АН СССР. В письме В. С. Шабунину он пишет: «На большом Ученом совете я получил 58 голосов, против голосовало 4. Но в Москве я не пройду, т. к. хорошо известно, что я критикан и человек беспокойный и Нежелательный».
Заключение
Отношение к исследованиям Проппа было двойственным: на Западе его критиковали за то что он просто заимствовал некоторые приёмы структурного анализа и последовательным структуралистом не был, тогда как в СССР ему указывали на излишний формализм и увлечённость структурой сказки.
Не нужно, конечно, думать, что Пропп это последнее слово в области фольклора и этнографии, но это классические работы, которые за последние десятилетия не потеряли актуальности. Исследования Проппа не были исчерпывающими; они сделали только первые шаги в этом направлении, но именно в них была разработана методология многих дальнейших исследований.
композиции
для так называемой волшебной сказки
есть признак устойчивый, исторически
закономерный и существенный4.
Выделение это как будто формальное.
Однако при пристальном изучении окажется,
что единство структуры соответствует
единству всей поэтики волшебной сказки
и единству выраженного в ней мира идей,
эмоций, образов героев и языковых
средств.
Но
раз мы вступили на путь определения
видов сказки по структурным признакам,
мы должны посмотреть, нет ли других
видов сказки, которые также могут быть
выделены по, структурным признакам, не
совпадающим с структурой сказок
волшебных.
Такие
сказки есть. Это — сказки кумулятивные.
Простейшим
примером кумулятивных сказок могут
послужить такие общеизвестные сказки,
как «Репка», «Колобок», «Терем мухи»,
«Петушок подавился» и др. Они построены
на многократном повторении одного и
того же звена, так что постепенно
создается в одних случаях — нагромождение
(«Терем мухи»), в других — цепь («Репка»),
в третьих — последовательный ряд
встреч («Колобок») или отсылок
(«Петушок подавился») и т. д. Художественный
принцип их определить нетрудно, число
их в русском сказочном репертуаре
сравнительно невелико. Они обладают
особой композицией и особым стилем,
богатым и красочным языком, тяготеют
к ритму и рифме. Эти сказки составляют
особый вид или разряд и могут быть
изучены очень подробно.
Для
других видов сказок, кроме волшебных и
кумулятивных, композиция не изучена,
и определять и делить их по этому признаку
пока нельзя. Вероятно, единством
композиции они и не обладают. Если
это так, то в основу дальнейшей
систематизации приходится избрать
какой-либо другой принцип. Таким
принципом, имеющим научно-познавательное
значение, может быть определение по
характеру действующих лиц.
Уже
давно, выделены в особый разряд сказки
о животных. Такое выделение впервые
сделал Афанасьев. В систематизации
материала он шел ощупью, интуитивно и
не привел для своей классификации
никаких аргументов. Правильна она или
нет?
4 Композиция волшебной сказки изучена достаточно подробно, и излагать этот вопрос заново здесь нет необходимости.
На
первый взгляд, разделение сказок на
«волшебные» и «кумулятивные», с одной
стороны, и «сказки о животных», с другой,
выглядит логически нестройно, так как
оно произведено по не исключающим
друг друга признакам. Но это не так. При
выделении волшебных и кумулятивных
сказок по признаку единства их композиции
подразумевается, что остальные категории
этим единством не обладают. Поэтому
такие кумулятивные сказки, где действующими
лицами будут животные (например,
«Терем мухи»), по признаку своей композиции
относятся к кумулятивным, а не к сказкам
о животных. В курсах, пособиях, указателях
и трудах по этому вопросу царит некоторая
путаница, хотя разобраться в этом
довольно просто. Сказки о животных
представляют исторически сложившуюся
цельную группу, и выделение их со всех
точек зрения оправдано. Подразделение
их можно произвести по типам животных
(о диких животных, о домашних животных,
о птицах, рыбах, пресмыкающихся и т. д.).
Такое деление позволит легко разобраться
в сюжетном репертуаре этих сказок.
К
сказкам о животных естественно примыкают
сказки о растениях (например о войне
грибов) и о неживой природе (о ветрах,
реках, о морозе, солнце и ветре и т. д.),
о предметах (пузырь, соломинка,
лапоть). Таких сказок очень мало, хотя
они и составляют особую группу.
Следуя
логике, нужно поставить вопрос, можно
ли установить группу сказок о людях.
Такой вид сказок действительно
устанавливается. Здесь имеются в виду
не фантастические персонажи волшебной
сказки, как царевич, баба-яга, Кашей и
другие, а сказки о реальных людях —
мужиках, бабах, батраках, солдатах и
т. д. Названия сказок «о людях» нет ни в
трудах, ни в указателях, хотя оно
достаточно точно обозначает характер
этих сказок. Их принято называть сказками
реалистическими, бытовыми или
новеллистическими. Все эти названия
возможны условно, хотя соответствующие
произведения не представляют собой
реалистических новелл. Дальнейшее
подразделение их может вестись по типам
персонажей с точки зрения их действий.
Так, легко выделяются сказки о ловких
или умных отгадчиках, о мудрых советчиках,
о ловких ворах, о разбойниках, о злых
или вообще плохих женах, о хозяевах и
работниках, о попах, глупцах и т. д. Такой
принцип возможен. Впрочем, возможно,
что удастся распределить эти сказки и
по типам сюжетов: о трудных задачах, о
судьбе, о разлуке и встрече, об обманутых
и одураченных и т. д. В конечном итоге
эти два принципа должны в основном
совпасть. Так, сюжеты сказок о ловких
или мудрых отгадчиках основаны на
сюжетах о трудных задачах; сказки о
плохих женах есть сказки о супружеской
неверности; сказки о работнике и хозяине
основаны на рассказах об одурачиванье
и т. д.
Говоря
о сказках бытовых или реалистических,
необходимо коснуться вопроса об
анекдотах. Афанасьев поместил их в конце
своего собрания. Следуя ему, и Аарне
заключает свой указатель сказок
анекдотами. Представляют ли анекдоты
действительный вид сказочного творчества
или нет? Анекдот есть категория чисто
формальная. Он не составляет, на наш
взгляд, особого вида народного творчества,
отличного от новеллистических сказок
о людях. На каком основании, например,
Аарне отнес сказку о Николе Дупленском
к анекдотам (Андр., с. 84)? При более
пристальном изучении бытовых сказок
о людях можно убедиться, что в фольклоре
границы между бытовыми сказками о
людях и анекдотами не устанавливаются.
Возможно, что они могут быть выделены
как особая разновидность таких сказок.
Зато
несомненно особый вид сказочного
творчества составляют небылицы, т.
е. рассказы о совершенно невозможных в
жизни событиях вроде того, что человек
проваливается по плечи в болото, утка
вьет гнездо на его голове и откладывает
яйца, волк приходит лакомиться яйцами
и т. д. На таких небылицах основаны
всемирно известные рассказы о похождениях
Мюнхгаузена, в значительной части
восходящие к фольклору.
Наконец,
надо упомянуть еще о докучных сказках.
Это, собственно, не сказки, а прибаутки
или потешки, которыми стараются отвадить
детей, когда они слишком настоятельно
требуют рассказывания сказок. Таких
прибауток имеется несколько типов. Они
как бы дополняют сказочные жанры.
Вот
и все основные виды сказок.
Теперь
мы можем вернуться к вопросу о жанрах.
С точки зрения того определения жанра,
которое давалось выше, сказка — не жанр,
ибо поэтика, например, сказок о жар-птице,
о лисе и волке или об упрямой жене ничего
общего между собой не имеет. С точки
зрения научной терминологии жанрами
являются выделенные здесь сказки
волшебные, кумулятивные, о животных, о
предметах и стихиях, бытовые сказки о
людях, небылицы и докучные сказки. Каждый
из этих жанров может быть изучен детально
и распределен по рубрикам.
В
дополнение к тому, что выше говорилось
о понятии жанра, следует теперь добавить,
что жанр — это одно из звеньев
классификации. Лирическая, драматическая,
эпическая поэзия — это роды народного
творчества. Роды можно делить на области.
Так эпика делится на область эпической
прозы и эпической стихотворной поэзии.
Области делятся на виды. Сказка относится
к области народной прозы, это один из
видов ее. Этот вид распадается на сказки
волшебные, кумулятивные, о животных,
о людях и т. д. Это — жанры. В качестве
дальнейшего, более узкого термина можно
предложить слово «тип»; типы распадаются
на сюжеты, сюжеты — на версии и варианты.
Так, например, сказка «Морозко» относится
к роду эпической поэзии, области народной
прозы, виду сказок, жанру волшебных
сказок, типу сказок о гонимой падчерице.
Так можно создать точную терминологию.
Другой
вид народной прозы — это такие рассказы,
в действительность которых верят.
Разница между этими двумя видами народной
прозы не формальная, ею определяется
иное отношение к действительности как
объекту художественного творчества;
эстетические нормы этих двух видов
прозы глубоко различны.
Из
области несказочной народной прозы со
стороны своего содержания выделяются
рассказы этнологического характера,
т. е. рассказы о происхождении вселенной,
земли и всего, что есть на земле. Сюда
относятся мифы о сотворении мира, людей,
животных, растений. На русской почве их
мало, но они есть.
Имеются
рассказы об особенностях зверей: почему
рыбы живут в воде, почему у дятла крепкий
клюв, почему вороны черные и т. д. Эти
рассказы представляют собой наивные
попытки осмыслить и объяснить мир.
Языческие
представления о мифических существах
и людях, наделенных сверхъестественными
способностями, отразились в другом
жанре, который народ называет словом
«были», «былички», «бывальщины». Это
рассказы, отражающие народную
демонологию. В большинстве случаев это
рассказы страшные: о леших, русалках,
домовых, мертвецах, привидениях, заклятых
кладах и т. д. Уже название их говорит о
том, что в них верят. Сюда относятся
также рассказы о чертях, об оборотнях,
ведьмах, колдунах, знахарях и т. д.
Представления
связанные с государственной религией
дореволюционной России, т. е. с
православием, составляют предмет другого
жанра, а именно легенды. Действующими
лицами народной легенды являются
различные персонажи Ветхого и Нового
завета, как Адам и Ева, Ной, Соломон,
пророки, Христос и его апостолы, как,
например, Юда, а также святые, как Никола,
Егорий, Касьян и др. К этому жанру
относятся также рассказы о великих
грешниках, которые раскаялись и стали
подвижниками, о пустынниках, о всякого
рода подвигах благочестия. Афанасьев
отличал такие сюжеты от сказок и издал
их особым сборником под названием
«Русские народные легенды». Аарне и
вслед за ним Андреев, а также Ю. М. Соколов
в своей книге «Русский фольклор»
причисляют их к сказкам, но считают их
сказками особого вида — «легендарными
сказками». Действительно, в отдельных
случаях между сказками и легендами
трудно установить границу, но исследование
каждого такого неясного сюжета в конечном
итоге может показать, куда он относится.
Таким
образом, отличие легенды от сказки не
всегда очевидно с первого взгляда,
но это не противоречит утверждению,
что сказка и легенда — жанры различные.
Легендами
у нас иногда называют устные фольклорные
рассказы об исторических деятелях и
лицах. Так, например, можно встретить
выражение «легенда о Степане Разине».
Такое выражение неудачно. Слово «легенда»
имеет церков-но-латинское происхождение.
Этимологически оно означает «то, что
подлежит чтению»; в монастырском обиходе
оно обозначало те тексты благочестивого
содержания, которые читались во время
монастырских трапез или богослужений.
Для рассказов об исторических личностях
это слово не подходит. Такие рассказы
лучше называть преданиями или историческими
преданиями. Сюда относятся фольклорные
устные рассказы о Разине, Пугачеве, о
Петре, о декабристах и т. д. Здесь нужно
прибавить, что наличие исторического
имени еще не определяет жанра предания.
Исторические имена могут попасть в
сказку. Так, есть сказка о Грозном и его
встрече с ворами и др.
Наконец,
может быть поставлен вопрос о принадлежности
к фольклору обычных рассказов из жизни,
воспоминаний, рассказов о необычайных
встречах или необычайных событиях.
О пережитом рассказывают революционеры,
участники войн, участники строек.
Большинство людей рассказывает о
виденном и слышанном в жизни. Существенное
отличие подобных рассказов состоит
в том, что это — рассказы очевидцев,
т. е. рассказы о том, что действительно
было. Может быть, такие рассказы не
всегда точны; переходя из уст в уста,
они обрастают интересными вымышленными
деталями, но сущность их все же состоит
в передаче действительных фактов. В
этом — специфичность этого жанра. В
фольклористике такие рассказы получили
название сказов. Строго говоря, сказы
не обладают некоторыми признаками
фольклора: они не создают общенародных,
широко распространенных вариантов.
Они рассказываются очевидцами, иногда
пересказываются слушателями с
отступлением деталей, но широкого
народного хождения не получают.
Дореволюционные фольклористы почти
полностью игнорировали подобные
рассказы. Но пренебрегать сказами никак
нельзя. Не говоря уже о том, что многие
из них обладают ценностью фактического
материала (устные мемуары), многие из
них обладают признаком художественности.
В настоящее время записано некоторое,
впрочем не очень значительное, количество
таких сказов (рассказы рабочих о приезде
в Петроград Ленина, рассказы о Чапаеве
и т. д.). Принадлежат ли такие рассказы
к фольклору в собственном смысле слова
или нет, фольклорист обязан их изучать.
Приведенный
перечень прозаических повествовательных
жанров (этиологические рассказы, были,
легенды, исторические предания,
сказы) не исчерпывает всего богатства
жанров народной прозы, но он все же
дает возможность ориентироваться и
предохранить себя от множества сделанных
в этой области ошибок и может служить
точкой отправления для дальнейшего
изучения.
Другая
большая область повествовательного
творчества народа — область
стихотворной эпической поэзии.
Разница
между поэзией прозаической и стихотворной
отнюдь не только внешняя. Правда,
можно прозаическое произведение
переложить на стихи. Такие случаи в
фольклоре бывают. Есть былины, которые
представляют собой сказки, исполненные
в форме былин. Есть и обратные случаи:
былина излагается прозой. Но такие
случаи всегда представляют собой
нарушение исконных художественных
форм, что приводит, к искажению их. Так,
сказки об Илье Муромце никогда не
достигают ни идейной глубины, ни
монументальности былины. Былины на
сказочные сюжеты («Нерассказанный
сон») никогда не достигают занимательности,
выразительности, языкового совершенства
сказки.
Одна
из особенностей стихотворных произведений
фольклора состоит в том, что эти
произведения, к какому бы жанру они
ни принадлежали, всегда поются.
Этот
признак весьма важен для понимания
художественного творчества народа.
Музыкальное исполнение » также нельзя
отбросить ни при исполнении, ни при
изучении, как и стихотворную форму.
Сюжет, стихи, напев составляют одно
художественное целое. Когда собиратели
былин, желая заполнить пропущенные
строки или вообще проверить себя, или
уяснить себе некоторые детали
повествования, просили исполнителей
рассказать то, что они пропели, они могли
только петь. Это не недостаток, не
ограниченность, а как раз наоборот: это
органичное понимание, понимание всем
своим существом, своим нутром (а не
логическим мышлением) неразрывности
музыкальной, стихотворной и сюжетной
основ произведений. Напевность выражает
лирическое отношение к изображаемому.
Она есть существенная часть поэтики.
Хотя каждая былина в отдельности не
обладает своим напевом (одним напевом
могут исполняться разные былины и
наоборот), стиль былинного музыкального
исполнения в известных границах
целостен и неприменим к другим видам
эпического творчества.
К
сожалению, литературовед вынужден
ограничиться изучением поэтического
фольклора как произведения словесного
искусства, так как изучение напевов
требует специального музыковедческого
исследования. Но в советском музыковедении
последних лет для изучения народной
музыки сделано много, и фольклорист-словесник
во многих случаях может использовать
выводы музыковедов.
Один
из видов песенной эпической поэзии —
былина. Эмпирически все очень хорошо
знают, что такое былина; дать же научное
определение значительно труднее. Мы не
будем пока давать такого определения,
а постараемся прежде всего рассмотреть
материал. Содержание былин очень
разнообразно и пестро; былина так же
не представляет собой жанра, как и
сказка. В самом деле: что общего между
былинами об изгнании татар («Илья и
Калин»), былиной о Садко и веселым
фарсом о госте Терентии? Былина — не
жанр, но в состав ее входят несколько
различных жанров. Установление этих
жанров труднее, чем в области сказки.
Между тем как есть множество сказочных
сюжетов, среди которых много общего и
которые легко объединяются в жанры,
былины отличаются большим разнообразием
совершенно непохожих одно на другое
повествований. Исследователь поставлен
перед дилеммой: либо дробить былину
на множество мелких групп, либо объединять
ее в более широкие категории с опасностью,
что в одну группу попадут очень различные
произведения.
Мы
попытаемся рассмотреть былины по
сюжетным группам, объединенным своим
стилем и характером повествования.
Одна из таких больших групп — это былины
героические. Сюда можно причислить
несколько разных видов или типов былин.
Это «классические» былины, содержанием
которых служат подвиги национальных
русских героев. До совершения подвигов
герой иногда чудесным образом приобретает
силу. В очень ранней и древней былине
Илья приобретает богатырскую силу
от Святогора, в более поздней — от трех
старцев. Эти былины составляют как бы
пролог к воспеванию подвигов героев.
К героическим прежде всего относятся
былины воинские, т. е. такие, в которых
в разных формах повествуется о сражениях
с полчищами татар или других врагов.
Здесь вспоминаются такие былины, как
«Илья и Калин», «Камское побоище»,
«Василий Игнатьевич и Ба-тыга», «Данило
Игнатьевич», «Суровец», «Братья
Дородови-чи», «Добрыня и сила неверная»,
«Добрыня и Василий Ка-зимирович», «Наезд
литовцев» и некоторые другие. Былины
эти создаются в разное время, можно
наметить историю этого вида былин,
эволюцию их стиля и содержания. К поздним
былинам этого типа относится былина о
Сухмане, в которой нашествие татар не
составляет завязки, а изгнание их как
бы происходит неожиданно.
Особую
сюжетную группу героических былин
составляют такие, в которых происходит
какое-либо единоборство. Чаще всего это
— борьба с единичными татарами или
другими Врагами («Алеша в бою с татарином»,
«Алеша и Добрыня в бою с татарином»,
«Илья Муромец и турецкий хан» и неко-•
торые другие). Есть единичные былины, в
которых герои не узнают друг друга,
принимают встречного за врага и вступают
с ним в бой, а потом друг друга узнают
(Илья и Добрыня встречаются в поле, не
узнают друг друга и бьются); сюда же
относится трагическая былина о встрече
Ильи с сыном и бое их между собой.
В
другой группе героических былин
центральное место занимает борьба с
каким-либо чудовищем. Эти былины древнее,
чем былины о столкновении военного
характера, и можно показать, что одни
развились из других. Это былины о Добрыне
и Змее, Алеше и Тугарине, Илье и
Соловье-разбойнике, Илье и Идолище, Дюке
и Шарке-великане.
К
героическим же былинам относятся те, в
которых герой подымает бунт социального
характера. Это былины о бунте Ильи против
Владимира, об Илье и голях кабацких, о
Буяне-богатыре, о Василии Буслаевиче и
новгородцах и о смерти Василия Буслаевича.
Один
из признаков героических былин состоит
в том, что герой в них действует в
интересах государства. С этой точки
зрения к героическим былинам несомненно
относится былина о Дунае и его поездке
за женой для Владимира.
Что
правильнее: считать, что каждая из этих
групп составляет особый жанр, или же
полагать, что, несмотря на различие
сюжетов, героические былины составляют
один из жанров былинного творчества?
Последнее положение более правильно,
ибо жанр определяется не столько
сюжетами, сколько единством поэтики
— стиля и идейной направленности, а это
единство здесь налицо.
Другую
большую группу составляют былины
сказочного характера. Антагонистом
героя в этих случаях является женщина.
В отличие от сказок, в которых женщина
чаще всего—беспомощное существо,
которое он спасает, например, от змея
и на которой он женится, или мудрая жена
или помощница героя, женщины былин чаще
всего существа коварные и демонические;
они воплощают некое зло, и герой их
уничтожает. К таким былинам относятся
«Потык», «Лука Данилович», «Иван
Годинович», «Добрыня и Маринка»,
«Глеб Володьевич», «Соломон и Василий
Окулович» и некоторые другие. Это именно
былины, а не сказки. Сказочный характер
им придает наличие колдовских чар,
оборот-ничество, различные чудеса; эти
сюжеты специфичны для былин и не
соответствуют поэтике сюжетов сказки.
Наряду с этим в былинном эпосе обращаются
и сказки, распеваемые былинным стихом.
Такие произведения не относятся к
былинному творчеству. Их сюжеты
фигурируют в указателях сказок
(«Нерассказанный сон», «Ставр Годинович»,
«Ванька
38
Удовкин
сын», «Подсолнечное царство» и Др.).
Такие сказки должны изучаться как при
исследовании сказочного, так и при
исследовании былинного творчества, но
относить их к жанру былин только на
основании использования былинного
стиха нельзя. Такие былины обычно не
имеют вариантов. Особый случай представляет
собой былина о Садко, в которой нет
антагониста героя типа коварных женщин
других былин. Тем не менее принадлежность
ее к сказочным былинам совершенно
очевидна.
Можно
ли считать, что былины сказочного
характера составляют один жанр с
былинами героическими? Нам кажется,
что нельзя. Хотя вопрос еще должен
изучаться специально, все же довольно
очевидно, что, например, былина о Добрыне
и Маринке есть явление совершенно иного
характера, чем былина о набеге
литовцев, и что они принадлежат к разным
жанрам, несмотря на общность былинного
стиха.
Третий
вид былинного репертуара — это былины
новеллистические. Случай этот наиболее
труден и наиболее спорен, С одной стороны,
стиль новеллы и стиль монументальной,
героической или сказочной былины
несовместимы. С другой же стороны, в
составе былин есть некоторое количество
реалистически окрашенных повествований,
сюжеты которых имеют существенно иной
характер, чем рассмотренные выше.
УСЛОВНО такие былины можно назвать
новеллистическими. Число их невелико,
но они отличаются большим разнообразием.
В некоторых из них рассказывается о
сватовстве, которое, после преодоления
некоторых препятствий, оканчивается
благополучно («Соловей Будимирович»,
«Хотен Слу-дович», «Алеша и сестра
Петровичей»). Промежуточное положение
между былинами сказочными и новеллистическими
занимает былина об отъезде Добрыни и
неудачной женитьбе Алеши. Былина об
Алеше и сестре Петровичей занимает
промежуточное положение между жанром
былины и жанром баллады. То же можно
сказать о «Козарине». Балладный характер
носит также былина о Даниле Ловчанине,
о чем мы скажем ниже, при изучении баллад.
Другие сюжеты, которые обычно относятся
к былинам, мы бы отнесли к балладам
(«Чурило и неверная жена Бермяты»).
Сюжеты
новеллистических былин можно распределить
по группам, но здесь мы этого делать не
будем. Женщина в этих былинах играет
большую роль, но есть новеллистические
былины и иного характера, как, например,
былина о состязании Дюка с Чурилой или
о посещении Владимиром отца Чурилы.
Мы
отнюдь не исчерпали всего былинного
богатства, нам важно установить принципы
определения жанрового состава былин.
Есть случаи, которые нельзя определить
на глаз, случаи промежуточные, смежные.
Так, былина о сорока каликах со каликою
скорее относится к духовным стихам, чем
к былинам, былина о Рахте Рагнозерском
тяготеет к преданиям и т. д. В целом
же пока можно в области былинного
творчества наметить три жанра: былины
героические, былины сказочные, былины
новеллистические. Это положение в
дальнейшем может быть уточнено,
видоизменено, здесь оно дастся как
исходное и начальное.
Более
легко определяется совершенно другой
жанр области эпической песенной поэзии
— а именно эпические духовные стихи.
Народ очень хорошо отличает их от былин
и называет их «стихами». Сюда относятся
песни о святых и их деяниях, как, например,
стихи о Егории Храбром, о Федоре Тироне,
Дмитрии Солунском, Алексее Божьем
человеке и др. В этих стихах народ выразил
некоторые свои религиозные представления.
Может быть, по этой причине советская
наука мало интересовалась этими
произведениями. Между тем мировоззрение,
выраженное в них, не всегда совпадает
с церковно-религиозным мировоззрением,
а иногда и противоположно ему. Духовные
стихи обладают и известным историческим
содержанием, на что обратили внимание
некоторые исследователи, изучавшие
историко-песенный фольклор. Они
отличаются значительными художественными
красотами. В то время как памятники
архитектуры и религиозной живописи
древней Руси давно признаны как памятники
великого искусства, хранятся в музеях,
изучаются, реставрируются и издаются
в репродукциях, соответствующие им
произведения словесного искусства до
сих пор оставались вне поля зрения наших
ученых. Мы не можем пока заполнить этот
пробел, но указываем на них как на особый
жанр песенного эпического искусства
народа в прошлом.
Полную
противоположность духовным стихам
представляют собой скоморошины. Это
песни о веселых происшествиях или о
происшествиях, хотя самих по себе не
веселых, но трактуемых юмористически.
Систематика скоморошин не входит в наши
задачи. Типы их весьма разнообразны. К
ско-морошинам относятся такие разнообразные
сюжеты, как
песни
о неверной жене, которая прикинулась
больной и отослала мужа в город, но
была изобличена и наказана при помощи
скоморохов («Гость Терентий»), песня о
том, как ватага веселых разбойников
ограбила кулака («УСЫ»), о том, как
зарезали и делили необыкновенно большого
быка и что из этого вышло («Старина о
большом быке») и различные другие песни
не всегда скромного содержания. Есть
особый тип скоморошин-небылиц,
скоморошин-пародий. Некоторые скоморошины
пропитаны острой социальной сатирой
«Птица»). Скоморошины не всегда носят
строго выдержанный повествовательный
характер. Иногда их предметом служит
смешная ситуация, не получающая развития.
Как и другие жанры, скоморошины могут
быть подвергнуты дальнейшей систематизации.
Их общность есть прежде всего общность
стиля. Скоморошины как жанр у нас почти
совсем не изучены. Исследованы только
отдельные песни и отдельные сюжеты,
изучалось и скоморошество как явление
древнерусского быта.
Русская
эпическая поэзия знает также жанр
баллады. Русская баллада значительно
отличается от западноевропейской
народной баллады, хотя и имеет с ней
точки соприкосновения. Настоящая
сфера русской народной баллады — это
мир человеческих страстей, трактуемых
трагически. Баллады любовного и
семейного содержания составляют один
из основных видов балладного
творчества.
Былина
имеет своим предметом жизнь народа и
государства-родины. Баллада же рисует
индивидуальную, частную и семейную
жизнь человека. Перед нами возникает
картина семейного быта русского
средневековья, и этот быт полон ужасов.
Главная героиня этого вида баллад —
страдалица-женщина.
Действующие
лица баллады принадлежат к средним и
высшим сословиям, изображаемым глазами
крестьян. Баллада тяготеет к изображению
страшных событий. Любовь и ревность или
внутрисемейная ненависть приводят к
трагическим конфликтам, которые
разрешаются кровавыми преступлениями.
Убийство невинной женщины — один из
основных сюжетов таких баллад, убийца
— член своей же семьи:
муж,
или свекровь, или брат. Князь Роман
убивает свою жену, обещает детям
привести молодую мать. Дети изобличают
отца («Князь Роман»). Так же может
поступить казак или ямщик. Дети призывают
тучу и гром разбить гроб и воскресить
мать («Казак жену убил», «Федор и Марфа»
и др.). Чаще муж убивает жену по наущению
своей матери. Свекровь люто ненавидит
свою невестку. Муж, например, три года
находится на службе. Когда он
возвращается, мать клевещет, будто она
извела детей, разорила хозяйство, ушла
со двора. Муж рубит своей жене голову,
а потом оказывается, что она невинна
(«Оклеветанная жена» и др.). Иногда
клевещут встречные старицы. Видя, что
он наделал, муж иногда кончает
самоубийством. Иногда свекровь сама
изводит невестку. Во время отсутствия
сына она в бане выжигает из утробы
невестки младенца. Иногда она отравляет
обоих: и сына, и его жену или невесту,
или возлюбленную («Василий и Софья»).
Из могилы любящих вырастают кипарисы,
и деревья сплетаются верхушками. Убийцей
может выступить и брат, если он обнаружил,
что сестра тайно любит кого-то. В балладе
встречаются два поколения: младшее и
старшее. Старшие не выносят никаких
форм живой, естественной человеческой
любви и фанатично преследуют все
проявления такой любви. Жертва этой
ненависти — любящая женщина, любящая
девушка. Девушка может также пасть
жертвой не только старших, но и жестокого
обманщика, или соблазнителя, или
ревнивца,
или даже жениха.
Впрочем,
есть и такие песни, в которых жертвой
делается не девушка и не женщина, а
мужчина — жених или муж. Женщина изменница
изводит .мужа ради другого. Она предает
его изысканно жестокому убийству:
сжигает или вешает его в лесу. Чтобы
извести неверного друга, она роет коренья
или готовит ему змеиный яд. Нет
необходимости перечислять все
относящиеся к этому циклу сюжеты. Баллады
семейного или любовного содержания
составляют как бы цикл.
Другой
цикл сюжетов баллады основан на длительной
отлучке одного из членов семьи: мужа,
сына, брата; при неожиданной, случайной
встрече разлученные не узнают друг
друга, отчего происходят трагические
события. Классический пример такого
типа баллад — «Братья-разбойники и
сестра». У вдовы девять сыновей. Они
уходят в разбой. У нее еще дочь; эта дочь
выдана замуж в далекие края. Дочь едет
навестить родителей, по дороге на
нее нападают разбойники, бесчестят
ее, убивают ее мужа. Это — ее братья.
После преступления младший из
разбойников выспрашивает ее, истина
выясняется. Эта песня очень распространена,
она была записана Пушкиным. Иное развитие
действие получает в тех случаях, когда
отсутствовавшие через много лет
возвращаются домой. Их узнают не
сразу; после того, как происходит
узнавание, наступает счастливая развязка:
вернулся муж, или сын, или оба вместе.
Хотя
баллада всегда рисует нам внутреннюю,
семейную жизнь людей, она отразила и
некоторые внешнеисторические события
жизни государства. Такие баллады можно
назвать балладами историческими.
Они также составляют особый вид или
цикл русских баллад. Так, в балладе могут
фигурировать татары. Но если в былине
татары представлены всегда войском,
которое совершает нападение на Русь,
то в балладе они в одиночку похищают
женщин, берут их в плен и везут к себе.
Балладный стиль сохраняется и в этих
полуисторических сюжетах. В обстановке
татарского плена могут происходить
неожиданные встречи. Так, татарин
похищает русскую женщину, берет ее в
жены и приживает с ней детей. Через
несколько лет он приводит в плен старую
женщину, она оказывается ее матерью.
Для старухи смешанный брак ее дочери —
трагедия, но сама жена трагедии не
испытывает. Примирительное отношение
к татарам возможно только в балладе. В
былине оно исключается. В балладе
возможны даже такие случаи, когда
русский муж оказывается извергом, а муж
татарин любит и холит свою жену.
Приведенные
примеры дают некоторое представление
о сюжетном составе русских баллад.
Характерный для них признак — наличие
некоторой интриги или фабулы любовного
или семейного содержания. Там, где этого
признака нет, вряд ли можно говорить о
балладе. Так, мы не можем причислить
к балладам, как это делают некоторые
ученые, песню о том, как три сына
бросают жребий, кому идти в солдаты,
и жребий выпадает на младшего. Это не
баллада, а солдатская песня. Не
относится к балладам и песня о разбойнике,
посаженном в тюрьму, причем никто не
хочет его выкупить; к балладам иногда
относят былину о Добрыне (или другом
герое) и реке Смородине, духовный стих
об Анике-воине, историческую песню о
смерти Разина и т. д.5
Если, таким образом, отсутствие любовной
интриги или любовного колорита эпической
песни означает для нас, что перед нами
не баллада, то, с другой стороны, наличие
любовного или се-
^
См., например: Народные баллады.
Вступительная статья, подготовка текста
и примечания Д. М. Балашова. БП. М.—Л.,
1963.
мейного
содержания в песнях героического
характера придает им балладный
характер. В былинах семейно-любовный
элемент, как правило, отсутствует: герои,
правда, иногда женятся на побежденных
ими поленицах, но ни об индивидуальной
любви, ни о дальнейшей семейной жизни
ничего не говорится. Но есть отдельные
былины и иного характера. В былине
«Данило Ловчанин» Владимир загорается
нечистой страстью к жене Данилы. Он
отсылает его на опасную охоту, а потом
приказывает его предательски убить.
После этого он домогается руки его жены.
Она дает притворное согласие, но перед
самым венцом на могиле мужа кончает с
собой. Эта глубоко трагическая былина
по сюжету могла бы быть отнесена к
балладам. Но по средствам своей поэтики
и по музыкальным данным она относится
к былинам. Между балладой и другими
жанрами не всегда можно провести точную
границу. В данном случае можно говорить
о былине балладного характера или о
балладе былинного склада. Таких
переходных или смежных случаев между
балладой и былиной, балладой и
исторической песней или балладой и
песней лирической можно найти
некоторое, хотя и не очень большое
количество. Проводить же искусственные
грани нецелесообразно. Былина и
баллада могут быть различаемы и со
стороны музыкальной. Былина обладает
определенным размером и напевами
полуречитативного характера. Стихотворные
размеры баллады очень разнообразны,
так же как и наивны. С музыкальной точки
зрения баллады как фольклорно-музыкального
жанра не существует.
Все
изложенное показывает, что баллады
обладают настолько специфическим
характером, что можно говорить о них
как о жанре. Тех резких отличий, какие
имеются в репертуаре былин или сказок,
здесь нет. Разница между балладами
семейными, о неузнанных встречах и так
называемыми историческими балладами
есть разница типов, а не жанров. Весьма
сложен вопрос о жанровом характере
исторических песен. Самое название
«исторические песни» указывает, что
песни эти определяются со стороны
содержания и что предметом исторических
песен являются исторические лица или
события, имевшие место в русской истории
или по крайней мере обладающие историческим
характером. Между тем как только мы
приступим к рассмотрению того, что
называют исторической песней, так
сразу же обнаруживаем чрезвычайное
разнообразие и пестроту поэтических
форм.
Разнообразие
это настолько велико, что исторические
песни никак не составляют жанра, если
жанр определять по признаку некоторого
единства поэтики. Здесь получается то
же, что и со сказкой и былиной, которую
мы также не могли признать жанром.
Правда, исследователь имеет право
оговорить свою терминологию и условно
называть исторические песни жанром. Но
познавательного значения такая
терминология не имела бы, и потому
прав был Б. Н. Путилов, когда свою книгу,
посвященную историческим песням, он
назвал «Русский историко-песенный
фольклор XIII—XVI веков» (М.—Л., 1960). Тем не
менее историческая песня существует
если не как жанр, то как сумма нескольких
различных жанров разных эпох и разных
форм, объединяемых историчностью
своего содержания. Полное и точное
определение всех жанров исторической
песни не может входить и нашу задачу.
Но даже при поверхностном взгляде, без
специального и углубленного изучения,
можно установить хотя бы некоторые
виды исторических песен. Характер
исторических песен зависит от двух
факторов: от эпохи, в которую они
создаются, и от среды, которая их создает.
Это дает возможность хотя бы наметить
основные категории исторических песен.
Самая
ранняя, бесспорно, историческая песня
— это песня о Щелкане Дудентьевиче. Она
относится к XIV веку и по форме своей
представляет скоморошину. Исторические
песни скоморошьего склада слагались
и позднее («Кострюк», «Платон в стане
Наполеона»), но они имеют совершенно
иной характер, чем песня о Щелкане. Мы
фиксируем жанр ранней исторической
песни-скоморошины, представленной пока
одним-единственным сюжетом.
Следующий
этап развития исторической песни —
песни XVI века о Грозном. Это так называемая
«старшая» историческая песня. Сюда
относятся песни о Грозном, созданные в
московской городской среде или в среде
пушкарей («Гнев Грозного на сына»,
«Кострюк», «Взятие Казани» и некоторые
другие, более редкие песни). Народ
называет их «старинами». Это — песни,
созданные средствами былины. Они
представляют собой особый жанр. В
дальнейшем развитии историческая
песня свою связь с былиной совершенно
теряет. Иной характер, чем песни о
Грозном, носят песни о внутренних
событиях от конца XVI до начала XVIII века.
Эти песни тоже созданы мелким городским
людом Москвы, но этап их развития уже
другой. Здесь можно назвать песни об
убийстве Дмитрия и царствовании Годунова,
о смерти Отрепьева, о Скопине-Шуйском,
о Земском соборе и взятии Смоленска, об
осаде Соловецкого монастыря, о стрелецком
бунте и некоторые другие. Это песни
определенной среды и определенной
эпохи. Исследование поэтики этих песен
покажет, в какой мере можно говорить о
единстве или разнообразии их. Однако
даже предварительное ознакомление
показывает, что при всем разнообразии
их можно говорить о
единстве
приемов эпики.
С
перенесением столицы в Петербург этот
тип городских песен о внутренних событиях
русской истории перестает быть
продуктивным. В Петербурге создаются
отдельные песни о восстании декабристов,
об Аракчееве и некоторые другие, но
жанр этот в XIX веке находился на ущербе.
Песни этой группы созданы городской
средой, откуда они позднее
проникают
в крестьянство.
Совершенно
иной характер носят песни, сложенные
казачеством XVI—XVII веков. Это уже не
эпические, а скорее лирические песни о
вождях казачьей вольницы и о крестьянских
войнах — о Ермаке, Разине, Пугачеве,
Некрасове. Весь поэтический склад их
существенно иной, чем склад песен
предыдущей группы. Типично для них
хоровое исполнение, большинство их
носит характер песен протяжных.
Соответственно они коротки. Есть
отличие в стиле между песнями о Ермаке
и Разине, с одной стороны, и Пугачеве, с
другой. Образ Пугачева более
реалистичен, чем образ Разина. Песни о
Пугачеве частично подверглись влиянию
солдатских песен. Тем не менее песни
казачьей вольницы, песни о Ермаке,
Разине, Пугачеве составляют совершенно
явный цикл или вид исторических песен,
во всех отношениях отличный от более
ранних и более поздних циклов, созданных
в иной социальной среде. Начиная с
момента образования регулярной армии
в фольклоре появляется особый вид
исторических песен, созданных солдатами.
Это воинские исторические песни XVIII—XX
веков. Этот вид исторической песни
постепенно становится доминирующим.
Начиная с песни о Полтавском бое, русский
солдат сопровождает песнями все войны:
семилетнюю войну, войну 1812—1815 годов,
Крымскую кампанию, Турецкие войны,
войну с Японией, а также более мелкие
походы. Число этих песен значительно.
По стилю они примыкают к бытовым
солдатским лирическим песням, но вместе
с тем существенно отличаются от них.
Военно-исторические песни составляют
особый вид исторических песен,
отличный как от песни о Грозном, так и
от городских песен XVII—XVIII веков и от
песен казачьих.
Так,
располагая исторические песни по эпохам
и социальной среде, изучая затем
поэтику и формы их музыкального
исполнения, можно будет установить
жанровый состав исторических песен.
То, что предлагается в этой работе, —
только первая наметка в этом направлении.
Нам представляется, что ранняя
песня-скоморошина, песни былинного типа
о Грозном, песни о внутренних событиях
от конца XVI века до. первой половины
XVIII века, песни казачьей вольницы и
крестьянских войн и бунтов, воинские
песни XVIII—XX веков, созданные в
солдатской среде, составляют основные
жанры исторических песен.
Может
быть, наиболее труден и наиболее спорен
вопрос о жанрах лирической песни.
Лирическая песня — огромная область
народного творчества. Область эта
разнообразна, подвижна, и изменчива.
Она допускает изучение с самых разных
сторон и точек зрения. Если изучать ее
с точки зрения форм бытования и исполнения,
то можно говорить о песнях хороводных,
игровых, плясовых и таких, которые
исполняются вне движения хореографического
или иного характера, одним только
голосом. По бытовому применению можно
говорить о песнях трудовых, посиделочных,
святочных, свадебных и т. д. В них,
далее, поется о различных сторонах
человеческой жизни — о любви, семье,
разлуке с родной землей, крепостной
зависимости, о тюрьме, о солдатской
жизни, о разбойничьей доле. Песни могут
выражать известное отношение к миру:
тогда можно говорить о песнях сатирических,
укоряющих, или, наоборот, величальных,
или оплакивающих, сетующих. С точки
зрения темпа и характера музыкального
исполнения можно говорить о песня;
протяжных6,
частых и промежуточных («полупротяжных»).
Наконец, есть песни различных социальных
групп: песни крестьян, бурлаков, солдат,
рабочих. Какие же из этих песен являются
жанрами? Любой из названных здесь видов
песен может стать предметом
монографического изучения. Можно
отдельно изучать,
6
В музыковедческой литературе под
«протяжными» понимаются песни с наличием
внутрислоговых распевов, филологи под
«протяжными» понимают любые песни
элегического характера, исполняемые в
медленном темпе.
например,
песни хороводные, или разбойничьи, или
сатирические и т. д., и такие монографии
очень нужны и очень полезны. Каждый
из исследователей может назвать избранный
им вид жанром, понимая это слово в любом
смысле и не ставя вопроса о том, в каком
отношении изучаемый вид находится к
другим видам. Но дело меняется как только
мы перейдем от изучения одного какого-либо
вида к изучению лирической песни в
целом. Установление жанров требует
точной терминологии и правильных приемов
систематизации. Если этого нет, мы
получим искаженную картину, получим
неправильные выводы и установления.
Вопрос
о жанрах лирической песни тесно связан
с вопросом о классификации ее. С этим
дело обстоит очень неблагополучно.
Так, например, в семитомном своде А. И.
Соболевского «Великорусские народные
песни» (СПб., 1895—1902) второй и третий тома
отведены для песен о семье; в седьмом
томе помещены песни шуточные. Такое
деление было бы правильным, если бы не
было шуточных песен о семье; но такие
песни есть. Многие песни о старых мужьях
носят ярко выраженный шуточный характер.
Куда же их отнести: к песням «о семье»
или к «шуточным»? Такое деление ошибочно,
оно произведено по признакам, которые
не исключают друг друга. Эта ошибка
упорно держится вплоть до самых последних
лет. В лекциях В. И. Чичерова (Русское
народное творчество. М., 1959) в главе
«Жанровый состав песенной лирики» в
числе основных жанров названы «хороводные»
и «юмористические и сатирические». Но
именно хороводные песни часто носят
юмористический и сатирический характер.
Один вид выделен по форме исполнения
(«хороводные»), другой — по отношению
к изображаемому («юмористические»),
но эти признаки не исключают друг друга,
и деление получилось ошибочное,
неправильное не только с точки зрения
логической, но и дающее ошибочное
представление о характере песен. В книге
Н. П. Колпаковой «Русская народная
бытовая песня» (М.—Л., 1962) в числе других
названы «игровые» и «лирические». Термин
«бытовые» неудачен потому, что он
внушает мысль, будто, кроме бытовых,
есть еще какие-то другие, небытовые
песни. Термин «бытовые» должен быть
вообще изъят из научного обихода как
слишком широкий и потому не имеющий
никакого определенного смысла. Все
решительно песни есть песни бытовые,
либо потому, что они живут и применяются
в быту, либо потому, что в них прямо или
косвенно отражен быт русской деревни.
Колядки в такой же степени могут быть,
названы бытовыми песнями, как
солдатские походные или колыбельные;
разница
только в том, какие стороны русского
быта в ней прямо или косвенно отражены.
Вне быта песен не бывает. Деление же на
«игровые», с одной стороны, и «лирические»,
с другой, неправильно потому, что лирика
есть понятие широкое, в которое входят
самые различные виды народных неэпических
песен. Данное же распределение исходит
из узкого понимания «лирики» как
выражения глубоко личных и интимных
чувств. Для фольклора такое понимание
«лирики» неприменимо. Лирика наряду с
эпикой и драматикой есть род поэтического
творчества, который выражает не только
..личные чувства грусти, любви и т. д., но
всенародные чувства радости, скорби,
гнева, возмущения, причем выражает его
в самых разнообразных формах. Эти формы
и составляют жанры, тогда как «лирика»
не есть жанр. «Игровые» песни — одна из
частных форм исполнения песен;
противопоставлять понятие «лирических»
и «игровых» песен и утверждать их
несовместимость так же неправильно,
как говорить о несовместимости понятий
дерева и березы.
Неумение
отличать род и вид, а также применять
более широкие и более узкие разряды
классификации вообще встречается очень
часто. Можно сказать, что такой способ
распределения у нас господствует.
Материал делится на разряды без
дальнейших подразделений или разветвлений,
причем в один ряд попадают явления
очень широкого и очень .узкого характера.
Получается перечисление без всяких
подразделений, без разветвлений.
Между тем многих ошибок можно было бы
избежать, применяя одни признаки для
разрядов, другие — для подразрядов,
вместо того, чтобы совмещать их в
одном ряду, где они не исключают друг
друга.
Совершенно
очевидно, что пока имеются подобные
ошибочные представления о составе
русского фольклора, о категориях
этого состава и об их взаимоотношениях,
вопрос о жанрах русской песни не может
быть решен.
Как
же выйти из затруднений? Мы исходим из
двух предпосылок теоретического
порядка. Первая состоит в том, что в
фольклоре при единстве или спаянности
содержания и формы первично содержание;
оно создает себе свою форму, а не наоборот.
Такое положение остается верным
независимо от философских споров о том,
что понимать под формой и что под
содержанием.
Вторая
предпосылка состоит в том, что различные
социальные группы создают различные,
а не одинаковые песни. Обе эти предпосылки
тесно связаны между собой. Мы полагаем,
что крестьяне, батраки, солдаты, рабочие
будут создавать разные по своему
содержанию песни и что вследствие этой
разницы в содержании и форма их будет
различна. Это значит, что разделение по
социальному признаку не будет противоречить
разделению по признаку поэтики. Наоборот,
такое разделение позволит внести в
пестрый и разнообразный мир песни
некоторую систему.
Не
предрешая пока вопроса о том, что в
области лирической поэзии называть
жанром и что нет, мы попытаемся разделить
песни по признаку социальной принадлежности.
С этой точки зрения можно отличить три
большие группы:
