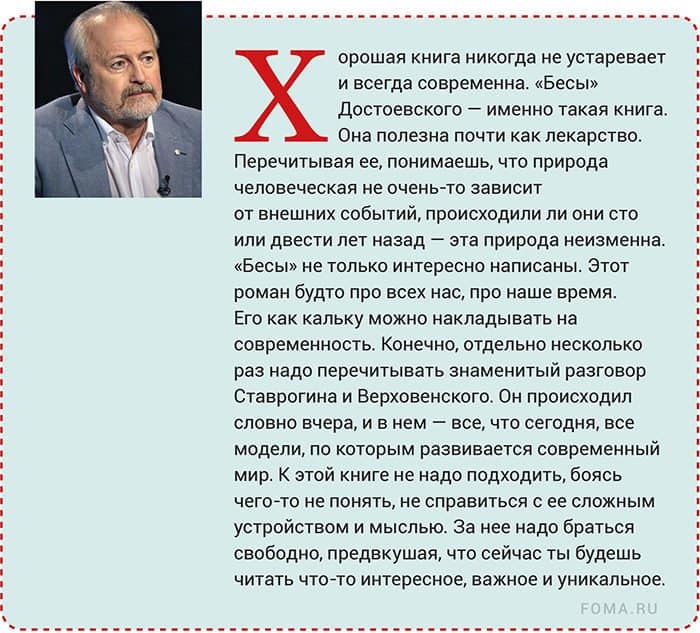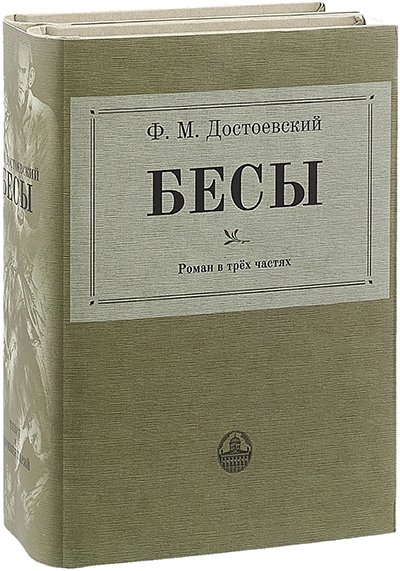Front page of Demons, first edition, 1873 (Russian) |
|
| Author | Fyodor Dostoevsky |
|---|---|
| Original title | Бѣсы |
| Translator | Constance Garnett (1916) David Magarshack (1954) Andrew R Macandrew (1962) Michael R. Katz (1992) Richard Pevear and Larissa Volokhonsky (1995) Robert A. Maguire (2008) Roger Cockrell (2018) |
| Country | Russia |
| Language | Russian |
| Genre | Philosophical novel Political novel Anti-nihilistic novel Psychological novel Satirical novel |
|
Publication date |
1871–72 |
|
Published in English |
1916 |
| Preceded by | The Idiot |
Demons (pre-reform Russian: Бѣсы; post-reform Russian: Бесы, tr. Bésy, IPA: [ˈbʲe.sɨ]; sometimes also called The Possessed or The Devils is a novel by Fyodor Dostoevsky, first published in the journal The Russian Messenger in 1871–72. It is considered one of the four masterworks written by Dostoevsky after his return from Siberian exile, along with Crime and Punishment (1866), The Idiot (1869), and The Brothers Karamazov (1880). Demons is a social and political satire, a psychological drama, and large-scale tragedy. Joyce Carol Oates has described it as «Dostoevsky’s most confused and violent novel, and his most satisfactorily ‘tragic’ work.»[1] According to Ronald Hingley, it is Dostoevsky’s «greatest onslaught on Nihilism», and «one of humanity’s most impressive achievements—perhaps even its supreme achievement—in the art of prose fiction.»[2]
Demons is an allegory of the potentially catastrophic consequences of the political and moral nihilism that were becoming prevalent in Russia in the 1860s.[3] A fictional town descends into chaos as it becomes the focal point of an attempted revolution, orchestrated by master conspirator Pyotr Verkhovensky. The mysterious aristocratic figure of Nikolai Stavrogin—Verkhovensky’s counterpart in the moral sphere—dominates the book, exercising an extraordinary influence over the hearts and minds of almost all the other characters. The idealistic, Western-influenced generation of the 1840s, epitomized in the character of Stepan Verkhovensky (who is both Pyotr Verkhovensky’s father and Nikolai Stavrogin’s childhood teacher), are presented as the unconscious progenitors and helpless accomplices of the «demonic» forces that take possession of the town.
Title[edit]
The original Russian title is Bésy (Russian: Бесы, singular Бес, bés), which means «demons». There are three English translations: The Possessed, The Devils, and Demons. Constance Garnett’s 1916 translation popularized the novel and gained it notoriety as The Possessed, but this title has been disputed by later translators. They argue that «The Possessed» points in the wrong direction because Bésy refers to active subjects rather than passive objects—»possessors» rather than «the possessed«.[4][5] ‘Demons’ in this sense refers not so much to individuals as to the ideas that possess them. For Dostoevsky, ‘ideas’ are living cultural forces that have the capacity to seduce and subordinate the individual consciousness, and the individual who has become alienated from his own concrete national traditions is particularly susceptible.[6] According to translator Richard Pevear, the demons are «that legion of isms that came to Russia from the West: idealism, rationalism, empiricism, materialism, utilitarianism, positivism, socialism, anarchism, nihilism, and, underlying them all, atheism.»[7] The counter-ideal (expressed in the novel through the character of Ivan Shatov) is that of an authentically Russian culture growing out of the people’s inherent spirituality and faith, but even this—as mere idealization and an attempt to reassert something that has been lost—is another idea and lacks real force.[8]
In a letter to his friend Apollon Maykov, Dostoevsky alludes to the episode of the Exorcism of the Gerasene demoniac in the Gospel of Luke as the inspiration for the title: «Exactly the same thing happened in our country: the devils went out of the Russian man and entered into a herd of swine… These are drowned or will be drowned, and the healed man, from whom the devils have departed, sits at the feet of Jesus.»[9] Part of the passage is used as an epigraph, and Dostoevsky’s thoughts on its relevance to Russia are given voice by Stepan Verkhovensky on his deathbed near the end of the novel.
Background[edit]
In late 1860s Russia there was an unusual level of political unrest caused by student groups influenced by liberal, socialist, and revolutionary ideas. In 1869, Dostoevsky conceived the idea of a ‘pamphlet novel’ directed against the radicals. He focused on the group organized by young agitator Sergey Nechayev, particularly their murder of a former comrade—Ivan Ivanov—at the Petrovskaya Agricultural Academy in Moscow. Dostoevsky had first heard of Ivanov from his brother-in-law, who was a student at the academy, and had been much interested in his rejection of radicalism and exhortation of the Russian Orthodox Church and the House of Romanov as the true custodians of Russia’s destiny. He was horrified to hear of Ivanov’s murder by the Nechayevists, and vowed to write a political novel about what he called «the most important problem of our time.»[10] Prior to this Dostoevsky had been working on a philosophical novel (entitled ‘The Life of a Great Sinner’) examining the psychological and moral implications of atheism. The political polemic and parts of the philosophical novel were merged into a single larger scale project, which became Demons.[11] As work progressed, the liberal and nihilistic characters began to take on a secondary role as Dostoevsky focused more on the amoralism of a charismatic aristocratic figure—Nikolai Stavrogin.[12]
Although a merciless satirical attack on various forms of radical thought and action, Demons does not bear much resemblance to the typical anti-nihilist novels of the era (as found in the work of Nikolai Leskov for example), which tended to present the nihilists as deceitful and utterly selfish villains in an essentially black and white moral world.[13] Dostoevsky’s nihilists are portrayed in their ordinary human weakness, drawn into the world of destructive ideas through vanity, naïveté, idealism, and the susceptibility of youth. In re-imagining Nechayev’s orchestration of the murder, Dostoevsky was attempting to «depict those diverse and multifarious motives by which even the purest of hearts and the most innocent of people can be drawn in to committing such a monstrous offence.»[14] In A Writer’s Diary, he discusses the relationship of the ideas of his own generation to those of the current generation, and suggests that in his youth he too could have become a follower of someone like Nechayev.[15] As a young man Dostoevsky himself was a member of a radical organisation (the Petrashevsky Circle), for which he was arrested and exiled to a Siberian prison camp. Dostoevsky was an active participant in a secret revolutionary society formed from among the members of the Petrashevsky Circle. The cell’s founder and leader, the aristocrat Nikolay Speshnev, is thought by many commentators to be the principal inspiration for the character of Stavrogin.[16]
Narration[edit]
The first person narrator is a minor character, Anton Lavrentyevich G—v, who is a close friend and confidant of Stepan Verkhovensky. [17] Young, educated, upright, and sensible, Anton Lavrentyevich is a local civil servant who has decided to write a chronicle of the strange events that have recently occurred in his town. Despite being a secondary character, he has a surprisingly intimate knowledge of all the characters and events, such that the narrative often seems to metamorphose into that of the omniscient third person. According to Joseph Frank, this unusual narrative point-of-view enables Dostoevsky «to portray his main figures against a background of rumor, opinion and scandal-mongering that serves somewhat the function of a Greek chorus in relation to the central action.»[18]
The narrator’s voice is intelligent, frequently ironic and psychologically perceptive, but it is only periodically the dominant voice, and often seems to disappear altogether. Much of the narrative unfolds dialogically, implied and explicated through the interactions of the characters, the internal dialogue of a single character, or through a combination of the two, rather than through the narrator’s story-telling or description. In Problems of Dostoevsky’s Poetics the Russian philosopher and literary theorist Mikhail Bakhtin describes Dostoevsky’s literary style as polyphonic, with the cast of individual characters being a multiplicity of «voice-ideas», restlessly asserting and defining themselves in relation to each other. The narrator in this sense is present merely as an agent for recording the synchronisation of multiple autonomous narratives, with his own voice weaving in and out of the contrapuntal texture.[19][20]
Characters[edit]
Major characters[edit]
- Stepan Trofimovich Verkhovensky is a refined and high-minded intellectual who unintentionally contributes to the development of nihilistic forces, centering on his son Pyotr Stepanovich and former pupil Nikolai Stavrogin, that ultimately bring local society to the brink of collapse. The character is Dostoevsky’s rendering of an archetypal liberal idealist of the 1840s Russian intelligentsia, and is based partly on Timofey Granovsky and Alexander Herzen.[21]
- The novel begins with the narrator’s affectionate but ironic description of Stepan Trofimovich’s character and early career. He had the beginnings of a career as a lecturer at the University, and for a short time was a prominent figure among the exponents of the ‘new ideas’ that were beginning to influence Russian cultural life. He claims that government officials viewed him as a dangerous thinker, forcing him out of academia and into exile in the provinces, but in reality, it was more likely that no one of note in the government even knew who he was. In any case, his anxiety prompted him to accept Varvara Stavrogina’s proposal that he take upon himself «the education and the entire intellectual development of her only son in the capacity of a superior pedagogue and friend, not to mention a generous remuneration.»[22]
- A chaste, idealistic but fraught relationship between Stepan Trofimovich and Varvara Stavrogina continues long after the tuition has ceased. In a cynical but not entirely inaccurate critique of his father, Pyotr Stepanovich describes their mutual dependence thus: «she provided the capital, and you were her sentimental buffoon.»[23] Though very conscious of his own erudition, higher ideals and superior aesthetic sensibilities, Stepan Trofimovich doesn’t actually seem to do anything at all in the scholarly sense. He is utterly dependent on Varvara Petrovna financially and she frequently rescues him from the consequences of his irresponsibility. When he perceives that he has been unjust or irresponsible in relation to her, he is overcome with shame to the point of physical illness.
- Varvara Petrovna Stavrogina is a wealthy and influential landowner, residing on the magnificent estate of Skvoreshniki where much of the action of the novel takes place.
- She supports Stepan Trofimovich financially and emotionally, protects him, fusses over him, and in the process acquires for herself an idealized romantic poet, modelled somewhat on the writer Nestor Kukolnik.[24] She promotes his reputation as the town’s preeminent intellectual, a reputation he happily indulges at regular meetings, often enhanced with champagne, of the local «free-thinkers».
- Generous, noble-minded and strong willed, Varvara Petrovna prides herself on her patronage of artistic and charitable causes. She is «a classic kind of woman, a female Maecenas, who acted strictly out of the highest considerations».[25] But she is also extremely demanding and unforgiving, and is almost terrifying to Stepan Trofimovich when he inadvertently fails her or humiliates her in some way. Pyotr Stepanovich, on his arrival in the town, is quick to take advantage of her resentment towards his father.
- Varvara Petrovna almost worships her son Nikolai Vsevolodovich, but there are indications that she is aware that there is something deeply wrong. She tries to ignore this however, and Pyotr Stepanovich is able to further ingratiate himself by subtly presenting her son’s inexplicable behaviour in a favourable light.
- Nikolai Vsevolodovich Stavrogin is the central character of the novel.[26] He is handsome, strong, fearless, intelligent and refined, but at the same time, according to the narrator, there is something repellent about him.[27] Socially he is self-assured and courteous, but his general demeanour is described as «stern, pensive and apparently distracted.»[28] Other characters are fascinated by Stavrogin, especially the younger Verkhovensky, who envisions him as the figurehead of the revolution he is attempting to spark. Shatov, on the other hand, once looked up to him as a potentially great leader who could inspire Russia to a Christian regeneration. Disillusioned, he now sees him as «an idle, footloose son of a landowner», a man who has lost the distinction between good and evil. According to Shatov, Stavrogin is driven by «a passion for inflicting torment», not merely for the pleasure of harming others, but to torment his own conscience and wallow in the sensation of «moral carnality».[29] In an originally censored chapter (included as «At Tikhon’s» in modern editions), Stavrogin himself defines the rule of his life thus: «that I neither know nor feel good and evil and that I have not only lost any sense of it, but that there is neither good nor evil… and that it is just a prejudice».[30] In a written confession given to the monk Tikhon he tells of a number of crimes, including raping and driving to suicide a girl of only 11 years. He describes in detail the profound inner pleasure he experiences when he becomes conscious of himself in shameful situations, particularly in moments of committing a crime.[31]
- When in Petersburg Stavrogin had secretly married the mentally and physically disabled Marya Lebyadkina. He shows signs of caring for her, but ultimately becomes complicit in her murder. The extent to which he himself is responsible for the murder is unclear, but he is aware that it is being plotted and does nothing to prevent it. In a letter to Darya Pavlovna near the end of the novel, he affirms that he is guilty in his own conscience for the death of his wife.[32]
- Pyotr Stepanovich Verkhovensky is the son of Stepan Trofimovich and the principal driving force of the mayhem that ultimately engulfs the town. The father and son are a representation of the aetiological connection Dostoevsky perceived between the liberal idealists of the 1840s and the nihilistic revolutionaries of the 1860s.[33] The character of Pyotr Stepanovich was inspired by the revolutionary Sergey Nechayev, in particular the methods described in his manifesto Catechism of a Revolutionary.[34] In the Catechism revolutionaries are encouraged to «aid the growth of calamity and every evil, which must at last exhaust the patience of the people and force them into a general uprising.»[35] Verkhovensky’s murder of Shatov in the novel was based on Nechayev’s murder of Ivanov.[36]
- Pyotr Stepanovich claims to be connected to the central committee of a vast, organized conspiracy to overthrow the government and establish socialism. He manages to convince his small group of co-conspirators that they are just one revolutionary cell among many, and that their part in the scheme will help set off a nationwide revolt. Pyotr Stepanovich is enamored of Stavrogin, and he tries desperately, through a combination of ensnarement and persuasion, to recruit him to the cause. The revolution he envisages will ultimately require a despotic leader, and he thinks that Stavrogin’s strong will, personal charisma and «unusual aptitude for crime»[37] are the necessary qualities for such a leader.
- Pyotr Verkhovensky, according to Stavrogin, is «an enthusiast».[38] At every opportunity he uses his prodigious verbal abilities to sow discord and manipulate people for his own political ends. His greatest success is with the Governor’s wife, and he manages to gain an extraordinary influence over her and her social circle. This influence, in conjunction with constant undermining of authority figures like his father and the Governor, is ruthlessly exploited to bring about a breakdown of standards in society.
- Ivan Pavlovich Shatov is the son of Varvara Stavrogina’s deceased valet. When he was a child she took him and his sister Darya Pavlovna under her protection, and they received tutoring from Stepan Trofimovich. At university Shatov had socialist convictions and was expelled following an incident. He travelled abroad as a tutor with a merchant’s family, but the employment came to an end when he married the family’s governess who had been dismissed for ‘freethinking’. Having no money and not recognizing the ties of marriage, they parted almost immediately. He wandered Europe alone before eventually returning to Russia.
- By the time of the events in the novel Shatov has completely rejected his former convictions and become a passionate defender of Russia’s Christian heritage. Shatov’s reformed ideas resemble those of the contemporary philosophy Pochvennichestvo (roughly: «return to the soil»), with which Dostoevsky was sympathetic. Like the broader Slavophile movement, Pochvennichestvo asserted the paramount importance of Slavic traditions in Russia, as opposed to cultural influences originating in Western Europe, and particularly emphasized the unique mission of the Russian Orthodox Church. Shatov goes further by describing that mission as universal rather than merely Russian.[39] Generally awkward, gloomy and taciturn, Shatov becomes emotional and loquacious when aroused by an affront to his convictions.[40] In the chapter ‘Night’ he engages in a heated discussion with Stavrogin about God, Russia and morality. As a younger man Shatov had idolized Stavrogin, but having seen through him and guessed the secret of his marriage, he seeks to tear down the idol in a withering critique.[41] Stavrogin, though affected, is certainly not withered, and answers by drawing attention to the inadequacy of Shatov’s own faith, something Shatov himself recognizes.[42]
- Shatov’s relationship with Pyotr Verkhovensky is one of mutual hatred. Verkhovensky conceives the idea of having the group murder him as a traitor to the cause, thereby binding them closer together by the blood they have shed.
- Alexei Nilych Kirillov is an engineer who lives in the same house as Shatov. He also has a connection to Verkhovensky’s revolutionary society, but of a very unusual kind: he is determined to kill himself and has agreed to do it at a time when it can be of use to the society’s aims.
- Like Shatov, Kirillov has been deeply influenced by Stavrogin, but in a diametrically opposed way. While inspiring Shatov with the ecstatic image of the Russian Christ, Stavrogin was simultaneously encouraging Kirillov toward the logical extremes of atheism — the absolute supremacy of the human will.[43] «If God does not exist» according to Kirillov, «then all will is mine, and I am obliged to proclaim self-will.»[44] This proclamation must take the form of the act of killing himself, with the sole motive being annihilation of mankind’s fear of death, a fear implicit in their belief in God. He believes that this purposeful act, by demonstrating the transcendence of this fear, will initiate the new era of the Man-God, when there is no God other than the human will.
- Despite the apparent grandiosity of the idea, Kirillov is a reclusive, deeply humble, almost selfless person who has become obsessed with making himself a sacrifice for the greater good of humanity.[45] Pyotr Stepanovich tells him: «You haven’t consumed the idea but you… have been consumed by the idea, and so you won’t be able to relinquish it.»[46] The motives are of no interest to Pyotr Stepanovich, but he recognizes the sincerity of Kirillov’s intention and incorporates it into his plans as a means of deflecting attention from the conspiracy.
Other characters[edit]
- Lizaveta Nikolaevna Tushina (Liza) is a lively, beautiful, intelligent and wealthy young woman. She is the daughter of Varvara Petrovna’s friend Praskovya, and is another former pupil of Stepan Trofimovich. She has become ambiguously involved with Stavrogin after their encounter in Switzerland and seems to oscillate between deep love and profound hatred for him. She is resentful and suspicious of Dasha’s strange intimacy with him, and is extremely anxious to understand the nature of his connection to Marya Lebyadkina during the time when the marriage is still a secret. Liza becomes engaged to her cousin Mavriky Nikolaevich, but remains fixated on Stavrogin even after he openly acknowledges his marriage.
- Darya Pavlovna (Dasha) is Shatov’s sister, the protégé of Varvara Petrovna, and for a short time the fiancée of Stepan Trofimovich. She is the reluctant confidant and «nurse» of Stavrogin.
- Marya Timofeevna Lebyadkina is married to Nikolai Stavrogin. Though childlike, mentally unstable and confused, she frequently demonstrates a deeper insight into what is going on, and has many of the attributes of a «holy fool».[47] According to Frank, Marya represents «Dostoevsky’s vision of the primitive religious sensibility of the Russian people», and the false marriage, her rejection of Stavrogin, and her eventual murder, point to the impossibility of a true union between the Christian Russian people and godless Russian Europeanism.[48]
- Captain Lebyadkin is Marya’s brother. He receives payments for her care from Stavrogin, but he mistreats her and squanders the money on himself. He is loud, indiscreet, and almost always drunk. He considers himself a poet and frequently quotes his own verses. Although in awe of Stavrogin, he is a constant threat to maintaining the secrecy of the marriage. He is unwillingly involved in Pyotr Stepanovich’s plans, and his inept attempts to extract himself via approaches to the authorities are another cause of his eventual murder.
- Fed’ka the Convict is an escaped convict who is suspected of several thefts and murders in the town. He was originally a serf belonging to Stepan Trofimovich, but was sold into the army to help pay his master’s gambling debts. It is Fed’ka who murders Stavrogin’s wife and her brother, at the instigation of Pyotr Stepanovich. Stavrogin himself initially opposes the murder, but his later actions suggest a kind of passive consent.
- Andrey Antonovich von Lembke is the Governor of the province and one of the principal targets of Pyotr Stepanovich in his quest for societal breakdown. Although a good and conscientious man he is completely incapable of responding effectively to Pyotr Stepanovich’s machinations. Estranged from his wife, who has unwittingly become a pawn in the conspirators’ game, he descends into a mental breakdown as events get increasingly out of control.
- Julia Mikhaylovna von Lembke is the Governor’s wife. Her vanity and liberal ambition are exploited by Pyotr Stepanovich for his revolutionary aims. The conspirators succeed in transforming her Literary Fête for the benefit of poor governesses into a scandalous farce. Dostoevsky’s depiction of the relationship between Pyotr Stepanovich and Julia Mikhaylovna had its origins in a passage from Nechayev’s Catechism where revolutionaries are instructed to consort with liberals «on the basis of their own program, pretending to follow them blindly» but with the purpose of compromising them so that they can be «used to provoke disturbances.»[49]
- Semyon Yegorovich Karmazinov is Dostoevsky’s literary caricature of his contemporary Ivan Turgenev, author of the proto-nihilist novel Fathers and Sons (1862). Of the same generation as Stepan Trofimovich, Karmazinov is a vain and pretentious literary has-been who shamelessly seeks to ingratiate himself with Pyotr Stepanovich and does much to promote the nihilists’ legitimacy among the liberal establishment.[50]
- Shigalyev is a historian and social theorist, the intellectual of Verkhovensky’s revolutionary group, who has devised a system for the post-revolution organization of mankind. «My conclusion» he says, «stands in direct contradiction to the idea from which I started. Proceeding from unlimited freedom, I end with unlimited despotism.»[51] Ninety percent of society is to be enslaved to the remaining ten percent. Equality of the herd is to be enforced by police state tactics, state terrorism, and destruction of intellectual, artistic, and cultural life. It is estimated that about a hundred million people will need to be killed on the way to the goal.
- Bishop Tikhon is a monk and spiritual adviser recommended to Stavrogin by Shatov. He only appears in the censored chapter, but he has importance as the person to whom Stavrogin makes his most detailed and candid confession. He is perhaps the only character to truly understand Stavrogin’s spiritual and psychological state.[52] He describes the confession as coming from «the need of a heart that has been mortally wounded» and advises Stavrogin to submit his life to an Elder.[53] Dostoevsky’s model for the character of Bishop Tikhon was the 18th century monk and writer Tikhon of Zadonsk.[54]
Plot summary[edit]
The novel is in three parts. There are two epigraphs, the first from Pushkin’s poem «Demons» and the second from Luke 8:32–36.
Part I[edit]
After an almost illustrious but prematurely curtailed academic career Stepan Trofimovich Verkhovensky is residing with the wealthy landowner Varvara Petrovna Stavrogina at her estate, Skvoreshniki, in a provincial Russian town. Originally employed as a tutor to Stavrogina’s son Nikolai Vsevolodovich, Stepan Trofimovich has been there for almost twenty years in an intimate but platonic relationship with his noble patroness. Stepan Trofimovich also has a son from a previous marriage but he has grown up elsewhere without his father’s involvement.
A troubled Varvara Petrovna has just returned from Switzerland where she has been visiting Nikolai Vsevolodovich. She berates Stepan Trofimovich for his financial irresponsibility, but her main preoccupation is an «intrigue» she encountered in Switzerland concerning her son and his relations with Liza Tushina—the beautiful daughter of her friend Praskovya. Praskovya and Liza arrive at the town, without Nikolai Vsevolodovich who has gone to Petersburg. According to Praskovya, Varvara Petrovna’s young protégée Darya Pavlovna (Dasha), has also somehow become involved with Nikolai Vsevolodovich, but the details are ambiguous. Varvara Petrovna suddenly conceives the idea of forming an engagement between Stepan Trofimovich and Dasha. Though dismayed, Stepan Trofimovich accedes to her proposal, which happens to resolve a delicate financial issue for him. Influenced by gossip, he begins to suspect that he is being married off to cover up «another man’s sins» and writes «noble» letters to his fiancée and Nikolai Vsevolodovich. Matters are further complicated by the arrival of a mysterious «crippled woman», Marya Lebyadkina, to whom Nikolai Vsevolodovich is also rumoured to be connected, although no-one seems to know exactly how. A hint is given when Varvara Petrovna asks the mentally disturbed Marya, who has approached her outside church, if she is Lebyadkina and she replies that she is not.
Varvara Petrovna takes Marya (and Liza who has insisted on coming with them) back to Skvoreshniki. Already present are Dasha, her older brother Ivan Shatov, and a nervous Stepan Trofimovich. Praskovya arrives, accompanied by her nephew Mavriky Nikolaevich, demanding to know why her daughter has been dragged in to Varvara Petrovna’s «scandal». Varvara Petrovna questions Dasha about a large sum of money that Nikolai Vsevolodovich supposedly sent through her to Marya’s brother, but in spite of her straightforward answers matters don’t become any clearer. Marya’s brother, the drunkard Captain Lebyadkin, comes looking for his sister and confuses Varvara Petrovna even further with semi-deranged rantings about some sort of dishonour that must remain unspoken. At this point the butler announces that Nikolai Vsevolodovich has arrived. To everyone’s surprise, however, a complete stranger walks in and immediately begins to dominate the conversation. It turns out to be Pyotr Stepanovich Verkhovensky, Stepan Trofimovich’s son. As he is talking, Nikolai Stavrogin quietly enters. Varvara Petrovna stops him imperiously and, indicating Marya, demands to know if she is his lawful wife. He looks at his mother impassively, says nothing, kisses her hand, and unhurriedly approaches Marya. In soothing tones he explains to Marya that he is her devoted friend, not her husband or fiancé, that she should not be here, and that he will escort her home. She agrees and they leave. In the din that breaks out after their departure, the strongest voice is that of Pyotr Stepanovich, and he manages to persuade Varvara Petrovna to listen to his explanation for what has occurred. According to him, Nikolai Vsevolodovich became acquainted with the Lebyadkins when he was living a life of «mockery» in Petersburg five years earlier. The downtrodden, crippled and half mad Marya had fallen hopelessly in love with him and he had responded by treating her «like a marquise». She began to think of him as her fiancé, and when he left he made arrangements for her support, including a substantial allowance, which her brother proceeded to appropriate as though he had some sort of right to it. Varvara Petrovna is elated and almost triumphant to hear that her son’s actions had a noble foundation rather than a shameful one. Under interrogation from Pyotr Stepanovich, Captain Lebyadkin reluctantly confirms the truth of the whole story. He departs in disgrace as Nikolai Vsevolodovich returns from escorting Marya home. Nikolai Vsevolodovich addresses himself to Dasha with congratulations on her impending marriage, of which, he says, he was expressly informed. As if on cue, Pyotr Stepanovich says that he too has received a long letter from his father about an impending marriage, but that one cannot make sense of it—something about having to get married because of «another man’s sins», and pleading to be «saved». An enraged Varvara Petrovna tells Stepan Trofimovich to leave her house and never come back. In the uproar that follows no-one notices Shatov, who has not said a word the entire time, walking across the room to stand directly in front of Nikolai Vsevolodovich. He looks him in the eye for a long time without saying anything, then suddenly hits him in the face with all his might. Stavrogin staggers, recovers himself, and seizes Shatov; but he immediately takes his hands away, and stands motionless, calmly returning Shatov’s gaze. It is Shatov who lowers his eyes, and leaves, apparently crushed. Liza screams and collapses on the floor in a faint.
Part II[edit]
News of the events at Skvoreshniki spreads through society surprisingly rapidly. The main participants seclude themselves, with the exception of Pyotr Stepanovich who actively insinuates himself into the social life of the town. After eight days, he calls on Stavrogin and the true nature of their relations begins to become apparent. There was not, as some suspect, an explicit understanding between them. Rather Pyotr Stepanovich is trying to involve Stavrogin in some radical political plans of his own, and is avidly seeking to be of use to him. Stavrogin, while he seems to accept Pyotr Stepanovich acting on his behalf, is largely unresponsive to these overtures and continues to pursue his own agenda.
That night Stavrogin leaves Skvoreshniki in secret and makes his way on foot to Fillipov’s house, where Shatov lives. The primary object of his visit is to consult his friend Kirillov, who also lives at the house. Stavrogin has received an extraordinarily insulting letter from Artemy Gaganov, the son of a respected landowner—Pavel Gaganov—whose nose he pulled as a joke some years earlier, and has been left with no choice but to challenge him to a duel. He asks Kirillov to be his second and to make the arrangements. They then discuss philosophical issues arising out of Kirillov’s firm intention to commit suicide in the near future. Stavrogin proceeds to Shatov, and once again the background to the events at Skvoreshniki begins to reveal itself. Shatov had guessed the secret behind Stavrogin’s connection to Marya (they are in fact married) and had struck him out of anger at his «fall». In the past Stavrogin had inspired Shatov with exhortations of the Russian Christ, but this marriage and other actions have provoked a complete disillusionment, which Shatov now angrily expresses. Stavrogin defends himself calmly and rationally, but not entirely convincingly. He also warns Shatov, who is a former member but now bitter enemy of Pyotr Verkhovensky’s revolutionary society, that Verkhovensky might be planning to murder him. Stavrogin continues on foot to a distant part of town where he intends to call at the new residence of the Lebyadkins. On the way he encounters Fedka, an escaped convict, who has been waiting for him at the bridge. Pyotr Stepanovich has informed Fedka that Stavrogin may have need of his services in relation to the Lebyadkins, but Stavrogin emphatically rejects this. He tells Fedka that he won’t give him a penny and that if he meets him again he will tie him up and take him to the police. At the Lebyadkins’ he informs the Captain, to the Captain’s horror, that in the near future he will be making a public announcement of the marriage and that there will be no more money. He goes in to Marya, but something about him frightens her and she becomes mistrustful. His proposal that she come to live with him in Switzerland is met with scorn. She accuses him of being an imposter who has come to kill her with his knife, and demands to know what he has done with her «Prince». Stavrogin becomes angry, pushes her violently, and leaves, to Marya’s frenzied curse. In a fury, he barely notices when Fedka pops up again, reiterating his requests for assistance. Stavrogin seizes him, slams him against a wall and begins to tie him up. However, he stops almost immediately and continues on his way, with Fedka following. Eventually Stavrogin bursts into laughter: he empties the contents of his wallet in Fedka’s face, and walks off.
The duel takes place the following afternoon, but no-one is killed. To Gaganov’s intense anger, Stavrogin appears to deliberately miss, as if to trivialize the duel and insult his opponent, although he says it is because he doesn’t want to kill anyone any more. He returns to Skvoreshniki where he encounters Dasha who, as now becomes apparent, is in the role of a confidant and «nurse» in relation to him. He tells her about the duel and the encounter with Fedka, admitting to giving Fedka money that could be interpreted as a down payment to kill his wife. He asks her, in an ironic tone, whether she will still come to him even if he chooses to take Fedka up on his offer. Horrified, Dasha does not answer.
Pyotr Stepanovich meanwhile is very active in society, forming relationships and cultivating conditions that he thinks will help his political aims. He is particularly focused on Julia Mikhaylovna Von Lembke, the Governor’s wife. By flattery, surrounding her with a retinue and encouraging her exaggerated liberal ambition, he acquires a power over her and over the tone of her salon. He and his group of co-conspirators exploit their new-found legitimacy to generate an atmosphere of frivolity and cynicism in society. They indulge in tasteless escapades, clandestinely distribute revolutionary propaganda, and agitate workers at the local Spigulin factory. They are particularly active in promoting Julia Mikhaylovna’s ‘Literary Gala’ to raise money for poor governesses, and it becomes a much anticipated event for the whole town. The Governor, Andrey Antonovich, is deeply troubled by Pyotr Stepanovich’s success with his wife and casual disregard for his authority, but is painfully incapable of doing anything about it. Unable to cope with the strange events and mounting pressures, he begins to show signs of acute mental disturbance. Pyotr Stepanovich adopts a similarly destabilizing approach toward his father, driving Stepan Trofimovich into a frenzy by relentlessly ridiculing him and further undermining his disintegrating relationship with Varvara Petrovna.
Pyotr Stepanovich visits Kirillov to remind him of an «agreement» he made to commit suicide at a time convenient to the revolutionary society. He invites Kirillov, and subsequently Shatov, to a meeting of the local branch of the society to be held later that day. He then calls on Stavrogin, arriving just as Mavriky Nikolaevich, Liza’s new fiancé, is angrily departing. Stavrogin, however, seems to be in a good mood and he willingly accompanies Pyotr Stepanovich to the meeting. Present are a wide variety of idealists, disaffected types and pseudo-intellectuals, most notably the philosopher Shigalyev who attempts to expound his theory on the historically necessary totalitarian social organization of the future. The conversation is inane and directionless until Pyotr Stepanovich takes control and seeks to establish whether there is a real commitment to the cause of violent revolution. He claims that this matter can be resolved by asking a simple question of each individual: in the knowledge of a planned political murder, would you inform the police? As everyone else is hurrying to assert that they would of course not inform, Shatov gets up and leaves, followed by Stavrogin and Kirillov. Uproar ensues. Pyotr Stepanovich abandons the meeting and rushes after Stavrogin. Meeting them at Kirillov’s place, where Fedka is also present, Verkhovensky demands to know whether Stavrogin will be providing the funds to deal with the Lebyadkins. He has acquired proof, in the form of a letter sent to Von Lembke, that the Captain is contemplating betraying them all. Stavrogin refuses, tells him he won’t give him Shatov either, and departs. Verkhovensky tries to stop him, but Stavrogin throws him to the ground and continues on his way. Verkhovensky rushes after him again and, to Stavrogin’s astonishment, suddenly transforms into a raving madman. He launches into an incoherent monologue, alternately passionately persuasive and grovelingly submissive, desperately pleading with Stavrogin to join his cause. The speech amounts to a declaration of love, reaching a climax with the exclamation «Stavrogin, you’re beautiful!» and an attempt to kiss his hand. Verkhovensky’s cause, it turns out, has nothing to do with socialism, but is purely about destroying the old order and seizing power, with Stavrogin, the iron-willed leader, at the helm. Stavrogin remains cold, but does not actually say no, and Pyotr Stepanovich persists with his schemes.
Social disquiet escalates as the day of the literary gala approaches. The Governor’s assistant, under the false impression that Stepan Trofimovich is the source of the problem, orders a raid on his residence. Deeply shocked, Stepan Trofimovich goes to the Governor to complain. He arrives as a large group of workers from the Spigulin factory are staging a protest about work and pay conditions. Already in a precarious state of mind, Andrey Antonovich responds to both problems in a somewhat demented authoritarian fashion. Julia Mikhaylovna and her retinue, among whom are Varvara Petrovna and Liza, return from a visit to Skvoreshniki and the Governor is further humiliated by a public snubbing from his wife. As Julia Mikhaylovna engages charmingly with Stepan Trofimovich and the ‘great writer’ Karmazinov, who are to read at the Gala tomorrow, Pyotr Stepanovich enters. Seeing him, Andrey Antonovich begins to show signs of derangement. But attention is immediately diverted to a new drama: Stavrogin has entered the room, and he is accosted by Liza. In a loud voice she complains of harassment from a certain Captain Lebyadkin, who describes himself as Stavrogin’s relation, the brother of his wife. Stavrogin calmly replies that Marya (née Lebyadkina) is indeed his wife, and that he will make sure the Captain causes her no further trouble. Varvara Petrovna is horrified, but Stavrogin simply smiles and walks out. Liza follows him.
Part III[edit]
The much vaunted literary matinée and ball takes place the next day. Most of the town has subscribed and all the influential people are present for the reading, with the exception of the Stavrogins. Julia Mikhaylovna, who has somehow managed to reconcile Andrey Antonovich, is at the summit of her ambition. But things go wrong from the beginning. Pyotr Stepanovich’s associates Lyamshin and Liputin take advantage of their role as stewards to alter proceedings in a provocative way, and allow a lot of low types in without paying. The reading starts with the unscheduled appearance on stage of a hopelessly drunk Captain Lebyadkin, apparently for the purpose of reading some of his poetry. Realizing the Captain is too drunk, Liputin takes it upon himself to read the poem, which is a witless and insulting piece about the hard lot of governesses. He is quickly followed by the literary genius Karmazinov who is reading a farewell to his public entitled «Merci«. For over an hour the great writer plods through an aimless stream of self-absorbed fantasy, sending the audience into a state of complete stupefaction. The torture only comes to an end when an exhausted listener inadvertently cries out «Lord, what rubbish!» and Karmazinov, after exchanging insults with the audience, finally closes with an ironic «Merci, merci, merci.» In this hostile atmosphere Stepan Trofimovich takes the stage. He plunges headlong into a passionate exhortation of his own aesthetic ideals, becoming increasingly shrill as he reacts to the derision emanating from the audience. He ends by cursing them and storming off. Pandemonium breaks out as an unexpected third reader, a ‘professor’ from Petersburg, immediately takes the stage in his place. Apparently delighted by the disorder, the new orator launches into a frenzied tirade against Russia, shouting with all his might and gesticulating with his fist. He is eventually dragged off stage by six officials, but he somehow manages to escape and returns to briefly continue his harangue before being dragged off again. Supporters in the audience rush to his aid as a schoolgirl takes the stage seeking to rouse oppressed students everywhere to protest.
In the aftermath, Pyotr Stepanovich (who was mysteriously absent from the reading) seeks to persuade a traumatized Julia Mikhaylovna that it wasn’t as bad as she thinks and that it is essential for her to attend the ball. He also lets her know that the town is ringing with the news of another scandal: Lizaveta Nikolaevna has left her home and fiancé and gone off to Skvoreshniki with Stavrogin.
Despite the disaster of the reading, the ball goes ahead that evening, with Julia Mikhaylovna and Andrey Antonovich in attendance. Many of the respectable public have chosen not to attend but there is an increased number of dubious types, who make straight for the drinking area. Hardly anyone is dancing, most are standing around waiting for something to happen and casting curious glances at the Von Lembkes. A ‘literary quadrille’ has been especially choreographed for the occasion, but it is vulgar and stupid and merely bemuses the onlookers. Shocked by some of the antics in the quadrille and the degenerating atmosphere in the hall, Andrey Antonovich lapses back into his authoritarian persona and a frightened Julia Mikhaylovna is forced to apologise for him. Someone shouts «Fire!» and the news quickly spreads that a large fire is raging in part of the town. There is a stampede for the exits, but Andrey Antonovich screams that all must be searched, and when his distressed wife calls out his name he orders her arrest. Julia Mikhaylovna faints. She is carried to safety, but Andrey Antonovich insists on going to the fire. At the fire he is knocked unconscious by a falling beam, and although he later recovers consciousness, he does not recover his sanity, and his career as governor comes to an end. The fire rages all night, but by morning it has dwindled and rain is falling. News begins to spread of a strange and terrible murder: a certain Captain, his sister and their serving maid have been found stabbed to death in their partially burned down house on the edge of town.
Stavrogin and Liza have spent the night together and they wake to the dying glow of the fire. Liza is ready to leave him, convinced that her life is over. Pyotr Stepanovich arrives to impart the news of the Lebyadkins’ murder. He says the murderer was Fedka the Convict, denies any involvement himself, and assures Stavrogin that legally (and of course morally) he too is in the clear. When Liza demands the truth from Stavrogin, he replies that he was against the murder but knew it was going to happen and didn’t stop the murderers. Liza rushes off in a frenzy, determined to get to the place of the murders to see the bodies. Stavrogin tells Pyotr Stepanovich to stop her, but Pyotr Stepanovich demands an answer. Stavrogin replies that it might be possible to say yes to him if only he were not such a buffoon, and tells him to come back tomorrow. Appeased, Pyotr Stepanovich pursues Liza, but the attempt to stop her is abandoned when Mavriky Nikolaevich, who has been waiting for her outside all night, rushes to her aid. He and Liza proceed to the town together in the pouring rain. At the scene of the murders an unruly crowd has gathered. By this time it is known that it is Stavrogin’s wife who has been murdered, and Liza is recognized as ‘Stavrogin’s woman’. She and Mavriky Nikolaevich are attacked by drunk and belligerent individuals in the crowd. Liza is struck several times on the head and is killed.
Most of society’s anger for the night’s events is directed toward Julia Mikhaylovna. Pyotr Stepanovich is not suspected, and news spreads that Stavrogin has left on the train for Petersburg. The revolutionary crew, however, are alarmed. They are on the point of mutiny until Pyotr Stepanovich shows them Lebyadkin’s letter to Von Lembke. He points to their own undeniable involvement and tells them that Shatov is also determined to denounce them. They agree that Shatov will have to be killed and a plan is made to lure him to the isolated location where he has buried the society’s printing press. Pyotr Stepanovich explains that Kirillov has agreed to write a note taking responsibility for their crimes before he commits suicide. Shatov himself is preoccupied with the unexpected return of his ex-wife Marie, who has turned up on his doorstep, alone, ill and poverty-stricken. He is overjoyed to see her, and when it turns out that she is going into labour with Stavrogin’s child he frantically sets about helping her. The child is born and, reconciled with Marie, he is happy that he is going to be the father. That night the emissary from the revolutionary group—Erkel—arrives to escort Shatov to the isolated part of Skvoreshniki where the printing press is buried. Thinking this will be his final interaction with the society, Shatov agrees to come. As he shows Erkel the spot, the other members of the group jump out and grab him. Pyotr Verkhovensky puts a gun to Shatov’s forehead and fires, killing him. As they clumsily weight the body and dump it in the pond, one of the participants in the crime—Lyamshin—completely loses his head and starts shrieking like an animal. He is restrained and eventually quietened, and they go their separate ways. Early the following morning Pyotr Stepanovich proceeds to Kirillov’s place. Kirillov has been forewarned and is eagerly awaiting him. However, his aversion to Pyotr Stepanovich and the news of Shatov’s death arouse a reluctance to comply, and for some time they parley, both with guns in hand. Eventually Kirillov seems to be overcome by the power of his desire to kill himself and despite his misgivings he hurriedly writes and signs the suicide note taking responsibility for the crimes, and runs into the next room. But there is no shot, and Pyotr Stepanovich cautiously follows him into the darkened room. A strange and harrowing confrontation ends with Pyotr Stepanovich fleeing in a panic. A shot rings out and he returns to find that Kirillov has shot himself through the head.
Meanwhile, Stepan Trofimovich, oblivious to the unfolding horrors, has left town on foot, determined to take the high road to an uncertain future. Wandering along with no real purpose or destination, he is offered a lift by some peasants. They take him to their village where he meets Sofya Matveyevna, a travelling gospel seller, and he firmly attaches himself to her. They set off together but Stepan Trofimovich becomes ill and they are forced to take a room at a large cottage. He tells Sofya Matveyevna a somewhat embellished version of his life story and pleads with her not to leave him. To his horror, Varvara Petrovna suddenly turns up at the cottage. She has been looking for him since his disappearance, and her ferocity greatly frightens both Stepan Trofimovich and Sofya Matveyevna. When she realizes that he is extremely ill and that Sofya Matveyevna has been looking after him, her attitude softens and she sends for her doctor. A difficult reconciliation between the two friends, during which some painful events from the past are recalled, is effected. It becomes apparent that Stepan Trofimovich is dying and a priest is summoned. In his final conscious hours he recognizes the deceit of his life, forgives others, and makes an ecstatic speech expressing his re-kindled love of God.
When Shatov fails to return, Marie, still exhausted from the birth, seeks out Kirillov. Encountering the terrible scene of the suicide, she grabs her newborn baby and rushes outside into the cold, desperately seeking help. Eventually the authorities are called to the scene. They read Kirillov’s note and a short time later Shatov’s body is discovered at Skvoreshniki. Marie and the baby become ill, and die a few days later. The crime scene at Skvoreshniki reveals that Kirillov must have been acting with others and the story emerges that there is an organized group of revolutionary conspirators behind all the crimes and disorders. Paranoia grips the town, but all is revealed when Lyamshin, unable to bear it, makes a groveling confession to the authorities. He tells the story of the conspiracy in great detail, and the rest of the crew, with the exception of Pyotr Stepanovich who left for Petersburg after Kirillov’s suicide, are arrested.
Varvara Petrovna, returning to her town house after Stepan Trofimovich’s death, is greatly shaken by all the terrible news. Darya Pavlovna receives a disturbing letter from Nikolai Vsevolodovich, which she shows to Varvara Petrovna. News arrives from Skvoreshniki that Nikolai Vsevolodovich is there and has locked himself away without saying a word to anyone. They hurry over, and find that Nikolai Vsevolodovich has hanged himself.
Censored chapter[edit]
The editor of The Russian Messenger, Mikhail Katkov, refused to publish the chapter «At Tikhon’s». The chapter concerns Stavrogin’s visit to the monk Tikhon at the local monastery, during which he confesses, in the form of a lengthy and detailed written document, to taking sexual advantage of a downtrodden and vulnerable 11-year-old girl—Matryosha—and then waiting and listening as she goes through the process of hanging herself. He describes his marriage to Marya Lebyadkina as a deliberate attempt to cripple his own life, largely as a consequence of his inability to forget this episode and the fear he experienced in its aftermath.[55] Dostoevsky considered the chapter to be essential to an understanding of the psychology of Stavrogin, and he tried desperately but unsuccessfully to save it through revisions and concessions to Katkov. He was eventually forced to drop it and rewrite parts of the novel that dealt with its subject matter.[56] He never included the chapter in subsequent publications of the novel, but it is generally included in modern editions as an appendix. It has also been published separately, translated from Russian to English by S.S. Koteliansky and Virginia Woolf, with an essay on Dostoevsky by Sigmund Freud.[57]
Themes[edit]
A page from Dostoevsky’s notebooks for Demons
Atheism and belief[edit]
Dostoevsky wrote to Maykov that the chief theme of his novel was «the very one over which, consciously and unconsciously, I have been tormented all my life: it is the existence of God.»[58] Much of the plot develops out of the tension between belief and non-belief, and the words and actions of most of the characters seem to be intimately bound to the position they take up within this struggle.
Dostoevsky saw atheism as the root cause of Russia’s deepening social problems. He further wrote to Maykov: «a man who loses his people and his national roots also loses the faith of his fathers and his God.»[59] It is in this letter that he speaks, referring primarily to Stavrogin and secondarily to Stepan Verkhovensky, of the ‘Russian Man’ as comparable to the man possessed by demons who is healed by Jesus in the parable of the swine. In Demons the Russian man has lost his true national identity (inextricably linked, for Dostoevsky, with the Orthodox Christian faith) and tries to fill the void with ideas derived from Western modes of thought—Catholicism, atheism, scientism, socialism, idealism, etc. As teachers and strong personalities, Stavrogin and Stepan Trofimovich influence those around them, and thus the demons enter the swine. Only at the end, after a heartfelt acknowledgment of their fault, are they given the possibility of redemption—Stavrogin when Tikhon offers him life as a Christian renunciate (an offer that Stavrogin refuses) and Stepan Trofimovich as he approaches death.[60]
Instead of belief in God, Stavrogin has rationality, intellect, self-reliance, and egoism, but the spiritual longing and sensual ardour of his childhood, over-stimulated by his teacher Stepan Trofimovich, has never left him.[61][62] Unfettered by fear or morality, his life has become a self-centred experiment and a heartless quest to overcome the torment of his growing ennui.[63] The most striking manifestation of his dilemma is in the dialogue with Tikhon, where we find him, perhaps for the only time, truthfully communicating his inner state. In this dialogue there is an alternation in his speech between the stern, worldly voice of rational self-possession and the vulnerable, confessional voice of the lost and suffering soul.[64][65]
Many of the other characters are deeply affected by one or other of the two aspects of Stavrogin’s psyche. The nihilist Pyotr Verkhovensky is in love with the cynical, amoral, power-seeking side, while Shatov is affected by the ardour of the feeling, spiritually-bereft side. Shatov «rose from the dead» after hearing Stavrogin’s uncompromising exhortation of Christ as the supreme ideal (an assertion made in a futile effort to convince himself: he succeeds in convincing Shatov but not himself).[66] Conversely, Kirillov was convinced by Stavrogin’s exhortation of atheism—the supremacy of Man’s will, not God’s—and forges a plan to sacrifice himself to free humanity from its bondage to mystical fear. But Stavrogin himself does not even believe in his own atheism, and as Shatov and Tikhon recognize, drives himself further into evil out of a desire to torture himself and avoid the truth. Kirillov sums up Stavrogin’s dilemma thus: «If Stavrogin believes, then he doesn’t believe that he believes. But if he doesn’t believe, then he doesn’t believe that he doesn’t believe.»[67]
Suicide[edit]
Dostoevsky saw Russia’s growing suicide rate as a symptom of the decline of religious faith and the concomitant disintegration of social institutions like the family.[68] Self-destruction as a result of atheism or loss of faith is a major theme in Demons and further recalls the metaphor of the demon-possessed swine in the epigraph.[69]
In addition to a number of extended dialogues on the subject, mostly involving Kirillov, there are four actual suicides described in the novel. The first is in anecdotal form, told by the narrator after the pranksters associated with Julia Mikaylovna pay a visit to the scene of a suicide. Entrusted with a large sum of money by his family, a hitherto quiet and responsible young man deliberately squanders it all on riotous living over a period of several days. Returning to his hotel, he calmly and politely orders a meal and some wine, writes a short note, and shoots himself through the heart.
The first plot-related suicide is that of Kirillov. Kirillov is a kind of philosopher of suicide and, under questioning from several interlocutors (the narrator, Stavrogin, Pyotr Verkhovensky), expounds his ideas on the subject, mostly as it relates to him personally but also as a general phenomenon. According to him there are two types of people who commit suicide: those who do it suddenly upon being overwhelmed by an unbearable emotion, and those who do it after much thought for good reason. He thinks that everyone could fall into the latter category if it were not for two prejudices: fear of pain, and fear of the next world. «God» he says, «is the pain of the fear of death. Whoever conquers pain and fear will himself become God.» In his mind he is the man who, by his own intentional death, will demonstrate to humanity the transcendence of pain and fear and free them of the need to invent God.[70]
Stavrogin’s suicide at the end of the novel is only fully understood with reference to the censored chapter. The enormity of his crimes, the desolation of his inner being, the madness born of his «sacrilegious, proto-Nietzschean attempt to transcend the boundaries of good and evil», are hidden realities that only become visible in the confession and dialogue with Tikhon.[71] Despite this ‘madness’, it is ‘rationality’ that is emphasized in the narrator’s description of the suicide itself. The efficiency of the procedure, the brief, precise note, and the subsequent medical opinion of his mental state emphatically ruling out madness, all point to his ‘reasonable’ state of mind at the time of the act.
The final suicide is that of the little girl Matryosha, described by Stavrogin in his confessional letter. After her encounter with Stavrogin, she tells her mother that she has «killed God». When she hangs herself Stavrogin is present in the next room and aware of what she is doing.
[edit]
Demons as satire[edit]
A common criticism of Demons, particularly from Dostoevsky’s liberal and radical contemporaries, is that it is exaggerated and unrealistic, a result of the author’s over-active imagination and excessive interest in the psycho-pathological. However, despite giving freedom to his imagination, Dostoevsky took great pains to derive the novel’s characters and story from real people and real ideas of the time. According to Frank, «the book is almost a compressed encyclopedia of the Russian culture of the period it covers, filtered through a witheringly derisive and often grotesquely funny perspective, and it creates a remarkable ‘myth’ of the main conflicts of this culture reconstructed on a firm basis of historical personages and events.»[72]
Almost all of the principal characters, or at least their individual guiding ideas, had actually existing contemporary prototypes. Stavrogin was partly based on Dostoevsky’s comrade from the Petrashevsky Circle, Nikolay Speshnev, and represented an imagined extreme in practice of an amoral, atheistic philosophy like that of Max Stirner.[73] The darkness of Stavrogin is confronted by the radiance of Bishop Tikhon, a character inspired by Tikhon of Zadonsk.
Of Pyotr Verkhovensky, Dostoevsky said that the character is not a portrait of Nechayev but that «my aroused mind has created by imagination the person, the type, that corresponds to the crime… To my own surprise he half turns out to be a comic figure.»[74] Most of the nihilist characters associated with Pyotr Verkhovensky were based on individuals who appeared in the transcripts of the trial of the Nechayevists, which were publicly available and studied by Dostoevsky. The character of Shatov represents a Russian nationalist response to socialist ideas, and was initially based on Nechayev’s victim Ivanov, but later on the contemporary slavophile ideas of Danilevsky[75] and to some extent on Dostoevsky’s own reformed ideas about Russia.
Stepan Verkhovensky began as a caricature of Granovsky, and retained the latter’s neurotic susceptibilities, academic interests, and penchant for writing long confessional letters, but the character was grounded in the idealistic tendencies of many others from the generation of the 1840s, including Herzen, Belinsky, Chaadaev, Turgenev, and Dostoevsky himself.[76] Liberal figures like Stepan Trofimovich, Varvara Petrovna, Liputin, Karmazinov, and the Von Lembkes, and minor authority figures like the old Governor Osip Osipovich and the over-zealous policeman Flibusterov, are parodies of a variety of establishment types that Dostoevsky held partially responsible for the excesses of the radical generation. Karmazinov was an openly hostile parody of Turgenev—his personality and mannerisms, his perceived complicity with nihilism, and, in the Gala reading scene, the style of some of his later literary works.[77]
Even the most extreme and unlikely characters, such as Kirillov and Shigalev, were grounded in real people or ideas of the time. Kirillov was initially inspired by a Nechayev associate who spoke openly at the trial of his plan to commit suicide, but the apocalyptic philosophy the character builds around his obsession is grounded in an interpretation of the anthropotheistic ideas of Feuerbach.[78] Shigalev was initially based on the radical critic V.A. Zaitsev who advocated a form of Social Darwinism that included, for example, an argument that without the protection of slavery the black race would become extinct due to its inherent inferiority.[79] Shigalev’s notion of human equality, the «earthly paradise» in which nine tenths of humanity are to be deprived of their will and turned into a slave-herd by means of a program of inter-generational ‘re-education’, had a contemporary prototype in the ideas of Petr Tkachev. Tkachev argued that the only biologically possible ‘equality’ for human beings was «an organic, physiological equality conditioned by the same education and common living conditions» and he saw this as the supreme goal of all historical and social progress.[80]
As prophecy[edit]
Kjetsaa claims that Dostoevsky did not regard Revelation as «merely a consolatory epistle to first century Christians during the persecution they suffered», but as a «prophecy being fulfilled in his own time».[81] Dostoevsky wrote that «Communism will conquer one day, irrespective of whether the Communists are right or wrong. But this triumph will stand very far from the Kingdom of Heaven. All the same, we must accept that this triumph will come one day, even though none of those who at present steer the world’s fate have any idea about it at all.»[82]
Since the Russian Revolution, many commentators have remarked on the prophetic nature of Demons. André Gide, writing in the early 1920s, suggested that «the whole of (the novel) prophesies the revolution of which Russia is presently in the throes».[83] In Soviet Russia, a number of dissident authors found a prototype for the Soviet police state in the system expounded by Shigalev at the meeting of Pyotr Verkhovensky’s revolutionary society. Boris Pasternak, Igor Shafarevich, and Alexander Solzhenitsyn, have called Dostoevsky’s description of Shigalevism prophetic, anticipating the systematic politicide which followed the October Revolution. Pasternak often used the term «Shigalevism» (shigalevshchina) to refer to Joseph Stalin’s Great Purge.[84][85][86] According to Richard Pevear, Dostoevsky even presaged the appearance of Lenin himself with his description of the final reader at the ill-fated literary gala: «a man of about forty, bald front and back, with a grayish little beard, who…keeps raising his fist over his head and bringing it down as if crushing some adversary to dust.»[87]
Dostoevsky biographer Ronald Hingley described the novel as «an awesome, prophetic warning which humanity, no less possessed of collective and individual devilry in the 1970s than in the 1870s, shows alarmingly few signs of heeding.»[88] Robert L. Belknap notes its relevance to the twentieth century in general, «when a few Stavrogins empowered thousands of Pyotr Stepanovichs to drive herds of ‘capital’, to use Nechayev’s term, to slaughter about a hundred million people, the very number Shigalyev and Pyotr hit upon.»[89] In his book Dostoyevsky in Manhattan
French philosopher André Glucksmann argued that ‘nihilism’, as depicted in Demons, is the underlying idea or ‘characteristic form’ of modern terrorism.[90]
English translations[edit]
This is a list of the unabridged English translations of the novel:[91][92]
- Constance Garnett (1914, as The Possessed)
- David Magarshack (1953, as The Devils)
- Andrew R. MacAndrew (1962, as The Possessed)
- Michael R. Katz (1992, as Devils)
- Richard Pevear and Larissa Volokhonsky (1994)
- Robert A. Maguire (2008)
- Roger Cockrell (2018, as Devils)
Adaptations[edit]
- 1913, play produced by the Moscow Art Theater.
- 1959, French play The Possessed written by Albert Camus.
- 1969, BBC mini-series The Possessed adapted by Lennox Phillips starring Keith Bell; also broadcast on PBS television in 1972.
- 1988, French film Les Possédés adapted by Andrzej Wajda.
- 2009, «…the itsy bitsy spider…» adapted by Alexandre Marine for Studio Six Theatre Company.
- 2014, Russian mini-series by Russia-1 and post-modern film.
- 2021, BBC Radio 4 mini-series Devils adapted by Melissa Murray starring Joseph Arkley, Jonathan Forbes, Georgia Henshaw and Jane Whittenshaw.[93]
References[edit]
- ^ Joyce Carol Oates: Tragic Rites In Dostoevsky’s The Possessed, p. 3
- ^ Hingley, Ronald (1978). Dostoyevsky His Life and Work. London: Paul Elek Limited. pp. 158–59. ISBN 0-236-40121-1.
- ^ Peter Rollberg (2014) Mastermind, Terrorist, Enigma: Dostoevsky’s Nikolai Stavrogin, Perspectives on Political Science, 43:3, 143-152.
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons. Trans. Pevear and Volokhonsky. New York: Vintage Classics, 1995. p. xiii
- ^ Maguire, Robert A (2008). Demons (Introduction). pp. xxxiii–xxxiv.
- ^ Bakhtin, Mikhail (1984). Problems of Dostoevsky’s Poetics (trans. Caryl Emerson). University of Minnesota Press. pp. 22–23
- ^ Pevear, Richard (1995). Foreword to Demons (trans. Pevear and Volokhonsky). p. xvii
- ^ Frank, Joseph (2010). Dostoevsky A Writer in his Time. New Jersey: Princeton University Press. p. 656–7. ISBN 978-0-691-12819-1.
- ^ quoted in Frank, Joseph. (2010). p. 607
- ^ Kjetsaa (1987). p. 251.
- ^ Peace, Richard (1971). Dostoyevsky: An Examination of the Major Novels. Cambridge University Press. pp. 140–42. ISBN 0-521-07911-X.
- ^ Frank, Joseph (2010). Dostoevsky: A Writer in His Time. pp. 606, 645.
- ^ Frank, Joseph. Dostoevsky: A Writer in His Time. p. 612.
- ^ Dostoevsky, F. (1994). A Writer’s Diary (trans. Kenneth Lantz). Northwestern University Press. p. 67
- ^ Dostoevsky, Fyodor (2009). A Writer’s Diary. p. 65.
- ^ Frank, Joseph (2010). Dostoevsky: A Writer in His Time. p. 645.
- ^ Stromberg, David. 2012. “The Enigmatic G—v: A Defense of Narrator-Chronicler in Dostoevsky’s Demons.” The Russian Review: An American Quarterly Devoted to Russia Past and Present 71 (3): 460–81.
- ^ Frank, Joseph (2010). Dostoevsky A Writer In His Time. p. 261.
- ^ Pevear, Richard (1995). Foreword to Demons (trans. Pevear and Volokhonsky). p. xiv
- ^ Bakhtin, Mikhail (1984). Problems of Dostoevsky’s Poetics (trans. Caryl Emerson). pp. 90–95, 265
- ^ Frank, Joseph (2010). Dostoevsky A Writer In His Time. pp. 603–04, 610.
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. p. 12
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. p. 339
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. pp. 21–22
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. p. 14
- ^ Frank (2010). pp. 604–06, 645–49
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. p. 48
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. p. 201
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. p. 282
- ^ quoted in Frank, Joseph (2010). Dostoevsky: A Writer in His Time. p. 646.
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. p. 764
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. p. 744
- ^ Wasiolek, Edward (1964). Dostoevsky: The Major Fiction. Cambridge, Massachusetts: M.I.T. Press. p. 112
- ^ Frank, Joseph (2010). Dostoevsky A Writer in his Time. p. 630.
- ^ Nechayev Catechism of a Revolutionary quoted in Frank, Joseph (2010). Dostoyevsky A Writer In His Time. p. 633.
- ^ Wasiolek, Edward (1964). Dostoevsky: The Major Fiction. Cambridge, Mass., M.I.T. Press. p. 135.
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. p. 281
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. p. 270
- ^ Frank, Joseph (2010). Dostoevsky A Writer in His Time. pp. 648–49.
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. p. 33
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. pp. 265–84
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. pp. 280–81
- ^ Frank, Joseph (2010). Dostoevsky A Writer in His Time. p. 656.
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. p. 685
- ^ Frank, Joseph (2010). Dostoevsky A Writer In His Time. pp. 654–55.
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. p. 618
- ^ Frank, Joseph (2010). Dostoevsky A Writer in His Time. p. 658.
- ^ Frank (2010). p. 658
- ^ Nechayev’s Catechism quoted in Frank, Joseph (2010). Dostoevsky A Writer in His Time. p. 633.
- ^ Frank, Joseph (2010). Dostoevsky A Writer in his Time. pp. 642–45.
- ^ Demons (trans. Maguire) p. 446
- ^ Frank, Joseph (2010). Dostoevsky A Writer in his Time. p. 662.
- ^ Dostoyevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. 2008. p. 779
- ^ Frank (2010). p. 597
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. p. 773
- ^ Frank, Joseph (2010). Dostoevsky A Writer In His Time. pp. 622–24.
- ^ Stavrogin’s Confession including Dostoevsky and Parricide, by Fyodor Dostoevsky (Author), Sigmund Freud (Afterword) including a psychoanalytic study of the author, Virginia Woolf (Translator), S.S. Koteliansky (Translator) Publisher: Lear Publishers (1947) ASIN B000LDS1TI ASIN B000MXVG94
- ^ letter to A.N. Maykov (25 March 1870) quoted in Peace, Richard (1971). Dostoyevsky: An examination of the major novels. p. 214.
- ^ (October 9, 1870) quoted in Frank, Joseph (2010). p. 607
- ^ Frank, Joseph (2010). pp. 647–49, 663–64
- ^ Frank (2010). p. 652
- ^ Demons (2008). pp. 44–45
- ^ Frank (2010). pp. 652, 661
- ^ Bakhtin, Mikhail (1984). pp. 262–63
- ^ Demons (2008). «At Tikhon’s», pp. 751–87
- ^ Bakhtin, Mikhail (1984). pp. 260–61
- ^ Demons (2008). p. 682
- ^ Freeborn, Richard (2003). Dostoevsky. London: Haus Publishing. p. 112. ISBN 9781904341277.
- ^ Peace (1971). p. 168
- ^ Demons (2008). pp. 126–28
- ^ Frank, Joseph. (2010). p. 665
- ^ Frank (2010). p. 637
- ^ Frank (2010). pp. 645–46
- ^ Dostoevsky letter to Katkov, October 1870. Quoted in Frank (2010). p. 606
- ^ Frank (2010). p. 656
- ^ Peace (1971). pp. 143–46, 321
- ^ Peace (1971). pp. 158–62
- ^ Peace (1971). p. 156
- ^ Frank (2010). p. 635
- ^ Frank (2010). p. 636
- ^ Kjertsaa (1987). pp. 253–54.
- ^ Kjertsaa (1987). p. 253.
- ^ Gide, André (1949). Dostoevsky. London: Secker & Warburg. p. 162.
- ^ Alexander Gladkov (1977), Meetings with Pasternak, Harcourt Brace Jovanovich. p. 34.
- ^ Boris Pasternak (1959), I Remember: Sketch for an Autobiography, Pantheon, p. 90.
- ^ Alexander Solzhenitsyne et al (1981), From Under the Rubble, Gateway Editions. p. 54.
- ^ Foreword to Demons (trans. Pevear and Volokhonsky). p. x.
- ^ Hingley, Ronald (1978). Dostoyevsky: His Life and Work. p. 159.
- ^ Belknap, Robert. Introduction to Demons (trans. Maguire) p. xxviii. 2008
- ^ «Bin Laden, Dostoevsky and the reality principle: an interview with Andre Glucksmann». openDemocracy. openDemocracy Limited. Archived from the original on 5 February 2016. Retrieved 1 February 2016.
- ^ Burnett, Leon. «Dostoevskii» in Encyclopedia of Literary Translation Into English: A-L, Olive Classe (ed.), Fitxroy Dearborn Publishers: 2000, p.366.
- ^ France, Peter. «Dostoevsky» in The Oxford Guide to Literature in English Translation, France, Peter (ed.). Oxford University Press: 2000, p. 598.
- ^ «BBC Radio 4 — Devils».
External links[edit]
- The Possessed (The Devils) at Project Gutenberg
- Virginia Woolf’s translation of Stavrogin’s Confession
- Joyce Carol Oates: Tragic Rites In Dostoevsky’s The Possessed
- Online Russian text of Demons (in Russian)
The Possessed public domain audiobook at LibriVox
- The Possessed at IMDb

Front page of Demons, first edition, 1873 (Russian) |
|
| Author | Fyodor Dostoevsky |
|---|---|
| Original title | Бѣсы |
| Translator | Constance Garnett (1916) David Magarshack (1954) Andrew R Macandrew (1962) Michael R. Katz (1992) Richard Pevear and Larissa Volokhonsky (1995) Robert A. Maguire (2008) Roger Cockrell (2018) |
| Country | Russia |
| Language | Russian |
| Genre | Philosophical novel Political novel Anti-nihilistic novel Psychological novel Satirical novel |
|
Publication date |
1871–72 |
|
Published in English |
1916 |
| Preceded by | The Idiot |
Demons (pre-reform Russian: Бѣсы; post-reform Russian: Бесы, tr. Bésy, IPA: [ˈbʲe.sɨ]; sometimes also called The Possessed or The Devils is a novel by Fyodor Dostoevsky, first published in the journal The Russian Messenger in 1871–72. It is considered one of the four masterworks written by Dostoevsky after his return from Siberian exile, along with Crime and Punishment (1866), The Idiot (1869), and The Brothers Karamazov (1880). Demons is a social and political satire, a psychological drama, and large-scale tragedy. Joyce Carol Oates has described it as «Dostoevsky’s most confused and violent novel, and his most satisfactorily ‘tragic’ work.»[1] According to Ronald Hingley, it is Dostoevsky’s «greatest onslaught on Nihilism», and «one of humanity’s most impressive achievements—perhaps even its supreme achievement—in the art of prose fiction.»[2]
Demons is an allegory of the potentially catastrophic consequences of the political and moral nihilism that were becoming prevalent in Russia in the 1860s.[3] A fictional town descends into chaos as it becomes the focal point of an attempted revolution, orchestrated by master conspirator Pyotr Verkhovensky. The mysterious aristocratic figure of Nikolai Stavrogin—Verkhovensky’s counterpart in the moral sphere—dominates the book, exercising an extraordinary influence over the hearts and minds of almost all the other characters. The idealistic, Western-influenced generation of the 1840s, epitomized in the character of Stepan Verkhovensky (who is both Pyotr Verkhovensky’s father and Nikolai Stavrogin’s childhood teacher), are presented as the unconscious progenitors and helpless accomplices of the «demonic» forces that take possession of the town.
Title[edit]
The original Russian title is Bésy (Russian: Бесы, singular Бес, bés), which means «demons». There are three English translations: The Possessed, The Devils, and Demons. Constance Garnett’s 1916 translation popularized the novel and gained it notoriety as The Possessed, but this title has been disputed by later translators. They argue that «The Possessed» points in the wrong direction because Bésy refers to active subjects rather than passive objects—»possessors» rather than «the possessed«.[4][5] ‘Demons’ in this sense refers not so much to individuals as to the ideas that possess them. For Dostoevsky, ‘ideas’ are living cultural forces that have the capacity to seduce and subordinate the individual consciousness, and the individual who has become alienated from his own concrete national traditions is particularly susceptible.[6] According to translator Richard Pevear, the demons are «that legion of isms that came to Russia from the West: idealism, rationalism, empiricism, materialism, utilitarianism, positivism, socialism, anarchism, nihilism, and, underlying them all, atheism.»[7] The counter-ideal (expressed in the novel through the character of Ivan Shatov) is that of an authentically Russian culture growing out of the people’s inherent spirituality and faith, but even this—as mere idealization and an attempt to reassert something that has been lost—is another idea and lacks real force.[8]
In a letter to his friend Apollon Maykov, Dostoevsky alludes to the episode of the Exorcism of the Gerasene demoniac in the Gospel of Luke as the inspiration for the title: «Exactly the same thing happened in our country: the devils went out of the Russian man and entered into a herd of swine… These are drowned or will be drowned, and the healed man, from whom the devils have departed, sits at the feet of Jesus.»[9] Part of the passage is used as an epigraph, and Dostoevsky’s thoughts on its relevance to Russia are given voice by Stepan Verkhovensky on his deathbed near the end of the novel.
Background[edit]
In late 1860s Russia there was an unusual level of political unrest caused by student groups influenced by liberal, socialist, and revolutionary ideas. In 1869, Dostoevsky conceived the idea of a ‘pamphlet novel’ directed against the radicals. He focused on the group organized by young agitator Sergey Nechayev, particularly their murder of a former comrade—Ivan Ivanov—at the Petrovskaya Agricultural Academy in Moscow. Dostoevsky had first heard of Ivanov from his brother-in-law, who was a student at the academy, and had been much interested in his rejection of radicalism and exhortation of the Russian Orthodox Church and the House of Romanov as the true custodians of Russia’s destiny. He was horrified to hear of Ivanov’s murder by the Nechayevists, and vowed to write a political novel about what he called «the most important problem of our time.»[10] Prior to this Dostoevsky had been working on a philosophical novel (entitled ‘The Life of a Great Sinner’) examining the psychological and moral implications of atheism. The political polemic and parts of the philosophical novel were merged into a single larger scale project, which became Demons.[11] As work progressed, the liberal and nihilistic characters began to take on a secondary role as Dostoevsky focused more on the amoralism of a charismatic aristocratic figure—Nikolai Stavrogin.[12]
Although a merciless satirical attack on various forms of radical thought and action, Demons does not bear much resemblance to the typical anti-nihilist novels of the era (as found in the work of Nikolai Leskov for example), which tended to present the nihilists as deceitful and utterly selfish villains in an essentially black and white moral world.[13] Dostoevsky’s nihilists are portrayed in their ordinary human weakness, drawn into the world of destructive ideas through vanity, naïveté, idealism, and the susceptibility of youth. In re-imagining Nechayev’s orchestration of the murder, Dostoevsky was attempting to «depict those diverse and multifarious motives by which even the purest of hearts and the most innocent of people can be drawn in to committing such a monstrous offence.»[14] In A Writer’s Diary, he discusses the relationship of the ideas of his own generation to those of the current generation, and suggests that in his youth he too could have become a follower of someone like Nechayev.[15] As a young man Dostoevsky himself was a member of a radical organisation (the Petrashevsky Circle), for which he was arrested and exiled to a Siberian prison camp. Dostoevsky was an active participant in a secret revolutionary society formed from among the members of the Petrashevsky Circle. The cell’s founder and leader, the aristocrat Nikolay Speshnev, is thought by many commentators to be the principal inspiration for the character of Stavrogin.[16]
Narration[edit]
The first person narrator is a minor character, Anton Lavrentyevich G—v, who is a close friend and confidant of Stepan Verkhovensky. [17] Young, educated, upright, and sensible, Anton Lavrentyevich is a local civil servant who has decided to write a chronicle of the strange events that have recently occurred in his town. Despite being a secondary character, he has a surprisingly intimate knowledge of all the characters and events, such that the narrative often seems to metamorphose into that of the omniscient third person. According to Joseph Frank, this unusual narrative point-of-view enables Dostoevsky «to portray his main figures against a background of rumor, opinion and scandal-mongering that serves somewhat the function of a Greek chorus in relation to the central action.»[18]
The narrator’s voice is intelligent, frequently ironic and psychologically perceptive, but it is only periodically the dominant voice, and often seems to disappear altogether. Much of the narrative unfolds dialogically, implied and explicated through the interactions of the characters, the internal dialogue of a single character, or through a combination of the two, rather than through the narrator’s story-telling or description. In Problems of Dostoevsky’s Poetics the Russian philosopher and literary theorist Mikhail Bakhtin describes Dostoevsky’s literary style as polyphonic, with the cast of individual characters being a multiplicity of «voice-ideas», restlessly asserting and defining themselves in relation to each other. The narrator in this sense is present merely as an agent for recording the synchronisation of multiple autonomous narratives, with his own voice weaving in and out of the contrapuntal texture.[19][20]
Characters[edit]
Major characters[edit]
- Stepan Trofimovich Verkhovensky is a refined and high-minded intellectual who unintentionally contributes to the development of nihilistic forces, centering on his son Pyotr Stepanovich and former pupil Nikolai Stavrogin, that ultimately bring local society to the brink of collapse. The character is Dostoevsky’s rendering of an archetypal liberal idealist of the 1840s Russian intelligentsia, and is based partly on Timofey Granovsky and Alexander Herzen.[21]
- The novel begins with the narrator’s affectionate but ironic description of Stepan Trofimovich’s character and early career. He had the beginnings of a career as a lecturer at the University, and for a short time was a prominent figure among the exponents of the ‘new ideas’ that were beginning to influence Russian cultural life. He claims that government officials viewed him as a dangerous thinker, forcing him out of academia and into exile in the provinces, but in reality, it was more likely that no one of note in the government even knew who he was. In any case, his anxiety prompted him to accept Varvara Stavrogina’s proposal that he take upon himself «the education and the entire intellectual development of her only son in the capacity of a superior pedagogue and friend, not to mention a generous remuneration.»[22]
- A chaste, idealistic but fraught relationship between Stepan Trofimovich and Varvara Stavrogina continues long after the tuition has ceased. In a cynical but not entirely inaccurate critique of his father, Pyotr Stepanovich describes their mutual dependence thus: «she provided the capital, and you were her sentimental buffoon.»[23] Though very conscious of his own erudition, higher ideals and superior aesthetic sensibilities, Stepan Trofimovich doesn’t actually seem to do anything at all in the scholarly sense. He is utterly dependent on Varvara Petrovna financially and she frequently rescues him from the consequences of his irresponsibility. When he perceives that he has been unjust or irresponsible in relation to her, he is overcome with shame to the point of physical illness.
- Varvara Petrovna Stavrogina is a wealthy and influential landowner, residing on the magnificent estate of Skvoreshniki where much of the action of the novel takes place.
- She supports Stepan Trofimovich financially and emotionally, protects him, fusses over him, and in the process acquires for herself an idealized romantic poet, modelled somewhat on the writer Nestor Kukolnik.[24] She promotes his reputation as the town’s preeminent intellectual, a reputation he happily indulges at regular meetings, often enhanced with champagne, of the local «free-thinkers».
- Generous, noble-minded and strong willed, Varvara Petrovna prides herself on her patronage of artistic and charitable causes. She is «a classic kind of woman, a female Maecenas, who acted strictly out of the highest considerations».[25] But she is also extremely demanding and unforgiving, and is almost terrifying to Stepan Trofimovich when he inadvertently fails her or humiliates her in some way. Pyotr Stepanovich, on his arrival in the town, is quick to take advantage of her resentment towards his father.
- Varvara Petrovna almost worships her son Nikolai Vsevolodovich, but there are indications that she is aware that there is something deeply wrong. She tries to ignore this however, and Pyotr Stepanovich is able to further ingratiate himself by subtly presenting her son’s inexplicable behaviour in a favourable light.
- Nikolai Vsevolodovich Stavrogin is the central character of the novel.[26] He is handsome, strong, fearless, intelligent and refined, but at the same time, according to the narrator, there is something repellent about him.[27] Socially he is self-assured and courteous, but his general demeanour is described as «stern, pensive and apparently distracted.»[28] Other characters are fascinated by Stavrogin, especially the younger Verkhovensky, who envisions him as the figurehead of the revolution he is attempting to spark. Shatov, on the other hand, once looked up to him as a potentially great leader who could inspire Russia to a Christian regeneration. Disillusioned, he now sees him as «an idle, footloose son of a landowner», a man who has lost the distinction between good and evil. According to Shatov, Stavrogin is driven by «a passion for inflicting torment», not merely for the pleasure of harming others, but to torment his own conscience and wallow in the sensation of «moral carnality».[29] In an originally censored chapter (included as «At Tikhon’s» in modern editions), Stavrogin himself defines the rule of his life thus: «that I neither know nor feel good and evil and that I have not only lost any sense of it, but that there is neither good nor evil… and that it is just a prejudice».[30] In a written confession given to the monk Tikhon he tells of a number of crimes, including raping and driving to suicide a girl of only 11 years. He describes in detail the profound inner pleasure he experiences when he becomes conscious of himself in shameful situations, particularly in moments of committing a crime.[31]
- When in Petersburg Stavrogin had secretly married the mentally and physically disabled Marya Lebyadkina. He shows signs of caring for her, but ultimately becomes complicit in her murder. The extent to which he himself is responsible for the murder is unclear, but he is aware that it is being plotted and does nothing to prevent it. In a letter to Darya Pavlovna near the end of the novel, he affirms that he is guilty in his own conscience for the death of his wife.[32]
- Pyotr Stepanovich Verkhovensky is the son of Stepan Trofimovich and the principal driving force of the mayhem that ultimately engulfs the town. The father and son are a representation of the aetiological connection Dostoevsky perceived between the liberal idealists of the 1840s and the nihilistic revolutionaries of the 1860s.[33] The character of Pyotr Stepanovich was inspired by the revolutionary Sergey Nechayev, in particular the methods described in his manifesto Catechism of a Revolutionary.[34] In the Catechism revolutionaries are encouraged to «aid the growth of calamity and every evil, which must at last exhaust the patience of the people and force them into a general uprising.»[35] Verkhovensky’s murder of Shatov in the novel was based on Nechayev’s murder of Ivanov.[36]
- Pyotr Stepanovich claims to be connected to the central committee of a vast, organized conspiracy to overthrow the government and establish socialism. He manages to convince his small group of co-conspirators that they are just one revolutionary cell among many, and that their part in the scheme will help set off a nationwide revolt. Pyotr Stepanovich is enamored of Stavrogin, and he tries desperately, through a combination of ensnarement and persuasion, to recruit him to the cause. The revolution he envisages will ultimately require a despotic leader, and he thinks that Stavrogin’s strong will, personal charisma and «unusual aptitude for crime»[37] are the necessary qualities for such a leader.
- Pyotr Verkhovensky, according to Stavrogin, is «an enthusiast».[38] At every opportunity he uses his prodigious verbal abilities to sow discord and manipulate people for his own political ends. His greatest success is with the Governor’s wife, and he manages to gain an extraordinary influence over her and her social circle. This influence, in conjunction with constant undermining of authority figures like his father and the Governor, is ruthlessly exploited to bring about a breakdown of standards in society.
- Ivan Pavlovich Shatov is the son of Varvara Stavrogina’s deceased valet. When he was a child she took him and his sister Darya Pavlovna under her protection, and they received tutoring from Stepan Trofimovich. At university Shatov had socialist convictions and was expelled following an incident. He travelled abroad as a tutor with a merchant’s family, but the employment came to an end when he married the family’s governess who had been dismissed for ‘freethinking’. Having no money and not recognizing the ties of marriage, they parted almost immediately. He wandered Europe alone before eventually returning to Russia.
- By the time of the events in the novel Shatov has completely rejected his former convictions and become a passionate defender of Russia’s Christian heritage. Shatov’s reformed ideas resemble those of the contemporary philosophy Pochvennichestvo (roughly: «return to the soil»), with which Dostoevsky was sympathetic. Like the broader Slavophile movement, Pochvennichestvo asserted the paramount importance of Slavic traditions in Russia, as opposed to cultural influences originating in Western Europe, and particularly emphasized the unique mission of the Russian Orthodox Church. Shatov goes further by describing that mission as universal rather than merely Russian.[39] Generally awkward, gloomy and taciturn, Shatov becomes emotional and loquacious when aroused by an affront to his convictions.[40] In the chapter ‘Night’ he engages in a heated discussion with Stavrogin about God, Russia and morality. As a younger man Shatov had idolized Stavrogin, but having seen through him and guessed the secret of his marriage, he seeks to tear down the idol in a withering critique.[41] Stavrogin, though affected, is certainly not withered, and answers by drawing attention to the inadequacy of Shatov’s own faith, something Shatov himself recognizes.[42]
- Shatov’s relationship with Pyotr Verkhovensky is one of mutual hatred. Verkhovensky conceives the idea of having the group murder him as a traitor to the cause, thereby binding them closer together by the blood they have shed.
- Alexei Nilych Kirillov is an engineer who lives in the same house as Shatov. He also has a connection to Verkhovensky’s revolutionary society, but of a very unusual kind: he is determined to kill himself and has agreed to do it at a time when it can be of use to the society’s aims.
- Like Shatov, Kirillov has been deeply influenced by Stavrogin, but in a diametrically opposed way. While inspiring Shatov with the ecstatic image of the Russian Christ, Stavrogin was simultaneously encouraging Kirillov toward the logical extremes of atheism — the absolute supremacy of the human will.[43] «If God does not exist» according to Kirillov, «then all will is mine, and I am obliged to proclaim self-will.»[44] This proclamation must take the form of the act of killing himself, with the sole motive being annihilation of mankind’s fear of death, a fear implicit in their belief in God. He believes that this purposeful act, by demonstrating the transcendence of this fear, will initiate the new era of the Man-God, when there is no God other than the human will.
- Despite the apparent grandiosity of the idea, Kirillov is a reclusive, deeply humble, almost selfless person who has become obsessed with making himself a sacrifice for the greater good of humanity.[45] Pyotr Stepanovich tells him: «You haven’t consumed the idea but you… have been consumed by the idea, and so you won’t be able to relinquish it.»[46] The motives are of no interest to Pyotr Stepanovich, but he recognizes the sincerity of Kirillov’s intention and incorporates it into his plans as a means of deflecting attention from the conspiracy.
Other characters[edit]
- Lizaveta Nikolaevna Tushina (Liza) is a lively, beautiful, intelligent and wealthy young woman. She is the daughter of Varvara Petrovna’s friend Praskovya, and is another former pupil of Stepan Trofimovich. She has become ambiguously involved with Stavrogin after their encounter in Switzerland and seems to oscillate between deep love and profound hatred for him. She is resentful and suspicious of Dasha’s strange intimacy with him, and is extremely anxious to understand the nature of his connection to Marya Lebyadkina during the time when the marriage is still a secret. Liza becomes engaged to her cousin Mavriky Nikolaevich, but remains fixated on Stavrogin even after he openly acknowledges his marriage.
- Darya Pavlovna (Dasha) is Shatov’s sister, the protégé of Varvara Petrovna, and for a short time the fiancée of Stepan Trofimovich. She is the reluctant confidant and «nurse» of Stavrogin.
- Marya Timofeevna Lebyadkina is married to Nikolai Stavrogin. Though childlike, mentally unstable and confused, she frequently demonstrates a deeper insight into what is going on, and has many of the attributes of a «holy fool».[47] According to Frank, Marya represents «Dostoevsky’s vision of the primitive religious sensibility of the Russian people», and the false marriage, her rejection of Stavrogin, and her eventual murder, point to the impossibility of a true union between the Christian Russian people and godless Russian Europeanism.[48]
- Captain Lebyadkin is Marya’s brother. He receives payments for her care from Stavrogin, but he mistreats her and squanders the money on himself. He is loud, indiscreet, and almost always drunk. He considers himself a poet and frequently quotes his own verses. Although in awe of Stavrogin, he is a constant threat to maintaining the secrecy of the marriage. He is unwillingly involved in Pyotr Stepanovich’s plans, and his inept attempts to extract himself via approaches to the authorities are another cause of his eventual murder.
- Fed’ka the Convict is an escaped convict who is suspected of several thefts and murders in the town. He was originally a serf belonging to Stepan Trofimovich, but was sold into the army to help pay his master’s gambling debts. It is Fed’ka who murders Stavrogin’s wife and her brother, at the instigation of Pyotr Stepanovich. Stavrogin himself initially opposes the murder, but his later actions suggest a kind of passive consent.
- Andrey Antonovich von Lembke is the Governor of the province and one of the principal targets of Pyotr Stepanovich in his quest for societal breakdown. Although a good and conscientious man he is completely incapable of responding effectively to Pyotr Stepanovich’s machinations. Estranged from his wife, who has unwittingly become a pawn in the conspirators’ game, he descends into a mental breakdown as events get increasingly out of control.
- Julia Mikhaylovna von Lembke is the Governor’s wife. Her vanity and liberal ambition are exploited by Pyotr Stepanovich for his revolutionary aims. The conspirators succeed in transforming her Literary Fête for the benefit of poor governesses into a scandalous farce. Dostoevsky’s depiction of the relationship between Pyotr Stepanovich and Julia Mikhaylovna had its origins in a passage from Nechayev’s Catechism where revolutionaries are instructed to consort with liberals «on the basis of their own program, pretending to follow them blindly» but with the purpose of compromising them so that they can be «used to provoke disturbances.»[49]
- Semyon Yegorovich Karmazinov is Dostoevsky’s literary caricature of his contemporary Ivan Turgenev, author of the proto-nihilist novel Fathers and Sons (1862). Of the same generation as Stepan Trofimovich, Karmazinov is a vain and pretentious literary has-been who shamelessly seeks to ingratiate himself with Pyotr Stepanovich and does much to promote the nihilists’ legitimacy among the liberal establishment.[50]
- Shigalyev is a historian and social theorist, the intellectual of Verkhovensky’s revolutionary group, who has devised a system for the post-revolution organization of mankind. «My conclusion» he says, «stands in direct contradiction to the idea from which I started. Proceeding from unlimited freedom, I end with unlimited despotism.»[51] Ninety percent of society is to be enslaved to the remaining ten percent. Equality of the herd is to be enforced by police state tactics, state terrorism, and destruction of intellectual, artistic, and cultural life. It is estimated that about a hundred million people will need to be killed on the way to the goal.
- Bishop Tikhon is a monk and spiritual adviser recommended to Stavrogin by Shatov. He only appears in the censored chapter, but he has importance as the person to whom Stavrogin makes his most detailed and candid confession. He is perhaps the only character to truly understand Stavrogin’s spiritual and psychological state.[52] He describes the confession as coming from «the need of a heart that has been mortally wounded» and advises Stavrogin to submit his life to an Elder.[53] Dostoevsky’s model for the character of Bishop Tikhon was the 18th century monk and writer Tikhon of Zadonsk.[54]
Plot summary[edit]
The novel is in three parts. There are two epigraphs, the first from Pushkin’s poem «Demons» and the second from Luke 8:32–36.
Part I[edit]
After an almost illustrious but prematurely curtailed academic career Stepan Trofimovich Verkhovensky is residing with the wealthy landowner Varvara Petrovna Stavrogina at her estate, Skvoreshniki, in a provincial Russian town. Originally employed as a tutor to Stavrogina’s son Nikolai Vsevolodovich, Stepan Trofimovich has been there for almost twenty years in an intimate but platonic relationship with his noble patroness. Stepan Trofimovich also has a son from a previous marriage but he has grown up elsewhere without his father’s involvement.
A troubled Varvara Petrovna has just returned from Switzerland where she has been visiting Nikolai Vsevolodovich. She berates Stepan Trofimovich for his financial irresponsibility, but her main preoccupation is an «intrigue» she encountered in Switzerland concerning her son and his relations with Liza Tushina—the beautiful daughter of her friend Praskovya. Praskovya and Liza arrive at the town, without Nikolai Vsevolodovich who has gone to Petersburg. According to Praskovya, Varvara Petrovna’s young protégée Darya Pavlovna (Dasha), has also somehow become involved with Nikolai Vsevolodovich, but the details are ambiguous. Varvara Petrovna suddenly conceives the idea of forming an engagement between Stepan Trofimovich and Dasha. Though dismayed, Stepan Trofimovich accedes to her proposal, which happens to resolve a delicate financial issue for him. Influenced by gossip, he begins to suspect that he is being married off to cover up «another man’s sins» and writes «noble» letters to his fiancée and Nikolai Vsevolodovich. Matters are further complicated by the arrival of a mysterious «crippled woman», Marya Lebyadkina, to whom Nikolai Vsevolodovich is also rumoured to be connected, although no-one seems to know exactly how. A hint is given when Varvara Petrovna asks the mentally disturbed Marya, who has approached her outside church, if she is Lebyadkina and she replies that she is not.
Varvara Petrovna takes Marya (and Liza who has insisted on coming with them) back to Skvoreshniki. Already present are Dasha, her older brother Ivan Shatov, and a nervous Stepan Trofimovich. Praskovya arrives, accompanied by her nephew Mavriky Nikolaevich, demanding to know why her daughter has been dragged in to Varvara Petrovna’s «scandal». Varvara Petrovna questions Dasha about a large sum of money that Nikolai Vsevolodovich supposedly sent through her to Marya’s brother, but in spite of her straightforward answers matters don’t become any clearer. Marya’s brother, the drunkard Captain Lebyadkin, comes looking for his sister and confuses Varvara Petrovna even further with semi-deranged rantings about some sort of dishonour that must remain unspoken. At this point the butler announces that Nikolai Vsevolodovich has arrived. To everyone’s surprise, however, a complete stranger walks in and immediately begins to dominate the conversation. It turns out to be Pyotr Stepanovich Verkhovensky, Stepan Trofimovich’s son. As he is talking, Nikolai Stavrogin quietly enters. Varvara Petrovna stops him imperiously and, indicating Marya, demands to know if she is his lawful wife. He looks at his mother impassively, says nothing, kisses her hand, and unhurriedly approaches Marya. In soothing tones he explains to Marya that he is her devoted friend, not her husband or fiancé, that she should not be here, and that he will escort her home. She agrees and they leave. In the din that breaks out after their departure, the strongest voice is that of Pyotr Stepanovich, and he manages to persuade Varvara Petrovna to listen to his explanation for what has occurred. According to him, Nikolai Vsevolodovich became acquainted with the Lebyadkins when he was living a life of «mockery» in Petersburg five years earlier. The downtrodden, crippled and half mad Marya had fallen hopelessly in love with him and he had responded by treating her «like a marquise». She began to think of him as her fiancé, and when he left he made arrangements for her support, including a substantial allowance, which her brother proceeded to appropriate as though he had some sort of right to it. Varvara Petrovna is elated and almost triumphant to hear that her son’s actions had a noble foundation rather than a shameful one. Under interrogation from Pyotr Stepanovich, Captain Lebyadkin reluctantly confirms the truth of the whole story. He departs in disgrace as Nikolai Vsevolodovich returns from escorting Marya home. Nikolai Vsevolodovich addresses himself to Dasha with congratulations on her impending marriage, of which, he says, he was expressly informed. As if on cue, Pyotr Stepanovich says that he too has received a long letter from his father about an impending marriage, but that one cannot make sense of it—something about having to get married because of «another man’s sins», and pleading to be «saved». An enraged Varvara Petrovna tells Stepan Trofimovich to leave her house and never come back. In the uproar that follows no-one notices Shatov, who has not said a word the entire time, walking across the room to stand directly in front of Nikolai Vsevolodovich. He looks him in the eye for a long time without saying anything, then suddenly hits him in the face with all his might. Stavrogin staggers, recovers himself, and seizes Shatov; but he immediately takes his hands away, and stands motionless, calmly returning Shatov’s gaze. It is Shatov who lowers his eyes, and leaves, apparently crushed. Liza screams and collapses on the floor in a faint.
Part II[edit]
News of the events at Skvoreshniki spreads through society surprisingly rapidly. The main participants seclude themselves, with the exception of Pyotr Stepanovich who actively insinuates himself into the social life of the town. After eight days, he calls on Stavrogin and the true nature of their relations begins to become apparent. There was not, as some suspect, an explicit understanding between them. Rather Pyotr Stepanovich is trying to involve Stavrogin in some radical political plans of his own, and is avidly seeking to be of use to him. Stavrogin, while he seems to accept Pyotr Stepanovich acting on his behalf, is largely unresponsive to these overtures and continues to pursue his own agenda.
That night Stavrogin leaves Skvoreshniki in secret and makes his way on foot to Fillipov’s house, where Shatov lives. The primary object of his visit is to consult his friend Kirillov, who also lives at the house. Stavrogin has received an extraordinarily insulting letter from Artemy Gaganov, the son of a respected landowner—Pavel Gaganov—whose nose he pulled as a joke some years earlier, and has been left with no choice but to challenge him to a duel. He asks Kirillov to be his second and to make the arrangements. They then discuss philosophical issues arising out of Kirillov’s firm intention to commit suicide in the near future. Stavrogin proceeds to Shatov, and once again the background to the events at Skvoreshniki begins to reveal itself. Shatov had guessed the secret behind Stavrogin’s connection to Marya (they are in fact married) and had struck him out of anger at his «fall». In the past Stavrogin had inspired Shatov with exhortations of the Russian Christ, but this marriage and other actions have provoked a complete disillusionment, which Shatov now angrily expresses. Stavrogin defends himself calmly and rationally, but not entirely convincingly. He also warns Shatov, who is a former member but now bitter enemy of Pyotr Verkhovensky’s revolutionary society, that Verkhovensky might be planning to murder him. Stavrogin continues on foot to a distant part of town where he intends to call at the new residence of the Lebyadkins. On the way he encounters Fedka, an escaped convict, who has been waiting for him at the bridge. Pyotr Stepanovich has informed Fedka that Stavrogin may have need of his services in relation to the Lebyadkins, but Stavrogin emphatically rejects this. He tells Fedka that he won’t give him a penny and that if he meets him again he will tie him up and take him to the police. At the Lebyadkins’ he informs the Captain, to the Captain’s horror, that in the near future he will be making a public announcement of the marriage and that there will be no more money. He goes in to Marya, but something about him frightens her and she becomes mistrustful. His proposal that she come to live with him in Switzerland is met with scorn. She accuses him of being an imposter who has come to kill her with his knife, and demands to know what he has done with her «Prince». Stavrogin becomes angry, pushes her violently, and leaves, to Marya’s frenzied curse. In a fury, he barely notices when Fedka pops up again, reiterating his requests for assistance. Stavrogin seizes him, slams him against a wall and begins to tie him up. However, he stops almost immediately and continues on his way, with Fedka following. Eventually Stavrogin bursts into laughter: he empties the contents of his wallet in Fedka’s face, and walks off.
The duel takes place the following afternoon, but no-one is killed. To Gaganov’s intense anger, Stavrogin appears to deliberately miss, as if to trivialize the duel and insult his opponent, although he says it is because he doesn’t want to kill anyone any more. He returns to Skvoreshniki where he encounters Dasha who, as now becomes apparent, is in the role of a confidant and «nurse» in relation to him. He tells her about the duel and the encounter with Fedka, admitting to giving Fedka money that could be interpreted as a down payment to kill his wife. He asks her, in an ironic tone, whether she will still come to him even if he chooses to take Fedka up on his offer. Horrified, Dasha does not answer.
Pyotr Stepanovich meanwhile is very active in society, forming relationships and cultivating conditions that he thinks will help his political aims. He is particularly focused on Julia Mikhaylovna Von Lembke, the Governor’s wife. By flattery, surrounding her with a retinue and encouraging her exaggerated liberal ambition, he acquires a power over her and over the tone of her salon. He and his group of co-conspirators exploit their new-found legitimacy to generate an atmosphere of frivolity and cynicism in society. They indulge in tasteless escapades, clandestinely distribute revolutionary propaganda, and agitate workers at the local Spigulin factory. They are particularly active in promoting Julia Mikhaylovna’s ‘Literary Gala’ to raise money for poor governesses, and it becomes a much anticipated event for the whole town. The Governor, Andrey Antonovich, is deeply troubled by Pyotr Stepanovich’s success with his wife and casual disregard for his authority, but is painfully incapable of doing anything about it. Unable to cope with the strange events and mounting pressures, he begins to show signs of acute mental disturbance. Pyotr Stepanovich adopts a similarly destabilizing approach toward his father, driving Stepan Trofimovich into a frenzy by relentlessly ridiculing him and further undermining his disintegrating relationship with Varvara Petrovna.
Pyotr Stepanovich visits Kirillov to remind him of an «agreement» he made to commit suicide at a time convenient to the revolutionary society. He invites Kirillov, and subsequently Shatov, to a meeting of the local branch of the society to be held later that day. He then calls on Stavrogin, arriving just as Mavriky Nikolaevich, Liza’s new fiancé, is angrily departing. Stavrogin, however, seems to be in a good mood and he willingly accompanies Pyotr Stepanovich to the meeting. Present are a wide variety of idealists, disaffected types and pseudo-intellectuals, most notably the philosopher Shigalyev who attempts to expound his theory on the historically necessary totalitarian social organization of the future. The conversation is inane and directionless until Pyotr Stepanovich takes control and seeks to establish whether there is a real commitment to the cause of violent revolution. He claims that this matter can be resolved by asking a simple question of each individual: in the knowledge of a planned political murder, would you inform the police? As everyone else is hurrying to assert that they would of course not inform, Shatov gets up and leaves, followed by Stavrogin and Kirillov. Uproar ensues. Pyotr Stepanovich abandons the meeting and rushes after Stavrogin. Meeting them at Kirillov’s place, where Fedka is also present, Verkhovensky demands to know whether Stavrogin will be providing the funds to deal with the Lebyadkins. He has acquired proof, in the form of a letter sent to Von Lembke, that the Captain is contemplating betraying them all. Stavrogin refuses, tells him he won’t give him Shatov either, and departs. Verkhovensky tries to stop him, but Stavrogin throws him to the ground and continues on his way. Verkhovensky rushes after him again and, to Stavrogin’s astonishment, suddenly transforms into a raving madman. He launches into an incoherent monologue, alternately passionately persuasive and grovelingly submissive, desperately pleading with Stavrogin to join his cause. The speech amounts to a declaration of love, reaching a climax with the exclamation «Stavrogin, you’re beautiful!» and an attempt to kiss his hand. Verkhovensky’s cause, it turns out, has nothing to do with socialism, but is purely about destroying the old order and seizing power, with Stavrogin, the iron-willed leader, at the helm. Stavrogin remains cold, but does not actually say no, and Pyotr Stepanovich persists with his schemes.
Social disquiet escalates as the day of the literary gala approaches. The Governor’s assistant, under the false impression that Stepan Trofimovich is the source of the problem, orders a raid on his residence. Deeply shocked, Stepan Trofimovich goes to the Governor to complain. He arrives as a large group of workers from the Spigulin factory are staging a protest about work and pay conditions. Already in a precarious state of mind, Andrey Antonovich responds to both problems in a somewhat demented authoritarian fashion. Julia Mikhaylovna and her retinue, among whom are Varvara Petrovna and Liza, return from a visit to Skvoreshniki and the Governor is further humiliated by a public snubbing from his wife. As Julia Mikhaylovna engages charmingly with Stepan Trofimovich and the ‘great writer’ Karmazinov, who are to read at the Gala tomorrow, Pyotr Stepanovich enters. Seeing him, Andrey Antonovich begins to show signs of derangement. But attention is immediately diverted to a new drama: Stavrogin has entered the room, and he is accosted by Liza. In a loud voice she complains of harassment from a certain Captain Lebyadkin, who describes himself as Stavrogin’s relation, the brother of his wife. Stavrogin calmly replies that Marya (née Lebyadkina) is indeed his wife, and that he will make sure the Captain causes her no further trouble. Varvara Petrovna is horrified, but Stavrogin simply smiles and walks out. Liza follows him.
Part III[edit]
The much vaunted literary matinée and ball takes place the next day. Most of the town has subscribed and all the influential people are present for the reading, with the exception of the Stavrogins. Julia Mikhaylovna, who has somehow managed to reconcile Andrey Antonovich, is at the summit of her ambition. But things go wrong from the beginning. Pyotr Stepanovich’s associates Lyamshin and Liputin take advantage of their role as stewards to alter proceedings in a provocative way, and allow a lot of low types in without paying. The reading starts with the unscheduled appearance on stage of a hopelessly drunk Captain Lebyadkin, apparently for the purpose of reading some of his poetry. Realizing the Captain is too drunk, Liputin takes it upon himself to read the poem, which is a witless and insulting piece about the hard lot of governesses. He is quickly followed by the literary genius Karmazinov who is reading a farewell to his public entitled «Merci«. For over an hour the great writer plods through an aimless stream of self-absorbed fantasy, sending the audience into a state of complete stupefaction. The torture only comes to an end when an exhausted listener inadvertently cries out «Lord, what rubbish!» and Karmazinov, after exchanging insults with the audience, finally closes with an ironic «Merci, merci, merci.» In this hostile atmosphere Stepan Trofimovich takes the stage. He plunges headlong into a passionate exhortation of his own aesthetic ideals, becoming increasingly shrill as he reacts to the derision emanating from the audience. He ends by cursing them and storming off. Pandemonium breaks out as an unexpected third reader, a ‘professor’ from Petersburg, immediately takes the stage in his place. Apparently delighted by the disorder, the new orator launches into a frenzied tirade against Russia, shouting with all his might and gesticulating with his fist. He is eventually dragged off stage by six officials, but he somehow manages to escape and returns to briefly continue his harangue before being dragged off again. Supporters in the audience rush to his aid as a schoolgirl takes the stage seeking to rouse oppressed students everywhere to protest.
In the aftermath, Pyotr Stepanovich (who was mysteriously absent from the reading) seeks to persuade a traumatized Julia Mikhaylovna that it wasn’t as bad as she thinks and that it is essential for her to attend the ball. He also lets her know that the town is ringing with the news of another scandal: Lizaveta Nikolaevna has left her home and fiancé and gone off to Skvoreshniki with Stavrogin.
Despite the disaster of the reading, the ball goes ahead that evening, with Julia Mikhaylovna and Andrey Antonovich in attendance. Many of the respectable public have chosen not to attend but there is an increased number of dubious types, who make straight for the drinking area. Hardly anyone is dancing, most are standing around waiting for something to happen and casting curious glances at the Von Lembkes. A ‘literary quadrille’ has been especially choreographed for the occasion, but it is vulgar and stupid and merely bemuses the onlookers. Shocked by some of the antics in the quadrille and the degenerating atmosphere in the hall, Andrey Antonovich lapses back into his authoritarian persona and a frightened Julia Mikhaylovna is forced to apologise for him. Someone shouts «Fire!» and the news quickly spreads that a large fire is raging in part of the town. There is a stampede for the exits, but Andrey Antonovich screams that all must be searched, and when his distressed wife calls out his name he orders her arrest. Julia Mikhaylovna faints. She is carried to safety, but Andrey Antonovich insists on going to the fire. At the fire he is knocked unconscious by a falling beam, and although he later recovers consciousness, he does not recover his sanity, and his career as governor comes to an end. The fire rages all night, but by morning it has dwindled and rain is falling. News begins to spread of a strange and terrible murder: a certain Captain, his sister and their serving maid have been found stabbed to death in their partially burned down house on the edge of town.
Stavrogin and Liza have spent the night together and they wake to the dying glow of the fire. Liza is ready to leave him, convinced that her life is over. Pyotr Stepanovich arrives to impart the news of the Lebyadkins’ murder. He says the murderer was Fedka the Convict, denies any involvement himself, and assures Stavrogin that legally (and of course morally) he too is in the clear. When Liza demands the truth from Stavrogin, he replies that he was against the murder but knew it was going to happen and didn’t stop the murderers. Liza rushes off in a frenzy, determined to get to the place of the murders to see the bodies. Stavrogin tells Pyotr Stepanovich to stop her, but Pyotr Stepanovich demands an answer. Stavrogin replies that it might be possible to say yes to him if only he were not such a buffoon, and tells him to come back tomorrow. Appeased, Pyotr Stepanovich pursues Liza, but the attempt to stop her is abandoned when Mavriky Nikolaevich, who has been waiting for her outside all night, rushes to her aid. He and Liza proceed to the town together in the pouring rain. At the scene of the murders an unruly crowd has gathered. By this time it is known that it is Stavrogin’s wife who has been murdered, and Liza is recognized as ‘Stavrogin’s woman’. She and Mavriky Nikolaevich are attacked by drunk and belligerent individuals in the crowd. Liza is struck several times on the head and is killed.
Most of society’s anger for the night’s events is directed toward Julia Mikhaylovna. Pyotr Stepanovich is not suspected, and news spreads that Stavrogin has left on the train for Petersburg. The revolutionary crew, however, are alarmed. They are on the point of mutiny until Pyotr Stepanovich shows them Lebyadkin’s letter to Von Lembke. He points to their own undeniable involvement and tells them that Shatov is also determined to denounce them. They agree that Shatov will have to be killed and a plan is made to lure him to the isolated location where he has buried the society’s printing press. Pyotr Stepanovich explains that Kirillov has agreed to write a note taking responsibility for their crimes before he commits suicide. Shatov himself is preoccupied with the unexpected return of his ex-wife Marie, who has turned up on his doorstep, alone, ill and poverty-stricken. He is overjoyed to see her, and when it turns out that she is going into labour with Stavrogin’s child he frantically sets about helping her. The child is born and, reconciled with Marie, he is happy that he is going to be the father. That night the emissary from the revolutionary group—Erkel—arrives to escort Shatov to the isolated part of Skvoreshniki where the printing press is buried. Thinking this will be his final interaction with the society, Shatov agrees to come. As he shows Erkel the spot, the other members of the group jump out and grab him. Pyotr Verkhovensky puts a gun to Shatov’s forehead and fires, killing him. As they clumsily weight the body and dump it in the pond, one of the participants in the crime—Lyamshin—completely loses his head and starts shrieking like an animal. He is restrained and eventually quietened, and they go their separate ways. Early the following morning Pyotr Stepanovich proceeds to Kirillov’s place. Kirillov has been forewarned and is eagerly awaiting him. However, his aversion to Pyotr Stepanovich and the news of Shatov’s death arouse a reluctance to comply, and for some time they parley, both with guns in hand. Eventually Kirillov seems to be overcome by the power of his desire to kill himself and despite his misgivings he hurriedly writes and signs the suicide note taking responsibility for the crimes, and runs into the next room. But there is no shot, and Pyotr Stepanovich cautiously follows him into the darkened room. A strange and harrowing confrontation ends with Pyotr Stepanovich fleeing in a panic. A shot rings out and he returns to find that Kirillov has shot himself through the head.
Meanwhile, Stepan Trofimovich, oblivious to the unfolding horrors, has left town on foot, determined to take the high road to an uncertain future. Wandering along with no real purpose or destination, he is offered a lift by some peasants. They take him to their village where he meets Sofya Matveyevna, a travelling gospel seller, and he firmly attaches himself to her. They set off together but Stepan Trofimovich becomes ill and they are forced to take a room at a large cottage. He tells Sofya Matveyevna a somewhat embellished version of his life story and pleads with her not to leave him. To his horror, Varvara Petrovna suddenly turns up at the cottage. She has been looking for him since his disappearance, and her ferocity greatly frightens both Stepan Trofimovich and Sofya Matveyevna. When she realizes that he is extremely ill and that Sofya Matveyevna has been looking after him, her attitude softens and she sends for her doctor. A difficult reconciliation between the two friends, during which some painful events from the past are recalled, is effected. It becomes apparent that Stepan Trofimovich is dying and a priest is summoned. In his final conscious hours he recognizes the deceit of his life, forgives others, and makes an ecstatic speech expressing his re-kindled love of God.
When Shatov fails to return, Marie, still exhausted from the birth, seeks out Kirillov. Encountering the terrible scene of the suicide, she grabs her newborn baby and rushes outside into the cold, desperately seeking help. Eventually the authorities are called to the scene. They read Kirillov’s note and a short time later Shatov’s body is discovered at Skvoreshniki. Marie and the baby become ill, and die a few days later. The crime scene at Skvoreshniki reveals that Kirillov must have been acting with others and the story emerges that there is an organized group of revolutionary conspirators behind all the crimes and disorders. Paranoia grips the town, but all is revealed when Lyamshin, unable to bear it, makes a groveling confession to the authorities. He tells the story of the conspiracy in great detail, and the rest of the crew, with the exception of Pyotr Stepanovich who left for Petersburg after Kirillov’s suicide, are arrested.
Varvara Petrovna, returning to her town house after Stepan Trofimovich’s death, is greatly shaken by all the terrible news. Darya Pavlovna receives a disturbing letter from Nikolai Vsevolodovich, which she shows to Varvara Petrovna. News arrives from Skvoreshniki that Nikolai Vsevolodovich is there and has locked himself away without saying a word to anyone. They hurry over, and find that Nikolai Vsevolodovich has hanged himself.
Censored chapter[edit]
The editor of The Russian Messenger, Mikhail Katkov, refused to publish the chapter «At Tikhon’s». The chapter concerns Stavrogin’s visit to the monk Tikhon at the local monastery, during which he confesses, in the form of a lengthy and detailed written document, to taking sexual advantage of a downtrodden and vulnerable 11-year-old girl—Matryosha—and then waiting and listening as she goes through the process of hanging herself. He describes his marriage to Marya Lebyadkina as a deliberate attempt to cripple his own life, largely as a consequence of his inability to forget this episode and the fear he experienced in its aftermath.[55] Dostoevsky considered the chapter to be essential to an understanding of the psychology of Stavrogin, and he tried desperately but unsuccessfully to save it through revisions and concessions to Katkov. He was eventually forced to drop it and rewrite parts of the novel that dealt with its subject matter.[56] He never included the chapter in subsequent publications of the novel, but it is generally included in modern editions as an appendix. It has also been published separately, translated from Russian to English by S.S. Koteliansky and Virginia Woolf, with an essay on Dostoevsky by Sigmund Freud.[57]
Themes[edit]
A page from Dostoevsky’s notebooks for Demons
Atheism and belief[edit]
Dostoevsky wrote to Maykov that the chief theme of his novel was «the very one over which, consciously and unconsciously, I have been tormented all my life: it is the existence of God.»[58] Much of the plot develops out of the tension between belief and non-belief, and the words and actions of most of the characters seem to be intimately bound to the position they take up within this struggle.
Dostoevsky saw atheism as the root cause of Russia’s deepening social problems. He further wrote to Maykov: «a man who loses his people and his national roots also loses the faith of his fathers and his God.»[59] It is in this letter that he speaks, referring primarily to Stavrogin and secondarily to Stepan Verkhovensky, of the ‘Russian Man’ as comparable to the man possessed by demons who is healed by Jesus in the parable of the swine. In Demons the Russian man has lost his true national identity (inextricably linked, for Dostoevsky, with the Orthodox Christian faith) and tries to fill the void with ideas derived from Western modes of thought—Catholicism, atheism, scientism, socialism, idealism, etc. As teachers and strong personalities, Stavrogin and Stepan Trofimovich influence those around them, and thus the demons enter the swine. Only at the end, after a heartfelt acknowledgment of their fault, are they given the possibility of redemption—Stavrogin when Tikhon offers him life as a Christian renunciate (an offer that Stavrogin refuses) and Stepan Trofimovich as he approaches death.[60]
Instead of belief in God, Stavrogin has rationality, intellect, self-reliance, and egoism, but the spiritual longing and sensual ardour of his childhood, over-stimulated by his teacher Stepan Trofimovich, has never left him.[61][62] Unfettered by fear or morality, his life has become a self-centred experiment and a heartless quest to overcome the torment of his growing ennui.[63] The most striking manifestation of his dilemma is in the dialogue with Tikhon, where we find him, perhaps for the only time, truthfully communicating his inner state. In this dialogue there is an alternation in his speech between the stern, worldly voice of rational self-possession and the vulnerable, confessional voice of the lost and suffering soul.[64][65]
Many of the other characters are deeply affected by one or other of the two aspects of Stavrogin’s psyche. The nihilist Pyotr Verkhovensky is in love with the cynical, amoral, power-seeking side, while Shatov is affected by the ardour of the feeling, spiritually-bereft side. Shatov «rose from the dead» after hearing Stavrogin’s uncompromising exhortation of Christ as the supreme ideal (an assertion made in a futile effort to convince himself: he succeeds in convincing Shatov but not himself).[66] Conversely, Kirillov was convinced by Stavrogin’s exhortation of atheism—the supremacy of Man’s will, not God’s—and forges a plan to sacrifice himself to free humanity from its bondage to mystical fear. But Stavrogin himself does not even believe in his own atheism, and as Shatov and Tikhon recognize, drives himself further into evil out of a desire to torture himself and avoid the truth. Kirillov sums up Stavrogin’s dilemma thus: «If Stavrogin believes, then he doesn’t believe that he believes. But if he doesn’t believe, then he doesn’t believe that he doesn’t believe.»[67]
Suicide[edit]
Dostoevsky saw Russia’s growing suicide rate as a symptom of the decline of religious faith and the concomitant disintegration of social institutions like the family.[68] Self-destruction as a result of atheism or loss of faith is a major theme in Demons and further recalls the metaphor of the demon-possessed swine in the epigraph.[69]
In addition to a number of extended dialogues on the subject, mostly involving Kirillov, there are four actual suicides described in the novel. The first is in anecdotal form, told by the narrator after the pranksters associated with Julia Mikaylovna pay a visit to the scene of a suicide. Entrusted with a large sum of money by his family, a hitherto quiet and responsible young man deliberately squanders it all on riotous living over a period of several days. Returning to his hotel, he calmly and politely orders a meal and some wine, writes a short note, and shoots himself through the heart.
The first plot-related suicide is that of Kirillov. Kirillov is a kind of philosopher of suicide and, under questioning from several interlocutors (the narrator, Stavrogin, Pyotr Verkhovensky), expounds his ideas on the subject, mostly as it relates to him personally but also as a general phenomenon. According to him there are two types of people who commit suicide: those who do it suddenly upon being overwhelmed by an unbearable emotion, and those who do it after much thought for good reason. He thinks that everyone could fall into the latter category if it were not for two prejudices: fear of pain, and fear of the next world. «God» he says, «is the pain of the fear of death. Whoever conquers pain and fear will himself become God.» In his mind he is the man who, by his own intentional death, will demonstrate to humanity the transcendence of pain and fear and free them of the need to invent God.[70]
Stavrogin’s suicide at the end of the novel is only fully understood with reference to the censored chapter. The enormity of his crimes, the desolation of his inner being, the madness born of his «sacrilegious, proto-Nietzschean attempt to transcend the boundaries of good and evil», are hidden realities that only become visible in the confession and dialogue with Tikhon.[71] Despite this ‘madness’, it is ‘rationality’ that is emphasized in the narrator’s description of the suicide itself. The efficiency of the procedure, the brief, precise note, and the subsequent medical opinion of his mental state emphatically ruling out madness, all point to his ‘reasonable’ state of mind at the time of the act.
The final suicide is that of the little girl Matryosha, described by Stavrogin in his confessional letter. After her encounter with Stavrogin, she tells her mother that she has «killed God». When she hangs herself Stavrogin is present in the next room and aware of what she is doing.
[edit]
Demons as satire[edit]
A common criticism of Demons, particularly from Dostoevsky’s liberal and radical contemporaries, is that it is exaggerated and unrealistic, a result of the author’s over-active imagination and excessive interest in the psycho-pathological. However, despite giving freedom to his imagination, Dostoevsky took great pains to derive the novel’s characters and story from real people and real ideas of the time. According to Frank, «the book is almost a compressed encyclopedia of the Russian culture of the period it covers, filtered through a witheringly derisive and often grotesquely funny perspective, and it creates a remarkable ‘myth’ of the main conflicts of this culture reconstructed on a firm basis of historical personages and events.»[72]
Almost all of the principal characters, or at least their individual guiding ideas, had actually existing contemporary prototypes. Stavrogin was partly based on Dostoevsky’s comrade from the Petrashevsky Circle, Nikolay Speshnev, and represented an imagined extreme in practice of an amoral, atheistic philosophy like that of Max Stirner.[73] The darkness of Stavrogin is confronted by the radiance of Bishop Tikhon, a character inspired by Tikhon of Zadonsk.
Of Pyotr Verkhovensky, Dostoevsky said that the character is not a portrait of Nechayev but that «my aroused mind has created by imagination the person, the type, that corresponds to the crime… To my own surprise he half turns out to be a comic figure.»[74] Most of the nihilist characters associated with Pyotr Verkhovensky were based on individuals who appeared in the transcripts of the trial of the Nechayevists, which were publicly available and studied by Dostoevsky. The character of Shatov represents a Russian nationalist response to socialist ideas, and was initially based on Nechayev’s victim Ivanov, but later on the contemporary slavophile ideas of Danilevsky[75] and to some extent on Dostoevsky’s own reformed ideas about Russia.
Stepan Verkhovensky began as a caricature of Granovsky, and retained the latter’s neurotic susceptibilities, academic interests, and penchant for writing long confessional letters, but the character was grounded in the idealistic tendencies of many others from the generation of the 1840s, including Herzen, Belinsky, Chaadaev, Turgenev, and Dostoevsky himself.[76] Liberal figures like Stepan Trofimovich, Varvara Petrovna, Liputin, Karmazinov, and the Von Lembkes, and minor authority figures like the old Governor Osip Osipovich and the over-zealous policeman Flibusterov, are parodies of a variety of establishment types that Dostoevsky held partially responsible for the excesses of the radical generation. Karmazinov was an openly hostile parody of Turgenev—his personality and mannerisms, his perceived complicity with nihilism, and, in the Gala reading scene, the style of some of his later literary works.[77]
Even the most extreme and unlikely characters, such as Kirillov and Shigalev, were grounded in real people or ideas of the time. Kirillov was initially inspired by a Nechayev associate who spoke openly at the trial of his plan to commit suicide, but the apocalyptic philosophy the character builds around his obsession is grounded in an interpretation of the anthropotheistic ideas of Feuerbach.[78] Shigalev was initially based on the radical critic V.A. Zaitsev who advocated a form of Social Darwinism that included, for example, an argument that without the protection of slavery the black race would become extinct due to its inherent inferiority.[79] Shigalev’s notion of human equality, the «earthly paradise» in which nine tenths of humanity are to be deprived of their will and turned into a slave-herd by means of a program of inter-generational ‘re-education’, had a contemporary prototype in the ideas of Petr Tkachev. Tkachev argued that the only biologically possible ‘equality’ for human beings was «an organic, physiological equality conditioned by the same education and common living conditions» and he saw this as the supreme goal of all historical and social progress.[80]
As prophecy[edit]
Kjetsaa claims that Dostoevsky did not regard Revelation as «merely a consolatory epistle to first century Christians during the persecution they suffered», but as a «prophecy being fulfilled in his own time».[81] Dostoevsky wrote that «Communism will conquer one day, irrespective of whether the Communists are right or wrong. But this triumph will stand very far from the Kingdom of Heaven. All the same, we must accept that this triumph will come one day, even though none of those who at present steer the world’s fate have any idea about it at all.»[82]
Since the Russian Revolution, many commentators have remarked on the prophetic nature of Demons. André Gide, writing in the early 1920s, suggested that «the whole of (the novel) prophesies the revolution of which Russia is presently in the throes».[83] In Soviet Russia, a number of dissident authors found a prototype for the Soviet police state in the system expounded by Shigalev at the meeting of Pyotr Verkhovensky’s revolutionary society. Boris Pasternak, Igor Shafarevich, and Alexander Solzhenitsyn, have called Dostoevsky’s description of Shigalevism prophetic, anticipating the systematic politicide which followed the October Revolution. Pasternak often used the term «Shigalevism» (shigalevshchina) to refer to Joseph Stalin’s Great Purge.[84][85][86] According to Richard Pevear, Dostoevsky even presaged the appearance of Lenin himself with his description of the final reader at the ill-fated literary gala: «a man of about forty, bald front and back, with a grayish little beard, who…keeps raising his fist over his head and bringing it down as if crushing some adversary to dust.»[87]
Dostoevsky biographer Ronald Hingley described the novel as «an awesome, prophetic warning which humanity, no less possessed of collective and individual devilry in the 1970s than in the 1870s, shows alarmingly few signs of heeding.»[88] Robert L. Belknap notes its relevance to the twentieth century in general, «when a few Stavrogins empowered thousands of Pyotr Stepanovichs to drive herds of ‘capital’, to use Nechayev’s term, to slaughter about a hundred million people, the very number Shigalyev and Pyotr hit upon.»[89] In his book Dostoyevsky in Manhattan
French philosopher André Glucksmann argued that ‘nihilism’, as depicted in Demons, is the underlying idea or ‘characteristic form’ of modern terrorism.[90]
English translations[edit]
This is a list of the unabridged English translations of the novel:[91][92]
- Constance Garnett (1914, as The Possessed)
- David Magarshack (1953, as The Devils)
- Andrew R. MacAndrew (1962, as The Possessed)
- Michael R. Katz (1992, as Devils)
- Richard Pevear and Larissa Volokhonsky (1994)
- Robert A. Maguire (2008)
- Roger Cockrell (2018, as Devils)
Adaptations[edit]
- 1913, play produced by the Moscow Art Theater.
- 1959, French play The Possessed written by Albert Camus.
- 1969, BBC mini-series The Possessed adapted by Lennox Phillips starring Keith Bell; also broadcast on PBS television in 1972.
- 1988, French film Les Possédés adapted by Andrzej Wajda.
- 2009, «…the itsy bitsy spider…» adapted by Alexandre Marine for Studio Six Theatre Company.
- 2014, Russian mini-series by Russia-1 and post-modern film.
- 2021, BBC Radio 4 mini-series Devils adapted by Melissa Murray starring Joseph Arkley, Jonathan Forbes, Georgia Henshaw and Jane Whittenshaw.[93]
References[edit]
- ^ Joyce Carol Oates: Tragic Rites In Dostoevsky’s The Possessed, p. 3
- ^ Hingley, Ronald (1978). Dostoyevsky His Life and Work. London: Paul Elek Limited. pp. 158–59. ISBN 0-236-40121-1.
- ^ Peter Rollberg (2014) Mastermind, Terrorist, Enigma: Dostoevsky’s Nikolai Stavrogin, Perspectives on Political Science, 43:3, 143-152.
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons. Trans. Pevear and Volokhonsky. New York: Vintage Classics, 1995. p. xiii
- ^ Maguire, Robert A (2008). Demons (Introduction). pp. xxxiii–xxxiv.
- ^ Bakhtin, Mikhail (1984). Problems of Dostoevsky’s Poetics (trans. Caryl Emerson). University of Minnesota Press. pp. 22–23
- ^ Pevear, Richard (1995). Foreword to Demons (trans. Pevear and Volokhonsky). p. xvii
- ^ Frank, Joseph (2010). Dostoevsky A Writer in his Time. New Jersey: Princeton University Press. p. 656–7. ISBN 978-0-691-12819-1.
- ^ quoted in Frank, Joseph. (2010). p. 607
- ^ Kjetsaa (1987). p. 251.
- ^ Peace, Richard (1971). Dostoyevsky: An Examination of the Major Novels. Cambridge University Press. pp. 140–42. ISBN 0-521-07911-X.
- ^ Frank, Joseph (2010). Dostoevsky: A Writer in His Time. pp. 606, 645.
- ^ Frank, Joseph. Dostoevsky: A Writer in His Time. p. 612.
- ^ Dostoevsky, F. (1994). A Writer’s Diary (trans. Kenneth Lantz). Northwestern University Press. p. 67
- ^ Dostoevsky, Fyodor (2009). A Writer’s Diary. p. 65.
- ^ Frank, Joseph (2010). Dostoevsky: A Writer in His Time. p. 645.
- ^ Stromberg, David. 2012. “The Enigmatic G—v: A Defense of Narrator-Chronicler in Dostoevsky’s Demons.” The Russian Review: An American Quarterly Devoted to Russia Past and Present 71 (3): 460–81.
- ^ Frank, Joseph (2010). Dostoevsky A Writer In His Time. p. 261.
- ^ Pevear, Richard (1995). Foreword to Demons (trans. Pevear and Volokhonsky). p. xiv
- ^ Bakhtin, Mikhail (1984). Problems of Dostoevsky’s Poetics (trans. Caryl Emerson). pp. 90–95, 265
- ^ Frank, Joseph (2010). Dostoevsky A Writer In His Time. pp. 603–04, 610.
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. p. 12
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. p. 339
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. pp. 21–22
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. p. 14
- ^ Frank (2010). pp. 604–06, 645–49
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. p. 48
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. p. 201
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. p. 282
- ^ quoted in Frank, Joseph (2010). Dostoevsky: A Writer in His Time. p. 646.
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. p. 764
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. p. 744
- ^ Wasiolek, Edward (1964). Dostoevsky: The Major Fiction. Cambridge, Massachusetts: M.I.T. Press. p. 112
- ^ Frank, Joseph (2010). Dostoevsky A Writer in his Time. p. 630.
- ^ Nechayev Catechism of a Revolutionary quoted in Frank, Joseph (2010). Dostoyevsky A Writer In His Time. p. 633.
- ^ Wasiolek, Edward (1964). Dostoevsky: The Major Fiction. Cambridge, Mass., M.I.T. Press. p. 135.
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. p. 281
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. p. 270
- ^ Frank, Joseph (2010). Dostoevsky A Writer in His Time. pp. 648–49.
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. p. 33
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. pp. 265–84
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. pp. 280–81
- ^ Frank, Joseph (2010). Dostoevsky A Writer in His Time. p. 656.
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. p. 685
- ^ Frank, Joseph (2010). Dostoevsky A Writer In His Time. pp. 654–55.
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. p. 618
- ^ Frank, Joseph (2010). Dostoevsky A Writer in His Time. p. 658.
- ^ Frank (2010). p. 658
- ^ Nechayev’s Catechism quoted in Frank, Joseph (2010). Dostoevsky A Writer in His Time. p. 633.
- ^ Frank, Joseph (2010). Dostoevsky A Writer in his Time. pp. 642–45.
- ^ Demons (trans. Maguire) p. 446
- ^ Frank, Joseph (2010). Dostoevsky A Writer in his Time. p. 662.
- ^ Dostoyevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. 2008. p. 779
- ^ Frank (2010). p. 597
- ^ Dostoevsky, Fyodor. Demons trans. Robert A. Maguire. p. 773
- ^ Frank, Joseph (2010). Dostoevsky A Writer In His Time. pp. 622–24.
- ^ Stavrogin’s Confession including Dostoevsky and Parricide, by Fyodor Dostoevsky (Author), Sigmund Freud (Afterword) including a psychoanalytic study of the author, Virginia Woolf (Translator), S.S. Koteliansky (Translator) Publisher: Lear Publishers (1947) ASIN B000LDS1TI ASIN B000MXVG94
- ^ letter to A.N. Maykov (25 March 1870) quoted in Peace, Richard (1971). Dostoyevsky: An examination of the major novels. p. 214.
- ^ (October 9, 1870) quoted in Frank, Joseph (2010). p. 607
- ^ Frank, Joseph (2010). pp. 647–49, 663–64
- ^ Frank (2010). p. 652
- ^ Demons (2008). pp. 44–45
- ^ Frank (2010). pp. 652, 661
- ^ Bakhtin, Mikhail (1984). pp. 262–63
- ^ Demons (2008). «At Tikhon’s», pp. 751–87
- ^ Bakhtin, Mikhail (1984). pp. 260–61
- ^ Demons (2008). p. 682
- ^ Freeborn, Richard (2003). Dostoevsky. London: Haus Publishing. p. 112. ISBN 9781904341277.
- ^ Peace (1971). p. 168
- ^ Demons (2008). pp. 126–28
- ^ Frank, Joseph. (2010). p. 665
- ^ Frank (2010). p. 637
- ^ Frank (2010). pp. 645–46
- ^ Dostoevsky letter to Katkov, October 1870. Quoted in Frank (2010). p. 606
- ^ Frank (2010). p. 656
- ^ Peace (1971). pp. 143–46, 321
- ^ Peace (1971). pp. 158–62
- ^ Peace (1971). p. 156
- ^ Frank (2010). p. 635
- ^ Frank (2010). p. 636
- ^ Kjertsaa (1987). pp. 253–54.
- ^ Kjertsaa (1987). p. 253.
- ^ Gide, André (1949). Dostoevsky. London: Secker & Warburg. p. 162.
- ^ Alexander Gladkov (1977), Meetings with Pasternak, Harcourt Brace Jovanovich. p. 34.
- ^ Boris Pasternak (1959), I Remember: Sketch for an Autobiography, Pantheon, p. 90.
- ^ Alexander Solzhenitsyne et al (1981), From Under the Rubble, Gateway Editions. p. 54.
- ^ Foreword to Demons (trans. Pevear and Volokhonsky). p. x.
- ^ Hingley, Ronald (1978). Dostoyevsky: His Life and Work. p. 159.
- ^ Belknap, Robert. Introduction to Demons (trans. Maguire) p. xxviii. 2008
- ^ «Bin Laden, Dostoevsky and the reality principle: an interview with Andre Glucksmann». openDemocracy. openDemocracy Limited. Archived from the original on 5 February 2016. Retrieved 1 February 2016.
- ^ Burnett, Leon. «Dostoevskii» in Encyclopedia of Literary Translation Into English: A-L, Olive Classe (ed.), Fitxroy Dearborn Publishers: 2000, p.366.
- ^ France, Peter. «Dostoevsky» in The Oxford Guide to Literature in English Translation, France, Peter (ed.). Oxford University Press: 2000, p. 598.
- ^ «BBC Radio 4 — Devils».
External links[edit]
- The Possessed (The Devils) at Project Gutenberg
- Virginia Woolf’s translation of Stavrogin’s Confession
- Joyce Carol Oates: Tragic Rites In Dostoevsky’s The Possessed
- Online Russian text of Demons (in Russian)
The Possessed public domain audiobook at LibriVox
- The Possessed at IMDb
Действие романа происходит в губернском городе ранней осенью. О событиях повествует хроникёр Г-в, который также является участником описываемых событий. Его рассказ начинается с истории Степана Трофимовича Верховенского, идеалиста сороковых годов, и описания его сложных платонических отношений с Варварой Петровной Ставрогиной, знатной губернской дамой, покровительством которой он пользуется.
Вокруг Верховенского, полюбившего «гражданскую роль» и живущего «воплощённой укоризной» отчизне, группируется местная либерально настроенная молодёжь. В нем много «фразы» и позы, однако достаточно также ума и проницательности. Он был воспитателем многих героев романа. Прежде красивый, теперь он несколько опустился, обрюзг, играет в карты и не отказывает себе в шампанском.
Ожидается приезд Николая Ставрогина, чрезвычайно «загадочной и романической» личности, о которой ходит множество слухов. Он служил в элитном гвардейском полку, стрелялся на дуэли, был разжалован, выслужился. Затем известно, что закутил, пустился в самую дикую разнузданность. Побывав четыре года назад в родном городе, он много накуролесил, вызвав всеобщее возмущение: оттаскал за нос почтенного человека Гаганова, больно укусил за ухо тогдашнего губернатора, публично поцеловал чужую жену… В конце концов все как бы объяснилось белой горячкой. Выздоровев, Ставрогин уехал за границу.
Его мать Варвара Петровна Ставрогина, женщина решительная и властная, обеспокоенная вниманием сына к её воспитаннице Дарье Шатовой и заинтересованная в его браке с дочерью приятельницы Лизой Тушиной, решает женить на Дарье своего подопечного Степана Трофимовича. Тот в некотором ужасе, хотя и не без воодушевления, готовится сделать предложение.
В соборе на обедне к Варваре Петровне неожиданно подходит Марья Тимофеевна Лебядкина, она же Хромоножка, и целует её руку. Заинтригованная дама, получившая недавно анонимное письмо, где сообщалось, что в её судьбе будет играть серьёзную роль хромая женщина, приглашает её к себе, с ними же едет и Лиза Тушина. Там уже ждёт взволнованный Степан Трофимович, так как именно на этот день намечено его сватовство к Дарье. Вскоре здесь же оказывается и прибывший за сестрой капитан Лебядкин, в туманных речах которого, перемежающихся стихами его собственного сочинения, упоминается некая страшная тайна и намекается на какие-то особенные его права.
Внезапно объявляют о приезде Николая Ставрогина, которого ожидали только через месяц. Сначала появляется суетливый Петр Верховенский, а за ним уже и сам бледный и романтичный красавец Ставрогин. Варвара Петровна с ходу задаёт сыну вопрос, не является ли Марья Тимофеевна его законной супругой. Ставрогин молча целует у матери руку, затем благородно подхватывает под руку Лебядкину и выводит её. В его отсутствие Верховенский сообщает красивую историю о том, как Ставрогин внушил забитой юродивой красивую мечту, так что она даже вообразила его своим женихом. Тут же он строго спрашивает Лебядкина, правда ли это, и капитан, трепеща от страха, все подтверждает.
Варвара Петровна в восторге и, когда её сын появляется снова, просит у него прощения. Однако происходит неожиданное: к Ставрогину вдруг подходит Шатов и даёт ему пощёчину. Бесстрашный Ставрогин в гневе хватает его, но тут же внезапно убирает руки за спину. Как выяснится позже, это ещё одно свидетельство его огромной силы, ещё одно испытание. Шатов беспрепятственно выходит. Лиза Тушина, явно неравнодушная к «принцу Гарри», как называют Ставрогина, падает в обморок.
Проходит восемь дней. Ставрогин никого не принимает, а когда его затворничество заканчивается, к нему тут же проскальзывает Петр Верховенский. Он изъявляет готовность на все для Ставрогина и сообщает про тайное общество, на собрании которого они должны вместе появиться. Вскоре после его визита Ставрогин направляется к инженеру Кириллову. Инженер, для которого Ставрогин много значит, сообщает, что по-прежнему исповедует свою идею. Её суть — в необходимости избавиться от Бога, который есть не что иное, как «боль страха смерти», и заявить своеволие, убив самого себя и таким образом став человекобогом.
Затем Ставрогин поднимается к живущему в том же доме Шатову, которому сообщает, что действительно некоторое время назад в Петербурге официально женился на Лебядкиной, а также о своём намерении в ближайшее время публично объявить об этом. Он великодушно предупреждает Шатова, что его собираются убить. Шатов, на которого Ставрогин прежде имел огромное влияние, раскрывает ему свою новую идею о народе-богоносце, каковым считает русский народ, советует бросить богатство и мужицким трудом добиться Бога. Правда, на встречный вопрос, а верит ли он сам в Бога, Шатов несколько неуверенно отвечает, что верит в православие, в Россию, что он… будет веровать в Бога.
Той же ночью Ставрогин направляется к Лебядкину и по дороге встречает беглого Федьку Каторжного, подосланного к нему Петром Верховенским. Тот изъявляет готовность исполнить за плату любую волю барина, но Ставрогин гонит его. Лебядкину он сообщает, что собирается объявить о своём браке с Марьей Тимофеевной, на которой женился «…после пьяного обеда, из-за пари на вино…». Марья Тимофеевна встречает Ставрогина рассказом о зловещем сне. Он спрашивает её, готова ли она уехать вместе с ним в Швейцарию и там уединённо прожить оставшуюся жизнь. Возмущённая Хромоножка кричит, что Ставрогин не князь, что её князя, ясного сокола, подменили, а он — самозванец, у него нож в кармане. Сопровождаемый её визгом и хохотом, взбешённый Ставрогин ретируется. На обратном пути он бросает Федьке Каторжному деньги.
На следующий день происходит дуэль Ставрогина и местного дворянина Артемия Гаганова, вызвавшего его за оскорбление отца. Кипящий злобой Гаганов трижды стреляет и промахивается. Ставрогин же объявляет, что не хочет больше никого убивать, и трижды демонстративно стреляет в воздух. История эта сильно поднимает Ставрогина в глазах общества.
Между тем в городе наметились легкомысленные настроения и склонность к разного рода кощунственным забавам: издевательство над новобрачными, осквернение иконы и пр. В губернии неспокойно, свирепствуют пожары, порождающие слухи о поджогах, в разных местах находят призывающие к бунту прокламации, где-то свирепствует холера, проявляют недовольство рабочие закрытой фабрики Шпигулиных, некий подпоручик, не вынеся выговора командира, бросается на него и кусает за плечо, а до того им были изрублены два образа и зажжены церковные свечки перед сочинениями Фохта, Молешотта и Бюхнера… В этой атмосфере готовится праздник по подписке в пользу гувернанток, затеянный женой губернатора Юлией Михайловной.
Варвара Петровна, оскорблённая слишком явным желанием Степана Трофимовича жениться и его слишком откровенными письмами к сыну Петру с жалобами, что его, дескать, хотят женить «на чужих грехах», назначает ему пенсион, но вместе с тем объявляет и о разрыве.
Младший Верховенский в это время развивает бурную деятельность. Он допущен в дом к губернатору и пользуется покровительством его супруги Юлии Михайловны. Она считает, что он связан с революционным движением, и мечтает раскрыть с его помощью государственный заговор. На свидании с губернатором фон Лембке, чрезвычайно озабоченным происходящим, Верховенский умело выдаёт ему несколько имён, в частности Шатова и Кириллова, но при этом просит у него шесть дней, чтобы раскрыть всю организацию. Затем он забегает к Кириллову и Шатову, уведомляя их о собрании «наших» и прося быть, после чего заходит за Ставрогиным, у которого только что побывал Маврикий Николаевич, жених Лизы Тушиной, с предложением, чтобы Николай Всеволодович женился на ней, поскольку она хоть и ненавидит его, но в то же время и любит. Ставрогин признается ему, что никак этого сделать не может, поскольку уже женат. Вместе с Верховенским они отправляются на тайное собрание.
На собрании выступает мрачный Шигалев со своей программой «конечного разрешения вопроса». Её суть в разделении человечества на две неравные части, из которых одна десятая получает свободу и безграничное право над остальными девятью десятыми, превращёнными в стадо. Затем Верховенский предлагает провокационный вопрос, донесли ли бы участники собрания, если б узнали о намечающемся политическом убийстве. Неожиданно поднимается Шатов и, обозвав Верховенского подлецом и шпионом, покидает собрание. Это и нужно Петру Степановичу, который уже наметил Шатова в жертвы, чтобы кровью скрепить образованную революционную группу-«пятёрку». Верховенский увязывается за вышедшим вместе с Кирилловым Ставрогиным и в горячке посвящает их в свои безумные замыслы. Его цель — пустить большую смуту. «Раскачка такая пойдёт, какой мир ещё не видал… Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам…» Тогда-то и понадобится он, Ставрогин. Красавец и аристократ. Иван-Царевич.
События нарастают как снежный ком. Степана Трофимовича «описывают» — приходят чиновники и забирают бумаги. Рабочие со шпигулинской фабрики присылают просителей к губернатору, что вызывает у фон Лембке приступ ярости и выдаётся чуть ли не за бунт. Попадает под горячую руку градоначальника и Степан Трофимович. Сразу вслед за этим в губернаторском доме происходит также вносящее смуту в умы объявление Ставрогина, что Лебядкина — его жена.
Наступает долгожданный день праздника. Гвоздь первой части — чтение известным писателем Кармазиновым своего прощального сочинения «Merci», а затем обличительная речь Степана Трофимовича. Он страстно защищает от нигилистов Рафаэля и Шекспира. Его освистывают, и он, проклиная всех, гордо удаляется со сцены. Становится известно, что Лиза Тушина среди бела дня пересела внезапно из своей кареты, оставив там Маврикия Николаевича, в карету Ставрогина и укатила в его имение Скворешники. Гвоздь второй части праздника — «кадриль литературы», уродливо-карикатурное аллегорическое действо. Губернатор и его жена вне себя от возмущения. Тут-то и сообщают, что горит Заречье, якобы подожжённое шпигулинскими, чуть позже становится известно и об убийстве капитана Лебядкина, его сестры и служанки. Губернатор едет на пожар, где на него падает бревно.
В Скворешниках меж тем Ставрогин и Лиза Тушина вместе встречают утро. Лиза намерена уйти и всячески старается уязвить Ставрогина, который, напротив, пребывает в нехарактерном для него сентиментальном настроении. Он спрашивает, зачем Лиза к нему пришла и зачем было «столько счастья». Он предлагает ей вместе уехать, что она воспринимает с насмешкой, хотя в какое-то мгновение глаза её вдруг загораются. Косвенно в их разговоре всплывает и тема убийства — пока только намёком. В эту минуту и появляется вездесущий Петр Верховенский. Он сообщает Ставрогину подробности убийства и пожара в Заречье. Лизе Ставрогин говорит, что не он убил и был против, но знал о готовящемся убийстве и не остановил. В истерике она покидает ставрогинский дом, неподалёку её ждёт просидевший всю ночь под дождём преданный Маврикий Николаевич. Они направляются к месту убийства и встречают по дороге Степана Трофимовича, бегущего, по его словам, «из бреду, горячечного сна, <…> искать Россию» В толпе возле пожарища Лизу узнают как «ставрогинскую», поскольку уже пронёсся слух, что дело затеяно Ставрогиным, чтобы избавиться от жены и взять другую. Кто-то из толпы бьёт её, она падает. Отставший Маврикий Николаевич успевает слишком поздно. Лизу уносят ещё живую, но без сознания.
А Петр Верховенский продолжает хлопотать. Он собирает пятёрку и объявляет, что готовится донос. Доносчик — Шатов, его нужно непременно убрать. После некоторых сомнений сходятся, что общее дело важнее всего. Верховенский в сопровождении Липутина идёт к Кириллову, чтобы напомнить о договорённости, по которой тот должен, прежде чем покончить с собой в соответствии со своей идеей, взять на себя и чужую кровь. У Кириллова на кухне сидит выпивающий и закусывающий Федька Каторжный. В гневе Верховенский выхватывает револьвер: как он мог ослушаться и появиться здесь? Федька неожиданно бьёт Верховенского, тот падает без сознания, Федька убегает. Свидетелю этой сцены Липутину Верховенский заявляет, что Федька в последний раз пил водку. Утром действительно становится известно, что Федька найден с проломленной головой в семи верстах от города. Липутин, уже было собравшийся бежать, теперь не сомневается в тайном могуществе Петра Верховенского и остаётся.
К Шатову тем же вечером приезжает жена Марья, бросившая его после двух недель брака. Она беременна и просит временного пристанища. Чуть позже к нему заходит молодой офицерик Эркель из «наших» и сообщает о завтрашней встрече. Ночью у жены Шатова начинаются роды. Он бежит за акушеркой Виргинской и потом помогает ей. Он счастлив и чает новой трудовой жизни с женой и ребёнком. Измотанный, Шатов засыпает под утро и пробуждается уже затемно. За ним заходит Эркель, вместе они направляются в ставрогинский парк. Там уже ждут Верховенский, Виргинский, Липутин, Лямшин, Толкаченко и Шигалев, который внезапно категорически отказывается принимать участие в убийстве, потому что это противоречит его программе.
На Шатова нападают. Верховенский выстрелом из револьвера в упор убивает его. К телу привязывают два больших камня и бросают в пруд. Верховенский спешит к Кириллову. Тот хоть и негодует, однако обещание выполняет — пишет под диктовку записку и берет на себя вину за убийство Шатова, а затем стреляется. Верховенский собирает вещи и уезжает в Петербург, оттуда за границу.
Отправившись в своё последнее странствование, Степан Трофимович умирает в крестьянской избе на руках примчавшейся за ним Варвары Петровны. Перед смертью случайная попутчица, которой он рассказывает всю свою жизнь, читает ему Евангелие, и он сравнивает одержимого, из которого Христос изгнал бесов, вошедших в свиней, с Россией. Этот пассаж из Евангелия взят хроникёром одним из эпиграфов к роману.
Все участники преступления, кроме Верховенского, вскоре арестованы, выданные Лямшиным. Дарья Шатова получает письмо-исповедь Ставрогина, который признается, что из него «вылилось одно отрицание, без всякого великодушия и безо всякой силы». Он зовёт Дарью с собой в Швейцарию, где купил маленький домик в кантоне Ури, чтобы поселиться там навечно. Дарья даёт прочесть письмо Варваре Петровне, но тут обе узнают, что Ставрогин неожиданно появился в Скворешниках. Они торопятся туда и находят «гражданина кантона Ури» повесившимся в мезонине.
Достоевский начинает писать «Бесы» как злой антинигилистический памфлет, но вырывается за рамки жанра и создаёт один из своих лучших романов: политический триллер, сатирический боевик, религиозную драму и экзистенциальную трагедию под одной обложкой.
комментарии: Елена Макеенко
О чём эта книга?
В губернский город одновременно возвращаются из-за границы демонический красавец Николай Ставрогин и сын домашнего учителя Петруша Верховенский. После их приезда начинают происходить странные вещи: скандалы, пожары, убийства. Плетутся политические интриги, расползаются слухи, у каждого жителя в шкафу обнаруживается скелет. За месяц тихий город превращается в адскую воронку, большинство действующих лиц гибнет, сходит с ума или сбегает. Достоевский задумывает антинигилистический памфлет, а пишет мрачную и захватывающую трагедию мира, потерявшего гармонию и смысл.
Когда она написана?
Замысел начал складываться у Достоевского в 1869 году. В это время писатель находится за границей, скрываясь от кредиторов, тоскует по родине и прочитывает по несколько русских газет в день. В это же время в России активизируется студенческое движение, волнения происходят в Московском университете. Обеспокоенный Достоевский приглашает младшего брата своей жены, студента Петровской сельскохозяйственной академии в Москве Ивана Сниткина, погостить у них в Дрездене. По воспоминаниям Анны Григорьевны Достоевской, Сниткин много рассказывает о быте и настроениях студенческого мира, в том числе о студенте Иванове. Через полтора месяца Иванова убьют бывшие единомышленники по революционной организации «Народная расправа» во главе с Сергеем Нечаевым. Убийство студента производит на Достоевского сильное впечатление. У писателя зреет замысел написать памфлет против нигилистов и западников, в начале 1870 года он рассказывает об этой идее в письмах
Аполлону Майкову
Аполлон Николаевич Майков (1821–1897) — поэт. В 1842 году вышел его первый стихотворный сборник, за который он получил пособие от императора Николая I. В середине 1840-х годов Майков сотрудничал с «Современником» и «Отечественными записками», посещал кружок Петрашевского, где познакомился с Достоевским. После разгрома кружка взгляды Майкова стали консервативнее — он сблизился с журналом «Москвитянин», увлёкся древнерусской историей, перевёл «Слово о полку Игореве». С 1852 года служил цензором, позднее стал председателем Комитета по иностранной цензуре.
и
Николаю Страхову
Николай Николаевич Страхов (1828–1896) — идеолог почвенничества, близкий друг Толстого и первый биограф Достоевского. Он написал важнейшие критические статьи о творчестве Толстого, до сих пор мы говорим о «Войне и мире», во многом опираясь именно на них. Страхов активно критиковал нигилизм и западный рационализм, который он презрительно называл «просвещенство». Идеи Страхова о человеке как «центральном узле мироздания» повлияли на развитие русской религиозной философии.
: «То, что пишу, — вещь тенденциозная, хочется высказаться погорячее. (Вот завопят-то про меня нигилисты и западники, что ретроград!) Да чёрт с ними, а я до последнего слова выскажусь». Постепенно «памфлет» разрастается, усложняется и превращается в большой роман, над которым писатель работает почти три года.
А между тем это был ведь человек умнейший и даровитейший, человек, так сказать, даже науки, хотя, впрочем, в науке… ну, одним словом, в науке он сделал не так много и, кажется, совсем ничего. Но ведь с людьми науки у нас на Руси это сплошь да рядом случается
Фёдор Достоевский
Как она написана?
Роман представляет собой хронику, которую ведёт молодой человек, свидетель и отчасти участник событий, Антон Лаврентьевич Г-в (в литературоведении его часто называют Хроникёром). Рассказчик старается подробно и объективно фиксировать события, которые происходили в городе в сентябре — октябре одного года, но по мере вовлечения объективность ему изменяет, а отдельные эпизоды приходится домысливать. Для объяснения происшедшего Хроникёр погружается в биографии героев за предыдущие двадцать лет и дополняет повествование фактами, которые были обнаружены уже после развязки. Отступления назад и забегания вперёд создают впечатление, будто в романе много лакун и нестыковок, однако, как доказала исследовательница Достоевского Людмила Сараскина, мир «Бесов» проработан до минуты и требует от читателя всего лишь быть очень внимательным. Единственная настоящая лакуна находится между восьмой и девятой главами: в этом месте, в самом центре романа, должна находиться глава «У Тихона», которую по цензурным соображениям отказался публиковать издатель
«Русского вестника»
Литературный и политический журнал (1856–1906), основанный Михаилом Катковым. В конце 50-х редакция занимает умеренно либеральную позицию, с начала 60-х «Русский вестник» становится всё более консервативным и даже реакционным. В журнале в разные годы были напечатаны центральные произведения русской классики: «Анна Каренина» и «Война и мир» Толстого, «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы» Достоевского, «Накануне» и «Отцы и дети» Тургенева, «Соборяне» Лескова.
Катков. В современных изданиях изъятая глава публикуется в виде приложения, в ней Николай Ставрогин исповедуется и фактически объясняет своё будущее самоубийство.
Что на неё повлияло?
Феномен нарастающего политического радикализма и популярные в России 1840–60-х политические идеи, кружки и соответствующие дискурсы: социалистический, либеральный, почвеннический. Важный литературный источник — традиция антинигилистических романов, которую Достоевский трансформировал и развил, во-первых, представив в своём романе сложную «палитру» нигилистов (одновременно с «Бесами» в «Русском вестнике» выходил роман Лескова «На ножах», который Достоевский раскритиковал в переписке с Майковым: «Много вранья, много чёрт знает чего, точно на луне происходит»), во-вторых, отменив обязательное для романов такого типа противопоставление нигилистам государственной власти, которая в «Бесах» выглядит ничуть не лучше своих врагов. Особняком здесь стоят «Отцы и дети» Тургенева: от них Достоевский отталкивался в начале работы над романом, разрабатывая линию отца и сына Верховенских как основную, хотя позже эта литературная связь почти исчезла. Мир губернского города из «Бесов» напоминает мир гоголевских «Ревизора» и «Мёртвых душ», а также только что вышедшей «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина («Город наш третировали они как какой-нибудь город Глупов», — рассказывает Хроникёр о публике из кружка губернаторши. Известно, что прототипом губернского города в «Бесах» была Тверь, где Достоевский жил после ссылки в 1859 году, а Салтыков-Щедрин служил вице-губернатором в 1860–1862-м). Несомненно, повлияли на роман и «Повести Белкина»: Иван Петрович Белкин — ближайший литературный родственник Хроникёра.
Как она была опубликована?
Роман публиковался в «Русском вестнике» в течение 1871–1872 годов с большим перерывом, который возник из-за борьбы Достоевского с издателем Катковым и редактором
Любимовым
Николай Алексеевич Любимов (1830–1897) — публицист, редактор. C начала 1860-х работал редактором в «Русском вестнике» Михаила Каткова и Павла Леонтьева. Готовил к выпуску многие романы Достоевского («Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Идиот», «Бесы»). С 1865 года Любимов преподавал физику в Московском университете, а в 1882 году стал членом Совета министра народного просвещения.
за главу «У Тихона». В 1873-м «Бесы» вышли отдельным изданием. «У Тихона» была опубликована в качестве приложения к роману только в 1926 году.
Как её приняли?
Поскольку Достоевский и сам считал «Бесы» тенденциозной книгой («Хочется высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом моя художественность», — пишет он Страхову 24 марта 1870-го) и написана она была как будто про «Народную расправу», неудивительно, что современники оценивали роман в основном с точки зрения идеологии. Критики, относившиеся к революционным настроениям с опаской, приветствовали «Бесов»: «Г. Достоевский, с его способностью наблюдать и анализировать преимущественно болезненные явления человеческой души, задался выследить роковое влияние новых идей на слабый ум и те нравственные изъявления, какие извращение этих идей производит в жалких, внутренне несостоятельных натурах, поражённых бессилием и бесплодием полуобразованности» — так видел роман
Василий Авсеенко
Василий Григорьевич Авсеенко (1842–1913) — писатель, публицист. Преподавал в Киевском университете всеобщую историю, был соредактором газеты «Киевлянин», руководителем канцелярии губернатора. После переезда в Петербург в 1869 году служил в Министерстве народного просвещения, публиковал критические статьи в «Русском вестнике», «Русском слове», «Заре». С 1883-го по 1896-й издавал «Санкт-Петербургские ведомости». Писал беллетристику: романы «Злой дух», «Млечный путь», «Скрежет зубовный» и другие.
, и сам писавший антинигилистические произведения. Демократическая критика, напротив, обвиняла Достоевского в отказе от своих былых убеждений и в искажении сути «нечаевского дела». Пётр Ткачёв, критик и народник, привлекавшийся по делу (в 1881 году, уже в эмиграции, он напишет статью «Терроризм как единственное средство нравственного и общественного возрождения России»), писал о «Бесах»: «В болезненных представлениях уродцев, помешавшихся на каких-то неопределённо мистических пунктах, — очевидно, нисколько не отражается миросозерцание той среды — среды лучшей образованной молодёжи, из которой они вышли». Салтыков-Щедрин сетовал о «дешёвом глумлении над так называемым нигилизмом», которое позволяет себе
Достоевский
1
Салтыков-Щедрин М. Е. Светлов, его взгляды, характер и деятельность // «Отечественные записки». 1871. № 4.
. Примиряющей можно считать позицию
Владимира Соловьёва
Владимир Сергеевич Соловьёв (1853–1900) — философ, публицист. После защиты диссертации в 1874 году уехал в путешествие по Англии, Франции, Италии и Египту. В 1877 году переехал в Санкт-Петербург, где сблизился с Достоевским. Получил степень доктора философии за диссертацию «Критика отвлечённых начал». Соловьёв занимался развитием идеи всеединства сущего, ввёл концепцию Софии — Души Мира, выступал за объединение всех христианских конфессий. Соловьёв значительно повлиял на религиозную философию (Николая Бердяева, Сергея Булгакова, Павла Флоренского) и всю культуру Серебряного века.
, который считал, что «верную и беспристрастную оценку романа [можно будет дать] только в далёком
будущем»
2
Русские писатели. М.: Просвещение, 1990. Т. 2. С. 246.
.
Что было дальше?
После революции и Гражданской войны «Бесы» оставались романом, прочтение которого зависело от политических взглядов читателя и нередко от того, по какую сторону советской границы читатель находился.
Главным противником «Бесов» был Максим Горький, заклеймивший роман реакционным и социально вредным и создавший тем самым советскую традицию его восприятия. Ещё в 1913 году, требуя запретить постановку «Бесов» в Художественном театре, он назвал Достоевского злым гением, а его роман одним из «тёмных пятен злорадного человеконенавистничества на светлом фоне русской
литературы»
3
Горький М. О «карамазовщине» // Собр. соч.: В 30 т. Т. 24: Статьи, речи, приветствия. 1907–1928. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1953. С. 146–150.
. В Советском Союзе «Бесы» издавались только дважды, в собраниях сочинений Достоевского, а единственная попытка издать роман отдельным двухтомником — в научном издательстве Academia в 1935 году — закончилась уничтожением тиража первого тома. Любопытно, что как раз это издание Горький попытался отстоять на страницах газеты «Правда» в полемике с критиком
Заславским
Давид Иосифович Заславский (1880–1965) — литературовед, публицист. С 1903 года член «Бунда», еврейской социалистической партии, писал рассказы и фельетоны для «Киевских вестей», журналов «Современный мир», «Русская мысль», работал в меньшевистской газете «День». После революции примкнул к большевикам, с 1928 года работал в «Правде». Во время войны был членом Еврейского антифашистского комитета. Принимал участие в газетной травле Мандельштама, Пастернака и Шостаковича.
, назвавшим «Бесов» «литературной гнилью». Тем не менее итогом полемики стал запрет «Бесов», который продержался до 1957 года.
Символистская критика и экзистенциалисты объявили «Бесы» пророческой книгой, что тоже стало штампом, получившим вторую жизнь после перестройки. «Сейчас, после опыта русской революции, даже враги Достоевского должны признать, что «Бесы» — книга пророческая, — писал в 1918 году Николай Бердяев. — Достоевский видел духовным зрением, что русская революция будет именно такой и иной быть не может. Он предвидел неизбежность беснования в революции. Русский нигилизм, действующий в хлыстовской русской стихии, не может не быть беснованием, исступлённым и вихревым кружением. Это исступлённое вихревое кружение и описано в «Бесах». Там происходит оно в небольшом городке. Ныне происходит оно по всей необъятной земле русской».
Роман подробно анализировал Фридрих Ницше, особое критическое внимание он уделял фигуре Алексея Кириллова. В 1959 году театральную инсценировку «Бесов» написал Альбер Камю, он же писал о романе, и тоже о Кириллове, в своём знаменитом эссе «Миф о Сизифе». «Бесов» несколько раз экранизировали в Германии, Италии, Мексике, Польше. В России роман снова начали ставить и экранизировать после 1991 года, спектакли по «Бесам» поставили в том числе Лев Додин и Юрий Любимов. В постсоветское время по отношению к «Бесам» устоялось определение «роман-предупреждение», особенно благодаря работам Людмилы Сараскиной.
Mondadori Portfolio via Getty Images
Какие реальные события лежат в основе «Бесов»?
Убийство студента Сергеем Нечаевым и членами «Народной расправы» не только вдохновило Достоевского на создание антинигилистического романа, но и вошло в роман в качестве одного из главных событий — убийства Шатова «нашими». Стратегия поведения Петра Верховенского и устройство его тайного общества иллюстрируют написанный Нечаевым манифест «Катехизис революционера».
В сентябре 1869 года революционный маньяк и мистификатор с характером тоталитарного лидера Сергей Нечаев приехал в Москву с мандатом, подписанным
Михаилом Бакуниным
Михаил Александрович Бакунин (1814–1876) — философ, революционер. Во второй половине 1830-х годов изучал классическую немецкую философию, был членом кружка Станкевича. С 1840 года жил за границей: участвовал в революции 1848 года во Франции, в этом же году в Пражском народном восстании, затем в восстании в Дрездене. В 1851 году Бакунина выдали в Россию, после длительного заключения он был отправлен в ссылку в Сибирь, откуда сбежал и уехал в Англию. В конце 1860-х сблизился с революционером Сергеем Нечаевым. В 1874 году издан самый известный труд Бакунина «Государственность и анархия».
, и деньгами
«Бахметьевского фонда»
В конце 1850-х годов помещик Павел Бахметьев увлёкся идеями утопического социализма, распродал всё своё имущество и уехал на острова Тихого океана строить коммуну, где бесследно пропал. Когда Бахметьев был проездом в Европе, он передал Александру Герцену и Николаю Огарёву 20 тысяч франков на нужды революции.
, полученными от
Николая Огарёва
Николай Платонович Огарёв (1813–1877) — поэт, публицист, революционер. В 1834 году был арестован за организацию вместе с Герценом революционного кружка и отправлен в ссылку в Пензенскую губернию. В 1856 году вышел первый сборник стихов Огарёва, в этом же году поэт эмигрировал в Великобританию, где вместе с Герценом возглавил Вольную русскую типографию и издавал журнал «Колокол». Был одним из создателей организации «Земля и воля», развивал идею крестьянской революции.
. Бакунину и Огарёву Нечаев представился в Швейцарии делегатом несуществующего Русского революционного комитета. В Москве же он открыл революционную ячейку организации «Народная расправа» в Петровской земледельческой академии, представившись студентам членом центрального комитета и рассказав о ячейках в других городах по всей России (в действительности их тоже не существовало). Московская ячейка распространяла прокламации, в том числе «Катехизис революционера». 21 ноября 1869 года нечаевцы запланировали расклеить листовки в академии, чтобы поддержать студенческие волнения в Московском университете. Один из членов кружка, Иван Иванов, выступил против этой акции, так как опасался, что она может привести к закрытию академии. Нечаев, требовавший от своих подопечных жёсткой дисциплины и беспрекословного подчинения, почувствовал угрозу своему положению в ячейке. Тогда он ложно обвинил Иванова в предательстве и сотрудничестве с властями и убедил других членов кружка в том, что предателя нужно убить. Иванова заманили в парк академии под предлогом, что там в гроте закопан типографский станок, который нужно достать. Когда Иванов пришёл, бывшие единомышленники набросились на него и сначала пытались задушить, а потом сам Нечаев застрелил отбивавшегося студента. Тело бросили в пруд, привязав к нему кирпичи. Через несколько дней крестьяне обнаружили следы борьбы и труп Иванова.
Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив; только потому. Это всё, всё! Кто узнает, тотчас сейчас станет счастлив, сию минуту
Фёдор Достоевский
Достоевский помещает события «Бесов» в то же время — осень 1869 года. Но, поскольку работа над романом и его публикация идут три года, да и реальный судебный процесс растягивается из-за отсутствия главного преступника, в текст прямо или косвенно проникают события 1870–1872 годов: Франко-прусская война, Парижская коммуна, смерть Герцена и другие. Таким образом роман сохраняет публицистическую остроту на протяжении всей журнальной публикации. Заодно создаётся эффект присутствия в мире «Бесов» для читателей-современников: с героями романа их объединяет общая повестка, как будто романное время течёт параллельно времени чтения (сегодня такой приём часто используют авторы политических и юридических сериалов, стремясь реагировать на резонансные события, пока те ещё обсуждаются в соцсетях).
В ходе нечаевского процесса были допрошены 87 человек, несколько нечаевцев получили оправдательный приговор, другие отправились на каторгу. Сам Нечаев бежал в Швейцарию и был выдан российским властям только в 1872-м. Через две недели после выхода «Бесов» отдельной книгой суд присяжных вынес приговор экстрадированному Нечаеву — 20 лет каторжных работ, но после суда его поместили в Петропавловскую крепость как политического преступника. В конце 1880 года Нечаев связался через караульных солдат с членами организации «Народная воля» и предложил им план своего побега. Однако народовольцы уже готовили покушение на Александра II и не могли рисковать собой ради Нечаева, чьи иезуитские методы к тому же были им чужды. Через два года Нечаев умер в тюрьме.
Что мы знаем о прототипах героев романа?
У всей «пятёрки» Верховенского и многих других героев романа есть реальные прототипы, часто Достоевский называл персонажей их именами в черновиках. Так, например, Степан Трофимович Верховенский во время работы над романом носил фамилию Грановский, в честь историка-медиевиста Тимофея Грановского, профессора Московского университета, друга Герцена и Огарёва, известного западника, близкого к кругу журнала «Современник». Правда, Верховенский-старший в отличие от своего прототипа только говорит о своих исторических трудах и былом участии в политическом движении, не имея никаких подтверждений ни тому, ни другому, и весь его образ комического старика представляет собой довольно злую сатиру на Грановского как одну из крупных фигур русского западничества. С другой стороны, начальная историческая точка, от которой отсчитываются события романного прошлого в «Бесах», — 1849 год, год ареста
петрашевцев
Участники кружка Михаила Буташевича-Петрашевского. Собрания проходили в Петербурге во второй половине 1840-х годов, на них обсуждались идеи общественного переустройства и популярные теории утопического социализма. Кружок посещали писатели, художники, учителя, чиновники. По «делу петрашевцев» было арестовано около сорока человек, половину из них осудили на смертную казнь, которая оказалась инсценировкой — осуждённых помиловали и отправили на каторгу.
, среди которых был и сам Достоевский. Так что можно предположить, что Верховенский-старший всё-таки имеет некоторую политическую биографию и представляет собой собирательный образ идеалиста 1840-х годов. Как охарактеризовал его, к восторгу Достоевского, Аполлон Майков: «Это тургеневские герои в старости».
Пётр Степанович Верховенский носит в черновиках фамилию Нечаев или Речаев, хотя тому, что его прототип — Сергей Нечаев, и так не требуется лишних доказательств. Некоторые исследователи видят в образе Петруши и черты
Михаила Буташевича-Петрашевского
Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский (1821–1866) — общественный деятель. С 1841 года служил в Министерстве иностранных дел. Принимал участие в издании «Словаря иностранных слов», популяризующего идеи утопического социализма. С 1844 года в доме Буташевича-Петрашевского проходили собрания общественно-политического кружка. После ареста членов кружка в 1849 году отбывал наказание в ссылке в Восточной Сибири.
, лидера петрашевцев.
Липутин получил фамилию, напоминающую о нечаевцах Лихутиных, но его прототипом послужил скорее Пётр Гаврилович Успенский, который был правой рукой Нечаева в «Народной расправе». Это он фактически организовал для Нечаева тайное общество, предоставлял свою квартиру для встреч и вёл протоколы. После ареста он же оказался одним из самых полезных свидетелей по делу.
Виргинский сочетает в себе черты того же Успенского и Алексея Кирилловича Кузнецова, студента Петровской академии, будущего краеведа и просветителя, приговорённого к десяти годам каторги за участие в убийстве Иванова. Кузнецов собирал деньги и вещи для «Народной расправы», выполнял мелкие поручения Нечаева, постоянно встречался с разными лицами по его приказу.
Есть дружбы странные: оба друга один другого почти съесть хотят, всю жизнь так живут, а между тем расстаться не могут. Расстаться даже никак нельзя: раскапризившийся и разорвавший связь друг первый же заболеет и, пожалуй, умрёт, если это случится
Фёдор Достоевский
Прототип Толкаченко — фольклорист, этнограф Иван Гаврилович Прыжов, присутствовавший при убийстве, но не участвовавший в нём. Моисей Альтман, подробно сопоставивший биографии Прыжова и Толкаченко, предполагает, что Достоевский знал Прыжова
лично
4
Альтман М. С. Достоевский: по вехам имён. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1975.
.
Прототип Эркеля — преданный нечаевец, бывший надзиратель в арестном доме Николай Николаевич Николаев, который зимой 1869 года отдал Нечаеву свой паспорт, чтобы тот смог бежать за границу. Именно Николаев заманил студента Иванова в грот под предлогом поиска печатного станка.
Кириллов унаследовал характер петрашевца Константина Тимковского, лейтенанта черноморского флота в отставке. Тимковский был прекрасно образован, знал несколько языков, но с маниакальной страстью поддавался какой-нибудь идее, которая заслоняла для него всё остальное. Первоначально глубоко религиозный человек, Тимковский затем хотел научно доказать божественность Христа, а позже стал таким же ярым атеистом. В кружке Петрашевского он горячо говорил об изменении мира и готовности пожертвовать собой во имя свободы. «Некоторые принимали его за истинный, дагерротипно верный снимок с Дон Кихота и, может быть, не ошибались», — писал о Тимковском
Достоевский
5
Гроссман Л. П. Достоевский. СПб.: Астрель, 2012.
. Некоторые детали биографии перешли к Кириллову от Достоевского: например, умерший семь лет назад старший брат или привычка пить крепкий чай по ночам.
Роль студента Иванова в романе формально выполняет Иван Шатов. Содержательно же Достоевский передаёт ему свою собственную идеологическую эволюцию.
Фигура Хроникёра отчасти обязана Ивану Григорьевичу Сниткину, младшему брату жены Достоевского. Учитывая, что во время пребывания в Дрездене Сниткин был главным собеседником и конфидентом Достоевского, можно сравнить их отношения с отношениями Антона Лаврентьевича Г-ва и Верховенского-старшего, что позволяет думать, что фигура Степана Трофимовича создана писателем в том числе как самопародия.
Наконец, есть частичный прототип и у Ставрогина — это Николай Спешнёв, центральная фигура политического
кружка Дурова
Собрания у Сергея Фёдоровича Дурова, проходившие в 1848–1849 годах. Именно у Дурова Достоевский читал вслух запрещённое письмо Белинского к Гоголю.
и автор его устава, дворянин, долго проживший за границей, светский лев, роковой красавец с неподвижными чертами лица, исследователь раннего христианства как тайного общества, пропагандировавший «социализм, атеизм, терроризм, всё, всё доброе на
свете»
6
Мочульский К. Достоевский. Жизнь и творчество. Париж: YMCA-Press, 1980.
. Молодой Достоевский находился в странной психологической зависимости от Спешнёва, называл его своим Мефистофелем и к тому же занял у него крупную сумму денег, которую не мог отдать. А Тимковский — прототип Кириллова — указывал на допросе, что именно Спешнёв соблазнил его атеизмом.
Кто всё-таки главный герой «Бесов» — Верховенский или Ставрогин?
В «Бесах» оказалось как будто бы два главных героя, из-за того что замысел романа сильно изменился в процессе работы. Поначалу Достоевский собирался написать памфлет против нигилистов и западников, а всю сущность политических радикалов, какой видел её писатель, в романе должен был воплощать Петруша Верховенский. Но постепенно «Бесы» разрастались и поглощали предыдущие замыслы Достоевского, в том числе роман «Атеизм», роман о Князе и Ростовщике,
«Житие великого грешника»
Ненаписанная философская эпопея Достоевского о внутренней борьбе и духовных исканиях русского человека. По замыслу писателя, она должна была состоять из пяти отдельных повестей, объединённых главным героем-правдоискателем.
. Все эти ненаписанные произведения так или иначе предполагали воплощение мечты Достоевского создать русского «Фауста» или русскую «Божественную комедию» — идеальное, всеохватное произведение о потере и обретении веры. Именно из этих замыслов в «Бесах» появился Ставрогин — Князь, великий грешник, имморалист, который обрёл абсолютную свободу, но не может обрести веру.
Если бы глава «У Тихона» осталась в тексте романа, первенство Ставрогина было бы более очевидным — Достоевский и раньше строил свои романы вокруг одного главного героя. Из-за изъятия главы герой оказался как будто недостаточно прописанным, неуловимым гораздо больше, чем планировал автор, помечая в черновиках, что Ставрогин должен быть лицом загадочным и романтическим. Впрочем, несмотря на излишнюю загадочность Ставрогина (Николай Бердяев считал его самым загадочным персонажем не только «Бесов», но и мировой литературы), весь мир «Бесов» центрирован именно вокруг него: все, включая Петра Верховенского, любят и ненавидят его одновременно, ищут его внимания и одобрения, одержимы им. Пожалуй, нет в романе героя, которому Ставрогин не принёс бы страданий, не соблазнил, не оскорбил, не погубил, — и этим же героям он видится солнцем, князем, ясным соколом, Иваном-царевичем. В достоевсковедении есть вариант интерпретации, который предполагает, что все остальные персонажи «Бесов» — только носители разных идей и свойств Ставрогина, его зеркала, его вторичные воплощения или вовсе функции, позволяющие сообщить о Ставрогине больше деталей. Первым такую мысль высказал как раз Бердяев, считавший, что Достоевский романтически влюблён в своего героя: «В этой символической трагедии есть только одно действующее лицо — Николай Ставрогин и его эманации».
Mondadori Portfolio via Getty Images
Можно ли назвать Ставрогина «лишним» или «новым» человеком?
Для начала стоит сказать, что «лишние» и «новые» люди — штампы школьного литературоведения, которые могут пригодиться для классификации тех или иных волн, тенденций в литературе XIX века, но сужают героев выдающихся произведений, будь то Онегин, Печорин, Базаров или Ставрогин. История Ставрогина вовсе не о том, что он скучал, не находил себе применения в общественной жизни и противопоставлял свой образ жизни образу жизни старшего поколения. Достоевский в письме редактору «Русского вестника» Николаю Любимову так объяснял необходимость как можно полнее — с помощью главы «У Тихона» — раскрыть образ Ставрогина в романе: «…Это целый социальный тип (в моём убеждении), наш тип, русский, человека праздного, не по желанию быть праздным, а потерявшего связи со всем родным и, главное, веру, развратного из тоски, но совестливого и употребляющего страдальческие судорожные усилия, чтоб обновиться и вновь начать верить. Рядом с нигилистами это явление серьёзное. Клянусь, что оно существует в действительности. Это человек, не верующий вере наших верующих и требующий веры полной, совершенной, иначе…»
Но даже создатель Ставрогина, лелеявший своего героя, взятого «из сердца», не вполне понимал, насколько Ставрогин — фигура не типическая. «Это мировая трагедия истощения от безмерности, трагедия омертвения и гибели человеческой индивидуальности от дерзновения на безмерные, бесконечные стремления, не знавшие границы, выбора и оформления», — писал о Ставрогине Бердяев. «…Человекобог, о котором мечтал Кириллов и по сравнению с которым сверхчеловек Ницше кажется только тенью, — писал литературовед Константин Мочульский, считавший Ставрогина величайшим художественным созданием Достоевского. — Это грядущий Антихрист, князь мира сего, грозное пророчество о надвигающейся на человечество космической катастрофе». Вячеслав Иванов описывал Ставрогина как «отрицательного русского Фауста», в котором угасла любовь: «Изменник перед Христом, он неверен и Сатане. <…> Он изменяет революции, изменяет и России… Всем и всему изменяет он, и вешается, как Иуда, не добравшись до своей демонической берлоги в угрюмом горном ущелье». Впрочем, были и исследователи, которые считали Ставрогина типичным декадентом или шизофреником, но даже эти скромные характеристики значительно расширяют рамки «лишнего человека».
За что женщины любят Ставрогина и любит ли он хоть одну из них?
В «Бесах» Ставрогин действительно окружён женщинами, и с каждой его связывают любовные отношения, — это Лизавета Тушина, Мария Шатова, Дарья Шатова и Марья Лебядкина. Если опираться на идею о том, что все персонажи «Бесов» суть части образа Ставрогина, то каждая из названных женщин обозначает один из путей, по которому Ставрогин мог бы пойти. Аристократическая жизнь в Москве с приёмами и визитами, о которой мечтает Лиза. Жизнь разночинца и революционера, какую, вероятно, могла бы предложить Мария (о ней мы только и знаем, что её выгнали из гувернанток за «вольные мысли»). Жизнь декадента
в углах
Выражение «жить в углах» можно понимать буквально: в дореволюционном Петербурге из-за высокой стоимости жилья часто арендовали даже не квартиру и не комнату, а угол в ней. К примеру, в качестве эпиграфа к очерку «Петербургские углы» Некрасов приводит такое объявление о сдаче: «Ат даеца. внаймы угал, на втором дваре, впадвале, а о цене спрасить квартернай хозяйке Акулины Федотовне. (Ярлык на воротах дома)».
, какую Ставрогин, собственно, и вёл, женившись на «восторженной идиотке» Лебядкиной «по сладострастию нравственному» (по версии Шатова). Наконец, жизнь тихого семьянина и наследника поместья, какую он вполне мог бы вести, оставшись в Скворешниках с Дашей. Впрочем, Даша готова разделить любую жизнь со Ставрогиным, она единственная верна мечте быть с ним и принимает его предложение уехать в кантон Ури, тогда как Лиза и даже Лебядкина приглашение отвергают. В то же время каждая из них — взгляд, определяющий Ставрогина как персонажа, ведь его природа двойственна и неуловима. Ставрогин — как будто дух, который получает конкретные очертания только в восприятии другого, и, значит, каждая любит в нём свои представления об идеале.
Можно рассматривать систему «Ставрогин и женщины» в символическом ключе. В таком случае тёмной стороне личности Ставрогина будет соответствовать Марья Лебядкина, а светлой — Даша. Людмила Сараскина обращает внимание на то, что хромые персонажи у Достоевского являются носителями «душевной порчи», и это неудивительно, учитывая, что хромота — устойчивая характеристика чёрта. То есть Хромоножка — существо инфернальное. Недаром она одержима Ставрогиным только до тех пор, пока считает его Князем, то есть чем-то вроде тёмного властелина, а как только в нём созревает мысль покаяться, жена его не признаёт — и гибнет. При этом, например, символистская критика видела в Хромоножке душу мира, мать-землю и вечную женственность. Одержима Ставрогиным и Лиза, которая страдает нервными припадками и имеет навязчивую идею о хромоте. Здравый смысл вроде бы помогает ей отвергнуть Николая Всеволодовича, и в то же время она жертвует своей репутацией и, как быстро выяснится, жизнью ради ночи с ним, как будто продаёт душу дьяволу: «Я разочла мою жизнь на один только час и спокойна». Умирает и Мария Шатова, появившаяся в городе с лихорадочным блеском в глазах, чтобы родить ребёнка от Ставрогина. Остаётся жить только Даша. Но спасает Дашу, вероятно, не самоубийство Ставрогина, а то, что её любовь другого характера, она не одержима страстью, её навязчивая идея — спасти его: «Никогда, ничем вы меня не можете погубить, и сами это знаете лучше всех… Если не к вам, то я пойду в сёстры милосердия, в сиделки, ходить за больными, или в книгоноши, Евангелие продавать. Я так решила. Я не могу быть ничьею женой; я не могу жить и в таких домах, как этот. Я не того хочу…» Даша — тот же тип героини Достоевского, что и Соня Мармеладова, только если Раскольников мог покаяться и воскреснуть, то Ставрогин не может, и «ангел» Даша не в силах его спасти. Гражданин кантона Ури намыливает шёлковый снурок, не способный к смирению, не готовый к тому, чтобы принять Дашину жертвенную любовь, а значит — и к спасению. И нет, сам он, демон и царь равнодушия, так никого и не любит.
Mondadori Portfolio via Getty Images
Почему Достоевский исключил из «Бесов» главу «У Тихона»? В каком месте она должна была быть и нужно ли её читать?
То, что Достоевский сам изъял главу из романа, — миф, возникший из неверного примечания к изданию 1957 года (возможно, оно было сделано из лучших побуждений: до этой публикации роман был запрещён уже 22 года, и комментаторы решили подстраховать автора). «У Тихона» — одна из ключевых глав, которая, по замыслу Достоевского, должна была объяснить Ставрогина, суть его внутреннего конфликта и мотивы многих поступков, вплоть до самоубийства.
В этой главе Ставрогин приходит к старцу Тихону и даёт ему прочитать отпечатанные в заграничной типографии листки со своей исповедью. В тексте Ставрогин рассказывает, как совратил маленькую девочку Матрёшу, которая после этого повесилась. Он упоминает и о других совершённых преступлениях, но именно это его мучает: он видит во сне Матрёшу, грозящую ему кулачком, и его последняя надежда избавиться от мучительного видения — обнародовать исповедь. Встреча с Тихоном похожа не на разговор со священником, а на сеанс у психолога («проклятым психологом» и называет его Ставрогин в финале). Тихон сомневается в искренности покаяния Ставрогина и в том, что тот вынесет последствия своего плана, а затем предсказывает ему самоубийство: «Нет, не после обнародования, а ещё до обнародования листков, за день, за час, может быть, до великого шага, вы броситесь в новое преступление как в исход, чтобы только избежать обнародования листков».
Это было одно из тех идеальных русских существ, которых вдруг поразит какая-нибудь сильная идея и тут же разом точно придавит их собою, иногда даже навеки
Фёдор Достоевский
Издатель «Русского вестника» Катков ни за что не захотел публиковать главу, объясняя отказ цензурными соображениями. Достоевский предлагал разные версии главы, в частности увеличил возраст Матрёши с 10 до 14 лет, чтобы сцена растления не выглядела так шокирующе. В письме Любимову, сопровождавшему вторую редакцию, Достоевский писал: «Мне кажется, то, чтo я Вам выслал… теперь уже можно напечатать. Всё очень скабрезное выкинуто, главное сокращено, и вся эта полусумасшедшая выходка достаточно обозначена, хотя ещё сильнее обозначится впоследствии, клянусь Вам, я не мог не оставить сущности дела…» Сначала глава должна была быть девятой во второй части романа, потом — первой главой третьей части, но в любом случае находиться примерно в центре всего текста. Однако ни в журнальной версии, ни в первом книжном издании она не появилась. Юрий Карякин предположил, что настоящей причиной запрета главы «У Тихона» была полемика 1861 года, когда Катков выступил с критикой «Египетских ночей», обвинив Пушкина в «эротизме», а Достоевский ответил в том духе, что разврат — в глазах смотрящего: «Это последнее выражение [страсти], о котором вы так часто толкуете, по-вашему, действительно может быть соблазнительно, по-нашему же, в нём представляется только извращение природы человеческой, дошедшее до таких ужасных размеров и представленное с такой точки зрения поэтом (а точка зрения-то и главное), что производит вовсе не клубничное, а потрясающее впечатление». Запретив главу «У Тихона», Катков всё-таки настоял на своём: двусмысленной чувственности не место в литературе. Достоевский уже не смог никого переубедить, приводя те же справедливые аргументы, что и в полемике десятилетней давности: противники публикации (к Каткову и Любимову присоединились Майков и Страхов) убеждали Достоевского, что если о грехе Ставрогина узнают читатели, они непременно подумают, будто он описал собственный опыт. Слухи о том, что подобный опыт у писателя был, Страхов пересказывал в письме Льву Толстому в 1883 году, уже после смерти Достоевского. Современные исследователи подвергают сомнению правдивость этой истории.
Не считая отдельной публикации в 1922-м, запрещённая глава была впервые опубликована в 1926 году в приложении к «Бесам» Полного собрания художественных произведений Ф. М. Достоевского в 13 томах. Юрий Карякин сравнивал «Бесы» без центральной главы с собором, из которого с мясом выдрали купол, расписанный гениальными фресками. По мнению Аркадия Долинина, исповедь Ставрогина представляет собой «кульминационную вершину всего романа, сконденсированный синтез жизни Ставрогина во всех трёх аспектах: событийном, психическом и
духовном»
7
Долинин А. С. Страницы из «Бесов» (в канонический текст не включенные) // Достоевский Ф. М. Исследования и материалы. Сборник второй. Л.: Мысль, 1925. С. 546.
. Одним словом, без этой главы посреди романа зияет смысловая и композиционная дыра, и её необходимо читать хотя бы как флешбэк.
De Agostini/Schurr/Getty Images
В чём заключается теория Кириллова и зачем он нужен в романе?
Кириллов — жертва интеллектуального эксперимента, который превратил его в мономана, одно из созданий Ставрогина (Ставрогин приводит Кириллова к атеизму, а Шатова к вере). Если попытаться пересказать его теорию человекобога кратко, она выглядит примерно так: если человек отрицает существование Бога, значит, он ставит свою волю превыше всего — на место, где у верующего Бог; если человек свободен от Бога — он сам себе бог; если человек осознаёт, что он сам бог, — он должен убить себя. Альбер Камю пересказывает теорию Кириллова ещё проще и парадоксальнее, в форме классического силлогизма: Если Бога нет, Кириллов — бог. Если Бога нет, Кириллов должен убить себя. Следовательно, Кириллов должен убить себя, чтобы стать богом. «Это абсурдная логика, но она-то здесь и
необходима»
8
Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде / Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. М.: Политиздат, 1990. С. 24–100.
.
В событиях, о которых рассказывает Хроникёр, роль Кириллова — совершить самоубийство в тот момент, который выберет Петруша, чтобы взять на себя вину за убийство Шатова. Но у такого писателя, как Достоевский, сюжетная функция Кириллова, конечно, не может сводиться к самоубийству ради планов Верховенского, которые Кириллова к тому же вовсе не интересуют. Идея «логического самоубийства», которое и стремится совершить Кириллов, занимает Достоевского много лет, уже после «Бесов» он несколько раз рассуждает о нём в «Дневнике писателя». В «Мифе о Сизифе» Камю анализирует теорию Кириллова и приходит к выводу, что через неё Достоевский заявляет проблему абсурдности мира, над которой сам продолжает биться до конца жизни и которой в «Братьях Карамазовых» противопоставляет веру Алёши. Выходит, что Кириллов — промежуточная форма идеи Достоевского, одно из её звеньев.
Они всё брали из книжек и, по первому даже слуху из столичных прогрессивных уголков наших, готовы были выбросить за окно всё что угодно, лишь бы только советовали выбрасывать
Фёдор Достоевский
Точно так же Кириллов занимает промежуточное место в цепочке суицидов в «Бесах»: он убивает себя после Матрёши и перед Ставрогиным. Мысль об убийстве Бога хронологически впервые звучит в доме на Гороховой — Ставрогин слышит от Матрёши: «Бога убила». Матрёша приписывает себе преступление, которое совершает Ставрогин. Тогда же Ставрогин думает застрелиться, но не делает этого, предпочитая испортить себе жизнь браком с Хромоножкой. Таким образом, убив Бога, он остаётся жить и, согласно кирилловскому развитию теории, становится не богом, а царём («царём равнодушия», как называет его Камю), а идею богоубийства передаёт Кириллову. В итоге же все трое погибают из-за ставрогинского атеизма. Матрёша становится его жертвой (вседозволенность в отсутствие Бога — постулат, который лежит в основе ненависти Достоевского к социализму, нигилизму и т. д.; писатель сформулирует эту мысль устами Мити Карамазова: «Только как же, спрашиваю, после того человек-то? Без Бога-то и без будущей жизни? Ведь это, стало быть, теперь всё позволено, всё можно делать?»). Сам Ставрогин убивает себя от невозможности покаяться, потому что в нём нет веры. А Кириллов, как и планировал, приносит себя в жертву ради того, чтобы указать другим путь — как связующее звено, он показывает последствия утраты веры и логику самоубийства в мире Достоевского и готовит почву для развития идеи в будущих текстах писателя.
Кого Достоевский высмеивает в образах Кармазинова и Лебядкина?
Кармазинов — собирательный образ «чистого западника», как и Степан Трофимович, но, в отличие от старшего Верховенского, чисто сатирический. Фамилия «великого писателя» прямо указывает на Карамзина как источник, но гораздо больше у Кармазинова — от Тургенева, с которым Достоевский открыто враждовал после выхода романа
«Дым»
Напечатанный в 1867 году роман Ивана Тургенева, сатирически отображающий общественную дискуссию в России 1860-х годов. Роман вызвал негодование и у провластных кругов, и у оппозиционных. Одним из самых непримиримых критиков романа оказался Достоевский, так он писал о Тургеневе в письме Аполлону Майкову: «…Его книга «Дым» меня раздражила. Он сам говорил мне, что главная мысль, основная точка его книги состоит в фразе: «Если б провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве». Он объявил мне, что это его основное убеждение о России».
в 1867 году и которого обвинял в «отрыве русского культурного слоя от почвы». Достоевский приписывает Кармазинову тургеневскую любовь ко всему немецкому, симпатии к революционно настроенной молодёжи и одновременно лояльность властям и украшает это карикатурными «сюсюкающим тоном» и привычкой лезть лобызаться при встрече, высмеивая тургеневские манеры. Повесть «Merci», которую Кармазинов читает на вечере у Лембке, — литературная пародия сразу на несколько текстов Тургенева: «Довольно», «Призраки», «Казнь Тропмана», «По поводу «Отцов и детей». Аркадий Долинин в статье «Тургенев в «Бесах» анализирует эти пародии и, кроме прочего, утверждает, что Тургенев начал войну пародий первым, — во всяком случае, Достоевский принимает князя Коко из «Дыма» на свой
счёт
9
Долинин А. С. Достоевский и другие. Л.: Художественная литература, 1989.
. Кстати, в черновиках «Бесов» фамилию Карамзина носит ещё и Лиза, ставшая впоследствии Тушиной.
А вот капитан Лебядкин при всём своём комизме, как ни странно, не пародиен. Его природа иного свойства, её прекрасно объяснил Владислав Ходасевич в статье «Поэзия Игната Лебядкина»: «Будучи интендантский чиновник, он всю севастопольскую кампанию служил «по сдаче подлого провианта», но ради мечты (и лишь отчасти из жульничества) выдаёт себя за капитана и воображает, будто вполне героически лишился руки, хотя обе pyки у него целы. — Этот-то вот иллюзорный, идеальный Лебядкин, не понятый никем и несправедливо презираемый, — он-то и есть поэт». Хотя Лебядкин и позволяет Ставрогину смеяться над его стихами, сам относится к ним со всей серьёзностью, «именно потому, что они отражали лучшего, воображаемого Лебядкина». Комический эффект лебядкинских любовных стихов возникает из-за трагического, в общем-то, несоответствия формы и содержания: серьёзный пафос автора, его чувство сталкиваются с его неспособностью создать адекватную форму. «Поэзия Лебядкина есть искажение поэзии, но лишь в том же смысле и в той же мере, как сам он есть трагическое искажение человеческого образа», — пишет Ходасевич.
«Высший либерализм» и «высший либерал», то есть либерал без всякой цели, возможны только в одной России
Фёдор Достоевский
Впрочем, всё это отнюдь не значит, что Достоевский не имел в виду никакой пародии. Через лебядкинские тексты он высмеивает гражданскую лирику шестидесятых годов («Таракан», «Отечественной гувернантке» в соавторстве Лебядкина с Липутиным); передаёт насмешливый привет Белинскому, пародируя «Наездницу» Бенедиктова, которую Белинский раскритиковал, отказавшись при этом цитировать из-за слова «члены» (у Лебядкина в стихотворении «В случае, если б она сломала ногу» — «краса красот сломала член»). Кроме этого, в «Бесах» пародируется и романтическая натурфилософская поэма 1830-х годов, правда, уже не устами Лебядкина, а через пересказ поэмы Степана Трофимовича Верховенского. Илья Серман в статье «Стихи капитана Лебядкина и поэзия XX века» пишет, что между Верховенским-старшим и Лебядкиным Достоевский разделил свойства заглавного героя из ненаписанной повести «Картузов», возвышенного поэта-графомана. В той же статье Серман делает вывод о роли поэзии Лебядкина в романе: «Ничего другого, кроме стихов Лебядкина, абсурдный мир, изображённый в «Бесах», породить в стихотворной форме не может. Мир, который в стихах может себя выразить только в абсурдной по нарушению всех реальных связей вещей и слов форме, представлен в «Бесах» по правилу: какова жизнь, такова и поэзия». Кстати, именно абсурд, заключённый в поэзии капитана, помог найти Лебядкину признание в двадцатом веке. Всерьёз, ровно как и мечтал поэт в «Бесах», его восприняли Заболоцкий, Олейников и другие обэриуты, а Дмитрий Шостакович написал сочинение «Четыре стихотворения капитана Лебядкина».
Mondadori Portfolio via Getty Images
Почему Достоевский так ополчился на нигилистов и западников? Есть ли в «Бесах» персонажи и идеи, которым автор сочувствует?
Достоевский и сам чуть не стал революционером. В 1847–1849 годах он посещал «пятницы» у Михаила Буташевича-Петрашевского, где собирались умеренные сторонники освободительного движения сороковых годов. Петрашевцы читали и обсуждали работы
Фурье
Франсуа Мари Шарль Фурье (1772–1837) — французский философ. В 1808 году Фурье написал труд «Теория четырёх движений и всеобщих судеб», в котором обосновал концепцию новой социальной системы — жизни в коммуне, устроенной по принципу всеобщего братства и гармонии общих и частных интересов. Разработал проект фаланстеров, специальных зданий, где должна была жить и трудиться коммуна. Фурье пытался заинтересовать своими идеями государство, но при жизни официальной поддержки так и не нашёл.
,
Сен-Симона
Анри Сен-Симон (1760–1825) — французский философ. В 1810-х годах начал разрабатывать проект «индустриальной системы», социалистического общественного порядка. Согласно Сен-Симону, трудиться должен каждый член общества, а к организации общественного труда должен быть применён научный подход. В 1825 году, незадолго до смерти, опубликовал свой главный труд «Новое христианство», в котором дополнил проект общественного переустройства религиозным содержанием. Среди ближайших учеников Сен-Симона были философ Огюст Конт и историк Огюстен Тьерри.
и
Фейербаха
Людвиг Андреас фон Фейербах (1804–1872) — немецкий философ. От увлечения гегельянством в юные годы Фейербах постепенно пришёл к материализму. Много писал об этике и религии, полагал, что общественная этика может быть основана на индивидуальном стремлении человека к счастью (с учётом взаимозависимой природы людей). Согласно его теории происхождения религии, тяга к вере в Бога произрастает из желания человека уподобить внешний мир своему внутреннему идеализированному миру. Фейербаха иногда называют оптимистической версией Ницще. Идеи философа оказали влияние на Маркса и последователей марксизма.
, видели связь между социализмом и христианством, мечтали об отмене крепостного права, общинности и «всеобщем счастье». Более радикальным был кружок Дурова, отколовшийся от петрашевцев, куда тоже входил Достоевский. Но и радикализм этого кружка (если не считать сурового устава, написанного Николаем Спешнёвым и напоминающего нечаевский «Катехизис революционера») заключался в том, чтобы готовить народ к восстанию с помощью подпольной типографии. Тем не менее в годы правления Николая I взгляды петрашевцев считались достаточно революционными, чтобы установить за кружком слежку и заподозрить его членов в умысле на ниспровержение существующих отечественных законов и государственного порядка — так впоследствии звучало обвинение. В 1849 году 34 посетителя пятниц были задержаны, из них 15, в том числе Достоевский, приговорены к смертной казни. Смертный приговор заменили каторгой, так как на самом деле никакого антиправительственного заговора среди петрашевцев суд не обнаружил, но объявили об этом только после того, как казнь была инсценирована.
Этот страшный опыт и последующие годы на каторге и «в солдатчине» заставили Достоевского пересмотреть свои взгляды. Познакомившись с другими каторжными и солдатами и ощутив неприязнь, которую они испытывают к дворянам, писатель увлёкся идеей «русского Христа», то есть тем православием с националистическим оттенком, как его понимали и исповедовали в народе, и самим народом как носителем религиозной правды. Достоевский последовательно превратился в почвенника, с брезгливостью отвергая теперь фурьеризм, которым был увлечён в сороковые. Впрочем, по свидетельству Павла Милюкова, писатель уже в 1849 году задумался об особом русском пути: «Мы должны искать источников для развития русского общества не в учениях западных социалистов, а в жизни и вековом историческом строе нашего народа; в общине, артели и круговой поруке давно уже существуют основы, более прочные и нормальные, чем в мечтаниях Сен-Симона и его школы». Отсюда и его неприязнь к западничеству и тем более к социалистам и нигилистам, которых Достоевский считал прямыми наследниками западников своего поколения (эту связь он обозначил в «Бесах» с помощью отца и сына Верховенских), да и ко всем остальным революционерам, в которых Достоевский не видел смысла после отмены крепостного права, — с восхождением Александра II на престол писатель вообще стал исключительно лоялен к власти. А 1867–1873 годы — «период самый фанатический в славянофильстве
Достоевского»
10
Долинин А. С. Достоевский и другие. Л.: Художественная литература, 1989.
.
Несомненно, самый близкий Достоевскому персонаж «Бесов» — Шатов. Хотя его сюжетная роль списана со студента Иванова, его идеологический переход и сомнения отражают философскую и религиозную биографию самого Достоевского. Справедливости ради нужно заметить, что даже своим идеологическим врагам писатель даёт шанс в «Бесах», заставляя, например, Петрушу признаться, что он не социалист, а мошенник.
список литературы
- Бердяев Н. А. Ставрогин // Русская мысль. 1914. Кн. V. С. 80–89.
- Долинин А. С. Достоевский и другие. Л.: Художественная литература, 1989.
- Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 томах. Т. 12. Бесы. Рукописные редакции. Наброски 1870–1872. Л.: Наука, 1975.
- Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: В 15 томах. Т. 15. Письма 1834–1881. СПб.: Наука, 1996.
- Иванов Вяч. И. Экскурс: основной миф в романе «Бесы» // Иванов Вяч. И. Собрание сочинений. Т. 4. Брюссель, 1987. С. 437–444.
- Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде / Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. М.: Политиздат, 1990. С. 24–100.
- Карякин Ю. Ф. Достоевский и Апокалипсис. М.: Фолио, 2009.
- Козьмин Б. П. Нечаев и нечаевцы: сборник материалов. М.; Л.: Гос. социально-экономическое изд-во, 1931.
- Критика 70-х гг. XIX века / Сост., вступит. ст., преамбулы и примеч. С. Ф. Дмитренко. М.: Олимп; АСТ, 2002.
- Мочульский К. Достоевский. Жизнь и творчество. Париж: YMCA-Press, 1980.
- Сараскина Л. И. «Бесы»: роман-предупреждение. М.: Советский писатель, 1990.
Приблизительное время чтения: 11 мин.
В нашей рубрике друзья «Фомы» выбирают и советуют читателям книги, которые – Стоит перечитать.
Книгу рекомендует Владимир Хотиненко
Автор
Фёдор Михайлович Достоевский (1821–1881) — писатель, критик, публицист.
Время написания и история создания
Работа над романом проходила в 1870–1871 годах за границей. В основу романа Достоевский положил громкое дело 1869 года об убийстве студента Ивана Иванова членами одного из революционных кружков во главе с нигилистом и революционером Сергеем Нечаевым с целью укрепления своей власти в террористическом кружке, против идей которого выступил Иванов. Программным документом кружка был «Катехизис революционера», где впервые была сформулирована программа беспощадного террора ради «светлого будущего всего человечества».
Достоевский узнал о деле из газет, внимательно читал статьи, корреспонденции, касающиеся Нечаева и его помощников. Сначала прозаик замыслил небольшой злободневный памфлет. Однако в процессе работы усложнились сюжет и идея текста. В итоге получился трагический многостраничный роман, который был опубликован в 1872 году в журнале «Русский вестник».
Смысл романа
«Бесы» — роман о трагедии русского общества, в котором революционные настроения, по мнению Достоевского, являются следствием утраты веры. Говоря о «нечаевщине» и убийстве Иванова, писатель признавался: «В моем романе “Бесы” я попытался изобразить те многоразличные и разнообразные мотивы, по которым даже чистейшие сердцем и простодушнейшие люди могут быть привлечены к совершению такого же чудовищного злодейства».
Одна из главных мыслей романа: человеку необходима свобода. Однако на путях свободы его подстерегают соблазны своеволия. Главным героем романа, Николаем Ставрогиным одновременно владеют и жажда веры, и поразительное безверие, утверждение себя вне Бога. Духовное омертвение главного героя-«беса» «порождает» остальных, которые, в свою очередь, создают «мелких бесов». «Бесовщина» у Достоевского — это одержимость идеей, которая отделяет человека от реальности, поглощает его целиком. Таков революционер Петр Верховенский, который под лозунгом «все для человека» разрабатывает программу развращения и уничтожения людей («…Мы сначала пустим смуту… Мы проникнем в самый народ… Мы пустим пьянство, сплетни, доносы; мы пустим неслыханный разврат, мы всякого гения потушим в младенчестве… Мы провозгласим разрушение… Мы пустим пожары… Мы пустим легенды… Ну-с, и начнется смута! Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал»). Таков инженер Кириллов, который решил доказать истинность своих убеждений с помощью самоубийства («Если нет Бога, то я Бог… Если Бог есть, то вся воля Его, и без воли Его я не могу. Если нет, то вся воля моя, и я обязан заявить своеволие… Я обязан себя застрелить, потому что самый полный пункт моего своеволия — это убить себя самому…»). Таков и студент Шатов, проповедующий свою веру в богоносность русского народа. Все они становятся рабами своей идеи.
В то же время «Бесы» — это великая христианская книга, в которой утверждается возможность противостоять «бесам» и их деяниям. Одна из героинь, юродивая Марья Тимофеевна, которая обладает даром видеть истинную сущность людей и событий, говорит, что «всякая тоска земная и всякая слеза земная — радость нам есть». Эта радость — напоминание о грядущей правде и победе Христа над «бесами» и их властными идеями.
Достоевский обращается к евангельской притче об исцелении Христом бесноватого, чтобы показать — мир может излечиться от «бесов», и даже самый опасный и падший человек может исправиться и сохранить в себе образ Божий. Роман заканчивается светлым пророчеством о России одного из героев, которому прочли упомянутую притчу. «Эти бесы, — произнес Степан Трофимович в большом волнении… — это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и бесенята, накопившиеся в великом и малом нашем больном, в нашей России, за века, за века!.. Но великая мысль и великая воля осенят ее свыше, как и того безумного бесноватого, и выйдут все эти бесы. Вся нечистота… Но больной исцелится и “сядет у ног Иисусовых”… и будут все глядеть с изумлением…»
Интересные факты
1. «Бесы» — третий роман так называемого «великого пятикнижия Достоевского». В него также входят романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Игрок» и «Братья Карамазовы».
2. Роман многократно экранизировали. Впервые это сделал Яков Протазанов в 1915 году. Самые известные киноадаптации книги: фильм польского режиссера Анджея Вайды «Бесы» (1988) и одноименный телесериал 2014 года, режиссёром которого стал Владимир Хотиненко.
Кадр из сериала «Бесы» Владимира Хотиненко, 2014
3. Книга должна была включать еще одну главу, которую Достоевский задумал как идейный религиозно-философский центр романа. Это глава «У Тихона», в которой «главному бесу» Ставрогину противостоит монах, прообразом которого стал святитель Тихон Задонский. Ставрогин здесь предпринимает попытку покаяния, рассказывая монаху Тихону о своих грехах. Однако тот признает, что раскаяние преступника неискреннее, и к духовному перелому он еще не готов. Редактор «Русского вестника» Михаил Катков не пропустил эту главу, опасаясь волнений в читательской среде. Глава «У Тихона» всегда печатается вне основного текста романа.
4. Одну из самых ярких театральных постановок романа сделал французский писатель Альбер Камю в 1959 году — она называлась «Одержимые».
5. Фамилия «Ставрогин» происходит от др.-греч. «ставрос», что означает «крест». Многие исследователи полагают, что это — намек на высокое предназначение героя, который, будучи умной и одаренной личностью, не смог правильно реализовать свои способности, сделать правильный выбор («Изменник перед Христом, он неверен и сатане») и встать на путь духовного возрождения.
Когда вымирают народы
Отрывок из романа «Бесы». Разговор Николая Ставрогина и Ивана Шатова о религиозном призвании русского народа

— Да? — как бы переспросил Николай Всеволодович.
— Вы спрашиваете? Вы забыли? А между тем это одно из самых точнейших указаний на одну из главнейших особенностей русского духа, вами угаданную. Не могли вы этого забыть? Я напомню вам больше, — вы сказали тогда же: «Не православный не может быть русским» (…)
— Если б я веровал, то, без сомнения, повторил бы это и теперь; я не лгал, говоря как верующий, — очень серьезно произнес Николай Всеволодович. — Но уверяю вас, что на меня производит слишком неприятное впечатление это повторение прошлых мыслей моих. Не можете ли вы перестать?
— Если бы веровали? — вскричал Шатов, не обратив ни малейшего внимания на просьбу. — Но не вы ли говорили мне, что если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной? Говорили вы это? Говорили?
— Но позвольте же и мне наконец спросить, — возвысил голос Ставрогин, — к чему ведет весь этот нетерпеливый и… злобный экзамен?
— Этот экзамен пройдет навеки и никогда больше не напомнится вам. Дозволите ли вы мне повторить пред вами всю главную вашу тогдашнюю мысль… О, только десять строк, одно заключение.
— Повторите, если только одно заключение…
— Ни один народ, — начал Шатов, как бы читая по строкам и в то же время продолжая грозно смотреть на Ставрогина, — ни один народ еще не устраивался на началах науки и разума. Разум и наука в жизни народов всегда, теперь и с начала веков, исполняли лишь должность второстепенную и служебную; так и будут исполнять до конца веков. Народы слагаются и движутся силой иною, повелевающею и господствующею, но происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до конца и в то же время конец отрицающая. Это есть сила беспрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти… Цель всего движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственно лишь искание Бога, Бога своего, непременно собственного, и вера в него как в единого истинного. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца. Никогда еще не было, чтоб у всех или у многих народов был один общий Бог, но всегда и у каждого был особый. Признак уничтожения народностей, когда боги начинают становиться общими. Когда боги становятся общими, то умирают боги и вера в них вместе с самими народами. Чем сильнее народ, тем особливее его Бог. Никогда не было еще народа без религии, то есть без понятия о зле и добре. У всякого народа свое собственное понятие о зле и добре и свое собственное зло и добро. Когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре, тогда вымирают народы и тогда самое различие между злом и добром начинает стираться и исчезать. Никогда разум не в силах был определить зло и добро или даже отделить зло от добра, хотя приблизительно… Всё это ваши собственные слова, Ставрогин… В ваших же мыслях и даже в самых словах я не изменил ничего, ни единого слова.
— Не думаю, чтобы не изменили, — осторожно заметил Ставрогин, — вы пламенно приняли и пламенно переиначили, не замечая того. Уж одно то, что вы Бога низводите до простого атрибута народности… — Низвожу Бога до атрибута народности? — вскричал Шатов. — Напротив, народ возношу до Бога. Да и было ли когда-нибудь иначе? Народ — это тело божие. Всякий народ до тех только пор и народ, пока имеет своего Бога особого, а всех остальных на свете богов исключает безо всякого примирения; пока верует в то, что своим Богом победит и изгонит из мира всех остальных богов. Так веровали все с начала веков, все великие народы по крайней мере, все сколько-нибудь отмеченные, все стоявшие во главе человечества… Если великий народ не верует, что в нем одном истина, если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своею истиной, то он тотчас же перестает быть великим народом и тотчас же обращается в этнографический материал, а не в великий народ. Истинный великий народ никогда не может примириться со второстепенною ролью в человечестве или даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою. Кто теряет эту веру, тот уже не народ. Но истина одна, а стало быть, только единый из народов и может иметь Бога истинного, хотя бы остальные народы и имели своих особых и великих Богов. Единый народ-«богоносец» — это русский народ, и… и… и неужели, неужели вы меня почитаете за такого дурака, Ставрогин, — неистово возопил он вдруг, — который уж и различить не умеет, что слова его в эту минуту или старая, дряхлая дребедень, перемолотая на всех московских славянофильских мельницах, или совершенно новое слово, последнее слово, единственное слово обновления и воскресения, и… и какое мне дело до вашего смеха в эту минуту! Какое мне дело до того, что вы не понимаете меня совершенно, совершенно, ни слова, ни звука!.. О, как я презираю ваш гордый смех и взгляд в эту минуту!
— Напротив, Шатов, напротив, — необыкновенно серьезно и сдержанно проговорил Ставрогин, не подымаясь с места, — напротив, вы горячими словами вашими воскресили во мне много чрезвычайно сильных воспоминаний. В ваших словах я признаю мое собственное настроение два года назад и теперь уже я не скажу вам, как давеча, что вы мои тогдашние мысли преувеличили. Мне кажется даже, что они были еще исключительнее, еще самовластнее, и уверяю вас в третий раз, что я очень желал бы подтвердить всё, что вы теперь говорили, даже до последнего слова, но…
— Но вам надо зайца?
— Что-о?
— Ваше же подлое выражение, — злобно засмеялся Шатов, усаживаясь опять, — «чтобы сделать соус из зайца, надо зайца, чтобы уверовать в Бога, надо Бога», это вы в Петербурге, говорят, приговаривали, как Ноздрев, который хотел поймать зайца за задние ноги.
— Нет, тот именно хвалился, что уж поймал его. Кстати, позвольте, однако же, и вас обеспокоить вопросом, тем более что я, мне кажется, имею на него теперь полное право. Скажите мне: ваш-то заяц пойман ли аль еще бегает?
— Не смейте меня спрашивать такими словами, спрашивайте другими, другими! — весь вдруг задрожал Шатов.
— Извольте, другими, — сурово посмотрел на него Николай Всеволодович, — я хотел лишь узнать: веруете вы сами в Бога или нет?
— Я верую в Россию, я верую в ее православие… Я верую в тело Христово… Я верую, что новое пришествие совершится в России… Я верую… — залепетал в исступлении Шатов.
— А в Бога? В Бога?
— Я… я буду веровать в Бога.
Ни один мускул не двинулся в лице Ставрогина. Шатов пламенно, с вызовом смотрел на него, точно сжечь хотел его своим взглядом (…)
— Чего, однако же, вы хотите? — возвысил наконец голос Николай Всеволодович. — Я полчаса просидел под вашим кнутом, и по крайней мере вы бы могли отпустить меня вежливо… если в самом деле не имеете никакой разумной цели поступать со мной таким образом.
— Разумной цели?
— Без сомнения. В вашей обязанности по крайней мере было объявить мне наконец вашу цель. Я всё ждал, что вы это сделаете, но нашел одну только исступленную злость. Прошу вас, отворите мне ворота.
Он встал со стула. Шатов неистово бросился вслед за ним.
— Целуйте землю, облейте слезами, просите прощения! — вскричал он, схватывая его за плечо…Слушайте, я всё поправить могу: я достану вам зайца!
Ставрогин молчал.
— Вы атеист, потому что вы барич, последний барич. Вы потеряли различие зла и добра, потому что перестали свой народ узнавать (…) Слушайте, сходите к Тихону.
— К кому?
— К Тихону. Тихон, бывший архиерей, по болезни живет на покое, здесь в городе, в черте города, в нашем Ефимьевском Богородском монастыре.
— Это что же такое?
— Ничего. К нему ездят и ходят. Сходите; чего вам? Ну чего вам?
— В первый раз слышу и… никогда еще не видывал этого сорта людей. Благодарю вас, схожу.
— Сюда, — светил Шатов по лестнице, — ступайте, — распахнул он калитку на улицу.
— Я к вам больше не приду, Шатов, — тихо проговорил Ставрогин, шагая чрез калитку.
- Полный текст
- Часть первая
- Глава первая. Вместо введения: несколько подробностей из биографии многочтимого Степана Трофимовича Верховенского
- Глава вторая. Принц Гарри. Сватовство
- Глава третья. Чужие грехи
- Глава четвертая. Хромоножка
- Глава пятая. Премудрый змий
- Часть вторая
- Глава первая. Ночь
- Глава вторая. Ночь (продолжение)
- Глава третья. Поединок
- Глава четвертая. Все в ожидании
- Глава пятая. Пред праздником
- Глава шестая. Петр Степанович в хлопотах
- Глава седьмая. У наших
- Глава восьмая. Иван-царевич
- Глава девятая. Степана Трофимовича описали
- Глава десятая. Флибустьеры. Роковое утро
- Часть третья
- Глава первая. Праздник. Отдел первый
- Глава вторая. Окончание праздника
- Глава третья. Законченный роман
- Глава четвертая. Последнее решение
- Глава пятая. Путешественница
- Глава шестая. Многотрудная ночь
- Глава седьмая. Последнее странствование Степана Трофимовича
- Глава восьмая. Заключение
Библейский сюжет. Фёдор Достоевский. «Бесы»
Хоть убей, следа не видно,
Сбились мы, что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.
Сколько их, куда их гонят,
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?
А. Пушкин
Тут на горе паслось большое стадо свиней, и они просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидя случившееся, побежали и рассказали в городе и по деревням. И вышли жители смотреть случившееся и, пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся.
Лк. 8:32-36.
Часть первая
Глава первая. Вместо введения: несколько подробностей из биографии многочтимого Степана Трофимовича Верховенского
I
Приступая к описанию недавних и столь странных событий, происшедших в нашем, доселе ничем не отличавшемся городе, я принужден, по неумению моему, начать несколько издалека, а именно некоторыми биографическими подробностями о талантливом и многочтимом Степане Трофимовиче Верховенском. Пусть эти подробности послужат лишь введением к предлагаемой хронике, а самая история, которую я намерен описывать, еще впереди.
Скажу прямо: Степан Трофимович постоянно играл между нами некоторую особую и, так сказать, гражданскую роль и любил эту роль до страсти, — так даже, что, мне кажется, без нее и прожить не мог. Не то чтоб уж я его приравнивал к актеру на театре: сохрани Боже, тем более что сам его уважаю. Тут всё могло быть делом привычки, или, лучше сказать, беспрерывной и благородной склонности, с детских лет, к приятной мечте о красивой гражданской своей постановке. Он, например, чрезвычайно любил свое положение «гонимого» и, так сказать, «ссыльного». В этих обоих словечках есть своего рода классический блеск, соблазнивший его раз навсегда, и, возвышая его потом постепенно в собственном мнении, в продолжение столь многих лет, довел его наконец до некоторого весьма высокого и приятного для самолюбия пьедестала. В одном сатирическом английском романе прошлого столетия некто Гулливер, возвратясь из страны лилипутов, где люди были всего в какие-нибудь два вершка росту, до того приучился считать себя между ними великаном, что, и ходя по улицам Лондона, невольно кричал прохожим и экипажам, чтоб они пред ним сворачивали и остерегались, чтоб он как-нибудь их не раздавил, воображая, что он всё еще великан, а они маленькие. За это смеялись над ним и бранили его, а грубые кучера даже стегали великана кнутьями; но справедливо ли? Чего не может сделать привычка? Привычка привела почти к тому же и Степана Трофимовича, но еще в более невинном и безобидном виде, если можно так выразиться, потому что прекраснейший был человек.
Я даже так думаю, что под конец его все и везде позабыли; но уже никак ведь нельзя сказать, что и прежде совсем не знали. Бесспорно, что и он некоторое время принадлежал к знаменитой плеяде иных прославленных деятелей нашего прошедшего поколения, и одно время, — впрочем, всего только одну самую маленькую минуточку, — его имя многими тогдашними торопившимися людьми произносилось чуть не наряду с именами Чаадаева, Белинского, Грановского и только что начинавшего тогда за границей Герцена. Но деятельность Степана Трофимовича окончилась почти в ту же минуту, как и началась, — так сказать, от «вихря сошедшихся обстоятельств». И что же? Не только «вихря», но даже и «обстоятельств» совсем потом не оказалось, по крайней мере в этом случае. Я только теперь, на днях, узнал, к величайшему моему удивлению, но зато уже в совершенной достоверности, что Степан Трофимович проживал между нами, в нашей губернии, не только не в ссылке, как принято было у нас думать, но даже и под присмотром никогда не находился. Какова же после этого сила собственного воображения! Он искренно сам верил всю свою жизнь, что в некоторых сферах его постоянно опасаются, что шаги его беспрерывно известны и сочтены и что каждый из трех сменившихся у нас в последние двадцать лет губернаторов, въезжая править губернией, уже привозил с собою некоторую особую и хлопотливую о нем мысль, внушенную ему свыше и прежде всего, при сдаче губернии. Уверь кто-нибудь тогда честнейшего Степана Трофимовича неопровержимыми доказательствами, что ему вовсе нечего опасаться, и он бы непременно обиделся. А между тем это был ведь человек умнейший и даровитейший, человек, так сказать, даже науки, хотя, впрочем, в науке… ну, одним словом, в науке он сделал не так много и, кажется, совсем ничего. Но ведь с людьми науки у нас на Руси это сплошь да рядом случается.
Он воротился из-за границы и блеснул в виде лектора на кафедре университета уже в самом конце сороковых годов. Успел же прочесть всего только несколько лекций, и, кажется, об аравитянах; успел тоже защитить блестящую диссертацию о возникавшем было гражданском и ганзеатическом значении немецкого городка Ганау, в эпоху между 1413 и 1428 годами, а вместе с тем и о тех особенных и неясных причинах, почему значение это вовсе не состоялось. Диссертация эта ловко и больно уколола тогдашних славянофилов и разом доставила ему между ними многочисленных и разъяренных врагов. Потом — впрочем, уже после потери кафедры — он успел напечатать (так сказать, в виде отместки и чтоб указать, кого они потеряли) в ежемесячном и прогрессивном журнале, переводившем из Диккенса и проповедовавшем Жорж Занда, начало одного глубочайшего исследования — кажется, о причинах необычайного нравственного благородства каких-то рыцарей в какую-то эпоху или что-то в этом роде. По крайней мере проводилась какая-то высшая и необыкновенно благородная мысль. Говорили потом, что продолжение исследования было поспешно запрещено и что даже прогрессивный журнал пострадал за напечатанную первую половину. Очень могло это быть, потому что чего тогда не было? Но в данном случае вероятнее, что ничего не было и что автор сам поленился докончить исследование. Прекратил же он свои лекции об аравитянах потому, что перехвачено было как-то и кем-то (очевидно, из ретроградных врагов его) письмо к кому-то с изложением каких-то «обстоятельств», вследствие чего кто-то потребовал от него каких-то объяснений. Не знаю, верно ли, но утверждали еще, что в Петербурге было отыскано в то же самое время какое-то громадное, противоестественное и противогосударственное общество, человек в тринадцать, и чуть не потрясшее здание. Говорили, что будто бы они собирались переводить самого Фурье. Как нарочно, в то же самое время в Москве схвачена была и поэма Степана Трофимовича, написанная им еще лет шесть до сего, в Берлине, в самой первой его молодости, и ходившая по рукам, в списках, между двумя любителями и у одного студента. Эта поэма лежит теперь и у меня в столе; я получил ее, не далее как прошлого года, в собственноручном, весьма недавнем списке, от самого Степана Трофимовича, с его надписью и в великолепном красном сафьянном переплете. Впрочем, она не без поэзии и даже не без некоторого таланта; странная, но тогда (то есть, вернее, в тридцатых годах) в этом роде часто пописывали. Рассказать же сюжет затрудняюсь, ибо, по правде, ничего в нем не понимаю. Это какая-то аллегория, в лирико-драматической форме и напоминающая вторую часть «Фауста». Сцена открывается хором женщин, потом хором мужчин, потом каких-то сил, и в конце всего хором душ, еще не живших, но которым очень бы хотелось пожить. Все эти хоры поют о чем-то очень неопределенном, большею частию о чьем-то проклятии, но с оттенком высшего юмора. Но сцена вдруг переменяется, и наступает какой-то «Праздник жизни», на котором поют даже насекомые, является черепаха с какими-то латинскими сакраментальными словами, и даже, если припомню, пропел о чем-то один минерал, то есть предмет уже вовсе неодушевленный. Вообще же все поют беспрерывно, а если разговаривают, то как-то неопределенно бранятся, но опять-таки с оттенком высшего значения. Наконец, сцена опять переменяется, и является дикое место, а между утесами бродит один цивилизованный молодой человек, который срывает и сосет какие-то травы, и на вопрос феи: зачем он сосет эти травы? — ответствует, что он, чувствуя в себе избыток жизни, ищет забвения и находит его в соке этих трав; но что главное желание его — поскорее потерять ум (желание, может быть, и излишнее). Затем вдруг въезжает неописанной красоты юноша на черном коне, и за ним следует ужасное множество всех народов. Юноша изображает собою смерть, а все народы ее жаждут. И, наконец, уже в самой последней сцене вдруг появляется Вавилонская башня, и какие-то атлеты ее наконец достраивают с песней новой надежды, и когда уже достраивают до самого верху, то обладатель, положим хоть Олимпа, убегает в комическом виде, а догадавшееся человечество, завладев его местом, тотчас же начинает новую жизнь с новым проникновением вещей. Ну, вот эту-то поэму и нашли тогда опасною. Я в прошлом году предлагал Степану Трофимовичу ее напечатать, за совершенною ее, в наше время, невинностью, но он отклонил предложение с видимым неудовольствием. Мнение о совершенной невинности ему не понравилось, и я даже приписываю тому некоторую холодность его со мной, продолжавшуюся целых два месяца. И что же? Вдруг, и почти тогда же, как я предлагал напечатать здесь, — печатают нашу поэму там, то есть за границей, в одном из революционных сборников, и совершенно без ведома Степана Трофимовича. Он был сначала испуган, бросился к губернатору и написал благороднейшее оправдательное письмо в Петербург, читал мне его два раза, но не отправил, не зная, кому адресовать. Одним словом, волновался целый месяц; но я убежден, что в таинственных изгибах своего сердца был польщен необыкновенно. Он чуть не спал с экземпляром доставленного ему сборника, а днем прятал его под тюфяк и даже не пускал женщину перестилать постель, и хоть ждал каждый день откуда-то какой-то телеграммы, но смотрел свысока. Телеграммы никакой не пришло. Тогда же он и со мной примирился, что и свидетельствует о чрезвычайной доброте его тихого и незлопамятного сердца.
II
Я ведь не утверждаю, что он совсем нисколько не пострадал; я лишь убедился теперь вполне, что он мог бы продолжать о своих аравитянах сколько ему угодно, дав только нужные объяснения. Но он тогда самбициозничал и с особенною поспешностью распорядился уверить себя раз навсегда, что карьера его разбита на всю его жизнь «вихрем обстоятельств». А если говорить всю правду, то настоящею причиной перемены карьеры было еще прежнее и снова возобновившееся деликатнейшее предложение ему от Варвары Петровны Ставрогиной, супруги генерал-лейтенанта и значительной богачки, принять на себя воспитание и всё умственное развитие ее единственного сына, в качестве высшего педагога и друга, не говоря уже о блистательном вознаграждении. Предложение это было сделано ему в первый раз еще в Берлине, и именно в то самое время, когда он в первый раз овдовел. Первою супругой его была одна легкомысленная девица из нашей губернии, на которой он женился в самой первой и еще безрассудной своей молодости, и, кажется, вынес с этою, привлекательною впрочем, особой много горя, за недостатком средств к ее содержанию и, сверх того, по другим, отчасти уже деликатным причинам. Она скончалась в Париже, быв с ним последние три года в разлуке и оставив ему пятилетнего сына, «плод первой, радостной и еще не омраченной любви», как вырвалось раз при мне у грустившего Степана Трофимовича. Птенца еще с самого начала переслали в Россию, где он и воспитывался всё время на руках каких-то отдаленных теток, где-то в глуши. Степан Трофимович отклонил тогдашнее предложение Варвары Петровны и быстро женился опять, даже раньше году, на одной неразговорчивой берлинской немочке и, главное, без всякой особенной надобности. Но, кроме этой, оказались и другие причины отказа от места воспитателя: его соблазняла гремевшая в то время слава одного незабвенного профессора, и он, в свою очередь, полетел на кафедру, к которой готовился, чтобы испробовать и свои орлиные крылья. И вот теперь, уже с опаленными крыльями, он, естественно, вспомнил о предложении, которое еще и прежде колебало его решение. Внезапная же смерть и второй супруги, не прожившей с ним и году, устроила всё окончательно. Скажу прямо: всё разрешилось пламенным участием и драгоценною, так сказать классическою, дружбой к нему Варвары Петровны, если только так можно о дружбе выразиться. Он бросился в объятия этой дружбы, и дело закрепилось с лишком на двадцать лет. Я употребил выражение «бросился в объятия», но сохрани Бог кого-нибудь подумать о чем-нибудь лишнем и праздном; эти объятия надо разуметь в одном лишь самом высоконравственном смысле. Самая тонкая и самая деликатнейшая связь соединила эти два столь замечательные существа навеки.
Место воспитателя было принято еще и потому, что и именьице, оставшееся после первой супруги Степана Трофимовича, — очень маленькое, — приходилось совершенно рядом со Скворешниками, великолепным подгородным имением Ставрогиных в нашей губернии. К тому же всегда возможно было, в тиши кабинета и уже не отвлекаясь огромностью университетских занятий, посвятить себя делу науки и обогатить отечественную словесность глубочайшими исследованиями. Исследований не оказалось; но зато оказалось возможным простоять всю остальную жизнь, более двадцати лет, так сказать, «воплощенной укоризной» пред отчизной, по выражению народного поэта:
Воплощенной укоризною
………………………………………
Ты стоял перед отчизною,
Либерал-идеалист.
Но то лицо, о котором выразился народный поэт, может быть, и имело право всю жизнь позировать в этом смысле, если бы того захотело, хотя это и скучно. Наш же Степан Трофимович, по правде, был только подражателем сравнительно с подобными лицами, да и стоять уставал и частенько полеживал на боку. Но хотя и на боку, а воплощенность укоризны сохранялась и в лежачем положении, — надо отдать справедливость, тем более что для губернии было и того достаточно. Посмотрели бы вы на него у нас в клубе, когда он садился за карты. Весь вид его говорил: «Карты! Я сажусь с вами в ералаш! Разве это совместно? Кто ж отвечает за это? Кто разбил мою деятельность и обратил ее в ералаш? Э, погибай Россия!» — и он осанисто козырял с червей.
А по правде, ужасно любил сразиться в карточки, за что, и особенно в последнее время, имел частые и неприятные стычки с Варварой Петровной, тем более что постоянно проигрывал. Но об этом после. Замечу лишь, что это был человек даже совестливый (то есть иногда), а потому часто грустил. В продолжение всей двадцатилетней дружбы с Варварой Петровной он раза по три и по четыре в год регулярно впадал в так называемую между нами «гражданскую скорбь», то есть просто в хандру, но словечко это нравилось многоуважаемой Варваре Петровне. Впоследствии, кроме гражданской скорби, он стал впадать и в шампанское; но чуткая Варвара Петровна всю жизнь охраняла его от всех тривиальных наклонностей. Да он и нуждался в няньке, потому что становился иногда очень странен: в средине самой возвышенной скорби он вдруг зачинал смеяться самым простонароднейшим образом. Находили минуты, что даже о самом себе начинал выражаться в юмористическом смысле. Но ничего так не боялась Варвара Петровна, как юмористического смысла. Это была женщина-классик, женщина-меценатка, действовавшая в видах одних лишь высших соображений. Капитально было двадцатилетнее влияние этой высшей дамы на ее бедного друга. О ней надо бы поговорить особенно, что я и сделаю.
III
Есть дружбы странные: оба друга один другого почти съесть хотят, всю жизнь так живут, а между тем расстаться не могут. Расстаться даже никак нельзя: раскапризившийся и разорвавший связь друг первый же заболеет и, пожалуй, умрет, если это случится. Я положительно знаю, что Степан Трофимович несколько раз, и иногда после самых интимных излияний глаз на глаз с Варварой Петровной, по уходе ее вдруг вскакивал с дивана и начинал колотить кулаками в стену.
Происходило это без малейшей аллегории, так даже, что однажды отбил от стены штукатурку. Может быть, спросят: как мог я узнать такую тонкую подробность? А что, если я сам бывал свидетелем? Что, если сам Степан Трофимович неоднократно рыдал на моем плече, в ярких красках рисуя предо мной всю свою подноготную? (И уж чего-чего при этом не говорил!) Но вот что случалось почти всегда после этих рыданий: назавтра он уже готов был распять самого себя за неблагодарность; поспешно призывал меня к себе или прибегал ко мне сам, единственно чтобы возвестить мне, что Варвара Петровна «ангел чести и деликатности, а он совершенно противоположное». Он не только ко мне прибегал, но неоднократно описывал всё это ей самой в красноречивейших письмах и признавался ей, за своею полною подписью, что не далее как, например, вчера он рассказывал постороннему лицу, что она держит его из тщеславия, завидует его учености и талантам; ненавидит его и боится только выказать свою ненависть явно, в страхе, чтоб он не ушел от нее и тем не повредил ее литературной репутации; что вследствие этого он себя презирает и решился погибнуть насильственною смертью, а от нее ждет последнего слова, которое всё решит, и пр., и пр., всё в этом роде. Можно представить после этого, до какой истерики доходили иногда нервные взрывы этого невиннейшего из всех пятидесятилетних младенцев! Я сам однажды читал одно из таковых его писем, после какой-то между ними ссоры, из-за ничтожной причины, но ядовитой по выполнению. Я ужаснулся и умолял не посылать письма.
— Нельзя… честнее… долг… я умру, если не признаюсь ей во всем, во всем! — отвечал он чуть не в горячке и послал-таки письмо.
В том-то и была разница между ними, что Варвара Петровна никогда бы не послала такого письма. Правда, он писать любил без памяти, писал к ней, даже живя в одном с нею доме, а в истерических случаях и по два письма в день. Я знаю наверное, что она всегда внимательнейшим образом эти письма прочитывала, даже в случае и двух писем в день, и, прочитав, складывала в особый ящичек, помеченные и рассортированные; кроме того, слагала их в сердце своем. Затем, выдержав своего друга весь день без ответа, встречалась с ним как ни в чем не бывало, будто ровно ничего вчера особенного не случилось. Мало-помалу она так его вымуштровала, что он уже и сам не смел напоминать о вчерашнем, а только заглядывал ей некоторое время в глаза. Но она ничего не забывала, а он забывал иногда слишком уж скоро и, ободренный ее же спокойствием, нередко в тот же день смеялся и школьничал за шампанским, если приходили приятели. С каким, должно быть, ядом она смотрела на него в те минуты, а он ничего-то не примечал! Разве через неделю, через месяц, или даже через полгода, в какую-нибудь особую минуту, нечаянно вспомнив какое-нибудь выражение из такого письма, а затем и всё письмо, со всеми обстоятельствами, он вдруг сгорал от стыда и до того, бывало, мучился, что заболевал своими припадками холерины. Эти особенные с ним припадки, вроде холерины, бывали в некоторых случаях обыкновенным исходом его нервных потрясений и представляли собою некоторый любопытный в своем роде курьез в его телосложении.
Действительно, Варвара Петровна наверно и весьма часто его ненавидела; но он одного только в ней не приметил до самого конца, того, что стал наконец для нее ее сыном, ее созданием, даже, можно сказать, ее изобретением, стал плотью от плоти ее, и что она держит и содержит его вовсе не из одной только «зависти к его талантам». И как, должно быть, она была оскорбляема такими предположениями! В ней таилась какая-то нестерпимая любовь к нему, среди беспрерывной ненависти, ревности и презрения. Она охраняла его от каждой пылинки, нянчилась с ним двадцать два года, не спала бы целых ночей от заботы, если бы дело коснулось до его репутации поэта, ученого, гражданского деятеля. Она его выдумала и в свою выдумку сама же первая и уверовала. Он был нечто вроде какой-то ее мечты… Но она требовала от него за это действительно многого, иногда даже рабства. Злопамятна же была до невероятности. Кстати уж расскажу два анекдота.
IV
Однажды, еще при первых слухах об освобождении крестьян, когда вся Россия вдруг взликовала и готовилась вся возродиться, посетил Варвару Петровну один проезжий петербургский барон, человек с самыми высокими связями и стоявший весьма близко у дела. Варвара Петровна чрезвычайно ценила подобные посещения, потому что связи ее в обществе высшем, по смерти ее супруга, всё более и более ослабевали, под конец и совсем прекратились. Барон просидел у нее час и кушал чай. Никого других не было, но Степана Трофимовича Варвара Петровна пригласила и выставила. Барон о нем кое-что даже слышал и прежде или сделал вид, что слышал, но за чаем мало к нему обращался. Разумеется, Степан Трофимович в грязь себя ударить не мог, да и манеры его были самые изящные. Хотя происхождения он был, кажется, невысокого, но случилось так, что воспитан был с самого малолетства в одном знатном доме в Москве и, стало быть, прилично; по-французски говорил, как парижанин. Таким образом, барон с первого взгляда должен был понять, какими людьми Варвара Петровна окружает себя, хотя бы и в губернском уединении. Вышло, однако, не так. Когда барон подтвердил положительно совершенную достоверность только что разнесшихся тогда первых слухов о великой реформе, Степан Трофимович вдруг не вытерпел и крикнул ура! и даже сделал рукой какой-то жест, изображавший восторг. Крикнул он негромко и даже изящно; даже, может быть, восторг был преднамеренный, а жест нарочно заучен пред зеркалом, за полчаса пред чаем; но, должно быть, у него что-нибудь тут не вышло, так что барон позволил себе чуть-чуть улыбнуться, хотя тотчас же необыкновенно вежливо ввернул фразу о всеобщем и надлежащем умилении всех русских сердец ввиду великого события. Затем скоро уехал и, уезжая, не забыл протянуть и Степану Трофимовичу два пальца. Возвратясь в гостиную, Варвара Петровна сначала молчала минуты три, что-то как бы отыскивая на столе; но вдруг обернулась к Степану Трофимовичу и, бледная, со сверкающими глазами, процедила шепотом:
— Я вам этого никогда не забуду!
На другой день она встретилась со своим другом как ни в чем не бывало; о случившемся никогда не поминала. Но тринадцать лет спустя, в одну трагическую минуту, припомнила и попрекнула его, и так же точно побледнела, как и тринадцать лет назад, когда в первый раз попрекала. Только два раза во всю свою жизнь сказала она ему: «Я вам этого никогда не забуду!» Случай с бароном был уже второй случай; но и первый случай в свою очередь так характерен и, кажется, так много означал в судьбе Степана Трофимовича, что я решаюсь и о нем упомянуть.
Это было в пятьдесят пятом году, весной, в мае месяце, именно после того как в Скворешниках получилось известие о кончине генерал-лейтенанта Ставрогина, старца легкомысленного, скончавшегося от расстройства в желудке, по дороге в Крым, куда он спешил по назначению в действующую армию. Варвара Петровна осталась вдовой и облеклась в полный траур. Правда, не могла она горевать очень много, ибо в последние четыре года жила с мужем в совершенной разлуке, по несходству характеров, и производила ему пенсион. (У самого генерал-лейтенанта было всего только полтораста душ и жалованье, кроме того знатность и связи; а всё богатство и Скворешники принадлежали Варваре Петровне, единственной дочери одного очень богатого откупщика.) Тем не менее она была потрясена неожиданностию известия и удалилась в полное уединение. Разумеется, Степан Трофимович находился при ней безотлучно.
Май был в полном расцвете; вечера стояли удивительные. Зацвела черемуха. Оба друга сходились каждый вечер в саду и просиживали до ночи в беседке, изливая друг пред другом свои чувства и мысли. Минуты бывали поэтические. Варвара Петровна под впечатлением перемены в судьбе своей говорила больше обыкновенного. Она как бы льнула к сердцу своего друга, и так продолжалось несколько вечеров. Одна странная мысль вдруг осенила Степана Трофимовича: «Не рассчитывает ли неутешная вдова на него и не ждет ли, в конце траурного года, предложения с его стороны?» Мысль циническая; но ведь возвышенность организации даже иногда способствует наклонности к циническим мыслям, уже по одной только многосторонности развития. Он стал вникать и нашел, что походило на то. Он задумался: «Состояние огромное, правда, но…» Действительно, Варвара Петровна не совсем походила на красавицу: это была высокая, желтая, костлявая женщина, с чрезмерно длинным лицом, напоминавшим что-то лошадиное. Всё более и более колебался Степан Трофимович, мучился сомнениями, даже всплакнул раза два от нерешимости (плакал он довольно часто). По вечерам же, то есть в беседке, лицо его как-то невольно стало выражать нечто капризное и насмешливое, нечто кокетливое и в то же время высокомерное. Это как-то нечаянно, невольно делается, и даже чем благороднее человек, тем оно и заметнее. Бог знает как тут судить, но вероятнее, что ничего и не начиналось в сердце Варвары Петровны такого, что могло бы оправдать вполне подозрения Степана Трофимовича. Да и не променяла бы она своего имени Ставрогиной на его имя, хотя бы и столь славное. Может быть, была всего только одна лишь женственная игра с ее стороны, проявление бессознательной женской потребности, столь натуральной в иных чрезвычайных женских случаях. Впрочем, не поручусь; неисследима глубина женского сердца даже и до сегодня! Но продолжаю.
Надо думать, что она скоро про себя разгадала странное выражение лица своего друга; она была чутка и приглядчива, он же слишком иногда невинен. Но вечера шли по-прежнему, и разговоры были так же поэтичны и интересны. И вот однажды, с наступлением ночи, после самого оживленного и поэтического разговора, они дружески расстались, горячо пожав друг другу руки у крыльца флигеля, в котором квартировал Степан Трофимович. Каждое лето он перебирался в этот флигелек, стоявший почти в саду, из огромного барского дома Скворешников. Только что он вошел к себе и, в хлопотливом раздумье, взяв сигару и еще не успев ее закурить, остановился, усталый, неподвижно пред раскрытым окном, приглядываясь к легким, как пух, белым облачкам, скользившим вокруг ясного месяца, как вдруг легкий шорох заставил его вздрогнуть и обернуться. Пред ним опять стояла Варвара Петровна, которую он оставил всего только четыре минуты назад. Желтое лицо ее почти посинело, губы были сжаты и вздрагивали по краям. Секунд десять полных смотрела она ему в глаза молча, твердым, неумолимым взглядом и вдруг прошептала скороговоркой:
— Я никогда вам этого не забуду!
Когда Степан Трофимович, уже десять лет спустя, передавал мне эту грустную повесть шепотом, заперев сначала двери, то клялся мне, что он до того остолбенел тогда на месте, что не слышал и не видел, как Варвара Петровна исчезла. Так как она никогда ни разу потом не намекала ему на происшедшее и всё пошло как ни в чем не бывало, то он всю жизнь наклонен был к мысли, что всё это была одна галлюцинация пред болезнию, тем более что в ту же ночь он и вправду заболел на целых две недели, что, кстати, прекратило и свидания в беседке.
Но, несмотря на мечту о галлюцинации, он каждый день, всю свою жизнь, как бы ждал продолжения и, так сказать, развязки этого события. Он не верил, что оно так и кончилось! А если так, то странно же он должен был иногда поглядывать на своего друга.
V
Она сама сочинила ему даже костюм, в котором он и проходил всю свою жизнь. Костюм был изящен и характерен: длиннополый черный сюртук, почти доверху застегнутый, но щегольски сидевший; мягкая шляпа (летом соломенная) с широкими полями; галстук белый, батистовый, с большим узлом и висячими концами; трость с серебряным набалдашником, при этом волосы до плеч. Он был темно-рус, и волосы его только в последнее время начали немного седеть. Усы и бороду он брил. Говорят, в молодости он был чрезвычайно красив собой. Но, по-моему, и в старости был необыкновенно внушителен. Да и какая же старость в пятьдесят три года? Но, по некоторому гражданскому кокетству, он не только не молодился, но как бы и щеголял солидностию лет своих, и в костюме своем, высокий, сухощавый, с волосами до плеч, походил как бы на патриарха или, еще вернее, на портрет поэта Кукольника, литографированный в тридцатых годах при каком-то издании, особенно когда сидел летом в саду, на лавке, под кустом расцветшей сирени, опершись обеими руками на трость, с раскрытою книгой подле и поэтически задумавшись над закатом солнца. Насчет книг замечу, что под конец он стал как-то удаляться от чтения. Впрочем, это уж под самый конец. Газеты и журналы, выписываемые Варварой Петровной во множестве, он читал постоянно. Успехами русской литературы тоже постоянно интересовался, хотя и нисколько не теряя своего достоинства. Увлекся было когда-то изучением высшей современной политики наших внутренних и внешних дел, но вскоре, махнув рукой, оставил предприятие. Бывало и то: возьмет с собою в сад Токевиля, а в кармашке несет спрятанного Поль де Кока. Но, впрочем, это пустяки.
Замечу в скобках и о портрете Кукольника: попалась эта картинка Варваре Петровне в первый раз, когда она находилась, еще девочкой, в благородном пансионе в Москве. Она тотчас же влюбилась в портрет, по обыкновению всех девочек в пансионах, влюбляющихся во что ни попало, а вместе и в своих учителей, преимущественно чистописания и рисования. Но любопытны в этом не свойства девочки, а то, что даже и в пятьдесят лет Варвара Петровна сохраняла эту картинку в числе самых интимных своих драгоценностей, так что и Степану Трофимовичу, может быть, только поэтому сочинила несколько похожий на изображенный на картинке костюм. Но и это, конечно, мелочь.
В первые годы, или, точнее, в первую половину пребывания у Варвары Петровны, Степан Трофимович всё еще помышлял о каком-то сочинении и каждый день серьезно собирался его писать. Но во вторую половину он, должно быть, и зады позабыл. Всё чаще и чаще он говаривал нам: «Кажется, готов к труду, материалы собраны, и вот не работается! Ничего не делается!» — и опускал голову в унынии. Без сомнения, это-то и должно было придать ему еще больше величия в наших глазах, как страдальцу науки; но самому ему хотелось чего-то другого. «Забыли меня, никому я не нужен!» — вырывалось у него не раз. Эта усиленная хандра особенно овладела им в самом конце пятидесятых годов. Варвара Петровна поняла наконец, что дело серьезное. Да и не могла она перенести мысли о том, что друг ее забыт и не нужен. Чтобы развлечь его, а вместе для подновления славы, она свозила его тогда в Москву, где у ней было несколько изящных литературных и ученых знакомств; но оказалось, что и Москва неудовлетворительна.
Тогда было время особенное; наступило что-то новое, очень уж непохожее на прежнюю тишину, и что-то очень уж странное, но везде ощущаемое, даже в Скворешниках. Доходили разные слухи. Факты были вообще известны более или менее, но очевидно было, что кроме фактов явились и какие-то сопровождавшие их идеи, и, главное, в чрезмерном количестве. А это-то и смущало: никак невозможно было примениться и в точности узнать, что именно означали эти идеи? Варвара Петровна, вследствие женского устройства натуры своей, непременно хотела подразумевать в них секрет. Она принялась было сама читать газеты и журналы, заграничные запрещенные издания и даже начавшиеся тогда прокламации (всё это ей доставлялось); но у ней только голова закружилась. Принялась она писать письма: отвечали ей мало, и чем далее, тем непонятнее. Степан Трофимович торжественно приглашен был объяснить ей «все эти идеи» раз навсегда; но объяснениями его она осталась положительно недовольна. Взгляд Степана Трофимовича на всеобщее движение был в высшей степени высокомерный; у него всё сводилось на то, что он сам забыт и никому не нужен. Наконец и о нем вспомянули, сначала в заграничных изданиях, как о ссыльном страдальце, и потом тотчас же в Петербурге, как о бывшей звезде в известном созвездии; даже сравнивали его почему-то с Радищевым. Затем кто-то напечатал, что он уже умер, и обещал его некролог. Степан Трофимович мигом воскрес и сильно приосанился. Всё высокомерие его взгляда на современников разом соскочило, и в нем загорелась мечта: примкнуть к движению и показать свои силы. Варвара Петровна тотчас же вновь и во всё уверовала и ужасно засуетилась. Решено было ехать в Петербург без малейшего отлагательства, разузнать всё на деле, вникнуть лично и, если возможно, войти в новую деятельность всецело и нераздельно. Между прочим, она объявила, что готова основать свой журнал и посвятить ему отныне всю свою жизнь. Увидав, что дошло даже до этого, Степан Трофимович стал еще высокомернее, в дороге же начал относиться к Варваре Петровне почти покровительственно, что она тотчас же сложила в сердце своем. Впрочем, у ней была и другая весьма важная причина к поездке, именно возобновление высших связей. Надо было по возможности напомнить о себе в свете, по крайней мере попытаться. Гласным же предлогом к путешествию было свидание с единственным сыном, оканчивавшим тогда курс наук в петербургском лицее.
VI
Они съездили и прожили в Петербурге почти весь зимний сезон. Всё, однако, к великому посту лопнуло, как радужный мыльный пузырь. Мечты разлетелись, а сумбур не только не выяснился, но стал еще отвратительнее. Во-первых, высшие связи почти не удались, разве в самом микроскопическом виде и с унизительными натяжками. Оскорбленная Варвара Петровна бросилась было всецело в «новые идеи» и открыла у себя вечера. Она позвала литераторов, и к ней их тотчас же привели во множестве. Потом уже приходили и сами, без приглашения; один приводил другого. Никогда еще она не видывала таких литераторов. Они были тщеславны до невозможности, но совершенно открыто, как бы тем исполняя обязанность. Иные (хотя и далеко не все) являлись даже пьяные, но как бы сознавая в этом особенную, вчера только открытую красоту. Все они чем-то гордились до странности. На всех лицах было написано, что они сейчас только открыли какой-то чрезвычайно важный секрет. Они бранились, вменяя себе это в честь. Довольно трудно было узнать, что именно они написали; но тут были критики, романисты, драматурги, сатирики, обличители. Степан Трофимович проник даже в самый высший их круг, туда, откуда управляли движением. До управляющих было до невероятности высоко, но его они встретили радушно, хотя, конечно, никто из них ничего о нем не знал и не слыхивал кроме того, что он «представляет идею». Он до того маневрировал около них, что и их зазвал раза два в салон Варвары Петровны, несмотря на всё их олимпийство. Эти были очень серьезны и очень вежливы; держали себя хорошо; остальные видимо их боялись; но очевидно было, что им некогда. Явились и две-три прежние литературные знаменитости, случившиеся тогда в Петербурге и с которыми Варвара Петровна давно уже поддерживала самые изящные отношения. Но, к удивлению ее, эти действительные и уже несомненные знаменитости были тише воды, ниже травы, а иные из них просто льнули ко всему этому новому сброду и позорно у него заискивали. Сначала Степану Трофимовичу повезло; за него ухватились и стали его выставлять на публичных литературных собраниях. Когда он вышел в первый раз на эстраду, в одном из публичных литературных чтений, в числе читавших, раздались неистовые рукоплескания, не умолкавшие минут пять. Он со слезами вспоминал об этом девять лет спустя, — впрочем, скорее по художественности своей натуры, чем из благодарности. «Клянусь же вам и пари держу, — говорил он мне сам (но только мне и по секрету), – что никто-то изо всей этой публики знать не знал о мне ровнешенько ничего!» Признание замечательное: стало быть, был же в нем острый ум, если он тогда же, на эстраде, мог так ясно понять свое положение, несмотря на всё свое упоение; и, стало быть, не было в нем острого ума, если он даже девять лет спустя не мог вспомнить о том без ощущения обиды. Его заставили подписаться под двумя или тремя коллективными протестами (против чего — он и сам не знал); он подписался. Варвару Петровну тоже заставили подписаться под каким-то «безобразным поступком», и та подписалась. Впрочем, большинство этих новых людей хоть и посещали Варвару Петровну, но считали себя почему-то обязанными смотреть на нее с презрением и с нескрываемою насмешкой. Степан Трофимович намекал мне потом, в горькие минуты, что она с тех-то пор ему и позавидовала. Она, конечно, понимала, что ей нельзя водиться с этими людьми, но все-таки принимала их с жадностию, со всем женским истерическим нетерпением и, главное, всё чего-то ждала. На вечерах она говорила мало, хотя и могла бы говорить; но она больше вслушивалась. Говорили об уничтожении цензуры и буквы ъ, о заменении русских букв латинскими, о вчерашней ссылке такого-то, о каком-то скандале в Пассаже, о полезности раздробления России по народностям с вольною федеративною связью, об уничтожении армии и флота, о восстановлении Польши по Днепр, о крестьянской реформе и прокламациях, об уничтожении наследства, семейства, детей и священников, о правах женщины, о доме Краевского, которого никто и никогда не мог простить господину Краевскому, и пр., и пр. Ясно было, что в этом сброде новых людей много мошенников, но несомненно было, что много и честных, весьма даже привлекательных лиц, несмотря на некоторые все-таки удивительные оттенки. Честные были гораздо непонятнее бесчестных и грубых; но неизвестно было, кто у кого в руках. Когда Варвара Петровна объявила свою мысль об издании журнала, то к ней хлынуло еще больше народу, но тотчас же посыпались в глаза обвинения, что она капиталистка и эксплуатирует труд. Бесцеремонность обвинений равнялась только их неожиданности. Престарелый генерал Иван Иванович Дроздов, прежний друг и сослуживец покойного генерала Ставрогина, человек достойнейший (но в своем роде) и которого все мы здесь знаем, до крайности строптивый и раздражительный, ужасно много евший и ужасно боявшийся атеизма, заспорил на одном из вечеров Варвары Петровны с одним знаменитым юношей. Тот ему первым словом: «Вы, стало быть, генерал, если так говорите», то есть в том смысле, что уже хуже генерала он и брани не мог найти. Иван Иванович вспылил чрезвычайно: «Да, сударь, я генерал, и генерал-лейтенант, и служил государю моему, а ты, сударь, мальчишка и безбожник!» Произошел скандал непозволительный. На другой день случай был обличен в печати, и начала собираться коллективная подписка против «безобразного поступка» Варвары Петровны, не захотевшей тотчас же прогнать генерала. В иллюстрированном журнале явилась карикатура, в которой язвительно скопировали Варвару Петровну, генерала и Степана Трофимовича на одной картинке, в виде трех ретроградных друзей; к картинке приложены были и стихи, написанные народным поэтом единственно для этого случая. Замечу от себя, что действительно у многих особ в генеральских чинах есть привычка смешно говорить: «Я служил государю моему…», то есть точно у них не тот же государь, как и у нас, простых государевых подданных, а особенный, ихний.
Оставаться долее в Петербурге было, разумеется, невозможно, тем более что и Степана Трофимовича постигло окончательное fiasco.[1] Он не выдержал и стал заявлять о правах искусства, а над ним стали еще громче смеяться. На последнем чтении своем он задумал подействовать гражданским красноречием, воображая тронуть сердца и рассчитывая на почтение к своему «изгнанию». Он бесспорно согласился в бесполезности и комичности слова «отечество»; согласился и с мыслию о вреде религии, но громко и твердо заявил, что сапоги ниже Пушкина, и даже гораздо. Его безжалостно освистали, так что он тут же, публично, не сойдя с эстрады, расплакался. Варвара Петровна привезла его домой едва живого. «On m’a traité comme un vieux bonnet de coton!»[2] — лепетал он бессмысленно. Она ходила за ним всю ночь, давала ему лавровишневых капель и до рассвета повторяла ему: «Вы еще полезны; вы еще явитесь; вас оценят… в другом месте».
На другой же день, рано утром, явились к Варваре Петровне пять литераторов, из них трое совсем незнакомых, которых она никогда и не видывала. Со строгим видом они объявили ей, что рассмотрели дело о ее журнале и принесли по этому делу решение. Варвара Петровна решительно никогда и никому не поручала рассматривать и решать что-нибудь о ее журнале. Решение состояло в том, чтоб она, основав журнал, тотчас же передала его им вместе с капиталами, на правах свободной ассоциации; сама же чтоб уезжала в Скворешники, не забыв захватить с собою Степана Трофимовича, «который устарел». Из деликатности они соглашались признавать за нею права собственности и высылать ей ежегодно одну шестую чистого барыша. Всего трогательнее было то, что из этих пяти человек наверное четверо не имели при этом никакой стяжательной цели, а хлопотали только во имя «общего дела».
«Мы выехали как одурелые, — рассказывал Степан Трофимович, — я ничего не мог сообразить и, помню, все лепетал под стук вагона:
Век[3] и Век и Лев Камбек[4],
Лев Камбек и Век и Век…
и черт знает что еще такое, вплоть до самой Москвы. Только в Москве опомнился — как будто и в самом деле что-нибудь другое в ней мог найти? О друзья мои! — иногда восклицал он нам во вдохновении, — вы представить не можете, какая грусть и злость охватывает всю вашу душу, когда великую идею, вами давно уже и свято чтимую, подхватят неумелые и вытащат к таким же дуракам, как и сами, на улицу, и вы вдруг встречаете ее уже на толкучем, неузнаваемую, в грязи, поставленную нелепо, углом, без пропорции, без гармонии, игрушкой у глупых ребят! Нет! В наше время было не так, и мы не к тому стремились. Нет, нет, совсем не к тому. Я не узнаю ничего… Наше время настанет опять и опять направит на твердый путь всё шатающееся, теперешнее. Иначе что же будет?..»
VII
Тотчас же по возвращении из Петербурга Варвара Петровна отправила друга своего за границу: «отдохнуть»; да и надо было им расстаться на время, она это чувствовала. Степан Трофимович поехал с восторгом. «Там я воскресну! — восклицал он. — Там наконец примусь за науку!» Но с первых же писем из Берлина он затянул свою всегдашнюю ноту. «Сердце разбито, — писал он Варваре Петровне, — не могу забыть ничего! Здесь, в Берлине, всё напомнило мне мое старое, прошлое, первые восторги и первые муки. Где она? Где теперь они обе? Где вы, два ангела, которых я никогда не стоил? Где сын мой, возлюбленный сын мой? Где, наконец, я, я сам, прежний я, стальной по силе и непоколебимый, как утес, когда теперь какой-нибудь Andrejeff, un православный шут с бородой, peut briser mon existence en deux[5]» и т. д., и т. д. Что касается до сына Степана Трофимовича, то он видел его всего два раза в своей жизни, в первый раз, когда тот родился, и во второй — недавно в Петербурге, где молодой человек готовился поступить в университет. Всю же свою жизнь мальчик, как уже и сказано было, воспитывался у теток в О — ской губернии (на иждивении Варвары Петровны), за семьсот верст от Скворешников. Что же касается до Andrejeff, то есть Андреева, то это был просто-запросто наш здешний купец, лавочник, большой чудак, археолог-самоучка, страстный собиратель русских древностей, иногда пикировавшийся со Степаном Трофимовичем познаниями, а главное, в направлении. Этот почтенный купец, с седою бородой и в больших серебряных очках, не доплатил Степану Трофимовичу четырехсот рублей за купленные в его именьице (рядом со Скворешниками) несколько десятин лесу на сруб. Хотя Варвара Петровна и роскошно наделила своего друга средствами, отправляя его в Берлин, но на эти четыреста рублей Степан Трофимович, пред поездкой, особо рассчитывал, вероятно на секретные свои расходы, и чуть не заплакал, когда Andrejeff попросил повременить один месяц, имея, впрочем, и право на такую отсрочку, ибо первые взносы денег произвел все вперед чуть не за полгода, по особенной тогдашней нужде Степана Трофимовича. Варвара Петровна с жадностию прочла это первое письмо и, подчеркнув карандашом восклицание: «Где вы обе?», пометила числом и заперла в шкатулку. Он, конечно, вспоминал о своих обеих покойницах женах. Во втором полученном из Берлина письме песня варьировалась: «Работаю по двенадцати часов в сутки („хоть бы по одиннадцати“, — проворчала Варвара Петровна), роюсь в библиотеках, сверяюсь, выписываю, бегаю; был у профессоров. Возобновил знакомство с превосходным семейством Дундасовых. Какая прелесть Надежда Николаевна даже до сих пор! Вам кланяется. Молодой ее муж и все три племянника в Берлине. По вечерам с молодежью беседуем до рассвета, и у нас чуть не афинские вечера, но единственно по тонкости и изяществу; всё благородное: много музыки, испанские мотивы, мечты всечеловеческого обновления, идея вечной красоты, Сикстинская Мадонна, свет с прорезами тьмы, но и в солнце пятна! О друг мой, благородный, верный друг! Я сердцем с вами и ваш, с одной всегда, en tout pays[6] и хотя бы даже dans le pays de Makar et de ses veaux,[7] о котором, помните, так часто мы, трепеща, говорили в Петербурге пред отъездом. Вспоминаю с улыбкой. Переехав границу, ощутил себя безопасным, ощущение странное, новое, впервые после столь долгих лет…» и т. д., и т. д.
«Ну, всё вздор! — решила Варвара Петровна, складывая и это письмо. — Коль до рассвета афинские вечера, так не сидит же по двенадцати часов за книгами. Спьяну, что ль, написал? Эта Дундасова как смеет мне посылать поклоны? Впрочем, пусть его погуляет…»
Фраза «dans le pays de Makar et de ses veaux» означала: «куда Макар телят не гонял». Степан Трофимович нарочно глупейшим образом переводил иногда русские пословицы и коренные поговорки на французский язык, без сомнения умея и понять и перевести лучше; но это он делывал из особого рода шику и находил его остроумным.
Но погулял он немного, четырех месяцев не выдержал и примчался в Скворешники. Последние письма его состояли из одних лишь излияний самой чувствительной любви к своему отсутствующему другу и буквально были смочены слезами разлуки. Есть натуры, чрезвычайно приживающиеся к дому, точно комнатные собачки. Свидание друзей было восторженное. Через два дня всё пошло по-старому и даже скучнее старого. «Друг мой, — говорил мне Степан Трофимович через две недели, под величайшим секретом, — друг мой, я открыл ужасную для меня… новость: je suis un простой приживальщик, et rien de plusl Mais r‑r-rien de plus!»[8]
VIII
Затем у нас наступило затишье и тянулось почти сплошь все эти девять лет. Истерические взрывы и рыдания на моем плече, продолжавшиеся регулярно, нисколько не мешали нашему благоденствию. Удивляюсь, как Степан Трофимович не растолстел за это время. Покраснел лишь немного его нос и прибавилось благодушия. Мало-помалу около него утвердился кружок приятелей, впрочем постоянно небольшой. Варвара Петровна хоть и мало касалась кружка, но все мы признавали ее нашею патронессой. После петербургского урока она поселилась в нашем городе окончательно; зимой жила в городском своем доме, а летом в подгородном своем имении. Никогда она не имела столько значения и влияния, как в последние семь лет, в нашем губернском обществе, то есть вплоть до назначения к нам нашего теперешнего губернатора. Прежний губернатор наш, незабвенный и мягкий Иван Осипович, приходился ей близким родственником и был когда-то ею облагодетельствован. Супруга его трепетала при одной мысли не угодить Варваре Петровне, а поклонение губернского общества дошло до того, что напоминало даже нечто греховное. Было, стало быть, хорошо и Степану Трофимовичу. Он был членом клуба, осанисто проигрывал и заслужил почет, хотя многие смотрели на него только как на «ученого». Впоследствии, когда Варвара Петровна позволила ему жить в другом доме, нам стало еще свободнее. Мы собирались у него раза по два в неделю; бывало весело, особенно когда он не жалел шампанского. Вино забиралось в лавке того же Андреева. Расплачивалась по счету Варвара Петровна каждые полгода, и день расплаты почти всегда бывал днем холерины.
Стариннейшим членом кружка был Липутин, губернский чиновник, человек уже немолодой, большой либерал и в городе слывший атеистом. Женат он был во второй раз на молоденькой и хорошенькой, взял за ней приданое и, кроме того, имел трех подросших дочерей. Всю семью держал в страхе божием и взаперти, был чрезмерно скуп и службой скопил себе домик и капитал. Человек был беспокойный, притом в маленьком чине; в городе его мало уважали, а в высшем круге не принимали. К тому же он был явный и не раз уже наказанный сплетник, и наказанный больно, раз одним офицером, а в другой раз почтенным отцом семейства, помещиком. Но мы любили его острый ум, любознательность, его особенную злую веселость. Варвара Петровна не любила его, но он всегда как-то умел к ней подделаться.
Не любила она и Шатова, всего только в последний год ставшего членом кружка. Шатов был прежде студентом и был исключен после одной студентской истории из университета; в детстве же был учеником Степана Трофимовича, а родился крепостным Варвары Петровны, от покойного камердинера ее Павла Федорова, и был ею облагодетельствован. Не любила она его за гордость и неблагодарность и никак не могла простить ему, что он по изгнании из университета не приехал к ней тотчас же; напротив, даже на тогдашнее нарочное письмо ее к нему ничего не ответил и предпочел закабалиться к какому-то цивилизованному купцу учить детей. Вместе с семьей этого купца он выехал за границу, скорее в качестве дядьки, чем гувернера; но уж очень хотелось ему тогда за границу. При детях находилась еще и гувернантка, бойкая русская барышня, поступившая в дом тоже пред самым выездом и принятая более за дешевизну. Месяца через два купец ее выгнал «за вольные мысли». Поплелся за нею и Шатов и вскорости обвенчался с нею в Женеве. Прожили они вдвоем недели с три, а потом расстались, как вольные и ничем не связанные люди; конечно, тоже и по бедности. Долго потом скитался он один по Европе, жил бог знает чем; говорят, чистил на улицах сапоги и в каком-то порте был носильщиком. Наконец, с год тому назад вернулся к нам в родное гнездо и поселился со старухой теткой, которую и схоронил через месяц. С сестрой своею Дашей, тоже воспитанницей Варвары Петровны, жившею у ней фавориткой на самой благородной ноге, он имел самые редкие и отдаленные сношения. Между нами был постоянно угрюм и неразговорчив; но изредка, когда затрогивали его убеждения, раздражался болезненно и был очень невоздержан на язык. «Шатова надо сначала связать, а потом уж с ним рассуждать», — шутил иногда Степан Трофимович; но он любил его. За границей Шатов радикально изменил некоторые из прежних социалистических своих убеждений и перескочил в противоположную крайность. Это было одно из тех идеальных русских существ, которых вдруг поразит какая-нибудь сильная идея и тут же разом точно придавит их собою, иногда даже навеки. Справиться с нею они никогда не в силах, а уверуют страстно, и вот вся жизнь их проходит потом как бы в последних корчах под свалившимся на них и наполовину совсем уже раздавившим их камнем. Наружностью Шатов вполне соответствовал своим убеждениям: он был неуклюж, белокур, космат, низкого роста, с широкими плечами, толстыми губами, с очень густыми, нависшими белобрысыми бровями, с нахмуренным лбом, с неприветливым, упорно потупленным и как бы чего-то стыдящимся взглядом. На волосах его вечно оставался один такой вихор, который ни за что не хотел пригладиться и стоял торчком. Лет ему было двадцать семь или двадцать восемь. «Я не удивляюсь более, что жена от него сбежала», — отнеслась Варвара Петровна однажды, пристально к нему приглядевшись. Старался он одеваться чистенько, несмотря на чрезвычайную свою бедность. К Варваре Петровне опять не обратился за помощию, а пробивался чем Бог пошлет; занимался и у купцов. Раз сидел в лавке, потом совсем было уехал на пароходе с товаром, приказчичьим помощником, но заболел пред самою отправкой. Трудно представить себе, какую нищету способен он был переносить, даже и не думая о ней вовсе. Варвара Петровна после его болезни переслала ему секретно и анонимно сто рублей. Он разузнал, однако же, секрет, подумал, деньги принял и пришел к Варваре Петровне поблагодарить. Та с жаром приняла его, но он и тут постыдно обманул ее ожидания: просидел всего пять минут, молча, тупо уставившись в землю и глупо улыбаясь, и вдруг, не дослушав ее и на самом интересном месте разговора, встал, поклонился как-то боком, косолапо, застыдился в прах, кстати уж задел и грохнул об пол ее дорогой наборный рабочий столик, разбил его и вышел, едва живой от позора. Липутин очень укорял его потом за то, что он не отвергнул тогда с презрением эти сто рублей, как от бывшей его деспотки помещицы, и не только принял, а еще благодарить потащился. Жил он уединенно, на краю города, и не любил, если кто-нибудь даже из нас заходил к нему. На вечера к Степану Трофимовичу являлся постоянно и брал у него читать газеты и книги.
Являлся на вечера и еще один молодой человек, некто Виргинский, здешний чиновник, имевший некоторое сходство с Шатовым, хотя, по-видимому, и совершенно противоположный ему во всех отношениях; но это тоже был «семьянин». Жалкий и чрезвычайно тихий молодой человек, впрочем лет уже тридцати, с значительным образованием, но больше самоучка. Он был беден, женат, служил и содержал тетку и сестру своей жены. Супруга его да и все дамы были самых последних убеждений, но всё это выходило у них несколько грубовато, именно — тут была «идея, попавшая на улицу», как выразился когда-то Степан Трофимович по другому поводу. Они всё брали из книжек и, по первому даже слуху из столичных прогрессивных уголков наших, готовы были выбросить за окно всё что угодно, лишь бы только советовали выбрасывать. Madame Виргинская занималась у нас в городе повивальною профессией; в девицах она долго жила в Петербурге. Сам Виргинский был человек редкой чистоты сердца, и редко я встречал более честный душевный огонь. «Я никогда, никогда не отстану от этих светлых надежд», — говаривал он мне с сияющими глазами. О «светлых надеждах» он говорил всегда тихо, с сладостию, полушепотом, как бы секретно. Он был довольно высокого роста, но чрезвычайно тонок и узок в плечах, с необыкновенно жиденькими, рыжеватого оттенка волосиками. Все высокомерные насмешки Степана Трофимовича над некоторыми из его мнений он принимал кротко, возражал же ему иногда очень серьезно и во многом ставил его в тупик. Степан Трофимович обращался с ним ласково, да и вообще ко всем нам относился отечески.
— Все вы из «недосиженных», — шутливо замечал он Виргинскому, — все подобные вам, хотя в вас, Виргинский, я и не замечал той огра-ни-чен-ности, какую встречал в Петербурге chez ces séminaristes,[9] но все-таки вы «недосиженные». Шатову очень хотелось бы высидеться, но и он недосиженный.
— А я? — спрашивал Липутин.
— А вы просто золотая средина, которая везде уживется… по-своему.
Липутин обижался.
Рассказывали про Виргинского, и, к сожалению, весьма достоверно, что супруга его, не пробыв с ним и году в законном браке, вдруг объявила ему, что он отставлен и что она предпочитает Лебядкина. Этот Лебядкин, какой-то заезжий, оказался потом лицом весьма подозрительным и вовсе даже не был отставным штабс-капитаном, как сам титуловал себя. Он только умел крутить усы, пить и болтать самый неловкий вздор, какой только можно вообразить себе. Этот человек пренеделикатно тотчас же к ним переехал, обрадовавшись чужому хлебу, ел и спал у них и стал, наконец, третировать хозяина свысока. Уверяли, что Виргинский, при объявлении ему женой отставки, сказал ей: «Друг мой, до сих пор я только любил тебя, теперь уважаю», но вряд ли в самом деле произнесено было такое древнеримское изречение; напротив, говорят, навзрыд плакал. Однажды, недели две после отставки, все они, всем «семейством», отправились за город, в рощу, кушать чай вместе с знакомыми. Виргинский был как-то лихорадочно-весело настроен и участвовал в танцах; но вдруг и без всякой предварительной ссоры схватил гиганта Лебядкина, канканировавшего соло, обеими руками за волосы, нагнул и начал таскать его с визгами, криками и слезами. Гигант до того струсил, что даже не защищался и всё время, как его таскали, почти не прерывал молчания; но после таски обиделся со всем пылом благородного человека. Виргинский всю ночь на коленях умолял жену о прощении; но прощения не вымолил, потому что все-таки не согласился пойти извиниться пред Лебядкиным; кроме того, был обличен в скудости убеждений и в глупости; последнее потому, что, объясняясь с женщиной, стоял на коленях. Штабс-капитан вскоре скрылся и явился опять в нашем городе только в самое последнее время, с своею сестрой и с новыми целями; но о нем впереди. Не мудрено, что бедный «семьянин» отводил у нас душу и нуждался в нашем обществе. О домашних делах своих он никогда, впрочем, у нас не высказывался. Однажды только, возвращаясь со мною от Степана Трофимовича, заговорил было отдаленно о своем положении, но тут же, схватив меня за руку, пламенно воскликнул:
— Это ничего; это только частный случай; это нисколько, нисколько не помешает «общему делу»!
Являлись к нам в кружок и случайные гости; ходил жидок Лямшин, ходил капитан Картузов. Бывал некоторое время один любознательный старичок, но помер. Привел было Липутин ссыльного ксендза Слоньцевского, и некоторое время его принимали по принципу, но потом и принимать не стали.
IX
Одно время в городе передавали о нас, что кружок наш рассадник вольнодумства, разврата и безбожия; да и всегда крепился этот слух. А между тем у нас была одна самая невинная, милая, вполне русская веселенькая либеральная болтовня. «Высший либерализм» и «высший либерал», то есть либерал без всякой цели, возможны только в одной России. Степану Трофимовичу, как и всякому остроумному человеку, необходим был слушатель, и, кроме того, необходимо было сознание о том, что он исполняет высший долг пропаганды идей. А наконец, надобно же было с кем-нибудь выпить шампанского и обменяться за вином известного сорта веселенькими мыслями о России и «русском духе», о Боге вообще и о «русском Боге» в особенности; повторить в сотый раз всем известные и всеми натверженные русские скандалезные анекдотцы. Не прочь мы были и от городских сплетен, причем доходили иногда до строгих высоконравственных приговоров. Впадали и в общечеловеческое, строго рассуждали о будущей судьбе Европы и человечества; докторально предсказывали, что Франция после цезаризма разом ниспадет на степень второстепенного государства, и совершенно были уверены, что это ужасно скоро и легко может сделаться. Папе давным-давно предсказали мы роль простого митрополита в объединенной Италии и были совершенно убеждены, что весь этот тысячелетний вопрос, в наш век гуманности, промышленности и железных дорог, одно только плевое дело. Но ведь «высший русский либерализм» иначе и не относится к делу. Степан Трофимович говаривал иногда об искусстве, и весьма хорошо, но несколько отвлеченно. Вспоминал иногда о друзьях своей молодости, — всё о лицах, намеченных в истории нашего развития, — вспоминал с умилением и благоговением, но несколько как бы с завистью. Если уж очень становилось скучно, то жидок Лямшин (маленький почтамтский чиновник), мастер на фортепиано, садился играть, а в антрактах представлял свинью, грозу, роды с первым криком ребенка и пр., и пр.; для того только и приглашался. Если уж очень подпивали, — а это случалось, хотя и не часто, — то приходили в восторг, и даже раз хором, под аккомпанемент Лямшина, пропели «Марсельезу», только не знаю, хорошо ли вышло. Великий день девятнадцатого февраля мы встретили восторженно и задолго еще начали осушать в честь его тосты. Это было еще давно-давно, тогда еще не было ни Шатова, ни Виргинского, и Степан Трофимович еще жил в одном доме с Варварой Петровной. За несколько времени до великого дня Степан Трофимович повадился было бормотать про себя известные, хотя несколько неестественные стихи, должно быть сочиненные каким-нибудь прежним либеральным помещиком:
Идут мужики и несут топоры,
Что-то страшное будет.
Кажется, что-то в этом роде, буквально не помню. Варвара Петровна раз подслушала и крикнула ему: «Вздор, вздор!» — и вышла во гневе. Липутин, при этом случившийся, язвительно заметил Степану Трофимовичу:
— А жаль, если господам помещикам бывшие их крепостные и в самом деле нанесут на радостях некоторую неприятность.
И он черкнул указательным пальцем вокруг своей шеи.
— Cher ami,[10] — благодушно заметил ему Степан Трофимович, — поверьте, что это (он повторил жест вокруг шеи) нисколько не принесет пользы ни нашим помещикам, ни всем нам вообще. Мы и без голов ничего не сумеем устроить, несмотря на то что наши головы всего более и мешают нам понимать.
Замечу, что у нас многие полагали, что в день манифеста будет нечто необычайное, в том роде, как предсказывал Липутин, и всё ведь так называемые знатоки народа и государства. Кажется, и Степан Трофимович разделял эти мысли, и до того даже, что почти накануне великого дня стал вдруг проситься у Варвары Петровны за границу; одним словом, стал беспокоиться. Но прошел великий день, прошло и еще некоторое время, и высокомерная улыбка появилась опять на устах Степана Трофимовича. Он высказал пред нами несколько замечательных мыслей о характере русского человека вообще и русского мужичка в особенности.
— Мы, как торопливые люди, слишком поспешили с нашими мужичками, — заключил он свой ряд замечательных мыслей, — мы их ввели в моду, и целый отдел литературы, несколько лет сряду, носился с ними как с новооткрытою драгоценностью. Мы надевали лавровые венки на вшивые головы. Русская деревня, за всю тысячу лет, дала нам лишь одного комаринского. Замечательный русский поэт, не лишенный притом остроумия, увидев в первый раз на сцене великую Рашель, воскликнул в восторге: «Не променяю Рашель на мужика!» Я готов пойти дальше: я и всех русских мужичков отдам в обмен за одну Рашель. Пора взглянуть трезвее и не смешивать нашего родного сиволапого дегтя с bouquet de l’impératrice.[11]
Липутин тотчас же согласился, но заметил, что покривить душой и похвалить мужичков все-таки было тогда необходимо для направления; что даже дамы высшего общества заливались слезами, читая «Антона Горемыку», а некоторые из них так даже из Парижа написали в Россию своим управляющим, чтоб от сей поры обращаться с крестьянами как можно гуманнее.
Случилось, и как нарочно сейчас после слухов об Антоне Петрове, что и в нашей губернии, и всего-то в пятнадцати верстах от Скворешников, произошло некоторое недоразумение, так что сгоряча послали команду. В этот раз Степан Трофимович до того взволновался, что даже и нас напугал. Он кричал в клубе, что войска надо больше, чтобы призвали из другого уезда по телеграфу; бегал к губернатору и уверял его, что он тут ни при чем; просил, чтобы не замешали его как-нибудь, по старой памяти, в дело, и предлагал немедленно написать о его заявлении в Петербург, кому следует. Хорошо, что всё это скоро прошло и разрешилось ничем; но только я подивился тогда на Степана Трофимовича.
Года через три, как известно, заговорили о национальности и зародилось «общественное мнение». Степан Трофимович очень смеялся.
— Друзья мои, — учил он нас, — наша национальность, если и в самом деле «зародилась», как они там теперь уверяют в газетах, — то сидит еще в школе, в немецкой какой-нибудь петершуле, за немецкою книжкой и твердит свой вечный немецкий урок, а немец-учитель ставит ее на колени, когда понадобится. За учителя-немца хвалю; но вероятнее всего, что ничего не случилось и ничего такого не зародилось, а идет всё как прежде шло, то есть под покровительством божиим. По-моему, и довольно бы для России, pour notre sainte Russie.[12] Притом же все эти всеславянства и национальности — всё это слишком старо, чтобы быть новым. Национальность, если хотите, никогда и не являлась у нас иначе как в виде клубной барской затеи, и вдобавок еще московской. Я, разумеется, не про Игорево время говорю. И, наконец, всё от праздности. У нас всё от праздности, и доброе и хорошее. Всё от нашей барской, милой, образованной, прихотливой праздности! Я тридцать тысяч лет про это твержу. Мы своим трудом жить не умеем. И что они там развозились теперь с каким-то «зародившимся» у нас общественным мнением, — так вдруг, ни с того ни с сего, с неба соскочило? Неужто не понимают, что для приобретения мнения первее всего надобен труд, собственный труд, собственный почин в деле, собственная практика! Даром никогда ничего не достанется. Будем трудиться, будем и свое мнение иметь. А так как мы никогда не будем трудиться, то и мнение иметь за нас будут те, кто вместо нас до сих пор работал, то есть всё та же Европа, все те же немцы — двухсотлетние учителя наши. К тому же Россия есть слишком великое недоразумение, чтобы нам одним его разрешить, без немцев и без труда. Вот уже двадцать лет, как я бью в набат и зову к труду! Я отдал жизнь на этот призыв и, безумец, веровал! Теперь уже не верую, но звоню и буду звонить до конца, до могилы; буду дергать веревку, пока не зазвонят к моей панихиде!
Увы! мы только поддакивали. Мы аплодировали учителю нашему, да с каким еще жаром! А что, господа, не раздается ли и теперь, подчас сплошь да рядом, такого же «милого», «умного», «либерального» старого русского вздора?
В Бога учитель наш веровал. «Не понимаю, почему меня все здесь выставляют безбожником? — говаривал он иногда, — я в Бога верую, mais distinguons,[13] я верую, как в существо, себя лишь во мне сознающее. Не могу же я веровать, как моя Настасья (служанка) или как какой-нибудь барин, верующий „на “всякий случай”, – или как наш милый Шатов, — впрочем, нет, Шатов не в счет, Шатов верует насильно, как московский славянофил. Что же касается до христианства, то, при всем моем искреннем к нему уважении, я — не христианин. Я скорее древний язычник, как великий Гете или как древний грек. И одно уже то, что христианство не поняло женщину, — что так великолепно развила Жорж Занд в одном из своих гениальных романов. Насчет же поклонений, постов и всего прочего, то не понимаю, кому какое до меня дело? Как бы ни хлопотали здесь наши доносчики, а иезуитом я быть не желаю. В сорок седьмом году Белинский, будучи за границей, послал к Гоголю известное свое письмо и в нем горячо укорял того, что тот верует “„в какого-то Бога”. Entre nous soit dit,[14] ничего не могу вообразить себе комичнее того мгновения, когда Гоголь (тогдашний Гоголь!) прочел это выражение и… всё письмо! Но, откинув смешное, и так как я все-таки с сущностию дела согласен, то скажу и укажу: вот были люди! Сумели же они любить свой народ, сумели же пострадать за него, сумели же пожертвовать для него всем и сумели же в то же время не сходиться с ним, когда надо, не потворствовать ему в известных понятиях. Не мог же в самом деле Белинский искать спасения в постном масле или в редьке с горохом!..»
Но тут вступался Шатов.
— Никогда эти ваши люди не любили народа, не страдали за него и ничем для него не пожертвовали, как бы ни воображали это сами, себе в утеху! — угрюмо проворчал он, потупившись и нетерпеливо повернувшись на стуле.
— Это они-то не любили народа! — завопил Степан Трофимович. — О, как они любили Россию!
— Ни России, ни народа! — завопил и Шатов, сверкая глазами. — Нельзя любить то, чего не знаешь, а они ничего в русском народе не смыслили! Все они, и вы вместе с ними, просмотрели русский народ сквозь пальцы, а Белинский особенно; уж из того самого письма его к Гоголю это видно. Белинский, точь-в-точь как Крылова Любопытный, не приметил слона в кунсткамере, а всё внимание свое устремил на французских социальных букашек; так и покончил на них. А ведь он еще, пожалуй, всех вас умнее был! Вы мало того что просмотрели народ, — вы с омерзительным презрением к нему относились, уж по тому одному, что под народом вы воображали себе один только французский народ, да и то одних парижан, и стыдились, что русский народ не таков. И это голая правда! А у кого нет народа, у того нет и Бога! Знайте наверно, что все те, которые перестают понимать свой народ и теряют с ним свои связи, тотчас же, по мере того, теряют и веру отеческую, становятся или атеистами, или равнодушными. Верно говорю! Это факт, который оправдается. Вот почему и вы все и мы все теперь — или гнусные атеисты, или равнодушная, развратная дрянь, и ничего больше! И вы тоже, Степан Трофимович, я вас нисколько не исключаю, даже на ваш счет и говорил, знайте это!
Обыкновенно, проговорив подобный монолог (а с ним это часто случалось), Шатов схватывал свой картуз и бросался к дверям, в полной уверенности, что уж теперь всё кончено и что он совершенно и навеки порвал свои дружеские отношения к Степану Трофимовичу. Но тот всегда успевал остановить его вовремя.
— А не помириться ль нам, Шатов, после всех этих милых словечек? — говаривал он, благодушно протягивая ему с кресел руку.
Неуклюжий, но стыдливый Шатов нежностей не любил. Снаружи человек был грубый, но про себя, кажется, деликатнейший. Хоть и терял часто меру, но первый страдал от того сам. Проворчав что-нибудь под нос на призывные слова Степана Трофимовича и потоптавшись, как медведь, на месте, он вдруг неожиданно ухмылялся, откладывал свой картуз и садился на прежний стул, упорно смотря в землю. Разумеется, приносилось вино, и Степан Трофимович провозглашал какой-нибудь подходящий тост, например хоть в память которого-нибудь из прошедших деятелей.
[1] поражение (ит.).
[2] Со мной обошлись как со старым ночным колпаком! (фр.)
[3] «Век» – петербургский еженедельный журнал.
[4] Камбек, Лев Логинович – журналист, редактор-издатель еженедельника «Петербургский вестник» (1861–1862), неустанный обличитель мелких нелепостей общественной жизни.
[5] может разбить мою жизнь (фр.).
[6] в любой стране (фр.).
[7] в стране Макара и его телят (фр.).
[8] я всего лишь простой приживальщик, и ничего больше! Да, н‑н-ничего больше! (фр.)
[9] у этих семинаристов (фр.).
[10] Дорогой друг (фр.).
[11] «букетом императрицы» (фр.).
[12] для нашей святой Руси (фр.).
[13] но надо различать (фр.).
[14] Между нами говоря (фр.).