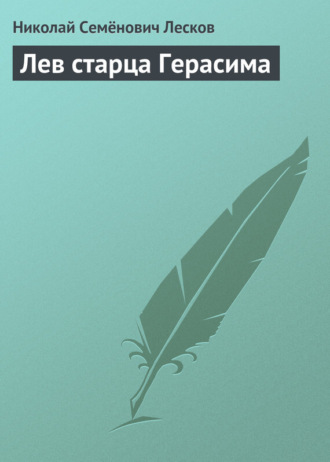Восточная легенда
Триста лет после Иисуса Христа жил на Востоке богатый человек, по имени Герасим. У него были свои дома, сады, более тысячи рабов и рабынь и очень много всяких драгоценностей. Герасим думал: «Мне ничто не страшно», — но когда он один раз сильно заболел и едва не умер, тогда он начал размышлять иначе, потому что увидал, как жизнь человеческая коротка и что болезни нападают отовсюду, а от смерти не спасет никакое богатство, а потому не умнее ли будет заранее так распорядиться богатством, чтобы оно на старости лет не путало, а потом бы из-за него никто не ссорился.
Стал Герасим с разными людьми советоваться, как ему лучше сделать. Одни говорили одно, а другие другое, но все это было Герасиму не по мыслям.
Тогда один христианин сказал ему:
— Ты хорошо сделаешь, если поступишь со своим богатством, как советует Иисус Христос: ты отпусти своих рабов на волю, а имущество раздай тем, кто страдает от бедности. Когда ты сделаешь так, ты будешь спокоен.
Герасим послушался — он сделался христианином и роздал все свое богатство бедным, но вскоре увидел, что, кроме тех, которых он наделил, осталось еще много неимущих, которым он уже ничего не мог дать, и эти стали его укорять, что он не умел разделить свое богатство так, чтобы на всех достало.
Герасим огорчился: ему было прискорбно, что одни его бранят, а другие над ним смеются, что он прежде жил достаточно, а теперь, все раздавши, и сам бедствует, и всех наследников обидел, а всех нищих все-таки не поправил.
Стало от этого Герасиму очень смутительно, и чтобы не терпеть досаждений от наследников, Герасим поднялся и ушел из людного места в пустыню. А пустыня была дикая, где не жил ни один человек, а только рыскали звери да ползали змеи.
Походил Герасим по жаркой пустыне и почувствовал, что здесь ему лучше. Тут хоть глухо и страшно, но зато наследники его не бранят и не проклинают и никто над ним не смеется и не осуждает его, что он так, а не этак сделал. А он сам спокоен, потому что поступил по слову Христову: «Отдай все и иди за Мною» [Ев. от Матфея 19:21], — и больше не о чем беспокоиться.
Нашел Герасим норку под меловым камнем, натаскал туда тростника и стал жить здесь.
Жить Герасиму было тихо, а есть и пить нечего. Он с трудом находил кое-какие съедобные коренья, а за водою ходил на ручей. Ключ воды был далеко от пещерки, и пока Герасим напьется да подойдет назад к своей норке, его опять всего опалит; и зверей ему страшно, и силы слабеют, и снова пить хочется. А ближе, возле воды, нет такого места, где бы можно спрятаться.
«Ну, — думает раз в большой жар Герасим, — мне этой муки не снесть: вылезешь из моей меловой норки, надо сгореть под солнцем; а здесь без воды я должен умереть от жажды, а ни кувшина, ни тыквы, никакой другой посуды, чтобы носить воду, у меня нет. Что мне делать? Пойду, — думает Герасим, — в последний раз к ключу, напьюсь и умру там».
Пошел Герасим с таким решением к воде и видит на песке следы — как будто бы здесь прошел караван на ослах и верблюдах… Смотрит он дальше и видит, что лежит тут один растерзанный зверем верблюд, а невдалеке от него валяется еще живой, но только сильно ослабевший, ослик и тяжко вздыхает, и ножонками дрыгает, и губами смокчет.
Герасим оставил безжизненного верблюда валяться, а об ослике подумал: «Этот еще жить может. Он только от жажды затомился, потому что караванщики не знали, где найти воду. Прежде чем мне самому помереть, попробую облегчить страдание этого бедного животного».
Герасим приподнял ослика на ноги, подцепил его под брюхо своим поясом и стал волочь его, и доволок до ключа свежей воды. Тут он обтер ослу мокрой ладонью запекшуюся морду и стал его из рук попаивать, чтобы он сразу не опился.
Ослик ожил и поднялся на ножки.
Герасиму жаль стало его тут бросить, и он повел его К себе, и думал: «Помучусь я еще с ним — окажу ему пользу».
Пошли они вместе назад, а тем временем огромный верблюд уже совсем почти был съеден; и в одной стороне валялся большой лохмот его кожи. Герасим пошел взять эту кожу, чтобы таскать в ней воду, но увидел, что за верблюдом лежит большой желтый лев с гривою — от сытости валяется и хвостом по земле хлопает.
Герасим подумал: «Ну, должно быть, мой конец: наверно, этот лев сейчас вскочит и растерзает и меня, и осленка». А лев их не тронул, и Герасим благополучно унес с собой лохмот верблюжьей кожи, чтобы сделать из нее мешок, в который можно наливать воду.
Набрал тоже Герасим по пути острых сучьев и сделал из них ослику загородочку, у самой своей норки. «Тут ему будет ночью свежо и спокойно», — думал старец, да и не угадал.
Как только на дворе стемнело, вдруг что-то будто с неба упало над пещеркой, и раздался страшный рев и ослиный крик.
Герасим выглянул и видит, что давешний страшный лев потряс первую сытость и пришел съесть его осла, но это ему не удалось: прыгнув с разбега, лев не заметил ограды и воткнул себе в пах острый сук и взревел от невыносимой боли.
Герасим выскочил и начал вынимать из раны зверя острые спицы.
Лев от боли весь трясся и страшно ревел и норовил хватить Герасима за руку, но Герасим его не пугался и все колючки повынул, а потом взял верблюжью кожу, взвалил ее на ослика и погнал к роднику за свежей водою. Там у родника он связал кожу мешком, набрал ее полну воды и пошел опять к своей норе.
Лев во все это время не тронулся с места, потому что раны его страшно болели.
Герасим стал омывать раны льва, а сам подносил к его разинутой пасти воду в пригоршне, и лев лакал ее воспаленным языком с ладони, а Герасиму было не страшно, так что он сам над собой удивлялся.
Повторилось то же на другой день и на третий, стало льву легче, а на четвертый день как пошел Герасим с ослом к роднику, смотрит — приподнялся и лев и тоже вслед за ними поплелся.
Герасим положил льву руку на голову, и так и пошли рядом трое: старик, лев и осленок.
У ключа старец свободной рукою омыл раны льва на вольной воде, и лев совсем освежел, а когда Герасим пошел назад, и лев опять пошел за ним.
Стал старик жить со своими зверями.
У старца выросли тыквы, он начал их сушить и делать из них кувшины, а потом стал относить эти кувшины к источнику, чтобы они годились тем, у кого не во что захватить с собою воды. Так жил Герасим и сам питался, и другим людям по силе своей был полезен. И лев тоже нашел себе службу: когда Герасим в самый зной отдыхал, лев стерег его осла. Жили они так изрядное время, и некому было на них удивляться, но раз увидали эту компанию проходившие караваном путники и рассказали про них в жилых местах по дорогам, и сейчас из разных мест стали приходить любопытные люди: всем хотелось смотреть, как живет бедный старик и с ним ослик и лев, который их не терзает. Все этому стали удивляться и спрашивали у Герасима:
— Открой нам, пожалуйста, какою ты силою это делаешь? Верно, ты не простой человек, а необыкновенный, что при тебе происходит Исаево чудо: лев лежит рядом с осликом [Кн. пр. Исайи 11:6].
А Герасим отвечал:
— Нет, я самый обыкновенный человек, и даже, признаюсь вам, что я еще очень глуп: я вот с зверями живу, а с людьми совсем жить не умел — все они на меня обиделись, и я ушел из города в пустыню.
— Чем же ты обидел?
— Хотел разделить между всеми свое богатство, чтобы все были счастливы, а наместо того они все перессорились.
— Зачем же ты их умнее не поровнял?
— Да вот то-то оно и есть, что ровнять-то трудно тех, кои сами не ровняются; я сделал ошибку, когда забрал себе много сначала. Не надо бы мне забирать себе ничего против других лишнего — вот и спокойно было бы.
Люди закивали головами.
— Эге! — сказали, — да это старик-то дурасливый, а между тем все-таки же удивительно, что у него лев осленка караулит и не съест их обоих. Давайте поживем мы с ним несколько дней и посмотрим, как это у них выходит.
Остались с ними три человека.
Герасим их не прогонял, только сказал:
— Вместе жить надо не так, чтобы троим на одного смотреть, а надо всем работать, а то придет несогласие, и я вас тогда забоюсь и уйду.
Три согласились, но на другой же день при них случилась беда: когда они спали, заснул тоже и лев и не слыхал, как проходившие караваном разбойники накинули на ослика петлю и увели его с собою.
Утром люди проснулись и видят: лев спит, а ослика и следа нет. Три и говорят старцу Герасиму:
— Вот ты и в самом деле дождался того, что тебе давно следовало: зверь всегда зверем будет, вставай скорей — твой лев съел наконец твоего осла и, верно, зарыл где-нибудь в песок его кости.
Вылез Герасим из своей меловой норы и видит, что дело похоже на то, как ему трое сказывают. Огорчился старик, но не стал спорить, а взвалил на себя верблюжий мех и пошел за водою.
Идет, тяжко переступает, а смотрит — за ним вдалеке его лев плетется; хвост опустил до земли и головою понурился.
«Может быть, он и меня хочет съесть? — подумал старик. — Но не все ли равно мне, как умереть? Поступлю лучше по Божью завету и не стану рабствовать страху».
И пришел он и опустился к ключу и набрал воды, а когда восклонился — видит, лев стоит на том самом месте, где всегда становился осел, пока старец укреплял ему на спину мех с водою.
Герасим положил льву на спину мех с водою и сам на него сел и сказал:
— Неси, виноватый.
Лев и понес воду и старца, а три пришельца как увидели, что Герасим едет на льве, еще пуще дивились. Один тут остался, а двое из них сейчас же побежали в жилое место и возвратились со многими людьми. Всем захотелось видеть, как свирепый лев таскает на себе мех с водою и дряхлого старца.
Пришли многие и стали говорить Герасиму:
— Признайся нам: ты или волшебник, или в тебе есть особливая сила, какой нет в других людях?
— Нет, — отвечал Герасим, — я совсем обыкновенный человек, и сила во мне такая же, как у вас у всех. Если вы захотите, вы все можете это сделать.
— А как же этого можно достигнуть?
— Поступайте со всеми добром да ласкою.
— Как же с лютым быть ласково? Он погубит.
— Эко горе какое, а вы об этом не думайте и за себя не бойтесь.
— Как же можно за себя не бояться?
— А вот так же, как вы сидите теперь со мной и моего льва не боитеся.
— Это потому нам здесь смело, что ты сам с нами.
— Пустяки — что я от льва за защита?
Ты от зверя средство знаешь и за нас заступишься.
А Герасим опять отвечал:
— Пустяки вы себе выдумали, что я будто на льва средство знаю. Бог Свою благость дал мне, чтобы в себе страх победить, — я зверя обласкал, а теперь он мне зла и не делает. Спите, не бойтесь.
Все полегли спать вокруг меловой норки Герасима, и лев лег тут же, а когда утром встали, то увидели, что льва нет на его месте!.. Или его кто отпугнул, или убил и зарыл труп его ночью.
Все очень смутились, а старец Герасим сказал:
— Ничего, он верно за делом пошел и вернется.
Разговаривают они так и видят, что в пустыне вдруг закурилась столбом пыль и в этой пронизанной солнцем пыли веются странные чудища с горбами, с крыльями: одно поднимается вверх, а другое вниз падает, и все это мечется, и все это стучит и гремит, и несется прямо к Герасиму, и враз все упало и повалилося, как кольцом, вокруг всех стоявших; а позади старый лев хвостом по земле бьет.
Когда осмотрелись, то увидали, что это вереница огромных верблюдов, которые все друг за друга привязаны, а впереди всех их — навьюченный Герасимов ослик.
— Что это такое сделалось и каким случаем?
А было это вот каким случаем: шел через пустыню купеческий караван; на него напали разбойники, которые ранее угнали к себе Герасимова ослика. Разбойники всех купцов перебили, а верблюдов с товарами взяли и поехали делиться. Ослика же они привязали к самому заднему верблюду. Лев почуял по ветру, где идет ослик, и бросился догонять разбойников. Он настиг их, схватил за веревку, которою верблюды были связаны, и пошел скакать» а верблюды со страха перед ним прыгают и ослика подкидывают Так лев и пригнал весь караван к старцу, а разбойники все седел свалились, потому что перепуганные верблюды очень сильно прыгали и невозможно было на них удержаться. Сам же лев обливался кровью, потому что в плече у него стремила стрела.
Все люди всплеснули руками и закричали:
— Ах, старец Герасим! Твой лев имеет удивительный разум!
— Мой лев имеет плохой разум, — отвечал, улыбаясь, старец, — он мне привел то, что мне вовсе не нужно! На этих верблюдах товары великой цены. Это огонь! Прошу вас, пусть кто-нибудь сядет на моего осла и отведет этих испуганных верблюдов на большой путь. Там, я уверен, теперь сидят их огорченные хозяева. Отдайте им все их богатство и моего осла на придачу, а я поведу к воде моего льва и там постараюсь вынуть стрелу из его раны.
И половина людей пошли отводить верблюдов, а другие остались с Герасимом и его львом и видели, как Герасим долго вытягивал и вынул из плеча зверя зазубренное острие.
Когда же возвратились отводившие караван, то с ними пришел еще один человек средних лет, в пышном наряде и со многим оружием, и, завидя Герасима, издали бросился ему в ноги.
— Знаешь ли, кто я? — сказал он.
— Знаю, — отвечал Герасим, — ты несчастный бедняк.
— Я страшный разбойник Амру!
— Ты мне не страшен.
— Меня трепещут в городах и в пустыне — я перебил много людей, я отнял много богатств, и вдруг твой удивительный лев сразу умчал весь наш караван.
— Он зверь, и потому отнимает.
— Да, но ты нам все возвратил и прислал еще нам своего осла на придачу… Возьми от меня по крайней мере хоть один шатер и раскинь его, где хочешь, ближе к воде, для твоего покоя.
— Не надо, — отвечал старец.
— Отчего же? Для чего же ты так горд?
— Я не горд, но шатер слишком хорош и может возбуждать зависть, а я не сумею его разделить со всеми без обиды, и увижу опять неровность, и стану бояться. Тогда лев мой уйдет от меня, а ко мне придет другой жадный зверь и опять приведет с собой беспокойство, и зависть, и дележ, и упреки. Нет, не хочу я твоих прохладных шатров, я хочу жить без страха.
- Полный текст
- Пустоплясы
- Дурачок
- Под Рождество обидели
- Скоморох Памфалон
- Глава первая
- Глава вторая
- Глава третья
- Глава четвертая
- Глава пятая
- Глава шестая
- Глава седьмая
- Глава восьмая
- Глава девятая
- Глава десятая
- Глава одиннадцатая
- Глава двенадцатая
- Глава тринадцатая
- Глава четырнадцатая
- Глава пятнадцатая
- Глава шестнадцатая
- Глава семнадцатая
- Глава восемнадцатая
- Глава девятнадцатая
- Глава двадцатая
- Глава двадцать первая
- Глава двадцать вторая
- Глава двадцать третья
- Глава двадцать четвертая
- Глава двадцать пятая
- Глава двадцать шестая
- Глава двадцать седьмая
- Глава двадцать восьмая
- Глава двадцать девятая
- Лев старца Герасима
- Христос в гостях у мужика
- Чертогон
- Глава первая
- Глава вторая
- Глава третья
- Глава четвертая
- Глава пятая
- Прекрасная Аза
- Аскалонский злодей
- Глава первая
- Глава вторая
- Глава третья
- Глава четвертая
- Глава пятая
- Глава шестая
- Глава седьмая
- Глава восьмая
- Глава девятая
- Глава десятая
- Глава одиннадцатая
- Глава двенадцатая
- Глава тринадцатая
- Глава четырнадцатая
- Глава пятнадцатая
- Глава шестнадцатая
- Глава семнадцатая
- Глава восемнадцатая
- Глава девятнадцатая
- Глава двадцатая
- Глава двадцать первая
- Глава двадцать вторая
- Легенды о совестном Даниле
- Примечания
Пустоплясы
Святочный рассказ
На одном дорожном ночлеге по старому тракту сбилось так много людей, что все места в просторной избе были заняты. Случились тут люди и конные, и пешие, и швецы, и жнецы, и удалые разносчики, и чернорабочие, которые ходили дорогу чистить. На дворе было студено, и все, с надворья входя, лезли погреться у припечка, а потом раскладывались, где кто место застал, и начали разговаривать. Сначала поболтали про такие дела, как неурожай да подати, а потом дошли и до «судьбы божества». Стали говорить – отчего это Бог Иосифу за семь лет открыл, что в Египте «неурожай сойдет»; а вот теперь так не делает: теперь живут люди и беды над собою не ожидают, а она тут и вот она! И начали говорить об этом всякий по-своему, но только один кто-то с печки откликнулся и сразу всех занял; он так сказал:
– А вы думаете, что если бы нам было явлено, когда беда придет, так разве бы мы отвели беду?
– А разумеется.
– Ну, напрасно! Мало что ли у всех в виду самого ясного, чего отвести надо, а однако не отводим.
– А что, например?
– Да вот, например, чего еще ясней того, что бедных и несчастных людей есть великое множество, и что пока их так много, до тех пор никому спокойно жить нельзя; а ведь вот про это никто и не думает.
– Вот то-то и есть! А если б предвещение об этом было – небось бы поправились.
А тот с печи отвечает:
– Ничего б не поправились: не в предвещении дело, а в хорошем разуме. А разума-то и не слушают; ну а как предвещения придут, так они не обрадуют.
Его и стали просить рассказать про какой-нибудь такой пример предвещения; и он начал сразу сказывать.
– Я ведь уже старик, мне седьмой десяток идет. Первый большой голод я помню за шесть лет перед тем, как наши на венгра шли, и вышла тогда у нас в селе удивительность.
Тут его перебили излишним вопросом: откуда он?
Рассказчик быстро, но нехотя оторвал:
– Из села Пустоплясова. Знаешь что ль?
– И не слышали.
– Ну, так услышишь, чту у нас в Пустоплясах случилось-то; смотри, чтобы и у вас в своем селе чего-нибудь на такой манер не состроилось. А теперь помолчите, пока я докончу вам: моя сказка не длинная.
Стало в том у нас удивительно, что вокруг нас у всех хлеба совсем не родило, а у нас поле как-то так островком вышло задачное, – урожай Бог дал средственный. Люди плачут, а мы Бога благодарим: слава тебе, Господи! А что нам от соседей теснота придет, о том понимать не хочем. А соседи нам все завидуют; так и говорят про нас: «Божьи любимчики: мы у Господа в наказании, а вы в милости». «И каким-де вы святителям молились и которым чудотворцам обещались?» А наши уж и чванятся, что в самом деле они в любови у Господа: убираем, жнем, копны домой возим и снопы на овины сажаем да на токах молотим… Такая трескотня идет, что люба-два! И сейчас после этого сряду пошло баловство: накололи убоины, свезли попам новины, наварили бражки, а потом мужики норовят винца попить, а бабы с утра затевают: «аль натърушков натърить! аль лепешечек спечь!» И едим да пьем во вред себе больше, чем надобно. По другим деревням вокруг мякиною и жмыхом давятся, а мы в утеху себе говорим: ведь мы не причинны в том, что у других голодно. Мы ведь им вреда на полях не делали и даже вместе с ними по весне на полях молитвовали, а вот нашу молитву Господь услыхал и нам урожай сослал, а им не пожаловал. Все в его воле: Господь праведен; а мы своих соседов не покидаем и перед ними не горжаемся: мы им помогаем кусочками. А соседи-то к нам и взаправду повадились кажиден да и бесперечь, и все идут да идут и что дальше, то больше, и стали они нам очень надокучисты. Так пришло, что не токмо не кажись на улице, а и в избе-то стало посидеть нельзя, потому что слышно, как все тянут голодные свою скорбинку: «б‑о-ж-ь‑и л‑ю-б-и-м-ч-и-к‑и! сотворите святую милостыньку Христа ради!» Ну, раз дашь, и два дашь, а потом уж дальше постучишь в окно да скажешь: «Бог подаст, милые! Не прогневайся!» Что же делать-то! Хорошо, что мы «божьи любимчики», а им хоть и пять ковриг изрежь, их все равно не накормишь всех! А когда отошлешь его от окошка, – другая беда: самому стыдно делается себе хлеб резать… То есть ясно, как не надо яснее, Господь тебе в сердце кладет, что надо не отсылать, а надо иначе сделать, а пока чего должно не сделаешь – нельзя и надеяться жить во спокойствии.
И надо бы, кажется, это понять, а вот однако не поняли; тогда и провозвестник пришел, – его прогнали.
Тут по избе шепотком пронеслось:
– Слушайте, братцы, слушайте!
Запечный гость продолжал:
– Так доняли нас голодные соседи, что нам совсем стало жить нельзя, а как помочь беде – не ведаем. А у нас лесник был Федос Иванов, большой грамотник, и умел хорошо все дела разбирать. Он и стал говорить:
– А ведь это нехорошо, братцы, что мы живем как бесчувственные! Что ни суди, а живем мы все при жестокости: бедственным людям норовим корочку бросить, – нечто это добродетель есть? – а сами для себя все ведь с затеями: то лепешечек нам, то натирушков. Ах, не так-то совсем бы надо по-божьи жить! Ах, по-божьи-то надо бы нам жить теперь в строгости, чтобы себе как можно меньше известь, а больше дать бедственным. Тогда, может быть, легкость бы в душе осветилася, а то прямо сказать – продыханья нет! В безрассудке-то омрачение, а чуть станешь думать и в свет себя приводить – такое предстанет терзательство, что не знаешь, где легче мучиться, и готов молить: убей меня, Господи, от разу!
Федос, говорю, начитавшись был и брал ото всего к размышлению человечнему, как, то есть, что человеку показано… в обчестве… То есть, как вот один перст болит – и все тело неспокойно. Но не нравилось это Федосово слово игрунам и забавникам во всем Пустоплясове; он, бывало, говорит:
– Вы, почкенные старички, и вы, молодой народ, на мои слова не сердитеся: мои слова – это не сам я выдумал, а от другого взял; сами думайте: эти люди, которые хотят веселиться, когда за порогом другие люди бедствуют, они напрасно так думают, будто помехи не делают, – они сеют зависть и тем суть Богу противники. Теперь, братцы, надо со страдающими пострадать, а не праздновать – не вино пить да лепешкой закусывать.
Старики за это на Федоса кривилися, а молодые ему стрекотали в ответ:
– Чего ты тут, дядя Федос, очень развякался! Что ты поп, что ли, какой непостриженный! Нам и поп таких речей не уставливал. Если нам Бог милость сослал, что нам есть что есть, то отчего нам и не радоваться? Пьем-едим тоже ведь все в славу божию: съедим и запьем и отойдем – перекрестимся: слава-те, Господи! А тебе-то что надобно?
Федос не сердился, а только знал, чту ответить.
– Несмысленные! Что тут за слава? Никакой славы нет, что вы будете лепешки жевать до отвалу, когда люди кожурой давятся! А вы вот такую славу вознесите Христу, чтобы видели все, что вы у него в послушании… Ведь его же есть слово к нам: «Пусть знают все, что вы мои ученики, если имеете любовь между собою!»
Но только ничего Федос не успевал, и все ему наотрез грубили, и особенно ему перечила своя его собственная внучка Маврутка, – одна только она у него и осталась от всего поколения, и он с нею с одною и жил в избе, а была она с ним несогласная: такая-то была вертеница и Федоса не слушалась, и даже озорничала с ним.
– Ты, – бывало, скажет, – очень уж стар стал, так вот и пужаешь всех и нет совсем при тебе никакой веселости. Чего ты пристаешь ко всем: «Бог» да «Бог»! Это мы и в церкви слышали, и крестились, и кланялись, а теперь надо веселого!
Он ей, бывало, скажет:
– Эй, нехорошо, Мавра! Бога надо постоянно видеть перед собою, на всех местах ходящего и к тебе понятно глаголющего, что тебе хорошо, а чего ненадобе. – А девка на эти слова от себя зачастит, зачастит и всякий раз кончит тем, что:
– Ты простой мужик, а не поп, и я не хочу тебя слушаться!
А он ей:
– Я простой мужик – я в попы и не суюся, а ты не суди, кто я такой, а суди только мое слово: оно ведь идет на добро и от жалости.
А внучка отвечает:
– Ну, ладно: в молодом-то веку не до жалости; в молодом веку надо счастье попробовать.
А Федос ей и сказал:
– Ну, что делать – испробуешь, только ведь не насытишься.
И так, где, бывало, с дедом Федосом люди ни сойдутся – сейчас все против него; а он все толкует, что надо жить в тихости, без шума и грохота, да только никак с людьми не столкуется и с Мавруткою к празднику нелады у него по домашеству; пристает она:
– Дай, дедко, мучицы просеять, спечь лепешечек!
А он этого не хочет, говорит:
– Ешь решотный хлеб, от других не отличай себя.
Мавра и злится:
– Нас, – говорит, – Бог отличил, а ты морить хочешь!
Федос отвечает:
– Эх, глупая! Еще неведомо, для чего вы отличены; может быть, и не для радости, а в поучение.
И когда раз один Маврутка так на Федоса рассердилась, так взяла да и сказала ему:
– Не дай Бог с тобой долго жить, хоть бы помер ты.
Но Федос и тут не рассердился.
– Что же такое!.. Ничего!! погоди, вот скоро похороните; может быть, потом поминать станете.
А молодые-то – и расхохоталися:
– Еще, мол, чего! Тебя, старого ворчуна, вспоминать будем!
Да и старички-то, которых звал он «почкенные», не на его стороне становилися, а тоже, бывало, говорят:
– Чтт он презвышается – лучше всех хочет быть во всем в Пустоплясове! Довольно знаем мы все его: вместе и водку с ним пили, и с бабами песни играли – чего великатится!
Молодые это слышать и рады, и иной озорной подойдет к нему и говорит:
– Дед Федос!
– А что тако?
– А вон что про тебя старики-то сказывают!
– Да! Ну-ка, давай, послухаем.
– Говорят… будто ты… Стыдно сказывать!
– Ну что?.. ну что? Не тебе это стыдно-то!
– Когда молодой-то был…
– У, был пакостник!.. Школы нам, братцы, не было! Бойло было, а школы не было.
– Говорят, ты солдатке в половень гостинцы носил!
– Да и хуже того, братцы мои, делывал. Слава Богу, многое уже позабылося… Видно, Бог простил, а вот… людям-то все еще помнится. Не живите, братцы, как я прожил, живите по-лучшему: чтоб худого про вас людям вспоминать было нечего.
А мы, раз от раза больше все ошибаючись, попали, братцы, перед святками в такое бесстыжество, что мало нам стало натирухов да лепешек, а захотели мы завести забавы и игрища. Сговорилися мы, потаймя от своих стариков, нарядиться как можно чуднее, медведями да чертями, а девки – цыганками, и махнуть за реку на постоялый двор шутки шутить. А Федос как-то узнал про это и пошел ворчать:
– Ах вы, – говорит, – бесстыжие! Это вы мимо голодных-то, дразнить их пойдете, что ли, с песнями? Слушай, Мавра! Нет тебе моего позволения!
Мы все ее у Федоса отпрашиваем:
– Пусти, мол, ее, Федос Иванович, что тебе ее век томить!
А он отвечает:
– Пошли вы, пустошни! Какое в этом утомление, чтобы не пустить человека из себя дурака строить!
– Ну, да ты, мол, уж всегда такой: ото всех все премудрости требуешь!
– Не премудрости, – говорит, – а требую, что Господь велит, – на ближние разумения: ближний в скорбях, а ты не попрыгивай.
– Да разве ближнему-то хуже от этого?
– А разумеется, – не вводи его в искушение, а в себе не погубляй доброту ума.
– Ну, вот, мол, ты опять все про вумственность! Это надокучило! Небось, когда молод был сам, так не рассуживал, а играл, как и прочие.
– Ну, и что же такое, – отвечает дед Федос. – Я ведь уже не раз сознавался вам, что в молодых годах я много худого делал, так неужели же и вам теперь должен тоже советовать делать худое, а не доброе! Эх, неразумные! С пьяным-то, чай, ведь надо говорить не тогда, когда он пьян, а когда выспится. Молодой я пьян был всякой хмелиною, а теперь, слава Богу, повыспался. А если бы я был человек не грешный, а праведный, так я бы и говорил-то с вами совсем на другой манер: я бы вам, может, прямо сказал: Бог это вам запрещает, и может за это придти на вас наказание!
Тут за это слово все на Федоса поднялись.
– Нет, нет! – закричали: – что ты, как ворон, все каркаешь! Это все ты сам повыдумывал! Веселье и в церквах поминается. Давыд-царь и играл, и плясал, и на свадьбе-то мало ли вина было попито. Ты своего не уставляй, – это нам не запретное. Если бы похотел Господь, чтобы поворотить народ на другую путь, он бы не тебя послал, а особого посла-благовестника.
Федос им желал внушить, что не нам судить, какого посла куда посылает Бог, а что слово Господне – духовное и через кого оно доходит, через того все равно и засеменяется: кто в божьих смыслах говорит, того и послушайся, а нарочных послов не жди. Нарочный-то, бывает, так придет, что и не поймешь его.
Ну, а все же хоть и все с дедом спорили, а в открытость супротив его делать стыдилися, потому что – когда вспомянется нам то, что старики про половень говорили, мы Федоса будто и не уважаем, а потом вздумаем, что он давно уже человек справедливый стал, а те «почкенные»-то, все еще вокруг половня ходят – нам Федоса и совестно. Грешник-то он, правда, что грешник был, да ведь он отстоялся уж и повернул себя на хорошее! Свое-то нам справить хочется, а его все-таки стыдно. И стали мы с своими намерениями крыться и сделали уговор вечером на Рожествин день собираться все в ригу и ждать друг дружку в угле, в колосе, а потом идти всей гурьбой переряженным к дворнику. А мы знали, что у дворника праздник как следует: быка залобанили, трех свиней зарезали и две бочки браги наварено. Пойдем, мол, налопаемся, а на обратном пути девки пусть себе где знают хоронятся.
Такие зашли затеи хорошие!
Пошли у нас хлопоты: разные мы одежи припасаем да прячем в потайных местах. Боимся только, чтобы не подсмотрели за нами соседи неимущие да наши похоронки не украли бы.
Мы им до сочельника все подавали кусочки, а под сочельник бабы и девки сказали им:
– Слушайте, вы, неимущие! Вы чтобы завтра не сметь приходить сюда, потому что мы завтра будем сами в печках мыться и топорами лавки скресть. Завтра нам не до вас. Обходитесь как знаете.
Маврутка захотела свои уборы вынесть в ригу, когда дед Федос в лес пойдет, и вот, когда все, что надо было, у себя в избе отмыла и отскребла, да поглядела в окно, а на улице, видит, – метель и сиверка, так что дышать трудно. Маврутка думает: «Дай скорей сомчу, а то дед воротится!» И только что отворила дверь, как сдушило ее сиверкой, а перед самым ее лицом на жерновом камне у порожка нищенское дитя стоит, и какое-то будто особенное: облик нежный, а одежи на нем только одна рваная свиточка и в той на обоих плечах дыры, соломкой заправлены, будто крылышки сломаны да в соломку завернуты и тут же приткнуты.
Маврутка на него осердилася.
– Чего тебе! – говорит, – для чего в такой день пришел! Ишь ты, нет на вас пропасти!
А дитя стоит и на нее большими очами смотрит.
Девка говорит:
– Что же ты бельма выпучил! Прочь пошел!
А он и еще стоит.
Маврутка его поворотила и сунула:
– Пошел в болото!
А сама побежала, и никакого ей беспокоя на душе не было, потому что ведь сказано всем им было, чтобы не ходить в этот день – чего же таскается!
Прибежала Мавра в ригу да прямо в дальний угол и там в сухом колосе все свое убранье и закопала, а когда восклонилася, чтобы назад идти – видит, что этот лупоглазый ребенок в воротах стоит.
Маврутка на него опалилася.
– Ты, шелудивый, – говорит, – подслежаешь меня, чтобы скрасть мое доброе! Так я отучу тебя! – Да и швырнула в него тяжелый цеп, а цеп-то такой был, что дитя убить сразу мог, да Бог дал – она промахнулася, и с того еще больше осердилась, и погналася за ним. А он не то за угол забежал, не то со страху в какой-нибудь овин нырнул, только Мавра не нашла его и домой пошла, и поспешает, чтобы придти прежде, чем дед Федос воротится из лесу, а на самое на нее стал страх нападать, будто как какая-то беда впереди ее стоит или позади вслед за ней гонится.
И все чем она шибче бежит, тем сильнее в ней дух занимается, а тут еще видит, что у них на заваленке будто кто-то сидит…
Маврутка вдруг стала смотреть: что это? неужели опять лупоглазый там?..
Девка-ровечница с ведром шла и спрашивает:
– Что у тебя нога что ли подвихнулася?
А Маврутка машет ей и говорит: – Послушай-ка, чтт тебе нашу избу видно?
Та отвечает:
– Видно.
– А что это такое там у нас под окном на заваленке?
– Это твой дед Федос сидит…
– У тебя, может быть, курья слепота в глазах?
– Чего еще! Ярко его вижу, вон он руки в рукавицах на костыль положил, а недром носит. Тяжело его удушье бьет.
– А ребенка лупоглазого не видишь там?
– Лупоглазое дитя-то ноне по всему селу ходило, а теперь его нетути…
А Маврутка ей говорит, что она сейчас лупоглазое дитя видела и что он подсмотрел, где она свой убор закопала.
– Теперь, – говорит, – то и думаю, что он, стылый, откопает да и выкрадет.
– Пойди перепрячь скорей!
– И то сбегаю!
А сама чует, что теперь уже ей в риге было бы боязно. И тут Мавра с дедом опять не в лад сделала, так что он сказал ей:
– Ты, должно быть, задумала что-нибудь на своем поставить. Смотри, беды б не вышло! Она отвечает:
– Не удержишь меня!
– Чего силом держать… и ненадобно… А тебе, слышь, чего же там понравилось?.. Назад-то пойдете, ребята чтоб вас не обидели.
– Закаркал, закаркал опять! Никого не боимся мы, a там праздник как следует, – там били бычка и трех свиней, и с солодом брага варена…
– Вона что наготовлено исступления! И пьяно, и убоисто…
– А тебе и свиней-то жаль!
– Воробья-то мне и того-то жаль, и о его-то головенке ведь есть вышнее усмотрение…
– О воробьиной головке-то!
– Да.
– Усмотрение!
– Да!
– Тьфу!
Мавра в раскат громко плюнула.
Дед сказал:
– Чего ж плюешься?
– На слова твои плюнула.
– На мои-то наплюй, – не груби только Хозяину.
– Он мне и ненадобен.
– Вона как!
– Разумеется!.. Пусть его нелюбым коням гривы мнет.
– Что городишь-то, неразумная! Я тебе говорю про Того, Кому мы все работать должны.
– Ну, а я не разумею и не хочу.
– Что это? – работать-то?
– Да.
– Поработаешь. Не все ведь вольною волей работают, – другие неволею. И ты поработаешь.
Мавра через гнев просмеялася и говорит:
– Полно тебе, дед! В самом деле, видно, правда, что ты с ума сошел!
А дед посмотрел и ответил ей:
– Господь с тобой, умная! – и сам на печь полез, а она схватила под полу его фонарь со свечой и побежала в ригу свой наряд перепрятывать.
А в риге-то уже темно, и страх на нее тут так и налетел со всех сторон вместе с ужастью: так ее и за плечо берет, и ноги ей путает. Думает: «дай скорей огонь зажгу– смелей станет». Чиркнула спичкою раз и два – что-то у самого лица будто пролетело. Она зажгла фонарь и перекрестилась, а только зашла в угол к колосу, как вдруг с одной стороны к ней пташка, а с другой другая, – точно не хотят допустить ее!
И видит она, что это ей не кажется, а взаправду есть: откуда-то слетели воробушки и пали на колос в свет и сидят-глядят на нее натопорщившись…
«Давай скорее выхвачу да и убегу», – думает Мавра и стала скорей руками колос разворашивать, а там под рукой у нее что-то двигнулось и закопалося… Она – цап посильней, а ей откуда ни спади еще воробей, и трепещется, и чирикает… «Тьфу, мол, чтт тебе надобно? Проклятый ты!» Взяла его да и сорвала ему головеночку, а сама не заметила, как с сердцем в злости фонарь бросила и от него враз солома вся всполыхнула; а оттудова-то, из кучи-то – чтт вы скажете! – восстает оное дитя лупоглазое и на челушке у него росит кровь.
Тут уж Мавра забыла все и бросилась бежать, а огонь потек с бурею в повсеместности и истлил за единый час все, чем мы жили и куражились…
И стало нам хуже всех тех, которые докучали нам, потому что не только у нас весь хлеб погорел, а и жить-то не в чем было, и пошли мы все к своим нищим проситься пожить у них до теплых дней.
А дед-то Федос на пожаре опекся весь и вставать не стал; ну, а все ладил в ту же стать и говорил другим с утешением:
– Ничего, – говорит, – хорошо все от Господа посылается. Вот как жили мы в Божьих в любимчиках – совсем, было, мы позабылись, – хотели все справлять свои дурости, а теперь Господь опять нас наставит на лучшее.
Так и помер с тем, – с этой верой-то!
А какое это было дитя, и откудова, и куда оно в пожар делося – так никогда потом и не дозналися, а только стали говорить, будто это был ангел и за нечувствительность нашу к нему мы будто были наказаны.
Все равно, – говорил Федос, – кто бы ни был он, – бедное дитя всегда «божий посол»: через него Господь наше сердце пробует… Вы все стерегитеся, потому что с каждым ведь такой посол может встретиться!
Впервые опубликовано – журнал «Северный вестник», 1892
Николай Лесков
Лев старца Герасима
Восточная легенда
Триста лет после Иисуса Христа жил на Востоке богатый человек, по имени Герасим. У него были свои дома, сады, более тысячи рабов и рабынь и очень много всяких драгоценностей. Герасим думал: «мне ничто не страшно», но когда он один раз сильно заболел и едва не умер, тогда он начал размышлять иначе, потому что увидал, как жизнь человеческая коротка и что болезни нападают отовсюду, а от смерти не спасет никакое богатство, а потому не умнее ли будет заранее так распорядиться богатством, чтобы оно на старости лет не путало, а потом бы из-за него никто не ссорился.
Стал Герасим с разными людьми советоваться: как ему лучше сделать. Одни говорили одно, а другие другое, но все это было Герасиму не по мыслям.
Тогда один христианин сказал ему:
– Ты хорошо сделаешь, если поступишь с своим богатством, как советует Иисус Христос, – ты отпусти своих рабов на волю, а имущество раздай тем, кто страдает от бедности. Когда ты сделаешь так, ты будешь спокоен.
Герасим послушался, – он сделался христианином и роздал все свое богатство бедным, но вскоре увидел, что, кроме тех, которых он наделил, осталось еще много неимущих, которым он уже ничего не мог дать, и эти стали его укорять, что он не умел разделить свое богатство так, чтобы на всех достало.
Герасим огорчился: ему было прискорбно, что одни его бранят, а другие над ним смеются, что он прежде жил достаточно, а теперь, все раздавши, и сам бедствует, и всех наследников обидел, а всех нищих все-таки не поправил.
Стало от этого Герасиму очень смутительно, и чтобы не терпеть досаждений от наследников, Герасим поднялся и ушел из людного места в пустыню. А пустыня была дикая, где не жил ни один человек, а только рыскали звери, да ползали змеи.
Походил Герасим по жаркой пустыне и почувствовал, что здесь ему лучше. Тут хоть глухо и страшно, но зато наследники его не бранят и не проклинают, и никто над ним не смеется и не осуждает его, что он так, а не этак сделал. А он сам спокоен, потому что поступил по слову Христову: «отдай все и иди за Мною», и больше не о чем беспокоиться.
Нашел Герасим норку под меловым камнем, натаскал туда тростника и стал жить здесь.
Жить Герасиму было тихо, а есть и пить нечего. Он с трудом находил кое-какие съедобные коренья, а за водою ходил на ручей. Ключ воды был далеко от пещерки, и пока Герасим напьется да подойдет назад к своей норке, его опять всего опалит; и зверей ему страшно, и силы слабеют, и снова пить хочется. А ближе, возле воды, нет такого места, где бы можно спрятаться. «Ну, – думает раз в большой жар Герасим, – мне этой муки не снесть: вылезешь из моей меловой норки, надо сгореть под солнцем; а здесь без воды я должен умереть от жажды, а ни кувшина, ни тыквы, никакой другой посуды, чтобы носить воду, у меня нет. Что мне делать? Пойду, – думает Герасим, – в последний раз к ключу, напьюсь и умру там».
Пошел Герасим с таким решением к воде и видит на песке следы, – как будто бы здесь прошел караван на ослах и верблюдах… Смотрит он дальше и видит, что лежит тут один растерзанный зверем верблюд, а невдалеке от него валяется еще живой, но только сильно ослабевший ослик и тяжко вздыхает, и ножонками дрыгает, и губами смокчет.
Герасим оставил безжизненного верблюда валяться, а об ослике подумал: этот еще жить может. Он только от жажды затомился, потому что караванщики не знали, где найти воду. Прежде чем мне самому помереть, попробую облегчить страдание этого бедного животного.
Герасим приподнял ослика на ноги, подцепил его под брюхо своим поясом и стал волочь его, и доволок до ключа свежей воды. Тут он обтер ослу мокрой ладонью запекшуюся морду и стал его из рук попаивать, чтобы он сразу не опился.
Ослик ожил и поднялся на ножки.
Герасиму жаль стало его тут бросить, и он повел его к себе, и думал: «помучусь я еще с ним – окажу ему пользу».
Пошли они вместе назад, а тем временем огромный верблюд уже совсем почти был съеден; и в одной стороне валялся большой лохмот его кожи. Герасим пошел взять эту кожу, чтобы таскать в ней воду, но увидел, что за верблюдом лежит большой желтый лев с гривою, – от сытости валяется и хвостом по земле хлопает.
Герасим подумал: «ну, должно быть, мой конец: наверно этот лев сейчас вскочит и растерзает и меня, и осленка». А лев их не тронул, и Герасим благополучно унес с собой лохмот верблюжьей кожи, чтобы сделать из нее мешок, в который можно наливать воду.
Набрал тоже Герасим по пути острых сучьев и сделал из них ослику загородочку, у самой своей норки.
«Тут ему будет ночью свежо и спокойно», – думал старец, да и не угадал.
Как только на дворе стемнело, вдруг что-то будто с неба упало над пещеркой, и раздался страшный рев и ослиный крик.
Герасим выглянул и видит, что давешний страшный лев протрес первую сытость и пришел съесть его осла, но это ему не удалось: прыгнув с разбега, лев не заметил ограды и воткнул себе в пах острый сук и взревел от невыносимой боли.
Герасим выскочил и начал вынимать из раны зверя острые спицы.
Лев от боли весь трясся и страшно ревел и норовил хватить Герасима за руку, но Герасим его не пугался и все колючки повынул, а потом взял верблюжью кожу, взвалил ее на ослика и погнал к роднику за свежей водою. Там у родника он связал кожу мешком, набрал ее полну воды и пошел опять к своей норе.
Лев во все это время не тронулся с места, потому что раны его страшно болели.
Герасим стал омывать раны льва, а сам подносил к его разинутой пасти воду в пригоршне, и лев лакал ее восполенным языком с ладони, а Герасиму было не страшно, так что он сам над собой удивлялся.
Повторилось то же на другой день и на третий, стало льву легче, а на четвертый день, как пошел Герасим с ослом к роднику, – смотрит, – приподнялся и лев и тоже вслед за ними поплелся.
Герасим положил льву руку на голову, и так и пошли рядом трое: старик, лев и осленок.
У ключа старец свободной рукою омыл раны льва на вольной воде, и лев совсем освежел, а когда Герасим пошел назад, и лев опять пошел за ним.
Стал старик жить со своими зверями.
У старца выросли тыквы, он начал их сушить и делать из них кувшины, а потом стал относить эти кувшины к источнику, чтобы они годились тем, у кого не во что захватить с собою воды. Так жил Герасим и сам питался, и другим людям по силе своей был полезен. И лев тоже нашел себе службу: когда Герасим в самый зной отдыхал, лев стерег его осла. Жили они так изрядное время, и; некому было на них удивляться, но раз увидали эту компанию проходившие караваном путники и рассказали про них в жилых местах по дорогам, и сейчас из разных мест стали приходить любопытные люди: всем хотелось смотреть, как живет бедный старик и с ним ослик и лев, который их не терзает. Все этому стали удивляться и спрашивали у Герасима:
– Открой нам, пожалуйста: какою ты силою это делаешь? верно ты не простой человек, а необыкновенный, что при тебе происходит Исаево чудо: лев лежит рядом с осликом.
А Герасим отвечал:
– Нет, я самый обыкновенный человек, – и даже, признаюсь вам, что я еще очень глуп: я вот с зверями живу, а с людьми совсем жить не умел: все они на меня обиделись, и я ушел из города в пустыню.
– Чем же ты обидел?
– Хотел разделить между всеми свое богатство, чтобы все были счастливы, а наместо того они все перессорились.
– Зачем же ты их умнее не поровнял?
– Да вот то-то оно и есть, что ровнять-то трудно тех, кои сами не ровняются; я сделал ошибку, когда забрал себе много сначала. Не надо бы мне забирать себе ничего против других лишнего, – вот и спокойно было бы.
Люди закивали головами:
– Эге! – сказали, – да это старик-то дурасливый, а между тем все-таки же удивительно, что у него лев осленка караулит и не съест их обоих. Давайте поживем мы: с ним несколько дней и посмотрим, как это у них выходит.
Николай Лесков
Лев старца Герасима
Триста лет после Иисуса Христа жил на Востоке богатый человек, по имени Герасим. У него были свои дома, сады, более тысячи рабов и рабынь и очень много всяких драгоценностей. Герасим думал: «мне ничто не страшно», но когда он один раз сильно заболел и едва не умер, тогда он начал размышлять иначе, потому что увидал, как жизнь человеческая коротка и что болезни нападают отовсюду, а от смерти не спасет никакое богатство, а потому не умнее ли будет заранее так распорядиться богатством, чтобы оно на старости лет не путало, а потом бы из-за него никто не ссорился.
Стал Герасим с разными людьми советоваться: как ему лучше сделать. Одни говорили одно, а другие другое, но все это было Герасиму не по мыслям.
Тогда один христианин сказал ему:
– Ты хорошо сделаешь, если поступишь с своим богатством, как советует Иисус Христос, – ты отпусти своих рабов на волю, а имущество раздай тем, кто страдает от бедности. Когда ты сделаешь так, ты будешь спокоен.
Герасим послушался, – он сделался христианином и роздал все свое богатство бедным, но вскоре увидел, что, кроме тех, которых он наделил, осталось еще много неимущих, которым он уже ничего не мог дать, и эти стали его укорять, что он не умел разделить свое богатство так, чтобы на всех достало.
Герасим огорчился: ему было прискорбно, что одни его бранят, а другие над ним смеются, что он прежде жил достаточно, а теперь, все раздавши, и сам бедствует, и всех наследников обидел, а всех нищих все-таки не поправил.
Стало от этого Герасиму очень смутительно, и чтобы не терпеть досаждений от наследников, Герасим поднялся и ушел из людного места в пустыню. А пустыня была дикая, где не жил ни один человек, а только рыскали звери, да ползали змеи.
Походил Герасим по жаркой пустыне и почувствовал, что здесь ему лучше. Тут хоть глухо и страшно, но зато наследники его не бранят и не проклинают, и никто над ним не смеется и не осуждает его, что он так, а не этак сделал. А он сам спокоен, потому что поступил по слову Христову: «отдай все и иди за Мною», и больше не о чем беспокоиться.
Нашел Герасим норку под меловым камнем, натаскал туда тростника и стал жить здесь.
Жить Герасиму было тихо, а есть и пить нечего. Он с трудом находил кое-какие съедобные коренья, а за водою ходил на ручей. Ключ воды был далеко от пещерки, и пока Герасим напьется да подойдет назад к своей норке, его опять всего опалит; и зверей ему страшно, и силы слабеют, и снова пить хочется. А ближе, возле воды, нет такого места, где бы можно спрятаться. «Ну, – думает раз в большой жар Герасим, – мне этой муки не снесть: вылезешь из моей меловой норки, надо сгореть под солнцем; а здесь без воды я должен умереть от жажды, а ни кувшина, ни тыквы, никакой другой посуды, чтобы носить воду, у меня нет. Что мне делать? Пойду, – думает Герасим, – в последний раз к ключу, напьюсь и умру там».
Николай Лесков
Лев старца Герасима
Восточная легенда
Триста лет после Иисуса Христа жил на Востоке богатый человек, по имени Герасим. У него были свои дома, сады, более тысячи рабов и рабынь и очень много всяких драгоценностей. Герасим думал: «мне ничто не страшно», но когда он один раз сильно заболел и едва не умер, тогда он начал размышлять иначе, потому что увидал, как жизнь человеческая коротка и что болезни нападают отовсюду, а от смерти не спасет никакое богатство, а потому не умнее ли будет заранее так распорядиться богатством, чтобы оно на старости лет не путало, а потом бы из-за него никто не ссорился.
Стал Герасим с разными людьми советоваться: как ему лучше сделать. Одни говорили одно, а другие другое, но все это было Герасиму не по мыслям.
Тогда один христианин сказал ему:
– Ты хорошо сделаешь, если поступишь с своим богатством, как советует Иисус Христос, – ты отпусти своих рабов на волю, а имущество раздай тем, кто страдает от бедности. Когда ты сделаешь так, ты будешь спокоен.
Герасим послушался, – он сделался христианином и роздал все свое богатство бедным, но вскоре увидел, что, кроме тех, которых он наделил, осталось еще много неимущих, которым он уже ничего не мог дать, и эти стали его укорять, что он не умел разделить свое богатство так, чтобы на всех достало.
Герасим огорчился: ему было прискорбно, что одни его бранят, а другие над ним смеются, что он прежде жил достаточно, а теперь, все раздавши, и сам бедствует, и всех наследников обидел, а всех нищих все-таки не поправил.
Стало от этого Герасиму очень смутительно, и чтобы не терпеть досаждений от наследников, Герасим поднялся и ушел из людного места в пустыню. А пустыня была дикая, где не жил ни один человек, а только рыскали звери, да ползали змеи.
Походил Герасим по жаркой пустыне и почувствовал, что здесь ему лучше. Тут хоть глухо и страшно, но зато наследники его не бранят и не проклинают, и никто над ним не смеется и не осуждает его, что он так, а не этак сделал. А он сам спокоен, потому что поступил по слову Христову: «отдай все и иди за Мною», и больше не о чем беспокоиться.
Нашел Герасим норку под меловым камнем, натаскал туда тростника и стал жить здесь.
Жить Герасиму было тихо, а есть и пить нечего. Он с трудом находил кое-какие съедобные коренья, а за водою ходил на ручей. Ключ воды был далеко от пещерки, и пока Герасим напьется да подойдет назад к своей норке, его опять всего опалит; и зверей ему страшно, и силы слабеют, и снова пить хочется. А ближе, возле воды, нет такого места, где бы можно спрятаться. «Ну, – думает раз в большой жар Герасим, – мне этой муки не снесть: вылезешь из моей меловой норки, надо сгореть под солнцем; а здесь без воды я должен умереть от жажды, а ни кувшина, ни тыквы, никакой другой посуды, чтобы носить воду, у меня нет. Что мне делать? Пойду, – думает Герасим, – в последний раз к ключу, напьюсь и умру там».
Пошел Герасим с таким решением к воде и видит на песке следы, – как будто бы здесь прошел караван на ослах и верблюдах… Смотрит он дальше и видит, что лежит тут один растерзанный зверем верблюд, а невдалеке от него валяется еще живой, но только сильно ослабевший ослик и тяжко вздыхает, и ножонками дрыгает, и губами смокчет.
Герасим оставил безжизненного верблюда валяться, а об ослике подумал: этот еще жить может. Он только от жажды затомился, потому что караванщики не знали, где найти воду. Прежде чем мне самому помереть, попробую облегчить страдание этого бедного животного.
Герасим приподнял ослика на ноги, подцепил его под брюхо своим поясом и стал волочь его, и доволок до ключа свежей воды. Тут он обтер ослу мокрой ладонью запекшуюся морду и стал его из рук попаивать, чтобы он сразу не опился.
Ослик ожил и поднялся на ножки.
Герасиму жаль стало его тут бросить, и он повел его к себе, и думал: «помучусь я еще с ним – окажу ему пользу».
Пошли они вместе назад, а тем временем огромный верблюд уже совсем почти был съеден; и в одной стороне валялся большой лохмот его кожи. Герасим пошел взять эту кожу, чтобы таскать в ней воду, но увидел, что за верблюдом лежит большой желтый лев с гривою, – от сытости валяется и хвостом по земле хлопает.
Герасим подумал: «ну, должно быть, мой конец: наверно этот лев сейчас вскочит и растерзает и меня, и осленка». А лев их не тронул, и Герасим благополучно унес с собой лохмот верблюжьей кожи, чтобы сделать из нее мешок, в который можно наливать воду.
Читать дальше
Николай Семёнович Лесков
ЛЕВ СТАРЦА ГЕРАСИМА
Триста лет после Иисуса Христа жил на Востоке богатый человек, по имени Герасим. У него были свои дома, сады, более тысячи рабов и рабынь и очень много всяких драгоценностей. Герасим думал: «Мне ничто не страшно», – но когда он один раз сильно заболел и едва не умер, тогда он начал размышлять иначе, потому что увидал, как жизнь человеческая коротка и что болезни нападают отовсюду, а от смерти не спасет никакое богатство, а потому не умнее ли будет заранее так распорядиться богатством, чтобы оно на старости лет не путало, а потом бы из-за него никто не ссорился.
Стал Герасим с разными людьми советоваться, как ему лучше сделать. Одни говорили одно, а другие другое, но все это было Герасиму не по мыслям.
Тогда один христианин сказал ему:
– Ты хорошо сделаешь, если поступишь со своим богатством, как советует Иисус Христос: ты отпусти своих рабов на волю, а имущество раздай тем, кто страдает от бедности. Когда ты сделаешь так, ты будешь спокоен.
Герасим послушался – он сделался христианином и роздал все свое богатство бедным, но вскоре увидел, что, кроме тех, которых он наделил, осталось еще много неимущих, которым он уже ничего не мог дать, и эти стали его укорять, что он не умел разделить свое богатство так, чтобы на всех достало.
Герасим огорчился: ему было прискорбно, что одни его бранят, а другие над ним смеются, что он прежде жил достаточно, а теперь, все раздавши, и сам бедствует, и всех наследников обидел, а всех нищих все-таки не поправил.
Стало от этого Герасиму очень смутительно, и чтобы не терпеть досаждений от наследников, Герасим поднялся и ушел из людного места в пустыню. А пустыня была дикая, где не жил ни один человек, а только рыскали звери да ползали змеи.
Походил Герасим по жаркой пустыне и почувствовал, что здесь ему лучше. Тут хоть глухо и страшно, но зато наследники его не бранят и не проклинают и никто над ним не смеется и не осуждает его, что он так, а не этак сделал. А он сам спокоен, потому что поступил по слову Христову: «Отдай все и иди за Мною»[1], – и больше не о чем беспокоиться.
Нашел Герасим норку под меловым камнем, натаскал туда тростника и стал жить здесь.
Жить Герасиму было тихо, а есть и пить нечего. Он с трудом находил кое-какие съедобные коренья, а за водою ходил на ручей. Ключ воды был далеко от пещерки, и пока Герасим напьется да подойдет назад к своей норке, его опять всего опалит; и зверей ему страшно, и силы слабеют, и снова пить хочется. А ближе, возле воды, нет такого места, где бы можно спрятаться.
«Ну, – думает раз в большой жар Герасим, – мне этой муки не снесть: вылезешь из моей меловой норки, надо сгореть под солнцем; а здесь без воды я должен умереть от жажды, а ни кувшина, ни тыквы, никакой другой посуды, чтобы носить воду, у меня нет. Что мне делать? Пойду, – думает Герасим, – в последний раз к ключу, напьюсь и умру там».
Пошел Герасим с таким решением к воде и видит на песке следы – как будто бы здесь прошел караван на ослах и верблюдах… Смотрит он дальше и видит, что лежит тут один растерзанный зверем верблюд, а невдалеке от него валяется еще живой, но только сильно ослабевший, ослик и тяжко вздыхает, и ножонками дрыгает, и губами смокчет.
Герасим оставил безжизненного верблюда валяться, а об ослике подумал: «Этот еще жить может. Он только от жажды затомился, потому что караванщики не знали, где найти воду. Прежде чем мне самому помереть, попробую облегчить страдание этого бедного животного».
Герасим приподнял ослика на ноги, подцепил его под брюхо своим поясом и стал волочь его, и доволок до ключа свежей воды. Тут он обтер ослу мокрой ладонью запекшуюся морду и стал его из рук попаивать, чтобы он сразу не опился.
Ослик ожил и поднялся на ножки.
Герасиму жаль стало его тут бросить, и он повел его К себе, и думал: «Помучусь я еще с ним – окажу ему пользу».
Пошли они вместе назад, а тем временем огромный верблюд уже совсем почти был съеден; и в одной стороне валялся большой лохмот его кожи. Герасим пошел взять эту кожу, чтобы таскать в ней воду, но увидел, что за верблюдом лежит большой желтый лев с гривою – от сытости валяется и хвостом по земле хлопает.
Герасим подумал: «Ну, должно быть, мой конец: наверно, этот лев сейчас вскочит и растерзает и меня, и осленка». А лев их не тронул, и Герасим благополучно унес с собой лохмот верблюжьей кожи, чтобы сделать из нее мешок, в который можно наливать воду.
Набрал тоже Герасим по пути острых сучьев и сделал из них ослику загородочку, у самой своей норки. «Тут ему будет ночью свежо и спокойно», – думал старец, да и не угадал.
Как только на дворе стемнело, вдруг что-то будто с неба упало над пещеркой, и раздался страшный рев и ослиный крик.
Герасим выглянул и видит, что давешний страшный лев потряс первую сытость и пришел съесть его осла, но это ему не удалось: прыгнув с разбега, лев не заметил ограды и воткнул себе в пах острый сук и взревел от невыносимой боли.
Герасим выскочил и начал вынимать из раны зверя острые спицы.
Лев от боли весь трясся и страшно ревел и норовил хватить Герасима за руку, но Герасим его не пугался и все колючки повынул, а потом взял верблюжью кожу, взвалил ее на ослика и погнал к роднику за свежей водою. Там у родника он связал кожу мешком, набрал ее полну воды и пошел опять к своей норе.
Лев во все это время не тронулся с места, потому что раны его страшно болели.
Герасим стал омывать раны льва, а сам подносил к его разинутой пасти воду в пригоршне, и лев лакал ее воспаленным языком с ладони, а Герасиму было не страшно, так что он сам над собой удивлялся.
Повторилось то же на другой день и на третий, стало льву легче, а на четвертый день как пошел Герасим с ослом к роднику, смотрит – приподнялся и лев и тоже вслед за ними поплелся.
Герасим положил льву руку на голову, и так и пошли рядом трое: старик, лев и осленок.
У ключа старец свободной рукою омыл раны льва на вольной воде, и лев совсем освежел, а когда Герасим пошел назад, и лев опять пошел за ним.
Стал старик жить со своими зверями.
У старца выросли тыквы, он начал их сушить и делать из них кувшины, а потом стал относить эти кувшины к источнику, чтобы они годились тем, у кого не во что захватить с собою воды. Так жил Герасим и сам питался, и другим людям по силе своей был полезен. И лев тоже нашел себе службу: когда Герасим в самый зной отдыхал, лев стерег его осла. Жили они так изрядное время, и некому было на них удивляться, но раз увидали эту компанию проходившие караваном путники и рассказали про них в жилых местах по дорогам, и сейчас из разных мест стали приходить любопытные люди: всем хотелось смотреть, как живет бедный старик и с ним ослик и лев, который их не терзает. Все этому стали удивляться и спрашивали у Герасима:
– Открой нам, пожалуйста, какою ты силою это делаешь? Верно, ты не простой человек, а необыкновенный, что при тебе происходит Исаево чудо: лев лежит рядом с осликом.[2]
А Герасим отвечал:
– Нет, я самый обыкновенный человек, и даже, признаюсь вам, что я еще очень глуп: я вот с зверями живу, а с людьми совсем жить не умел – все они на меня обиделись, и я ушел из города в пустыню.
– Чем же ты обидел?
– Хотел разделить между всеми свое богатство, чтобы все были счастливы, а наместо того они все перессорились.
– Зачем же ты их умнее не поровнял?
– Да вот то-то оно и есть, что ровнять-то трудно тех, кои сами не ровняются; я сделал ошибку, когда забрал себе много сначала. Не надо бы мне забирать себе ничего против других лишнего – вот и спокойно было бы.
Люди закивали головами.
– Эге! – сказали, – да это старик-то дурасливый, а между тем все-таки же удивительно, что у него лев осленка караулит и не съест их обоих. Давайте поживем мы с ним несколько дней и посмотрим, как это у них выходит.
Остались с ними три человека.
Герасим их не прогонял, только сказал:
– Вместе жить надо не так, чтобы троим на одного смотреть, а надо всем работать, а то придет несогласие, и я вас тогда забоюсь и уйду.
Три согласились, но на другой же день при них случилась беда: когда они спали, заснул тоже и лев и не слыхал, как проходившие караваном разбойники накинули на ослика петлю и увели его с собою.
Утром люди проснулись и видят: лев спит, а ослика и следа нет. Три и говорят старцу Герасиму:
– Вот ты и в самом деле дождался того, что тебе давно следовало: зверь всегда зверем будет, вставай скорей – твой лев съел наконец твоего осла и, верно, зарыл где-нибудь в песок его кости.
Вылез Герасим из своей меловой норы и видит, что дело похоже на то, как ему трое сказывают. Огорчился старик, но не стал спорить, а взвалил на себя верблюжий мех и пошел за водою.
Идет, тяжко переступает, а смотрит – за ним вдалеке его лев плетется; хвост опустил до земли и головою понурился.