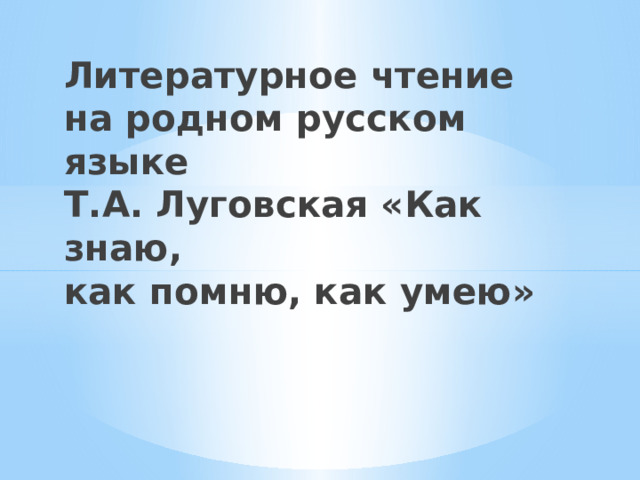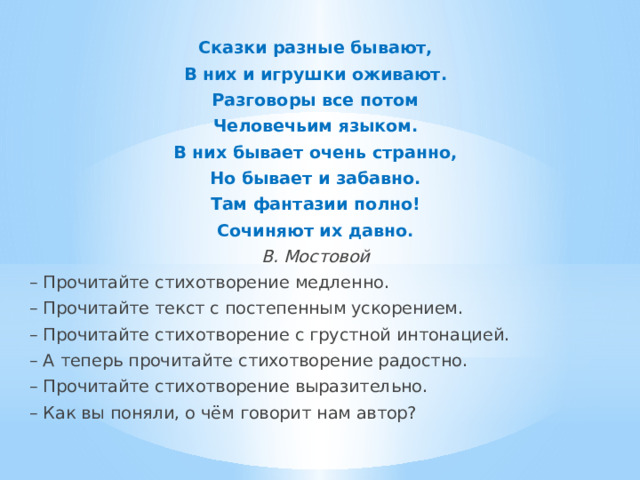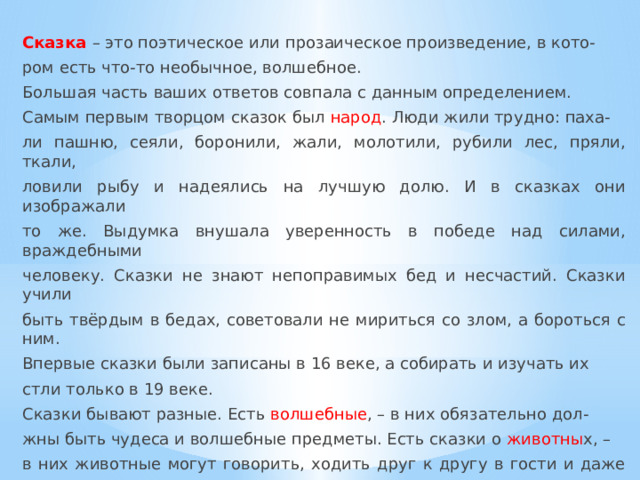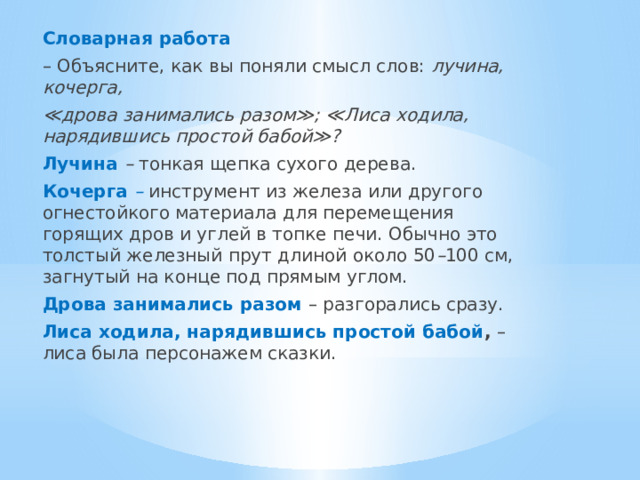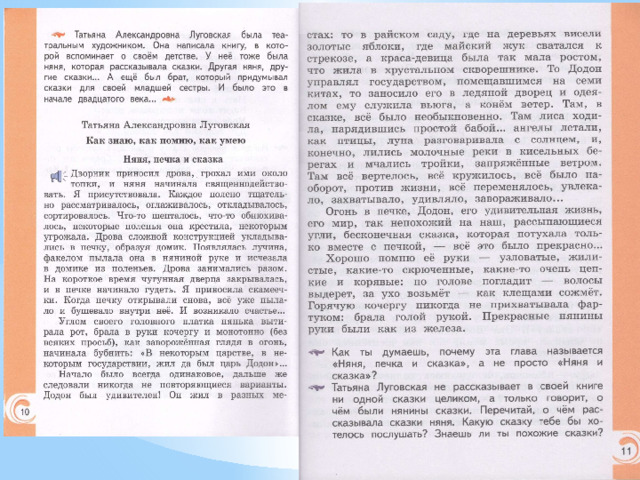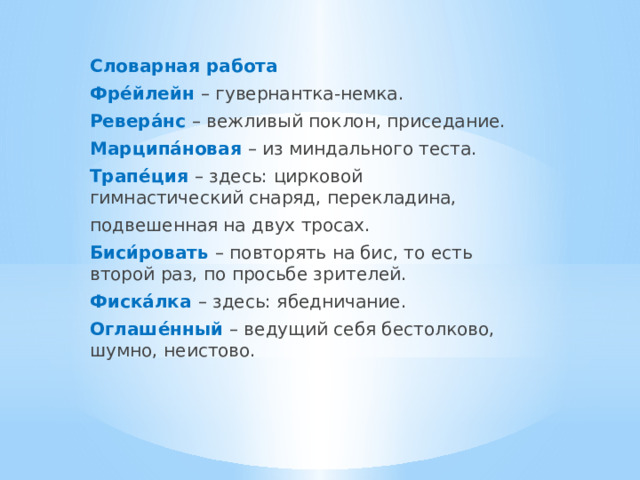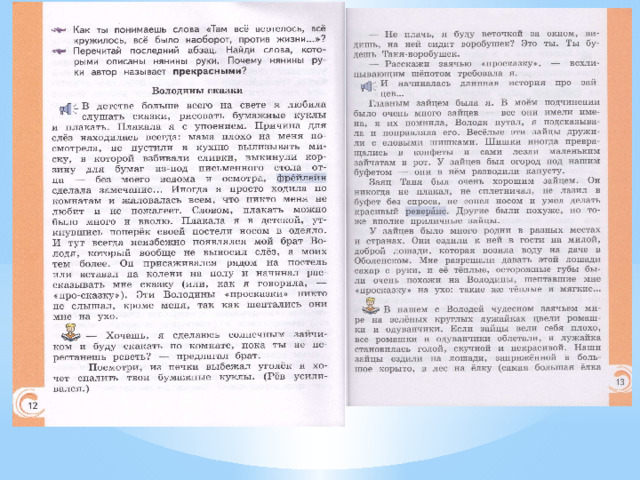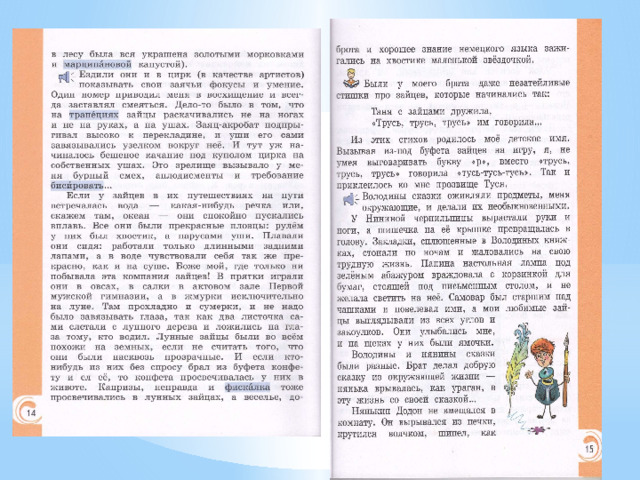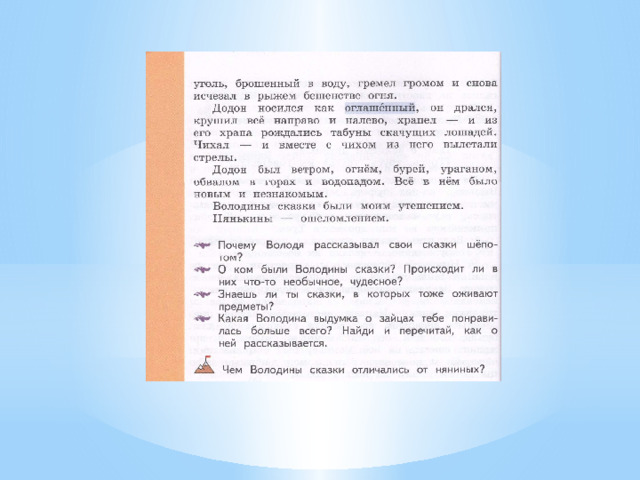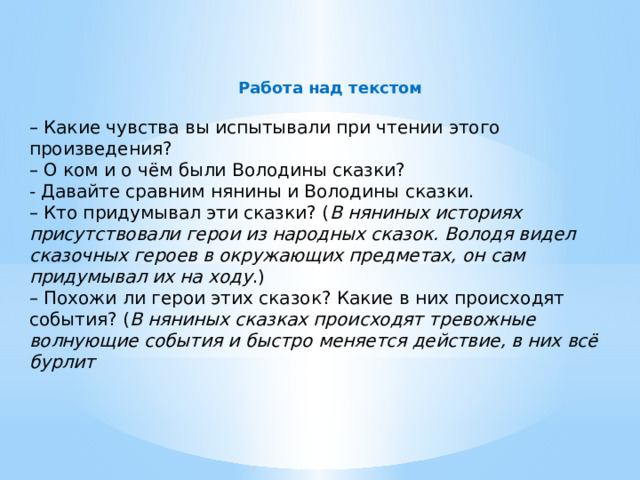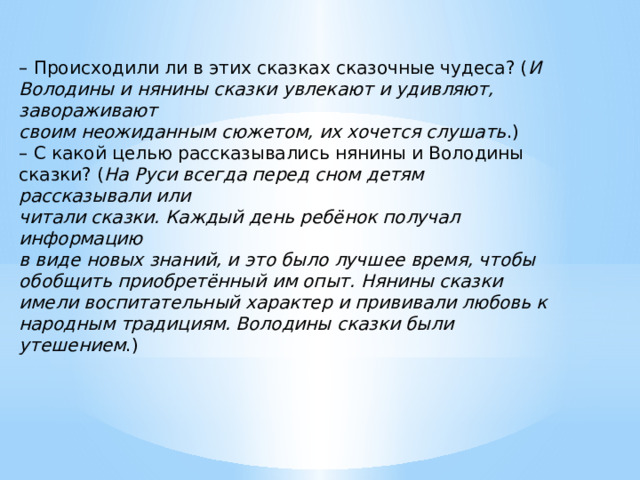ВОЛОДИНЫ СКАЗКИ
ВОЛОДИНЫ СКАЗКИ
Вторым сказочником в доме после няни был мой старший брат Володя, но сказки у него были совсем другие и рассказывал он их при других обстоятельствах. Володины сказки возникали из предметов, которые меня окружали.
Тут необходимо рассказать маленькую предысторию.
Я родилась, когда мои старшие брат и сестра были уже большие дети. Меня не очень ждали — в виде девочки — на этом свете. Почему-то считалось, что уж если кто и родится, так мальчик. Но родилась девочка, к тому же, когда ей не было года, няня простудила ее. Сделалось двустороннее воспаление легких, потом откуда-то прицепилась дизентерия, и она, то есть я, умерла. Доктор сказал: «Девочка умерла, мне здесь делать нечего», — надел шляпу и ушел. Никогда не терявшаяся в беде мама не согласилась с моей смертью и вкатила мне в рот столовую ложку коньяку. Наверное, огненная жидкость оживила ту ниточку жизни, которая еще где-то скрывалась, и сердце мое забилось.
Два месяца мама лечила меня сама (доктора не верили в мое выздоровление), и я постепенно вернулась к жизни.
Получивши в течение одного года три такие травмы, как рождение, смерть и алкогольное опьянение, я, естественно, росла ребенком слабеньким. У меня никогда не было косичек, так как считалось, что волосы отбирают очень много жизненных сил, меня кутали, поили мясным соком и рыбьим жиром.
Умершую и воскресшую, да еще к тому же младшую девочку, все в доме любили, баловали и мало наказывали.
В детстве больше всего на свете я любила слушать сказки, рисовать бумажные куклы и плакать. Плакала я с упоением. Причина для слез находилась всегда: мама плохо на меня посмотрела, не пустили в кухню вылизывать миску, в которой взбивали сливки, выкинули корзину для бумаг из-под письменного стола отца — без моего ведома и осмотра, фрейлейн сделала замечание или кто-нибудь обидел пьяную няньку. Иногда я просто ходила по комнатам и жаловалась всем, что никто меня не любит и не пожалеет (я говорила «не пожилеет»). Словом, плакать можно было много и вволю. Плакала я в детской, уткнувшись поперек своей постели носом в одеяло. И тут всегда неизбежно появлялся мой брат Володя, который вообще не выносил слез, а моих тем более. Он присаживался рядом на постель или вставал на колени на полу (в зависимости от позиции, которую я занимала) и начинал рассказывать мне сказку (или, как я говорила — «про-сказку»). Эти Володины «просказки» никто не слышал, кроме меня, так как шептались они мне на ухо.
— Хочешь, я сделаюсь солнечным зайчиком и буду скакать по комнате, пока ты не перестанешь реветь? — предлагал брат.
— Хочешь, превращусь в Робинзона и посватаюсь к твоему пупсу? (Рев затихал.)
— Посмотри, из печки выбежал уголек и хочет спалить твои бумажные куклы. (Рев усиливался.)
— Не плачь, я буду веточкой за окном, видишь, на ней сидит воробушек? Это ты. Ты будешь Таня-воробушек.
— Расскажи заячью «просказку», — всхлипывающим шепотом требовала я.
И начиналась длинная история про зайцев…
Главным зайцем была я. В моем подчинении было очень много зайцев — все они имели имена, я их помнила, Володя путал, я подсказывала и поправляла его. Веселые эти зайцы дружили с еловыми шишками. Шишки иногда превращались в конфеты и сами лезли маленьким зайчатам в рот. У зайцев был огород под нашим буфетом — они в нем разводили капусту.
Заяц Таня был очень хорошим зайцем. Он никогда не плакал, не сплетничал, не лазил в буфет без спроса, не сопел носом и умел делать красивый реверанс. Другие были похуже, но тоже вполне приличные зайцы.
У зайцев было много родни в разных местах и странах. Они ездили к ней в гости на милой, доброй лошади, которая возила воду на даче в Оболенском. Мне разрешали давать этой лошади сахар с руки, и ее теплые, осторожные губы были очень похожи на Володины, шептавшие мне «просказку» на ухо: такие же теплые и мягкие…
В нашем с Володей чудесном заячьем мире на зеленых круглых лужайках цвели ромашки и одуванчики. Если зайцы вели себя плохо, все ромашки и одуванчики облетали, и лужайка становилась голой, скучной и некрасивой. Наши зайцы ездили на лошади, запряженной в большое корыто, в лес на елку (самая большая елка в лесу была вся украшена золотыми морковками и марципановой капустой).
Ездили они и в цирк (в качестве артистов) показывать свои заячьи фокусы и умение. Один номер приводил меня в восхищение и всегда заставлял смеяться. Дело-то было в том, что на трапециях зайцы раскачивались не на ногах и не на руках, а на ушах. Заяц-акробат подпрыгивал высоко к перекладине, и уши его сами завязывались узелком вокруг нее. И тут уж начиналось бешеное качание под куполом цирка на собственных ушах. Это зрелище вызывало у меня бурный смех, аплодисменты и требование бисировать…
Если у зайцев в их путешествиях на пути встречалась вода — какая-нибудь речка или, скажем там, океан — они спокойно пускались вплавь. Все они были прекрасные пловцы: рулем у них был хвостик, а парусами уши. Плавали они сидя: работали только длинными задними лапами, а в воде чувствовали себя так же прекрасно, как и на суше. Зайцы-мужчины, плавая, курили сигары, а зайцы-дамы брали в дорогу баночки с остатками варенья, которое вылизывали лапкой. Ложечкой они не пользовались, так как в воде ее легко можно было потерять, да и вкуснее было лазить в банку прямо пальцами. (Надо честно признаться, что в вылизывании посуды эти зайцы понимали толк!)
Боже мой, где только ни побывала эта компания зайцев! В прятки играли они в овсах, в салки в актовом зале Первой мужской гимназии, а в жмурки исключительно на луне. Там прохладно и сумерки, и не надо было завязывать глаза, так как два листочка сами слетали с лунного дерева и ложились на глаза тому, кто водил. Лунные зайцы были во всем похожи на земных, если не считать того, что они были насквозь прозрачные. И если кто-нибудь из них без спросу брал из буфета конфету и ел ее, то конфета просвечивалась у них в животе. Капризы, неправда и фискалка тоже просвечивались в лунных зайцах, а веселье, доброта и хорошее знание немецкого языка зажигались на хвостике маленькой звездочкой.
Были у моего брата даже незатейливые стишки про зайцев, которые начинались так:
Таня с зайцами дружила,
«Трусь, трусь, трусь» им говорила…
Из этих стихов родилось мое детское имя. Вызывая из-под буфета зайцев на игру, я, не умея выговаривать букву «р», вместо «трусь, трусь, трусь» говорила «тусь-тусь-тусь». Так и приклеилось ко мне прозвище Туся.
Володины сказки оживляли предметы, меня окружающие, и делали их необыкновенными.
У Нининой чернильницы вырастали руки и ноги, а шишечка на ее крышке превращалась в голову. Закладки, сплющенные в Володиных книжках, стонали по ночам и жаловались на свою трудную жизнь. Папина настольная лампа под зеленым абажуром враждовала с корзинкой для бумаг, стоящей под письменным столом, и не желала светить на нее. Самовар был старшим над чашками и повелевал ими, а мои любимые зайцы выглядывали из всех углов и закоулков. Они улыбались мне, и на щеках у них были ямочки.
Володины сказки открывали иногда другие миры и страны, но чаще всего до них можно было дотронуться рукой. Они были рядом со мной: под буфетом, на книжных полках, в кипящем самоваре, в саду за окном детской, в реке и парке Оболенского. Володины и нянины сказки были разные. Брат делал добрую сказку из окружающей жизни — нянька врывалась, как ураган, в эту жизнь со своей сказкой. Она творила свой мир, дикий и ни на что не похожий.
Нянькин Додон не вмещался в комнату. Он вырывался из печки, крутился волчком, шипел, как уголь, брошенный в воду, гремел громом и снова исчезал в рыжем бешенстве огня.
Додон носился как оглашенный, он дрался, крушил все направо и налево, обжирался блинами, тошнился огнем, храпел — и из его храпа рождались табуны скачущих лошадей. Чихал — и вместе с чихом из него вылетали стрелы.
Додон был ветром, огнем, бурей, ураганом, обвалом в горах и водопадом. Все в нем было новым и незнакомым.
Володины сказки были моим утешением.
Нянькины — ошеломлением.
Читайте также
Сказки
Сказки
Спасибо за обложку Frost Valery
История Демида, Степана и мушиного дракончика
Сказка-пятиминутка
Однажды, солнечным майским днем, когда мама вышла на несколько минут к соседке, мальчик Демид забежал на кухню и замер, уставившись на стол. Посередине кухонного стола
209. Сказки
209. Сказки
Хорошо, когда под вечер
Нам часок удастся быть
И про всё, что сердцу любо,
По душе поговорить.
Я люблю очистить сердце
Тайной сказок и чудес,
И над нами наклонится
Невидимкой темный лес.
А потом какие ночи,
И в ночах какие сны,
И глаза у звезд какою
Детской сказкою
Сказки и быль
Сказки и быль
Война опрокинула жизнь, когда мы были еще детьми. Но и поколение, рожденное в 1928 году, и то, что чуть моложе, навсегда отмечены ее огненным клеймом. Для одних это лагерный номер на руке или оккупация, для других — голод или сиротство, для кого-то — потеря
6. Начало сказки
6. Начало сказки
Главная причина этой трагедии в том, что, выходя за него замуж, она была действительно влюблена в него…
Виктор Эделстайн, кутюрье
В день свадьбы, которая состоялась 29 июля 1981 года, Диана стала международной медиазвездой. Это было величайшее событие в
Сказки и быль
Сказки и быль
Война опрокинула жизнь, когда мы были еще детьми. Но и поколение, рожденное в 1928 году, и то, что чуть моложе, навсегда отмечены ее огненным клеймом. Для одних это лагерный номер на руке или оккупация, для других — голод или сиротство, для кого-то — потеря
XI СКАЗКИ МОРОЗА
XI СКАЗКИ МОРОЗА
Никто из наших стариков не запомнит инея такого, как в девятнадцатом году нашего века, и не приходилось в книгах читать, что бывает такое. Целую неделю он наседал, и в конце ломались ветви и верхушки старых дубов. Особенно в березах было много погибели:
Люди не из сказки
Люди не из сказки
Все лучшие герои Шварца — самые обычные люди. И Ланцелот, вызвавший на бой Дракона, и Ученый, победивший Тень, и Генрих с Христианом, свергнувшие Голого короля, ни в малейшей степени не жалуют героический пафос. Они прямодушны и бесхитростны. Кроме того,
Сказки
Сказки
Сказки про Василису Прекрасную, про Серого Волка и Ивана Царевича, и про Щучье Веленье изданы в Харбине под редакцией Вс. Н. Иванова. Маленькая книжка, стоящая всего десять фен, и таким порядком очень доступная. У Вс. Н. Иванова давно была прекрасная мысль об издании в
Реалии сказки
Реалии сказки
Коротенькие мысли и долгая память. Черепаха Тортила называет Буратино деревянным дурачком «с коротенькими мыслями». Выражение «коротенькие мысли» пришло из «Дневника писателя» Достоевского: русские, говорящие по-французски, «по неразвитости, короткости
Принц из сказки
Принц из сказки
Николай Константинович, по домашнему Ники, воспитывался не только родителями. Когда им было недосуг, формированием личности августейшего отпрыска занимались воспитатели и учителя, преимущественно немцы.Главным среди наставников был строгий Мирбах. Ники
Сказки
Сказки
Даже не написав ни одной сказки, Андерсен был бы писателем, известным в свое время во всей Европе, писателем, которого читают и в наши дни, во всяком случае в Дании. Но сказки стали венцом его творчества. Ирония судьбы, потому что жадный до славы писатель поначалу не
Начало сказки
Начало сказки
Сияло прозрачное утро. От искрившейся тысячами серебристо–перламутровых блесток воды слепило глаза. Пароход уверенно и спокойно стоял на якоре, и не верилось, что несколько часов назад море било и швыряло его по волнам, как спичечную коробку. Сновали взад и
ПЕРВЫЕ СКАЗКИ
ПЕРВЫЕ СКАЗКИ
Основа его сказок — дочь Бога — самоирония. Юмор — незаконнорождённый сын дьявола.Если вглядываться в частокол дат, то сказочника не разглядеть. В жизни Ганса Христиана Андерсена отсутствуют большие, грандиозные события…
VI. Сказки
VI. Сказки
Удивительно, что при такой страстной любви к няне, я совсем не помню ее лица.
Хорошо помню ее руки — узловатые, жилистые, какие-то скрюченные, какие-то очень цепкие и корявые: по голове погладит — волосы выдерет, за ухо возьмет — как клещами сожмет, раздевает на ночь — так рванет лифчик, что пуговицы летят. Горячую кочергу никогда не прихватывала фартуком: брала голой рукой. Прекрасные нянины руки были как из железа.
На лице помню только рот, когда она держала в нем булавку, да и то это был не рот, а какая-то щель с морщинами по краям, и интересовала меня больше булавка, вернее половина сломанной английской булавки, которой нянька закалывала свой платок, когда мы шли на прогулку. А еще космы седых волос, выбившихся из-под платка. Вот и все, что сохранила память.
ВОЛОДИНЫ СКАЗКИ
Вторым сказочником в доме после няни был мой старший брат Володя, но сказки у него были совсем другие и рассказывал он их при других обстоятельствах. Володины сказки возникали из предметов, которые меня окружали.
Тут необходимо рассказать маленькую предысторию.
Я родилась, когда мои старшие брат и сестра были уже большие дети. Меня не очень ждали — в виде девочки — на этом свете. Почему-то считалось, что уж если кто и родится, так мальчик. Но родилась девочка, к тому же, когда ей не было года, няня простудила ее. Сделалось двустороннее воспаление легких, потом откуда-то прицепилась дизентерия, и она, то есть я, умерла. Доктор сказал: «Девочка умерла, мне здесь делать нечего», — надел шляпу и ушел. Никогда не терявшаяся в беде мама не согласилась с моей смертью и вкатила мне в рот столовую ложку коньяку. Наверное, огненная жидкость оживила ту ниточку жизни, которая еще где-то скрывалась, и сердце мое забилось.
Два месяца мама лечила меня сама (доктора не верили в мое выздоровление), и я постепенно вернулась к жизни.
Получивши в течение одного года три такие травмы, как рождение, смерть и алкогольное опьянение, я, естественно, росла ребенком слабеньким. У меня никогда не было косичек, так как считалось, что волосы отбирают очень много жизненных сил, меня кутали, поили мясным соком и рыбьим жиром.
Умершую и воскресшую, да еще к тому же младшую девочку, все в доме любили, баловали и мало наказывали.
В детстве больше всего на свете я любила слушать сказки, рисовать бумажные куклы и плакать. Плакала я с упоением. Причина для слез находилась всегда: мама плохо на меня посмотрела, не пустили в кухню вылизывать миску, в которой взбивали сливки, выкинули корзину для бумаг из-под письменного стола отца — без моего ведома и осмотра, фрейлейн сделала замечание или кто-нибудь обидел пьяную няньку. Иногда я просто ходила по комнатам и жаловалась всем, что никто меня не любит и не пожалеет (я говорила «не пожилеет»). Словом, плакать можно было много и вволю. Плакала я в детской, уткнувшись поперек своей постели носом в одеяло. И тут всегда неизбежно появлялся мой брат Володя, который вообще не выносил слез, а моих тем более. Он присаживался рядом на постель или вставал на колени на полу (в зависимости от позиции, которую я занимала) и начинал рассказывать мне сказку (или, как я говорила — «про-сказку»). Эти Володины «просказки» никто не слышал, кроме меня, так как шептались они мне на ухо.
— Хочешь, я сделаюсь солнечным зайчиком и буду скакать по комнате, пока ты не перестанешь реветь? — предлагал брат.
— Хочешь, превращусь в Робинзона и посватаюсь к твоему пупсу? (Рев затихал.)
— Посмотри, из печки выбежал уголек и хочет спалить твои бумажные куклы. (Рев усиливался.)
— Не плачь, я буду веточкой за окном, видишь, на ней сидит воробушек? Это ты. Ты будешь Таня-воробушек.
— Расскажи заячью «просказку», — всхлипывающим шепотом требовала я.
И начиналась длинная история про зайцев…
Главным зайцем была я. В моем подчинении было очень много зайцев — все они имели имена, я их помнила, Володя путал, я подсказывала и поправляла его. Веселые эти зайцы дружили с еловыми шишками. Шишки иногда превращались в конфеты и сами лезли маленьким зайчатам в рот. У зайцев был огород под нашим буфетом — они в нем разводили капусту.
Заяц Таня был очень хорошим зайцем. Он никогда не плакал, не сплетничал, не лазил в буфет без спроса, не сопел носом и умел делать красивый реверанс. Другие были похуже, но тоже вполне приличные зайцы.
У зайцев было много родни в разных местах и странах. Они ездили к ней в гости на милой, доброй лошади, которая возила воду на даче в Оболенском. Мне разрешали давать этой лошади сахар с руки, и ее теплые, осторожные губы были очень похожи на Володины, шептавшие мне «просказку» на ухо: такие же теплые и мягкие…
Текст книги «Как знаю, как помню, как умею»
Автор книги: Татьяна Луговская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 25 страниц)
«НЯНЯ, ПЕЧКА И СКАЗКА»
Жила у нас в доме нянька – Екатерина Кузьминишна Подшебякина, родом она была из деревни Непрядва с Куликова поля. Вероятно, только за этот адрес, да еще за удивительный сказочный дар ее и держали у нас в доме, так как была она пьяница. Попросту говоря – алкоголичка. Дел у нее было мало. Два раза в день она топила печки да укладывала меня спать – вот и вся ее работа. У няни был враг в доме – добрая и кроткая немка фрейлейн Аделина. Нянька ненавидела ее лютой ненавистью и называла то Аделинкой, то фришкой, то просто басурманкой. Наверно, она чувствовала, что немка теснила ее, незаметно занимая ее позиции.
Нянька говорила вместо быстро и моментально – «минтом» и «однава дыхнуть». Вместо молчи – «молчок». Если человек худел – говорилось «он обосновался», был строен – «постанов хорош». Вместо хорошо – «ладно», вместо что? – «чего-чего?» и так далее. Она и меня научила говорить «ладно» и «чего-чего?». Маме не нравилось, и немке было велено переводить меня на немецкие слова.
Нянька сердилась:
– Танечка, не говори за фришкой басурманские слова, разные гуты, васы да издасы – тебя Бог накажет.
– А как накажет, нянечка?
– Разорвет пополам.
Положение было трудное, быть разорванной Богом пополам – меня никак не устраивало, и до сих пор я говорю «чего-чего?» вместо «что?» – слегка-удивляя окружающих.
Раньше, когда я была еще совсем маленькая, няня водила меня гулять. Эти прогулки были таинственны, опасны и сладостны. Меня укутывали до глаз, нянька надевала на себя много платков и «полусак», который затягивался двумя тесемками на талии. Мы шли, наши следы отпечатывались на свежем снегу. Нам было велено гулять в гимназическом саду, называвшемся «Зеленый двор». Но мы шли дальше, мы шли за ворота. Это делать было нельзя, но мы с няней это делали. За воротами был другой мир – там ездили извозчики, там был шум, там стоял городовой. Мы шли налево в переулок. В каком-то месте няня ставила меня к стенке, жалобно смотрела на меня и просила: «Танечка, постой одна, а я минтом, однова дыхнуть», – и входила в желтую дверь. Дверь вела в казенку, я это знала, но что такое была эта «казенка», мне было неизвестно.
Я оставалась одна. В вышине надо мной из казенки выходили гигантские, как наш буфет в столовой, багровые мужчины. От них шел пар, как из самовара. Они могли обидеть меня, забрать в мешок, может быть, даже съесть! Я боялась, я дрожала, но стояла стойко, как часовой. Вознаграждение являлось в образе няни с выбившимися седыми космами из-под платка и слезами благодарности.
– Танечка, ты маме-то уж не говори, ты уж – молчок!
Я и без нее знала, что говорить нельзя. Это была первая тайна, познанная мною в жизни, первое слово, которое я должна была держать и держала. Грех и подвиг. Сострадание и ложь. Но главное – сладость тайны…
Обратно мы шли вприпрыжку, покачиваясь и шлепаясь о стены домов. Нянька напевала. Я радовалась ее счастью. Дома прислуга, открывавшая нам дверь, презрительно говорила: «Няня, опять от вас казенкой пахнет!»
Таинственная казенка и был наш грех, но грех, доставляющий необъяснимую радость няньке.
Эти волнующие прогулки скоро кончились, так как однажды, перехватив лишнего в казенке, няня потеряла с моей головы капор и простудила меня…
Круг нянькиной деятельности сужался. Она становилась лишняя в доме. Тогда она с особой рьяностью кинулась топить печки…
Дворник приносил дрова, грохал ими около топки, и няня начинала свещеннодействовать. Я присутствовала. Каждое полено тщательно рассматривалось, оглаживалось, откладывалось, сортировалось. Что-то шепталось, что-то обнюхивалось, некоторые поленья она крестила, некоторым угрожала. Дрова сложной конструкцией укладывались в печку, образуя домик. Появлялась лучина, факелом пылала она в няниной руке и исчезала в домике из поленьев. Дрова занимались разом. На короткое время чугунная дверца закрывалась, и в печке начинало гудеть. Я приносила скамеечки. Когда печку открывали снова, все уже пылало и бушевало внутри нее. И возникало счастье…
Углом своего головного платка нянька вытирала рот, брала в руки кочергу и монотонно (без всяких просьб), как завороженная глядя в огонь, начинала бубнить: «В некоторым царстве, в некоторым государствии, жил да был царь Додон»…
Начало было всегда одинаковое, дальше же следовали никогда не повторяющиеся варианты. Додон был удивителен! Он жил в разных местах: то в райском саду, где на деревьях висели золотые яблоки, где майский жук сватался к стрекозе, а краса-девица была так мала ростом, что жила в хрустальном скворешнике. То Додон управлял государством, помещавшимся на семи китах, то заносило его в ледяной дворец и одеялом ему служила вьюга, а конем ветер. Там, в сказке, все было необыкновенно. Там лиса ходила, нарядившись простой бабой, там осиновый дрючок превращался в добра-молодца, ангелы летали, как птицы, луна разговаривала с солнцем, и, конечно, лились молочные реки в кисельных берегах и мчались тройки, запряженные ветром. Там все вертелось, все кружилось, все было наоборот, против жизни, все переменялось, увлекало, захватывало, удивляло, завораживало и расширяло детскую комнату и детскую жизнь.
Когда няня перехватывала спиртного, то с Додоном у нее устанавливались самые короткие отношения. Она говорила, что он ее свояк, что родом он из их деревни Непрядвы и что до девок был охоч. Он был ее героем. Она любила Додона и была с ним хорошо знакома…
Огонь в печке, Додон, его удивительная жизнь, его мир, так непохожий на наш, рассыпающиеся угли, бесконечная сказка, которая потухала только вместе с печкой, – все это было прекрасно…
Иногда няньку тянуло к реалистическим картинам. Она описывала свою деревню Непрядву, колдуна, живущего у них за околицей, и «кулаверш», которые сидели у него на заборе и все разом улыбались.
– Няня, а кто это такие кулаверши?
– Ну как же, Танечка? Кулаверша это и есть кулаверша!
– А какая она?
– Без ног, без рук – один хвост и голова.
– А как же, нянечка, они без рук, без ног – сидели на заборе?
– Так и сидели посередь забора.
Нянька явно была недовольна моими глупыми вопросами. Вообще лучше было молчать. Молчать и слушать, прижимаясь к ее руке. Одна рука моя, в другой руке кочерга… И опять возникала сказка, опять царь Додон сражался со змеем-горынычем, побеждал неизвестного мне Ерехона («А Ерехон-то был уж такой пакостник, хуже нашей немки-фришки»). Потом Додон вдруг проглатывал весь свет и огонь, которые были на земле, и наступала кромешная тьма. Но не надолго, так как Додон обжирался блинов, его тошнило, и вместе с блинами из него вылетали свет и огонь. И снова на земле становилось светло, и люди сидели у печек.
В нянькиных сказках все было возможно…
Иногда обернешься невзначай или от страха и увидишь в дверях папу, он держит в руках пенсне и улыбается. Ему тоже было интересно слушать. Да что уж тут говорить – все было интересно!..
Совсем пьяная нянька не рассказывала сказок, а сидела на табуретке в кухне (куда я, конечно, пробиралась тайком от мамы и фрейлейн Аделины) и пела жалким тонким голосом только две песни. В одной слов не помню, но припев был странный:
Из-под Вилен, дон, дон, дон —
Четыре дощечки.
Что такое было Вилен, почему из-под них было четыре дощечки? Непонятно. Непонятно, но жалостно. И я няньку жалела. Другую песню помню хорошо:
За серебряной рекой, на златом песочке
Долго девы молодой я искал следочки.
Нянька пела «пясочки», «слядочки». Из глаз ее капали слезы, кухарка Лиза вздыхала и тоже вытирала слезы фартуком. Принималась реветь и я…
Иногда за длительное пьянство няньку рассчитывали. Она собирала вещи в большой узел и, всхлипывая, уходила «со двора». И тут у меня начиналась напряженнейшая работа: я принималась реветь. С утра до вечера, с вечера до ночи – до хрипоты, до повышенной температуры, до полного изнеможения. Утешить меня было нельзя – я все отрицала, всех ненавидела. Маму за то, что она выгнала няню, фрейлейн Аделину за ее глупые немецкие сказки, которыми она пыталась меня утешить, Лизу за то, что она теперь топила печки. Ненавидела весь мир!
В своем горе я доходила до такой развязности, что с ревом врывалась к отцу в кабинет с требованием возврата няньки. Наконец няньку возвращали. Длительность ее отсутствия зависела от состояния моих голосовых связок. Няня истово клялась (в который раз!), что больше в рот не возьмет спиртного, и восстанавливалась в своих правах. Охрипшая и счастливая, я прижималась к ней.
Жизнь входила в свою колею. Опять трещала печка и в ней кипел огонь, опять Додон появлялся на моем горизонте, опять от няни пахло казенкой, опять она владела моей душой.
Удивительно, что при такой страстной любви к няне, я совсем не помню ее лица.
Хорошо помню ее руки – узловатые, жилистые, какие-то скрюченные, какие-то очень цепкие и корявые: по голове погладит – волосы выдерет, за ухо возьмет – как клещами сожмет, раздевает на ночь – так рванет лифчик, что пуговицы летят. Горячую кочергу никогда не прихватывала фартуком: брала голой рукой. Прекрасные нянины руки были как из железа.
На лице помню только рот, когда она держала в нем булавку, да и то это был не рот, а какая-то щель с морщинами по краям, и интересовала меня больше булавка, вернее половина сломанной английской булавки, которой нянька закалывала свой платок, когда мы шли на прогулку. А еще космы седых волос, выбившихся из-под платка. Вот и все, что сохранила память.
ВОЛОДИНЫ СКАЗКИ
Вторым сказочником в доме после няни был мой старший брат Володя, но сказки у него были совсем другие и рассказывал он их при других обстоятельствах. Володины сказки возникали из предметов, которые меня окружали.
Тут необходимо рассказать маленькую предысторию.
Я родилась, когда мои старшие брат и сестра были уже большие дети. Меня не очень ждали – в виде девочки – на этом свете. Почему-то считалось, что уж если кто и родится, так мальчик. Но родилась девочка, к тому же, когда ей не было года, няня простудила ее. Сделалось двустороннее воспаление легких, потом откуда-то прицепилась дизентерия, и она, то есть я, умерла. Доктор сказал: «Девочка умерла, мне здесь делать нечего», – надел шляпу и ушел. Никогда не терявшаяся в беде мама не согласилась с моей смертью и вкатила мне в рот столовую ложку коньяку. Наверное, огненная жидкость оживила ту ниточку жизни, которая еще где-то скрывалась, и сердце мое забилось.
Два месяца мама лечила меня сама (доктора не верили в мое выздоровление), и я постепенно вернулась к жизни.
Получивши в течение одного года три такие травмы, как рождение, смерть и алкогольное опьянение, я, естественно, росла ребенком слабеньким. У меня никогда не было косичек, так как считалось, что волосы отбирают очень много жизненных сил, меня кутали, поили мясным соком и рыбьим жиром.
Умершую и воскресшую, да еще к тому же младшую девочку, все в доме любили, баловали и мало наказывали.
В детстве больше всего на свете я любила слушать сказки, рисовать бумажные куклы и плакать. Плакала я с упоением. Причина для слез находилась всегда: мама плохо на меня посмотрела, не пустили в кухню вылизывать миску, в которой взбивали сливки, выкинули корзину для бумаг из-под письменного стола отца – без моего ведома и осмотра, фрейлейн сделала замечание или кто-нибудь обидел пьяную няньку. Иногда я просто ходила по комнатам и жаловалась всем, что никто меня не любит и не пожалеет (я говорила «не пожилеет»). Словом, плакать можно было много и вволю. Плакала я в детской, уткнувшись поперек своей постели носом в одеяло. И тут всегда неизбежно появлялся мой брат Володя, который вообще не выносил слез, а моих тем более. Он присаживался рядом на постель или вставал на колени на полу (в зависимости от позиции, которую я занимала) и начинал рассказывать мне сказку (или, как я говорила – «про-сказку»). Эти Володины «просказки» никто не слышал, кроме меня, так как шептались они мне на ухо.
– Хочешь, я сделаюсь солнечным зайчиком и буду скакать по комнате, пока ты не перестанешь реветь? – предлагал брат.
– Хочешь, превращусь в Робинзона и посватаюсь к твоему пупсу? (Рев затихал.)
– Посмотри, из печки выбежал уголек и хочет спалить твои бумажные куклы. (Рев усиливался.)
– Не плачь, я буду веточкой за окном, видишь, на ней сидит воробушек? Это ты. Ты будешь Таня-воробушек.
– Расскажи заячью «просказку», – всхлипывающим шепотом требовала я.
И начиналась длинная история про зайцев…
Главным зайцем была я. В моем подчинении было очень много зайцев – все они имели имена, я их помнила, Володя путал, я подсказывала и поправляла его. Веселые эти зайцы дружили с еловыми шишками. Шишки иногда превращались в конфеты и сами лезли маленьким зайчатам в рот. У зайцев был огород под нашим буфетом – они в нем разводили капусту.
Заяц Таня был очень хорошим зайцем. Он никогда не плакал, не сплетничал, не лазил в буфет без спроса, не сопел носом и умел делать красивый реверанс. Другие были похуже, но тоже вполне приличные зайцы.
У зайцев было много родни в разных местах и странах. Они ездили к ней в гости на милой, доброй лошади, которая возила воду на даче в Оболенском. Мне разрешали давать этой лошади сахар с руки, и ее теплые, осторожные губы были очень похожи на Володины, шептавшие мне «просказку» на ухо: такие же теплые и мягкие…
В нашем с Володей чудесном заячьем мире на зеленых круглых лужайках цвели ромашки и одуванчики. Если зайцы вели себя плохо, все ромашки и одуванчики облетали, и лужайка становилась голой, скучной и некрасивой. Наши зайцы ездили на лошади, запряженной в большое корыто, в лес на елку (самая большая елка в лесу была вся украшена золотыми морковками и марципановой капустой).
Ездили они и в цирк (в качестве артистов) показывать свои заячьи фокусы и умение. Один номер приводил меня в восхищение и всегда заставлял смеяться. Дело-то было в том, что на трапециях зайцы раскачивались не на ногах и не на руках, а на ушах. Заяц-акробат подпрыгивал высоко к перекладине, и уши его сами завязывались узелком вокруг нее. И тут уж начиналось бешеное качание под куполом цирка на собственных ушах. Это зрелище вызывало у меня бурный смех, аплодисменты и требование бисировать…
Если у зайцев в их путешествиях на пути встречалась вода – какая-нибудь речка или, скажем там, океан – они спокойно пускались вплавь. Все они были прекрасные пловцы: рулем у них был хвостик, а парусами уши. Плавали они сидя: работали только длинными задними лапами, а в воде чувствовали себя так же прекрасно, как и на суше. Зайцы-мужчины, плавая, курили сигары, а зайцы-дамы брали в дорогу баночки с остатками варенья, которое вылизывали лапкой. Ложечкой они не пользовались, так как в воде ее легко можно было потерять, да и вкуснее было лазить в банку прямо пальцами. (Надо честно признаться, что в вылизывании посуды эти зайцы понимали толк!)
Боже мой, где только ни побывала эта компания зайцев! В прятки играли они в овсах, в салки в актовом зале Первой мужской гимназии, а в жмурки исключительно на луне. Там прохладно и сумерки, и не надо было завязывать глаза, так как два листочка сами слетали с лунного дерева и ложились на глаза тому, кто водил. Лунные зайцы были во всем похожи на земных, если не считать того, что они были насквозь прозрачные. И если кто-нибудь из них без спросу брал из буфета конфету и ел ее, то конфета просвечивалась у них в животе. Капризы, неправда и фискалка тоже просвечивались в лунных зайцах, а веселье, доброта и хорошее знание немецкого языка зажигались на хвостике маленькой звездочкой.
Были у моего брата даже незатейливые стишки про зайцев, которые начинались так:
Таня с зайцами дружила,
«Трусь, трусь, трусь» им говорила…
Из этих стихов родилось мое детское имя. Вызывая из-под буфета зайцев на игру, я, не умея выговаривать букву «р», вместо «трусь, трусь, трусь» говорила «тусь-тусь-тусь». Так и приклеилось ко мне прозвище Туся.
Володины сказки оживляли предметы, меня окружающие, и делали их необыкновенными.
У Нининой чернильницы вырастали руки и ноги, а шишечка на ее крышке превращалась в голову. Закладки, сплющенные в Володиных книжках, стонали по ночам и жаловались на свою трудную жизнь. Папина настольная лампа под зеленым абажуром враждовала с корзинкой для бумаг, стоящей под письменным столом, и не желала светить на нее. Самовар был старшим над чашками и повелевал ими, а мои любимые зайцы выглядывали из всех углов и закоулков. Они улыбались мне, и на щеках у них были ямочки.
Володины сказки открывали иногда другие миры и страны, но чаще всего до них можно было дотронуться рукой. Они были рядом со мной: под буфетом, на книжных полках, в кипящем самоваре, в саду за окном детской, в реке и парке Оболенского. Володины и нянины сказки были разные. Брат делал добрую сказку из окружающей жизни – нянька врывалась, как ураган, в эту жизнь со своей сказкой. Она творила свой мир, дикий и ни на что не похожий.
Нянькин Додон не вмещался в комнату. Он вырывался из печки, крутился волчком, шипел, как уголь, брошенный в воду, гремел громом и снова исчезал в рыжем бешенстве огня.
Додон носился как оглашенный, он дрался, крушил все направо и налево, обжирался блинами, тошнился огнем, храпел – и из его храпа рождались табуны скачущих лошадей. Чихал – и вместе с чихом из него вылетали стрелы.
Додон был ветром, огнем, бурей, ураганом, обвалом в горах и водопадом. Все в нем было новым и незнакомым.
Володины сказки были моим утешением.
Нянькины – ошеломлением.
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Он вошел в мою детскую комнату, одетый в коричневый бархатный костюмчик с белым крахмальным воротничком, белые чулочки и белые башмачки. Белая челочка и белое личико. В руках он держал коробку, которую протягивал мне. Он открывал розовый ротик колечком, но ничего не мог произнести по малости лет или от стеснения – не знаю. Робея и немея, я приняла подарок. Мне было едва ли пять лет, а ему и того меньше, но, безусловно, он был моей первой любовью. Звали этого мальчика Ориком.
В коробке на зеленом, жестком, искусственном мху в специальных углублениях располагалось стадо барашков, там же был и пастух в высокой шапке с длинной палкой в руках. Была и сторожевая собака. Барашки были маленькие и беленькие, как сам мальчик Орик Мы начали играть в барашков. Впрочем, играл один Орик, а я смотрела и тихонько гладила его мягкий бархатный рукавчик. Я полюбила мальчика Орика… Во мне проснулась нежность к его курточке, к его кривым ножкам в белых чулочках, я уступила ему всех барашков и весь стол для игры. Мне все казалось, что кто-то придет и будет его обижать, а я готова была защищать его от всех зол мира…
Откуда, из какой «подземли» взялся этот Орик? Чей он был этот бархатный мальчик? Не знаю, не помню и спросить уже не у кого. Быть может, он еще живет и ходит по земле, плешивый и толстый, и совсем не похожий на барашка. Где он, что он? Может быть, он бандит или гадкий человек, куда прочнее стоящий на своих кривых ногах, чем я?..
Не помню и других встреч с этим Ориком. Помню только, что приходил он с няней, помню, что я думала о нем, ждала и любила его.
БОЛЕЗНЬ ОТЦА
Как это случилось, я не помню. Няня сказала мне, что барин (то есть папа) умирал ночью, что никто в доме не спал – ни мама, ни няня, ни Володя. И что Володя сказал маме в столовой, что он будет ей вместо папы. Нянька плакала от умиления, но мне было смешно и дико слушать – как это вдруг Володя может быть папой? Это была чепуха. Я ничего не понимала. В ту тревожную ночь я крепко спала…
В первые дни болезни меня тоже, видимо, изолировали от всех волнений… Помню уже, когда болезнь отца стала бытом. Она захватила и подчинила себе весь дом…
В квартире тихо, шуметь нельзя. Доктор Лев Сергеевич Бородин – сутулый, красивый, с татарскими глазами и маленькой бородкой человек – каждый день подолгу сидит у нас, иногда ночует. Случается, что приходят сразу несколько докторов, их называют «консилиум». Они все равные – маленькие и большие, толстые и тонкие. Гуськом проходят они в кабинет, а я бегу в переднюю разглядывать их шубы – все на меху и неприятно, незнакомо пахнущие.
В доме тихо. Все делается бесшумно. Запах лекарств проникает даже в детскую. В столовой на выдвижной доске буфета постоянно горит синим пламенем спиртовка. На ней в металлическом ящичке кипятятся какие-то незнакомые блестящие вещички и иголки. Доктор Лев Сергеевич и мама по очереди колют папу этими иголками. Все в доме стало странным и незнакомым. Все заняты, но не мной. Старшая сестра Нина ходит зареванная и совсем не обижает меня.
В доме тихо: папа болен.
Папа болен, но мне не страшно, даже интересно.
Приехала из Юрьева бабушка. Привезла пуховое легкое одеяло и какую-то маленькую розовую атласную иконку. Просто розовая тряпочка, а на ней напечатана икона. Мама недоуменно показывала ее фрейлейн Аделине. Эту иконку надо было класть отцу под подушку, и тогда он быстро выздоровеет. Бабушка проверяла у мамы, лежит ли иконка под подушками. Мама говорила, что лежит, но я-то знала, что не там она лежит, а лежит она у мамы в комнате, в большом зеркальном шкафу, на третьей полке, в саше для носовых платков. Я это видела собственными глазами, когда мама доставала чистый носовой платок…
Бабушка, Мария Ивановна Луговская, была небольшая, рыхлая, седая старушка. На голове носила наколку из черных кружев. Была добрая, смешливая и слезливая. С собой из Юрьева она привезла диковинный медный кофейник, похожий на самовар, с двумя ручками, кран-тиком и с трубой, в которую Лиза подкладывала уголь из печки…
Бабушка вставала поздно. В широкой распашонке, с маленьким узелком седых волос на макушке (еще без наколки) она садилась одна перед своим кофейником в столовой и выпивала его весь целиком. Она доводила этот кофейник до такого состояния, что из него переставал литься кофий. Даже не капал. Откушавши кофию, бабушка начинала морщить нос, давая понять, что она непрочь чихнуть. Тогда я, конечно находящаяся рядом, должна была быстро вынуть из бабушкиного ридикюля носовой платок и подать ей его со словами, которым она меня научила:
– Салфет вашей милости.
– Красота вашей чести, – важно отвечала бабушка.
– Любовью вас дарю, – говорю я выученную назубок фразу.
– Покорно вас благодарю. – И бабушка с наслаждением чихала.
Я тихонько повизгивала от восторга.
В кофепитии было что-то цирковое, а бабушка со своей лысоватой седой головой и двойным подбородком выступала в роли фокусника. Это было достойно уважения!
Няня тоже относилась заинтересованно к бабушкиному кофепитию. Впрочем, раздевая меня, она говорила восхищенно: «Сегодня утром, однава дыхнуть, старая барыня опять целый самовар кохию усидела».
С юрьевской бабушкой мы сошлись быстро. Первый раз в моей жизни, в нашем доме, у меня появилась подруга, равная мне по интересам. Мы ссорились с ней и мирились. Мы плакали с ней и смеялись. У нас иногда бывали даже небольшие драки. Бабушка научила меня играть в карты, в «пьяницу» и в «мельника», открыла во мне темперамент азартного игрока, и мы жарили с ней целыми днями в эти две игры. Когда выигрывала я, она обижалась, горько вздыхала и, приговаривая: «да что это за беда за этакая», принималась поспешно тасовать колоду, надеясь на реванш. Наигравшись в карты, она садилась к окну читать Нинины книги. Главным образом Чарскую. В нашем доме Чарскую не держали, но сестре Нине давали эти книжки ее гимназические подруги. Когда нужно было возвращать какую-нибудь очередную «Княжну Джаваху» или «Лизочкино счастье» и сестра отбирала книгу у бабушки, то та горько плакала и жаловалась маме, что ее обижают. Это было смешно даже мне…
Потихоньку смерть отступала от постели отца, появилась надежда на его выздоровление. Бабушка стала собираться обратно в Юрьев, где она жила у старшей дочери.
Бабушка уехала, а мы продолжали жить своей жизнью, где все зависело от состояния больного – его температуры, его пульса, его дыхания…
Папа лежал в кабинете на диване, под новым шелковым пуховым бабушкиным одеялом. Лежал на спине, двигаться ему было запрещено. Володя или мама читали ему вслух. Потом гимназический столяр Борис сделал наклонный столик-пюпитр, который можно было ставить на постель. На этот столик клали книгу, он читал сам, а все по очереди (даже я) перелистывали страницы.
Много-много прошло времени, прежде чем отец смог сам листать страницы. Болел он около года (теперь это называется инфаркт, а раньше как-то по-другому).
Ему нельзя было шевелиться, а он был непослушный и непривычный к болезни, да и молодой еще – ему было только сорок лет. Около больного постоянно кто-нибудь дежурил, чаще всего мама. Но иногда днем, когда старшие брат и сестра были в гимназии, а маме надо было ехать в Охотный ряд за покупками, около отца она оставляла меня, потому что, как она говорила, папа меня слушался, а фрейлейн Аделину не слушался.
Мама отзывала меня к себе в комнату и строго спрашивала: «Таня, что ты будешь делать, если папе будет плохо?» И как хорошо заученный урок, я отвечала: «К ножкам горячую грелку, к ручкам горячую грелку, на сердце (вот сюда) холодную, и капельки из синего флакона, а фрейлейн Аделина должна бежать в гимназию и звонить по телефону доктору Льву Сергеевичу» (в квартире у нас телефона не было). – «Все правильно», – говорила мама и уезжала.
Мы оставались одни с папой в большом затемненном кабинете. Он был в моей власти, я была старшая над ним. Он лежал такой большой и грустный, беспомощный и зависимый от меня. Поверх одеяла лежали руки, какие-то голубые, веснушки на них выделялись особенно ясно. На правой руке обручальное кольцо… И голос совсем не его, и никакой строгости в нем и помину не было. Оставлять его в этом печальном виде было невозможно, надо было срочно что-то предпринимать.
Я была маленькая мерзавка и знала уже свою власть над отцом. «Лежи, – говорила я строго, – лежи и не двигайся». – «Мне скучно, Таня», – тихо отвечал он.
– Рассказать тебе что-нибудь, папа?
– Ну расскажи.
– Про что?
– Про что хочешь.
– Может быть, что-нибудь из священной истории? – спрашивала я светским голосом.
– Это было бы недурно, Таня.
В мутных, дымных серых глазах его пробегал голубой огонек. Клюнуло! И я, абсолютно владея собой, выходила на середину комнаты, принимала позу и начинала бубнить преподанную мне нянькой (с ее словечками) историю про Ноев ковчег:
– Ной был мужик с головой. Когда образовался потоп, он сел на ковчег, взямши с собой семь пар видимых животных и семь пар невидимых животных…
Отец закрывал лицо газетой, но я видела, я видела, как под одеялом трясся его живот. Этот трясущийся живот заменял мне аплодисменты. Цель была достигнута – он перестал быть грустным.
Чтобы закрепить занятую позицию, я начинала читать стихи из «Светлячка»:
Сын нимфин на море купался
И вдруг чудовищ испугался.
Дитя им палкой угрожает,
Хвостом же слезки вытирает.
Я была уже большая девочка (мне было пять лет) и великолепно знала, что надо говорить не «сын нимфин», а «сын нимфы». Но чего не скажешь, каких нарушений не сделаешь, чтобы лишний раз увидеть шевелящиеся усы, прикрывающие улыбку, и трясущийся живот под одеялом. А главное, надо было рассеять, разогнать, выгнать из кабинета этот угар болезни и безнадежной безрадостности. Да, мама была права, я умела его развлекать! У меня была приготовлена целая программа: чтение стихов, рассказы из священной истории, пение и даже танцы…
Время проходило, а мама приходила, и я гордо удалялась из кабинета в детскую с полным сознанием своей необходимости не только родителям, но и всему человечеству.
На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу Татьяна Луговская — Как знаю, как помню, как умею, Татьяна Луговская . Жанр: Биографии и Мемуары. Онлайн библиотека дает возможность прочитать весь текст и даже без регистрации и СМС подтверждения на нашем литературном портале kniga-online.org.
ВОЛОДИНЫ СКАЗКИ
Вторым сказочником в доме после няни был мой старший брат Володя, но сказки у него были совсем другие и рассказывал он их при других обстоятельствах. Володины сказки возникали из предметов, которые меня окружали.
Тут необходимо рассказать маленькую предысторию.
Я родилась, когда мои старшие брат и сестра были уже большие дети. Меня не очень ждали — в виде девочки — на этом свете. Почему-то считалось, что уж если кто и родится, так мальчик. Но родилась девочка, к тому же, когда ей не было года, няня простудила ее. Сделалось двустороннее воспаление легких, потом откуда-то прицепилась дизентерия, и она, то есть я, умерла. Доктор сказал: «Девочка умерла, мне здесь делать нечего», — надел шляпу и ушел. Никогда не терявшаяся в беде мама не согласилась с моей смертью и вкатила мне в рот столовую ложку коньяку. Наверное, огненная жидкость оживила ту ниточку жизни, которая еще где-то скрывалась, и сердце мое забилось.
Два месяца мама лечила меня сама (доктора не верили в мое выздоровление), и я постепенно вернулась к жизни.
Получивши в течение одного года три такие травмы, как рождение, смерть и алкогольное опьянение, я, естественно, росла ребенком слабеньким. У меня никогда не было косичек, так как считалось, что волосы отбирают очень много жизненных сил, меня кутали, поили мясным соком и рыбьим жиром.
Умершую и воскресшую, да еще к тому же младшую девочку, все в доме любили, баловали и мало наказывали.
В детстве больше всего на свете я любила слушать сказки, рисовать бумажные куклы и плакать. Плакала я с упоением. Причина для слез находилась всегда: мама плохо на меня посмотрела, не пустили в кухню вылизывать миску, в которой взбивали сливки, выкинули корзину для бумаг из-под письменного стола отца — без моего ведома и осмотра, фрейлейн сделала замечание или кто-нибудь обидел пьяную няньку. Иногда я просто ходила по комнатам и жаловалась всем, что никто меня не любит и не пожалеет (я говорила «не пожилеет»). Словом, плакать можно было много и вволю. Плакала я в детской, уткнувшись поперек своей постели носом в одеяло. И тут всегда неизбежно появлялся мой брат Володя, который вообще не выносил слез, а моих тем более. Он присаживался рядом на постель или вставал на колени на полу (в зависимости от позиции, которую я занимала) и начинал рассказывать мне сказку (или, как я говорила — «про-сказку»). Эти Володины «просказки» никто не слышал, кроме меня, так как шептались они мне на ухо.
— Хочешь, я сделаюсь солнечным зайчиком и буду скакать по комнате, пока ты не перестанешь реветь? — предлагал брат.
— Хочешь, превращусь в Робинзона и посватаюсь к твоему пупсу? (Рев затихал.)
— Посмотри, из печки выбежал уголек и хочет спалить твои бумажные куклы. (Рев усиливался.)
— Не плачь, я буду веточкой за окном, видишь, на ней сидит воробушек? Это ты. Ты будешь Таня-воробушек.
— Расскажи заячью «просказку», — всхлипывающим шепотом требовала я.
И начиналась длинная история про зайцев…
Главным зайцем была я. В моем подчинении было очень много зайцев — все они имели имена, я их помнила, Володя путал, я подсказывала и поправляла его. Веселые эти зайцы дружили с еловыми шишками. Шишки иногда превращались в конфеты и сами лезли маленьким зайчатам в рот. У зайцев был огород под нашим буфетом — они в нем разводили капусту.
Заяц Таня был очень хорошим зайцем. Он никогда не плакал, не сплетничал, не лазил в буфет без спроса, не сопел носом и умел делать красивый реверанс. Другие были похуже, но тоже вполне приличные зайцы.
У зайцев было много родни в разных местах и странах. Они ездили к ней в гости на милой, доброй лошади, которая возила воду на даче в Оболенском. Мне разрешали давать этой лошади сахар с руки, и ее теплые, осторожные губы были очень похожи на Володины, шептавшие мне «просказку» на ухо: такие же теплые и мягкие…
В нашем с Володей чудесном заячьем мире на зеленых круглых лужайках цвели ромашки и одуванчики. Если зайцы вели себя плохо, все ромашки и одуванчики облетали, и лужайка становилась голой, скучной и некрасивой. Наши зайцы ездили на лошади, запряженной в большое корыто, в лес на елку (самая большая елка в лесу была вся украшена золотыми морковками и марципановой капустой).
Ездили они и в цирк (в качестве артистов) показывать свои заячьи фокусы и умение. Один номер приводил меня в восхищение и всегда заставлял смеяться. Дело-то было в том, что на трапециях зайцы раскачивались не на ногах и не на руках, а на ушах. Заяц-акробат подпрыгивал высоко к перекладине, и уши его сами завязывались узелком вокруг нее. И тут уж начиналось бешеное качание под куполом цирка на собственных ушах. Это зрелище вызывало у меня бурный смех, аплодисменты и требование бисировать…
Если у зайцев в их путешествиях на пути встречалась вода — какая-нибудь речка или, скажем там, океан — они спокойно пускались вплавь. Все они были прекрасные пловцы: рулем у них был хвостик, а парусами уши. Плавали они сидя: работали только длинными задними лапами, а в воде чувствовали себя так же прекрасно, как и на суше. Зайцы-мужчины, плавая, курили сигары, а зайцы-дамы брали в дорогу баночки с остатками варенья, которое вылизывали лапкой. Ложечкой они не пользовались, так как в воде ее легко можно было потерять, да и вкуснее было лазить в банку прямо пальцами. (Надо честно признаться, что в вылизывании посуды эти зайцы понимали толк!)
Боже мой, где только ни побывала эта компания зайцев! В прятки играли они в овсах, в салки в актовом зале Первой мужской гимназии, а в жмурки исключительно на луне. Там прохладно и сумерки, и не надо было завязывать глаза, так как два листочка сами слетали с лунного дерева и ложились на глаза тому, кто водил. Лунные зайцы были во всем похожи на земных, если не считать того, что они были насквозь прозрачные. И если кто-нибудь из них без спросу брал из буфета конфету и ел ее, то конфета просвечивалась у них в животе. Капризы, неправда и фискалка тоже просвечивались в лунных зайцах, а веселье, доброта и хорошее знание немецкого языка зажигались на хвостике маленькой звездочкой.
Были у моего брата даже незатейливые стишки про зайцев, которые начинались так:
Таня с зайцами дружила,
«Трусь, трусь, трусь» им говорила…
Из этих стихов родилось мое детское имя. Вызывая из-под буфета зайцев на игру, я, не умея выговаривать букву «р», вместо «трусь, трусь, трусь» говорила «тусь-тусь-тусь». Так и приклеилось ко мне прозвище Туся.
Володины сказки оживляли предметы, меня окружающие, и делали их необыкновенными.
Беспалова
Т.В.
Произведения
для литературного чтения
на родном
русском языке для 2 класса
Содержание
|
Елена |
2 |
|
Татьяна Луговская. |
2 |
|
Лидия |
4 |
|
Лев |
5 |
|
Виталий |
6 |
|
Борис |
7 |
|
Евгений |
8 |
|
Виктор |
9 |
|
Сергей |
10 |
|
Лев |
11 |
|
Марина |
11 |
|
Сергей |
12 |
|
Виктор |
12 |
|
Наталья |
14 |
|
Елена |
16 |
|
Лев |
17 |
|
Владимир |
17 |
|
М. |
20 |
|
Максим Яковлев. Сергий Радонежский приходит на |
20 |
|
Ирина |
23 |
|
Иван |
23 |
|
Песни-веснянки |
24 |
|
Любовь |
25 |
|
Василий |
26 |
|
Александр |
26 |
|
Аполлон |
26 |
|
Аполлон |
26 |
|
Иван |
27 |
|
Любовь |
27 |
|
Юрий |
28 |
|
Михаил |
28 |
|
Владимир Солоухин. Трава |
29 |
|
Елена |
29 |
Елена
Егорова Нянины сказки (Глава из книги «Детство Александра Пушкина»)
Прохладным
сентябрьским вечером дождь мерно стучит в окно, барабанит по крыше, а ветер в
саду разгулялся, срывает с деревьев начавшие желтеть листья. В горнице тепло и
уютно: заботливая Параша протопила печку. Маленький Лёвушка спит в своей
комнатке под присмотром горничной. Старшие дети сидят тихо вокруг няни и
слушают. Напевный голос Арины Родионовны звучит негромко, задушевно, погружая
маленьких слушателей в волшебный мир народной сказки:
«В
некотором царстве-государстве жил-был царь Султан Султанович турецкий. Задумал
он жениться да не нашёл по своему нраву никого. Подслушал он однажды разговор
трёх сестёр. ..»
Дети
затаили дыхание. Николенька забрался к няне на колени. На подушке рядом с Олей
сладко дремлет Омфала. Саша не шелохнётся на стуле, слушает…
«Долго
плавали царица с царевичем в засмолённой бочке. Наконец море выкинуло их на
остров. Сын поднатужился, обручи лопнули, и вышли царевич с царицей на свет.
Сын избрал место, с благословения матери выстроил город и стал в оном жить да
править.
Скоро
сказка сказывается, да не скоро дело делается. Плывёт мимо корабль. Царевич
остановил корабельщиков и принял как дорогих гостей. Узнав, что едут они к
государю Султану Султановичу, обратился в муху и полетел вслед.
Приплыли
корабельщики, пошли к царю, и царевич за ними. Мачеха хочет его поймать, а он
никак не даётся. Гости рассказывают царю о новом государстве и о чудесном
отроке – ноги по колено серебряные, руки по локоть золотые, во лбу звезда, на
затылке месяц.
—
Ах! — говорит царь. – Поеду посмотреть на чудо.
—
Да что это за чудо! – отговаривает его мачеха. — Вот что чудо: у моря-лукоморья
стоит дуб, а на том дубу золотые цепи, и по тем цепям ходит кот: вверх идёт —
сказки сказывает, вниз идёт — песни поёт.
Царевич
прилетел домой и с благословения матушки перенёс к дворцу чудный дуб…»
Детям
интересно узнать, что дальше было. Как сквозь сон слышат они: кто-то начал
скрестись в дверь. Потом снизу показалась когтистая лапка, потянула дверь на
себя, и в горницу проскользнул довольный, сытый Васька. Кот зевнул, потянулся и
подошёл к детям, выбирая, у кого бы устроиться на коленях. Омфала приоткрыла
один глаз и тихо заворчала. Васька отошёл от Оли, мягко вспрыгнул на Сашины
колени, потоптался и улёгся клубком. Саша тихонько поглаживает Ваську, тот
умиротворённо урчит, а мальчику чудится, будто кот вместе с няней сказку
сказывает.
Татьяна Луговская. Как знаю, как помню, как умею
НЯНЯ,
ПЕЧКА И СКАЗКА
Дворник
приносил дрова, грохал ими около топки, и няня начинала свещеннодействовать. Я
присутствовала. Каждое полено тщательно рассматривалось, оглаживалось,
откладывалось, сортировалось. Что-то шепталось, что-то обнюхивалось, некоторые
поленья она крестила, некоторым угрожала. Дрова сложной конструкцией
укладывались в печку, образуя домик. Появлялась лучина, факелом пылала она в
няниной руке и исчезала в домике из поленьев. Дрова занимались разом. На
короткое время чугунная дверца закрывалась, и в печке начинало гудеть. Я
приносила скамеечки. Когда печку открывали снова, все уже пылало и бушевало
внутри нее. И возникало счастье…
Углом
своего головного платка нянька вытирала рот, брала в руки кочергу и монотонно
(без всяких просьб), как завороженная глядя в огонь, начинала бубнить: «В
некоторым царстве, в некоторым государствии, жил да был царь Додон»…
Начало
было всегда одинаковое, дальше же следовали никогда не повторяющиеся варианты.
Додон был удивителен! Он жил в разных местах: то в райском саду, где на
деревьях висели золотые яблоки, где майский жук сватался к стрекозе, а
краса-девица была так мала ростом, что жила в хрустальном скворешнике. То Додон
управлял государством, помещавшимся на семи китах, то заносило его в ледяной
дворец и одеялом ему служила вьюга, а конем ветер. Там, в сказке, все было
необыкновенно. Там лиса ходила, нарядившись простой бабой, там осиновый дрючок
превращался в добра-молодца, ангелы летали, как птицы, луна разговаривала с
солнцем, и, конечно, лились молочные реки в кисельных берегах и мчались тройки,
запряженные ветром. Там все вертелось, все кружилось, все было наоборот, против
жизни, все переменялось, увлекало, захватывало, удивляло, завораживало и
расширяло детскую комнату и детскую жизнь.
Огонь
в печке, Додон, его удивительная жизнь, его мир, так непохожий на наш,
рассыпающиеся угли, бесконечная сказка, которая потухала только вместе с
печкой, — все это было прекрасно…
Хорошо
помню ее руки — узловатые, жилистые, какие-то скрюченные, какие-то очень цепкие
и корявые: по голове погладит — волосы выдерет, за ухо возьмет — как клещами
сожмет, раздевает на ночь — так рванет лифчик, что пуговицы летят. Горячую
кочергу никогда не прихватывала фартуком: брала голой рукой. Прекрасные нянины
руки были как из железа.
ВОЛОДИНЫ
СКАЗКИ
В
детстве больше всего на свете я любила слушать сказки, рисовать бумажные куклы
и плакать. Плакала я с упоением. Причина для слез находилась всегда: мама плохо
на меня посмотрела, не пустили в кухню вылизывать миску, в которой взбивали
сливки, выкинули корзину для бумаг из-под письменного стола отца — без моего
ведома и осмотра, фрейлейн сделала замечание или кто-нибудь обидел пьяную
няньку. Иногда я просто ходила по комнатам и жаловалась всем, что никто меня не
любит и не пожалеет (я говорила «не пожилеет»). Словом, плакать можно было
много и вволю. Плакала я в детской, уткнувшись поперек своей постели носом в
одеяло. И тут всегда неизбежно появлялся мой брат Володя, который вообще не
выносил слез, а моих тем более. Он присаживался рядом на постель или вставал на
колени на полу (в зависимости от позиции, которую я занимала) и начинал
рассказывать мне сказку (или, как я говорила — «про-сказку»). Эти Володины
«просказки» никто не слышал, кроме меня, так как шептались они мне на ухо.
— Хочешь,
я сделаюсь солнечным зайчиком и буду скакать по комнате, пока ты не перестанешь
реветь? — предлагал брат.
— Хочешь,
превращусь в Робинзона и посватаюсь к твоему пупсу? (Рев затихал.)
— Посмотри,
из печки выбежал уголек и хочет спалить твои бумажные куклы. (Рев усиливался.)
— Не
плачь, я буду веточкой за окном, видишь, на ней сидит воробушек? Это ты. Ты
будешь Таня-воробушек.
— Расскажи
заячью «просказку», — всхлипывающим шепотом требовала я.
И
начиналась длинная история про зайцев…
Главным
зайцем была я. В моем подчинении было очень много зайцев — все они имели имена,
я их помнила, Володя путал, я подсказывала и поправляла его. Веселые эти зайцы
дружили с еловыми шишками. Шишки иногда превращались в конфеты и сами лезли
маленьким зайчатам в рот. У зайцев был огород под нашим буфетом — они в нем
разводили капусту.
Заяц
Таня был очень хорошим зайцем. Он никогда не плакал, не сплетничал, не лазил в
буфет без спроса, не сопел носом и умел делать красивый реверанс. Другие были
похуже, но тоже вполне приличные зайцы.
У
зайцев было много родни в разных местах и странах. Они ездили к ней в гости на
милой, доброй лошади, которая возила воду на даче в Оболенском. Мне разрешали
давать этой лошади сахар с руки, и ее теплые, осторожные губы были очень похожи
на Володины, шептавшие мне «просказку» на ухо: такие же теплые и мягкие…
В
нашем с Володей чудесном заячьем мире на зеленых круглых лужайках цвели ромашки
и одуванчики. Если зайцы вели себя плохо, все ромашки и одуванчики облетали, и
лужайка становилась голой, скучной и некрасивой. Наши зайцы ездили на лошади,
запряженной в большое корыто, в лес на елку (самая большая елка в лесу была вся
украшена золотыми морковками и марципановой капустой).
Ездили
они и в цирк (в качестве артистов) показывать свои заячьи фокусы и умение. Один
номер приводил меня в восхищение и всегда заставлял смеяться. Дело-то было в
том, что на трапециях зайцы раскачивались не на ногах и не на руках, а на ушах.
Заяц-акробат подпрыгивал высоко к перекладине, и уши его сами завязывались
узелком вокруг нее. И тут уж начиналось бешеное качание под куполом цирка на
собственных ушах. Это зрелище вызывало у меня бурный смех, аплодисменты и
требование бисировать…
Если
у зайцев в их путешествиях на пути встречалась вода — какая-нибудь речка или,
скажем там, океан — они спокойно пускались вплавь. Все они были прекрасные
пловцы: рулем у них был хвостик, а парусами уши. Плавали они сидя: работали
только длинными задними лапами, а в воде чувствовали себя так же прекрасно, как
и на суше. Зайцы-мужчины, плавая, курили сигары, а зайцы-дамы брали в дорогу
баночки с остатками варенья, которое вылизывали лапкой. Ложечкой они не
пользовались, так как в воде ее легко можно было потерять, да и вкуснее было
лазить в банку прямо пальцами. (Надо честно признаться, что в вылизывании
посуды эти зайцы понимали толк!)
Были
у моего брата даже незатейливые стишки про зайцев, которые начинались так:
Таня
с зайцами дружила,
«Трусь,
трусь, трусь» им говорила…
Из
этих стихов родилось мое детское имя. Вызывая из-под буфета зайцев на игру, я,
не умея выговаривать букву «р», вместо «трусь, трусь, трусь» говорила
«тусь-тусь-тусь». Так и приклеилось ко мне прозвище Туся.
Володины
сказки оживляли предметы, меня окружающие, и делали их необыкновенными.
У
Нининой чернильницы вырастали руки и ноги, а шишечка на ее крышке превращалась
в голову. Закладки, сплющенные в Володиных книжках, стонали по ночам и
жаловались на свою трудную жизнь. Папина настольная лампа под зеленым абажуром
враждовала с корзинкой для бумаг, стоящей под письменным столом, и не желала
светить на нее. Самовар был старшим над чашками и повелевал ими, а мои любимые
зайцы выглядывали из всех углов и закоулков. Они улыбались мне, и на щеках у
них были ямочки.
Володины
сказки открывали иногда другие миры и страны, но чаще всего до них можно было
дотронуться рукой. Они были рядом со мной: под буфетом, на книжных полках, в
кипящем самоваре, в саду за окном детской, в реке и парке Оболенского. Володины
и нянины сказки были разные. Брат делал добрую сказку из окружающей жизни —
нянька врывалась, как ураган, в эту жизнь со своей сказкой. Она творила свой
мир, дикий и ни на что не похожий.
Нянькин
Додон не вмещался в комнату. Он вырывался из печки, крутился волчком, шипел,
как уголь, брошенный в воду, гремел громом и снова исчезал в рыжем бешенстве
огня.
Додон
носился как оглашенный, он дрался, крушил все направо и налево, обжирался
блинами, тошнился огнем, храпел — и из его храпа рождались табуны скачущих
лошадей. Чихал — и вместе с чихом из него вылетали стрелы.
Додон
был ветром, огнем, бурей, ураганом, обвалом в горах и водопадом. Все в нем было
новым и незнакомым.
Володины
сказки были моим утешением.
Нянькины
— ошеломлением.
Лидия
Чуковская. Памяти детства. Мой отец Корней Чуковский (Отрывки)
Гладь
почти безветренная. Мелкие волнишки мирно толкаются о борт. Широкий след за
кормой. Простор, вода и небо. Воздух такой чистый, что каждый вздох ощущаешь
как глоток свежей воды. Лодка идет легко, спокойно, устойчиво, чуть-чуть
пожурчивает вода за бортом.
Хочется
не говорить, а молчать.
Мы
и молчим, глядя, как удаляется берег.
Вот
уже и первая чайка. Вот уже не видно камней на нашем берегу. Вот уже и людей не
видать. Вот уже слились в одну густую, плотную, черную толпу редкие прибрежные
сосны, и за этой колышущейся толпой неразличима наша дача.
И
здесь, на Финском заливе, ясный солнечный день, мерные взмахи весел, ожидающие
лица детей рождали в нем жажду читать стихи. Жажда эта жила в нем неутолимо:
поэзия смолоду и до последнего дня была для него неиссякаемым источником
наслаждения. Стихи он читал постоянно и всегда вслух: себе самому, один на
один, у себя в кабинете, студентам на песке у моря; друзьям-соседям, нам по
дороге на почту. И уж конечно в море. Тут, в море, он давал себе полную волю.
В
голосе его, когда он читал великую лирику, появлялось некое колдовство,
захватывавшее и его и нас.
– Зыбь
ты великая! Зыбь ты морская! – начинал он, закидывая весла и чуть-чуть
раскачиваясь. – Чей это праздник так празднуешь ты?
Волны
несутся, гремя и сверкая,
Чуткие
звезды глядят с высоты, —
читал он
широким, певучим, страстным, словно молящимся голосом, и мне казалось, что
теперь уже лодка покоряется не волнам и веслам, а весла и волны – и все вокруг
– звучанию голоса.
Дикою, грозною
ласкою полны,
Бьют в наш корабль средиземные волны.
Вот над кормою стал капитан:
Визгнул свисток его. Братствуя с паром,
Ветру наш парус раздался не даром:
Пенясь, глубоко вздохнул океан!
Мчимся. Колеса
могучей машины
Роют волнистое лоно пучины.
Парус надулся. Берег исчез.
Наедине мы с морскими волнами;
Только что чайка вьется за нами
Белая, рея меж вод и небес.
Сколько
тут непонятных слов и названий! А он не объяснял ничего, ровнехонько ни единого
слова, только торжественно возглашал: «Баратынский». И мы вместе с ним
отдавались энергии ритма, наверное, не менее мощной в этих стихах, чем энергия
ветра.
«Парус
надулся. Берег исчез».
Берег
казался еле приметной чертой. Пора было купаться.
Сначала
он плавает неподалеку вокруг лодки, окатывая меня и Бобу, и бедные штаны и
рубахи тучами брызг. Потом вымахивает далеко. Потом возвращается и, скомандовав
себе самому: «Раз, два, три!» – на наших глазах исчезает.
Это
главная минута купанья. И не высказываемый мною самый мучительный страх моей
детской жизни.
Его
больше нет. Я смотрю на то место, где скрылась его голова, и шепчу про себя:
«Вынырни, вынырни, вынырни». Я не понимаю, как Боба в эту минуту может возиться
со своим черпаком, а Коля и Матти хохотать, шлепая друг дружку по спинам. Его
больше нет. Сколько раз на наших глазах он нырял, исчезая, но всегда
возвращался обратно. А что, если теперь не вернется – никогда? Только что были
его глаза, его руки, ноги, голос, волосы – и – никогда. Останется одна рубаха.
Я смотрю и смотрю. Вынырни, вынырни, вынырни! И вот наконец – голова. Всегда
она является не там, где скрылась и куда я изо всех сил гляжу, – а
поодаль, в другом неожиданном месте, плечи и голова с облизанными водой
волосами, голова сама какая-то струящаяся, потому что с нее струями льется
вода. Мощное фырканье. Он побывал, наверное, не менее чем на глубине десяти
пап.
Я
спасена. Он здесь.
Согревшись
греблей, он снова начинает читать стихи, на этот раз веселые, подмигивающие,
озорные, пляшущие…
Лев Кузьмин. Дом с колокольчиком
Стоит
небольшой старинный
Дом над зелёным бугром.
У входа висит колокольчик,
Украшенный серебром.
И если ты ласково, тихо
В него позвонишь,
То поверь,
Что в доме проснётся старушка,
Седая-седая старушка,
И сразу откроет дверь.
Старушка приветливо скажет:
— Входи, не стесняйся, дружок!
На стол самовар поставит,
В печи испечёт пирожок
И будет с тобою вместе
Чаёк распивать дотемна,
И старую добрую сказку
Расскажет тебе она.
Но если,
Но если,
Но если
Ты в этот уютный дом
Начнёшь кулаком стучаться,
Поднимешь трезвон и гром,
То выйдет к тебе
Не старушка,
А выскочит Баба-Яга,
И не слыхать тебе сказки
И не видать пирога!
Виталий
Бианки. Сова
Сидит
Старик, чай пьёт. Не пустой пьёт — молоком белит. Летит мимо Сова.
—
Здорово, — говорит, — друг!
А
Старик ей:
—
Ты, Сова, — отчаянная голова, уши торчком, нос крючком. Ты от солнца
хоронишься, людей сторонишься, — какой я тебе друг!
Рассердилась
Сова.
—
Ладно же, — говорит, — старый! Не стану по ночам к тебе на луг летать, мышей
ловить, — сам лови.
А
Старик:
—
Вишь, чем пугать вздумала! Утекай, пока цела.
Улетела
Сова, забралась в дуб, никуда из дупла не летит.
Ночь
пришла. На Стариковом лугу мыши в норах свистят-перекликаются:
—
Погляди-ка, кума, не летит ли Сова — отчаянная голова, уши торчком, нос
крючком?
Мышь
Мыши в ответ:
—
Не видать Совы, не слыхать Совы. Нынче нам на лугу раздолье, нынче нам на лугу
приволье.
Мыши
из нор поскакали, мыши по лугу побежали.
А
Сова из дупла:
—
Хо-хо-хо, Старик! Гляди, как бы худа не вышло: мыши-то, говорят, на охоту
пошли.
—
А пускай идут, — говорит Старик. — Чай, мыши не волки, не зарежут тёлки.
Мыши
по лугу рыщут, шмелиные гнёзда ищут, землю роют, шмелей ловят.
А
Сова из дупла:
—
Хо-хо-хо, Старик! Гляди, как бы хуже не вышло: все шмели твои разлетелись.
—
А пускай летят, — говорит Старик. — Что от них толку: ни мёду, ни воску, —
волдыри только.
Стоит
на лугу клевер кормовистый, головой к земле виснет, а шмели гудят, с луга прочь
летят, на клевер не глядят, цветень с цветка на цветок не носят.
А
Сова из дупла:
—
Хо-хо-хо, Старик! Гляди, как бы хуже не вышло: не пришлось бы тебе самому
цветень с цветка на цветок разносить.
—
И ветер разнесёт, — говорит Старик, а сам в затылке скребёт.
По
лугу ветер гуляет, цветень наземь сыплет. Не попадает цветень с цветка на
цветок, — не родится клевер на лугу; не по нраву это Старику.
А
Сова из дупла:
—
Хо-хо-хо, Старик! Корова твоя мычит, клеверу просит, — трава, слышь, без
клеверу что каша без масла.
Молчит
Старик, ничего не говорит.
Была
Корова с клевера здорова, стала Корова тощать, стала молока сбавлять; пойло
лижет, а молоко всё жиже да жиже.
А
Сова из дупла:
—
Хо-хо-хо, Старик! Говорила я тебе: придёшь ко мне кланяться.
Старик
бранится, а дело-то не клеится. Сова в дубу сидит, мышей не ловит. Мыши по лугу
рыщут, шмелиные гнёзда ищут. Шмели на чужих лугах гуляют, а на Стариков луг и
не заглядывают. Клевер на лугу не родится. Корова без клеверу тощает. Молока у
Коровы мало. Вот и чай белить Старику нечем стало.
Нечем
стало Старику чай белить — пошёл Старик Сове кланяться:
—
Уж ты, Совушка-вдовушка, меня из беды выручай, нечем стало мне, старому, белить
чай.
А
Сова из дупла глазищами луп-луп, ножищами туп-туп.
—
То-то, — говорит, — старый. Дружно не грузно, а врозь хоть брось. Думаешь,
мне-то легко без твоих мышей?
Простила
Сова Старика, вылезла из дупла, полетела на луг мышей пугать.
Сова
полетела мышей ловить.
Мыши
со страху попрятались в норы.
Шмели
загудели над лугом, принялись с цветка на цветок летать.
Клевер
красный стал на лугу наливаться.
Корова
пошла на луг клевер жевать.
Молока
у Коровы много.
Стал
Старик молоком чай белить, чай белить — Сову хвалить, к себе в гости звать,
уваживать.
Борис
Шергин. Плотник думает головой
Ваня
и бабушка наблюдали работу плотника, который обновлял ограду и крыльцо напротив
Ванина окна.
– Гляди,
Ваня, – говорила бабушка, – плотник выбросил дряблые доски из ограды.
На месте остались крепкие доски, но между ними оказались просветы разной
ширины. Чтоб закрыть просветы, плотник взял новые доски и начал обтесывать их,
сообразуясь с шириной просветов. Теперь плотник посадил новые доски между
старыми. И так они плотно сели меж старыми, будто век тут сидели. Теперь хоть
молотом бей – ни одна доска не выскочит. И гвоздей не надо. Не гвозди держат, а
добрая пригонка.
Теперь
мастер принялся за крыльцо. Крыша на крылечке была как шапка старая: виду не
давала, на глаза лезла. Подпирали крышу два столба, вкопанные в землю. Плотник
выкопал оба столба и выдернул из земли. Оказалось, столбы сильно подгнили.
Плотник начисто огрубил всю гниль и слегка обтесал столбы снизу. Далее, на
место нижней худенькой ступеньки он кладет добрую. По концам колоды вырубил
гнезда и одним махом посадил в эти гнезда оба столба.
Так
все рублено и тесано соразмерно, будто эти столбы выросли из колоды и
верхушками своими приподняли кровлю крыльца. Крылечко теперь смотрит
молодцевато и щеголевато.
Теперь
плотник сдумал привести крылечные столбы в полную красоту. Он вырезал на
столбах пояски, будто браслеты надел. Звенья между поясками сверху и снизу
закруглил.
Получилось,
будто столбы составлены из кувшинчиков. Просто все и нехитро, но как нарядно!
Простая снасть топор, но в умелых руках всякое дело родится красовито.
Неправильно говорят, что, например, живописец – это художник, а плотник, столяр
– это просто рабочий.
Живописец
что сдумает, то изобразит краской, кистью. Можно сказать, что живописец думает
кистью.
То
же можно сказать о плотнике. Плотник что задумал, то сделает топором. Отсюда и
пословица: «Плотник думает топором».
Евгений
Пермяк. Маркел-самодел
и его дети
Давнее
давнего это было. Жил в те незапамятные времена Маркел-Самодел. Все сам делал.
Пашню пахал, железо ковал. Домницы ставил, руду в них плавил. Рыбу ловил, на
охоту ходил.
И
жена у него, Маркеловна-Самоделовна, тоже сама всю женскую работу справляла.
Лен пряла, холсты ткала, кожи квасила-мяла, одежу-обужу шила. Жарила, парила,
варила, детей уму-разуму учила.
Дельными
подрастали сыны-дочери. В отца-мать пошли Маркеловичи-Самоделовичи. Никакая
работа из рук не валится. Топором машут, сохой пашут, горн раздувают, горшки
обжигают. Сеют и веют — все умеют.
Только
стал замечать Маркел, что набольший сын пуще других к пашне тянется и та же
земля у него лучше родит, а второй сын от наковальни не отходит и до того
славно кует, что и Маркел так не ковывал. То же и третий сын, Сазон
Маркелович-Самоделович, все может, а рыбу-зверя лучше других промышляет. Подрос
и четвертый сын, Платон Маркелович. И так-то он к топору пристрастился, что
каждому брату срубил по избе, каждой сестре — по терему.
Видит
Маркел, что и дочери у них в отца-мать уродились, только в каждой своя трудовая
жилка бьется. Одна одежу шьет — залюбуешься, вторая холстину ткет — не
надивуешься. У третьей посуда в руках улыбается. Какой горшок-чашку ни слепит —
всем весело.
Задумался
над этим Маркел-Самодел. Долго думал. А когда пришло время Маркелу-Самоделу со
своей семьей навечно прощаться, созвал всех и напутствует:
—
Дети мои! Вижу я, что из всех дел каждый в своем уме. Значит, разные руки
по-разному хватки, во всякой голове — свои задатки. Так и живите. Так и
детям-внукам наказывайте.
Умер
Маркел. Разделили сыны-дочери между собою отцовский труд. А отцовское хозяйство
не распалось. Каждый хоть и сам по себе — своим домом живет, а свою работу для
всех делает. Один сын для всех пашет и сеет. Другой — для всех железо кует,
руду плавит. Третий — в лесу промышляет, братьев-сестер в меха одевает.
И
дочери также — кто сукна ткет, кто кожи мнет, овчины квасит, холсты красит.
Тоже для всех.
Мастера,
мастерицы на земле появились. Ремесла зародились. Лучше люди зажили.
От
Маркеловых сыновей-дочерей внуки-правнуки пошли. Эти-то уж вовсе хваткими
мастерами стали. И каждый из них в своем деле так далеко шагнул, что ветер,
воду, огонь на службу поставил да на себя работать заставил. Только это из
других времен сказка, тоже не без умысла сложена.
А
в этой сказке умысел простой. Как станешь трудовую дорожку, счастливую тропинку
искать — Маркелов наказ вспомни.
Проверь,
какая в тебе трудовая жилка бьется, какая работа лучше других удается, — та и
твоя.
Бери
ее и дальше двигай, выше подымай. Не ошибешься. Далеко пойдешь, если свое дело
найдешь. Не зря старый Маркел добрым людям памятный узелок завязал:
«Каждые
руки по-своему хватки, во всякой голове — свои задатки».
Виктор
Голявкин. Этот мальчик (Отрывок)
Летом
мы жили вдвоём с мамой в деревне. Я катал свои игрушки и всё рассказывал маме
про игрушки. Я про них знаю всё, а мама давно забыла.
Один
раз нам принесли телеграмму. Отец вызывал маму к телефону по важному делу. К
телефону надо идти пять километров. А разговор был назначен на ночь.
Мама
оставила мне всё к ужину. Мы договорились, что один я бояться не буду:
поужинаю, когда захочу, а стемнеет, лягу сам спать. Мама придёт только утром.
Она переночует там у знакомых, чтобы не идти глубокой ночью лесом.
Я
помахал рукой, и мама пошла по дороге.
Стало
темнеть. Я пошёл в избу ужинать, и дверь закрыл на засов. Засов был сделан из
толстой плахи и продевался в две железные скобы.
Я
ужинал. Потом стало темно. Я щёлкнул выключателем, но свет не зажёгся:
электричество выключено или лампочка перегорела. Теперь осталось только лечь
спать и уснуть, а завтра проснусь уже с мамой.
Не
засыпалось. Я думал: я знаю, что бывает днём. А когда темнеет, меня спать
укладывают. Мне говорят, так надо, потому что ночью спят все на свете. Ночью
темно. Темно, ну а дальше-то что? Что в темноте? Я поглядел в тёмное окно,
ничего в деревне не было видно. Пойду сейчас на улицу и посмотрю, что там. Но
мне стало очень страшно — такая темнота.
Всё
равно, думал я, вот сейчас подойду к двери, которая на засове. Нет, лучше
пробегу. Побыстрее. Схвачу обеими руками засов, отодвину его и дверь открою.
Самое главное — перешагнуть через порог и не брякнуться.
Я
ступил на пол, и мне вдруг показалось, что сейчас не только ночь, но и зима. Но
я точно знал, что лето. Просто я был босой, а крашеные половицы всегда
холодные, даже летом.
В
темноте я нашёл свои новые резиновые сапоги. Они днём блестящие. Сейчас они
скользили в руках и скрипели один о другой. Я сел на пол и натянул сапоги.
Одному пальцу места не хватало. Значит, не на ту ногу. Разулся. Сапоги опять
заскрипели, а я ещё больше испугался. Обулся. Затопал сапогами по половицам.
Нащупал
засов, схватился — не подвигается. Потом как потянул, и он громко отъехал в
сторону. Шуму-то сколько, батюшки! Бух дверь — и открылась. Только порог
переступить — и на улице. Стало совсем страшно. И тут я вспомнил, как зимой
нечаянно проснулся рано утром. Мама собиралась на работу.
—
Тебе не страшно в такую темноту и холодину идти? — спрашиваю.
—
Ну и что, что страшно. Что же, всю жизнь бояться, что ли? Я ведь взрослая. Надо
идти.
Я
поднял ногу повыше и переступил через порог.
Я
стоял на крылечке и смотрел на луну. Луна была, как маленькое окошко на небе,
завешенное красной тряпкой. Свет был красный и ничего на земле не освещал.
Только тучу было видно, тёмную, серую. Она поворачивалась и налезала на луну.
Не было ни одной звезды.
Темно
и тихо. Туча наползла на луну. Ничего не видно. Ну вот и всё. Можно домой идти.
Пойду теперь домой — ничего тут нет. Хотел уже домой поворачивать, но тут
заметил недалеко от дома светлую полосу. Это оказалась дорога. Сухую пыльную
дорогу ночью в темноте видно. Я осторожно выставил вперёд руки и стал
подвигаться по дороге. Сначала медленно, боялся запнуться обо что-нибудь, потом
быстрее, быстрее вперёд.
Вот
ночью по белой дороге идёт человек — это я. И я совсем не боюсь. Чего бояться.
Всё равно все спят.
Я
шёл дальше и не думал останавливаться и поворачивать обратно. Я шёл, как
большой взрослый человек, а вовсе не маленький. И нечего мне было бояться.
В
деревне залаяла одна собака. Наверно, она меня почуяла. «Лай, лай,
правильно делаешь, что лаешь. Чуешь: человек идёт ночью по дороге в страшной
темноте».
Вот,
значит, собака ночью не спит. А я думал, все спят.
Вдали
что-то чернело. Я вспомнил, что там растут кусты, они и чернеют.
Птица
поёт. Так негромко чирикает. Ещё, ещё птица. Как будто птицы сидят у себя дома
и негромко разговаривают. Одна как будто спрашивает, а другая отвечает. Значит,
птицы ночью тоже не спят. Они, может быть, что-нибудь ночью обсуждают
потихоньку.
Кусты
кончились. Под ногами что-то зашуршало. Я остановился и присел пониже
разглядеть что. По краю дороги идут два ёжика.
Я
дотронулся до одного ёжика. И он побежал в траву, другой за ним скрылся. Куда
это ёжики пошли, интересно? На охоту, что ли?
Потом
я шёл мимо стога сена. Потом… что-то большое стояло у
дороги. А это, оказывается, была лошадь. Она
совершенно не шевелилась. Лошадь стоя спала.
Вдруг
я остановился. Навстречу мне по дороге кто-то шёл. Я решил лечь в траву, чтобы
человек меня не заметил и не напугался. Но я только так думал, а сам не
двигался с места от испуга. Человек приближался. Я испугался, что он на меня в
темноте натолкнётся и, может, даже упадёт. И я тихонько запел: «А-а-а-а,
о-о-о-о…» И тут я услышал:
—
Это ты, мой маленький? Ох и напугал ты меня! Куда ты?
—
Я тебя и встречаю, — сказал я.
—
Значит, ты чувствовал, что я иду. Я волновалась, торопилась, не стала
оставаться ночевать. Пошла к тебе.
—
Мама, тут у стога лошадь спит. Ты её не бойся. А по дороге ёжики шли. И птицы
ночью не спят.
—
Ты не сбился в темноте?
—
Нет, дорога в темноте светит.
—
Тебе не повезло сегодня. Уж очень тёмное небо. Сейчас дождь пойдёт. Давай
скорее руку.
—
Смотри, наш дом стоит, как тёмный пароход с чёрной трубой.
Дунул
ветер. Деревья закачались, и пароход наш как будто закачался на чёрных волнах.
Вот
мы вошли в тёмную открытую дверь. Мама засветила свечку, электричество, она
сказала, выключили перед грозой. Мы увидали друг друга и засмеялись.
—
Теперь спокойной ночи. А скоро нам с тобой в дорогу собираться. Кончается наше
лето. Тебя в школу записали. Надо домой, за дело приниматься.
—
Давай поплаваем, — сказал я, — раз наш дом, как пароход.
—
Счастливого плаванья, — сказала мама.
Мы
погасили свечу.
По
стёклам потекли косые капли. Начался дождь.
Наутро
мама хвалила меня за храбрость и называла умницей много раз. «Есть, —
говорит, — у тебя характер».
Сергей
Алексеев Медаль
Молодой,
необстрелянный солдат Кузьма Шапкин во время боя у реки Рымник1
струсил и весь день просидел в кустах.
Не
знал Шапкин, что Суворов его приметил.
В
честь победы над турками в суворовскую армию были присланы ордена и медали.
Построили офицеры свои полки и роты. Прибыл к войскам Суворов, стал раздавать
награды.
Стоял
Шапкин в строю и ждал, чтобы скорее всё это кончилось. Совестно было солдату. И
вдруг… Шапкин вздрогнул, решил, что ослышался.
—
Гренадер2 Шапкин, ко мне! — закричал Суворов.
Стоит
солдат, словно в землю ногами вкопанный, не шелохнётся.
—
Гренадер Шапкин, ко мне! — повторил Суворов.
—
Ступай же, ступай, — подтолкнули Кузьму солдаты.
Вышел
Шапкин, потупил глаза, покраснел. А Суворов раз — и медаль ему на рубаху.
Вечером
солдатам раздали по чарке вина. Расселись солдаты у палаток, стали вспоминать
подробности боя, перечислять, за что и кому какие награды. Капелюхе за то, что
придумал, как отбить у турок окопы. Жакетке — за турецкий штандарт3.
Дындину — за то, что один не оробел перед десятком турок и хоть изнемог в
ранах, а в плен не дался.
—
Ну, а тебе за что же медаль? — спрашивают солдаты у Шапкина.
А
тому и ответить нечего.
Носит
Шапкин медаль, да покоя себе не находит. Товарищей сторонится. Целыми днями
молчит.
—
Тебе что же, медаль язык придавила?! — шутят солдаты.
Лев
Толстой. Отец и сыновья (Басня)
Отец
приказал сыновьям, чтобы жили в согласии; они не слушались. Вот он велел
принесть веник и говорит:
—
Сломайте!
Сколько
они ни бились, не могли сломать. Тогда отец развязал веник и велел ломать по
одному пруту.
Они
легко переломали прутья поодиночке.
Отец
и говорит:
—
Так-то и вы: если в согласии жить будете, никто вас не одолеет; а если будете
ссориться да все врозь — вас всякий легко погубит.
Марина
Дружинина. Очень полезный подарок
Дедушке
на день рождения мы с мамой подарили мобильный телефон.
– Спасибо огромное! – воскликнул дедушка. – Только я не очень понимаю, зачем он
мне нужен. Ведь я редко куда-нибудь уезжаю. Мне вполне достаточно городского
телефона.
–
Ну что ты! Это невероятно полезная вещь! – стали мы убеждать дедушку. –
Представляешь, как здо́рово, – ты идёшь в магазин или просто гуляешь и
одновременно с нами разговариваешь! С мобильником гораздо веселей! Вот увидишь!
–
Тогда ещё раз огромное спасибо! – Дедушка вытащил из коробки инструкцию. – Буду
осваивать это удивительное устройство.
Мы
все вместе разобрались, на какие кнопочки нужно нажимать, потом отпраздновали
день рождения, попили чай с тортом и заторопились домой. Хотя время было ещё не
позднее и живём мы совсем рядом.
–
Пора готовиться к трудовым будням… – вздохнула мама. – Завтра понедельник.
–
Звоните-заходите. – Дедушка поцеловал нас на прощание.
–
Обязательно! – пообещали мы. – Не скучай!
Будни
оказались трудовыми до чрезвычайности. То одна контрольная, то другая. То одну
контрольную требовалось переписать, то другую. А ещё нужно было и на компьютере
поиграть, и в кино с друзьями сходить. В общем, не удалось мне к дедушке
забежать. И позвонить тоже.
Зато
в субботу мы с мамой пошли его проведать.
Дедушка,
как всегда, нам очень обрадовался, усадил пить чай с вареньем.
–
Ну как тебе с мобильником? Веселее? – поинтересовался я.
–
Гораздо! – кивнул дед. – Он так весело тренькает! Просто прелесть! Мне очень
понравилось звонить с городского телефона на мобильный. Или наоборот – с
мобильного на городской. Приятно, когда в квартире раздаётся телефонный звонок.
Как будто кто-то вспомнил обо мне.
–
Я всегда про тебя помню! – Мама кинулась к дедушке и обняла его. – Просто
неделя была совершенно сумасшедшая. Приходилось работать допоздна. Конечно,
можно было найти минутку, чтобы позвонить… Прости меня!
–
Дедушка, я к тебе буду каждый день заходить! Или звонить! – Я тоже вскочил с
места. – Честное слово! Вот прямо сейчас и позвоню.
Я
достал свой мобильник и набрал номер.
Дедушкин
телефон радостно заверещал: трень-тирлень! Трень-тирлень!
–
Алло! – Дедушка взял трубку.
Тут
раздался ещё один звонок. Это мама со своего мобильника позвонила на городской
телефон.
Дедушка
взял и эту трубку:
–
Алло! Я слушаю вас!
–
Мы тебя очень любим! – закричали мы с мамой дедушке в оба уха.
Сергей
Георгиев. Стрёкот кузнечика
Моя
бабушка живет очень далеко от нас, в маленьком городке на Урале. Я был у нее
однажды, давно, два года назад. И почти ничего не помню.
То
есть помню, конечно. Лето, бревенчатый дом и всегда распахнутые настежь окна.
Одно окно выходит в огород, а два других — в тупичок. И там большая поляна,
высокая трава, а в траве с утра до позднего вечера стрекочут кузнечики. Воздух
звенит, и весь бабушкин дом полон этим стрекотом.
Вот
и все, что я помню.
Сегодня
пришло письмо от бабушки. Мама вернулась с работы и вытащила его из почтового
ящика.
— Какая
радость, — сказала мама мне, дочитав письмо до конца. — Бабушке
наконец-то поставили телефон! Теперь мы сможем с ней разговаривать. Звоним
немедленно?
— Конечно, —
согласился я.
Мама
набрала длинный номер и сунула трубку мне.
— Давай,
ты первый! Разговаривай с бабушкой!
В
трубке раздались длинные гудки, а затем я услышал незнакомый пожилой голос.
— Ну,
говори! — подтолкнула меня мама.
— Бабушка… —
начал я, и вдруг понял, что не знаю, о чем говорить.
— Кто
это?… — спросила трубка. — Кто говорит?…
— Скажи,
что ты бабушку любишь!… Что мы её часто вспоминаем!… Что ждем в гости!… —
настойчивым шепотом стала подсказывать мама. — Говори же, не молчи!
А
я вдруг вспомнил цветущую поляну под бабушкиным окном и высокую траву.
— Бабушка, —
спросил я, — а кузнечики у тебя стрекочут?
— Кузнечики? —
я услышал, как дрогнул голос моей бабушки. — Да, сейчас я распахну окно…
Прошло
всего несколько мгновений, и я услышал, как весь бабушкин дом наполнился
волшебным стрекотом неутомимых кузнечиков.
— Послушай,
сын, ты будешь разговаривать?! — затормошила меня мама. — Время идет!
Скажи бабушке, что целуешь ее!… Я тоже скажу несколько слов… после тебя!
Я
молча протянул маме трубку. Мама покачала головой, прижала трубку к уху… и
замерла. А потом я увидел, как в глазах у мамы появились слезинки.
Виктор
Голявкин. Мой добрый папа
Я не хочу
обедать
Я никогда не хочу обедать. Мне так хорошо во дворе играть! Я всю жизнь бы во
дворе играл. И никогда не обедал бы. Я совсем не люблю борщ с капустой. Нет,
борщ всё-таки я могу съесть. И котлеты я тоже съедаю. Виноград-то я ем с
удовольствием! Тогда и сажают меня за рояль. Пожалуй, съел бы ещё раз борщ.
Только бы не играть на рояле.
—
Ах, Клементи, Клементи, — говорит мама. — Счастье играть Клементи!
—
Клементи, Клементи! — говорит папа. — Прекрасная сонатина Клементи! Я в детстве
играл сонатину Клементи.
Папа
мой — музыкант. Он даже сам сочиняет музыку. Зато раньше он был военный. Он был
командиром конников. Он скакал на коне совсем рядом с Чапаевым. Он носил папаху
со звездой. Я видел папину шашку. Она здесь, у нас в сундуке. Эта шашка такая
огромная! И такая тяжёлая! Её даже трудно в руках держать, не то что махать во
все стороны. Эх, был бы папа военный! Весь в ремнях. Кобура на боку. На другом
боку шашка. Звезда на фуражке. Папа ездил бы на коне. А я шёл бы с ним рядом.
Все мне бы завидовали! Вон, смотрите, какой Петин папа.
Но
папа любит Клементи.
А
я не люблю. Я люблю строить дом из песка и друзей люблю, четырёх братьев:
Расима, Рафиса, Раиса, Рамиса. Что мне Клементи!
Я
играю. И спрашиваю:
—
Не хватит?
—
Играй ещё, — говорит мама.
—
Играй, играй, — говорит папа.
Папа
с мамой слушают, как я играю. Брат катает по полу колёсики. За окном кричат
четыре брата. Они кричат разными голосами. Я вижу в окно: они машут руками. Они
зовут меня. Им одним скучно.
—
Ну, всё, — говорю я, — всё сыграл.
—
Ещё разик, — просит папа.
—
Больше не буду, — говорю я.
—
Ну пожалуйста, — говорит мама.
—
Не буду, — говорю я, — не буду!
—
Ты смотри мне! — говорит папа.
Я
пробую встать. Убираю ноты.
—
Я сотру тебя в порошок! — кричит папа.
—
Не надо так, — говорит мама.
Папа
волнуется:
—
Я учился… я играл в день по пять-шесть часов, сразу после Гражданской войны. Я
трудился! А он?.. Я его в порошок сотру!
Но
я-то знал! Он меня не сотрёт в порошок. Он так всегда говорит, когда злится. Он
даже маме так говорит. Как может он нас в порошок стереть? Тем более что он наш
папа.
—
Не буду играть, — говорю я, — и всё!
—
Посмотрим, — говорит папа.
—
Пожалуйста, — говорю я.
—
Посмотрим, — говорит папа.
В
третий раз я играю Клементи.
Наконец-то
меня отпускают! Моя брат Боба идёт за мной. Он растерял все колёсики. И ему
теперь скучно.
На
дворе меня ждут четыре брата. Они машут руками, кричат. Мой дом из песка
разрушен. Весь труд мой пропал даром. И всё из-за борща и Клементи! Дом
разрушил Рафис — младший брат. Он плачет — братья его побили. Нечего делать! И
я говорю:
—
Ничего. Новый дом построим.
Я
веду всех в магазин к дяде Гоше. Дядя Гоша — папин знакомый. Он нам всё
отпускает в долг. Он записывает на листке наш долг, а потом папа платит ему.
Так хорошо! Папа так и сказал: отпускай им всё. Что они захотят. Сколько им
угодно.
Вот
приходим мы в магазин. Дядя Гоша нам отпускает конфеты. Мы можем есть их
сколько хотим. Потом папа за всё заплатит.
На балконе
Я
жду папу. Он мне принесёт гостинцев. Он будет мне рассказывать про войну. И про
разное старое время. Папа знает столько историй! Никто лучше не может
рассказывать. Я всё слушал и слушал бы!
Папа
знает про всё на свете. Но иногда он не хочет рассказывать. Он тогда грустный и
всё говорит: «Нет, не то написал я, не то, не ту музыку… Но ты-то! — Это он мне
говорит. — Ты-то уж не подведёшь, я надеюсь?» Мне не хочется папу обидеть. Он
мечтает, чтоб я композитором стал. Я молчу. Что мне музыка? Он понимает. «Это
печально, — говорит он. — Ты даже представить себе не можешь, как это
печально!» Почему это печально, когда мне совсем не печально? Ведь папа мне не
желает плохого. Тогда почему так? «Кем ты будешь?» — говорит он. «Полководцем»,
— говорю я. «Опять война?» — Папа мой недоволен. А сам воевал. Сам скакал на
коне, стрелял из пулемёта…
Папа
мой очень добрый. Мы с братом однажды сказали папе: «Купи нам мороженое. Но
побольше. Чтобы мы наелись». — «Вот тебе таз, — сказал папа, — беги за
мороженым». Мама сказала: «Они ведь простудятся!» — «Сейчас лето, — ответил
папа, — с чего бы им простудиться!» — «Но горло, горло!» — сказала мама. Папа
сказал: «У всех горло. Однако мороженое все едят». — «Но не в таком
количестве!» — сказала мама. «Пусть едят сколько хотят. При чём тут количество!
Больше они не съедят, чем смогут!» Так сказал папа. И мы взяли таз и пошли за
мороженым. И принесли целый таз. Мы поставили таз на стол. Из окон светило
солнце. Мороженое стало таять. Папа сказал: «Вот что значит лето!» — велел нам
взять ложки и сесть за стол. Мы все сели за стол — я, папа, мама, Боба. Мы с
Бобой были в восторге! Мороженое течёт по лицу, по рубахам. У нас такой добрый
папа! Он столько купил мороженого! Что теперь нам не скоро захочется…
Двадцать
деревьев посадил папа на нашей улице. Сейчас они выросли. Огромное дерево перед
балконом. Если я потянусь, я достану ветку.
Я
жду папу. Сейчас он появится. Мне трудно глядеть сквозь ветки. Они закрывают
улицу. Но я нагибаюсь и вижу всю улицу.
До
свидания, папа!
Я,
мама, Боба стоим на балконе.
Мы
глядим в темноту — всё вокруг темно, в нашем городе затемнение. Там в темноте
мой папа. Мы слышим папины шаги, мне кажется, я его вижу, вот он обернулся,
махнул нам рукой… Он только что вышел из дому. Только что с нами простился. Он
уходит всё дальше, туда, в темноту.
—
До свидания, папа! — кричу я.
—
До свидания, папа! — кричит Боба.
Только
мама стоит с нами молча.
Я
кричу в темноту:
—
До свидания!
Боба
машет двумя руками. Темнота-то какая! А он всё машет. Будто папа его увидит…
…Шагов
папы не слышно. Наверное, он свернул за угол. Мы с Бобой кричим:
—
До свидания, папа!
Мой
папа ушёл на войну.
Мы
уходим с балкона.
Наталья
Абрамцева. Заветное желание
Кошка,
вернее, котенок по имени Брыся, очень хотела, чтобы никогда не было дождя.
Потому что дождь с удовольствием бегает по траве, лазает по деревьям. И очень
обидно бывает Брысь-ке, если она не успевает нагуляться до дождя. Потому что
после… Трава мокрая! Кусты мокрые! Пушистая бело-серая Брыськина шубка темнеет
от воды, становится некрасивой.
Брыськина
подружка тоже очень хотела, чтобы не было дождя. Она ведь бабочка. Красивая,
нежная, золотистая. Даже одна дождевая капля — для нее серьезная неприятность.
Однажды
золотистая бабочка и Брыська играли — заигрались, еле успели спрятаться от
дождя под густой елочкой. Укрывшись плотной елочкиной лапой, подружки стали
мечтать о том, как было бы хорошо, если б вообще никогда не было дождя. И
вдруг!..
—
Без дождя нельзя,— это сказала елочка,— трава не вырастет, я засохну. Пусть
дождь гуляет — проливается. Но ночью! Только ночью.
—
Пусть! Пусть! Пусть так!
—
Если вы о ч е н ь хотите, чтобы было так,— продолжала елочка,— я открою вам
тайну исполнения желаний.
Это
была очень старая и очень простая тайна. Нужно поздним вечером, когда в небе
зажгутся звезды, выйти в сад. И посмотреть в небо. До тех пор смотреть, пока не
упадет звезда. А пока звезда будет лететь, нужно очень-очень сильно пожелать
свое желание.
Золотистая
бабочка и Брыська договорились встретиться в нужный звездный час исполнения
желаний в лопухах за густым кустарником. Там никто им не помешает.
Брыська
явилась в лопушки вовремя. Но бабочки там не было. Был только маленький зеленый
лягушонок.
—
Ты никого здесь не видел?— спросила его Брыся.
—
Нет,— ответил лягушонок очень серьезно.
«Она
уснула»,— решила Брыська. Маленькая кошка пробежала по темному саду, зоркими
глазами разыскала спящую под листочком подружку.
—
Ах,— оправдывалась бабочка,— я уснула совсем нечаянно. И вот подружки в самом
тихом, заброшенном лопушковом уголке сада. А там… Все тот же маленький
лягушонок.
—
Слушай, лягушонок,— сказала Брыська,— ты что спать не идешь? Тебе пора, ты
маленький. Иди. А у нас дела.
—
Спокойной ночи,— вежливо сказала зеленому малышу золотистая бабочка.
—
Спокойной ночи,— ответил серьезный лягушонок,— но уйти я не могу. У меня тоже
дело.
—
Дело? Ночью? Какое дело? И почему здесь?
Лягушонок
внимательно посмотрел на подружек и поправил очки. Вернее, он поправил бы очки,
если бы они у него были. Но очков у лягушонка не было, поэтому он просто
медленно моргнул.
—
У меня очень важное дело. И делать его нужно именно здесь, потому,— терпеливо
объяснял лягушонок,— что отсюда видны все звезды вообще, а главное — вон та,
голубоватая, звездочка в четырех звездных шагах от луны.
—
Ах, как это мило,— золотистая бабочка захлопала крылышками,— тебя тоже привела
сюда тайна исполнения желаний!
—
Да, но, простите, я не могу открыть вам мое заветное желание. Это,— вздохнул
лягушонок,— очень серьезно.
—
Ничего, не волнуйся,— успокоила его Брыська,— звездочек на всех хватит.
—
Я не волнуюсь. Мне нужна только одна звездочка,— тихо сказал лягушонок.
И
вот падает, падает, падает звездочка.
—
Пусть! Дождь! Идет! Только! Ночью!— очень старательно пожелали Брыся и
золотистая бабочка.
—
Я поздравляю вас от всей души,— серьезно сказал вежливый лягушонок.— Ведь ваша
звездочка будто ждала вас. А я уже семь дней жду свою.
—
Неужели звездочки падают так редко?— удивились подружки.
—
Наверное, кому как повезет,— снова вздохнул лягушонок.— Ваша ждала вас, а моя…
—
Что-то я не понимаю,— замотала головой Брыська,— твоя, моя, наша…
—
Все звездочки одинаковые,— подхватила бабочка,— мы специально не выбирали. Та,
что упала первой,— та и наша.
Серьезный
лягушонок удивленно моргнул, огорченно посмотрел на подружек и сказал:
—
Вы не правы. И ваше желание не сбудется. Простите.
—
Нет, сбудется,— распушилась Брыська.— Мы очень, очень желали.
—
Звездочка не могла отказать нам,— добавила золотистая бабочка.
—
Звезда не услышала вас,— объяснял лягушонок.— Звезду нельзя выбирать просто
так. Если звезда упала первой, это вовсе не значит, что она упала для вас. Это
чужая звезда.— Лягушонок снова медленно моргнул и снова сказал:— Простите.
—
Так что же делать?!— сказала сердито Брыська, а золотистая бабочка печально
опустила крылышки.
—
Наверное, ждать.— Лягушонок был очень серьезен.— Я жду свою звездочку…
—
…семь дней!— договорила за него нетерпеливая Брыська.— А если она вообще
никогда не упадет?
Лягушонок
промолчал.
Брыська
подняла мордочку, посмотрела на звездочку лягушонка и сказала:
—
Высоковато… Ну, ладно, удачи тебе. А мы пойдем. Я уверена — с дождем все будет
в порядке.
—
Удачи тебе,— повторила почти уснувшая золотистая бабочка.
…А
назавтра с самого утра пошел дождь. Серый, холодный. Будто назло. Только
вечером, когда красноватое уже солнце подсушило мокрую траву и листву, смогли
наконец встретиться Брыся и золотистая бабочка. Подружки, не сговариваясь,
отправились в лопушки.
Звезды
в небе еще не зажглись, но серьезный лягушонок был уже на месте. Лягушонок — он
вежливый — о дожде ничего не сказал. Нетерпеливая Брыська заговорила сама.
—
Вот так…— сказала она лягушонку и неопределенно мяукнула.
Серьезный
лягушонок моргнул как-то виновато.
Стали
зажигаться звездочки. Было очень тихо. И вдруг:
—
Моя звездочка!— Это бабочка увидела, как в самом дальнем краю неба, очень
далеко от звездочки лягушонка, зажглась совсем маленькая чуть розоватая
звездочка.
—
Почему ты решила, что она твоя?— подозрительно спросила Брыська и тут же
подпрыгнула на всех четырех лапках.— Моя!!! Зажглась!!!
В
этот миг прямо над Брыськиной макушкой ярко вспыхнула большая серебряная
звезда.
—
Нельзя не узнать свою звездочку,— почему-то шепотом отозвался лягушонок.
И
снова все замолчали. Таким звездным было небо, так часто падали чужие звезды,
что просто не о чем было говорить. А потом-Потом? Ты представляешь, оказалось,
что уже утро. И Брыська проснулась дома. И золотистая бабочка проснулась дома —
под своим листочком. А когда же они ушли из лопушкового уголка сада, что и не
заметили, что ушли? Так бывает.
А
утро было!.. А день!.. Солнечный, веселый, яркий! Брыська и бабочка столько
играли, что даже устали.
И
следующий день был замечательным. Правда, на третий день пролился дождик. Так, небольшой.
А лето шло, расцветало, зеленело, желтело постепенно. И дожди были. И даже
ливни. Брыська и золотистая бабочка уже не так на них сердились: все равно
после дождя будет солнце, будет весело.
…Однажды
в конце лета, заигравшись до позднего вечера, до звезд, подружки оказались в
дальнем лопушковом уголке сада. И даже немного удивились, не встретив там
маленького серьезного лягушонка. А потом они удивились, не увидев в небе
маленькой голубоватой звездочки. …Брыська и золотистая бабочка были очень рады
за лягушонка. И им было очень грустно. Не из-за дождя, конечно. Пусть гуляет.
Просто, выходит, не было у них того, что было у лягушонка: обыкновенного
заветного желания.
Елена Григорьева. Мечта
Слово
«мечта»
На
«мачту» похоже,
А
может быть, это
Одно
и то же?
Когда
я мечтаю,
То
вижу всегда,
Как
разлетается
В
брызги вода.
Вижу
себя я
На
быстром корвете,
Бьёт
в паруса мои
Яростный
ветер!
Спешу
я на помощь —
Не
знаю к кому,
Спешу
я на помощь
Сквозь
ветер и тьму!
И
держится мачта,
Не
гнется мечта.
Я
знаю, что общее в них:
Высота!
Лев Толстой. Воспоминания
(Отрывок)
Так
вот он-то (старший брат Николенька), когда нам с братьями было — мне 5,
Митеньке 6, Сереже 7 лет, объявил нам, что у него есть тайна, посредством
которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми, не будет ни
болезней, никаких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться и все
будут любить друг друга, все сделаются муравейными братьями. (Вероятно, это
были Моравские братья, о которых он слышал или читал, но на нашем языке это
были муравейные братья.) И я помню, что слово «муравейные» особенно
нравилось, напоминая муравьев в кочке. Мы даже устроили игру в муравейные
братья, которая состояла в том, что садились под стулья, загораживали их
ящиками, завешивали платками и сидели там в темноте, прижимаясь друг к другу.
Я, помню, испытывал особенное чувство любви и умиления и очень любил эту игру.
Муравейное
братство было открыто нам, но главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди
не знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились, а были бы
постоянно счастливы, эта тайна была, как он нам говорил, написана им на зеленой
палочке, и палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага старого Заказа…
Владимир Бахревский. Рябово (Глава из повести «Виктор Васнецов» в
сокращении)
В
доме нынче странники. Их четверо. Стряпуха поставила перед ними каравай хлеба
да горшок со щами.
Странник
со своей ложкой веселыми глазами постреливает на печь.
—
Айда, ребятишки, с нами хлебать! Воробьиным хлебцем побалую.
—
Воробьиным?! — Тонкое личико мальчика светлеет, но в глазах строгость и укор —
дедушка пошутил?
—
Гляди! — Веселый странник достает из котомки каравай величиной с детскую
ладошку. — Вчера весь день шли не евши. Загоревали. Тут воробей пролетал, да и
пожаловал нас воробьиным своим подаянием.
Второй
раз упрашивать не надо.
Старшему
мальчику лет семь, младшему и трех, наверное, нет. Старший делит воробьиный
хлеб на четыре части.
—
А это кому? — спрашивает странник.
—
Папеньке и маменьке.
—
Вот оно как! В добром доме и детки добрые.
Стряпуха
стелет на полу старые тулупы, а маленький хозяин уже на печи.
Лучина
в светце догорает. В поддон с водою падают и шипят последние угольки.
Странники
ложатся на тулупы, а веселый и самый старший лезет на печь.
—Ну,
про что тебе рассказать, голубчик?
—
Про море.
—
Ишь ты! Живешь средь лесов, а мечтаешь о море. Видно, душа у тебя, как у птицы.
Старик
умолкает, не зная, видно, с чего начать, а кто-то из его товарищей бурчит:
—
Ничего в нем в этом море нет. Вода и вода. Был я на Черном, был и на Белом —
вода и вода.
—
Не-ет! — Старик улыбается во тьме. — Скажешь тоже — вода и вода. Идет корабль
по синему, как по небу. А бывает, и не углядишь, где небо, где море. Сольются
стихии — и такой восторг, словно птица Сирин пролетела над головой.
—
А кто это, птица Сирин? — замирая сердцем, спрашивает мальчик.
—
Птица, зовомая Сирин, пребывает в Едемском раю. Ее пение обещает праведникам
вечную радость.
Солнце
на замороженном окне как жар-птица. В людской никого! Ушли!
Ноги
в валенки, шубу на плечи. Шуба до самой земли. За старшим братом Николаем
матушка дала донашивать. А шапка своя и рукавички свои.
Огромные
деревья за усадьбой в кипени инея. Солнце щекастое, малиновое. Снега то
полыхают, то меркнут. В небе, движимое воздухом, колышется колючее морозное
облако. Мальчик бежит по дороге, но околица уже за третьим домом.
Пусто
на дороге.
Дорога
припорошена мелким сеном, копну спозаранок провезли. Не видно следов!
Мальчик
оглядывает поляну у подножья черных высоченных лип. Вот отсюда они и улетели на
ковре-самолете, коли следов-то нет!
В
доме переполох: значит, будут гости! Мама со стряпухой хлопочут у печи, пахнет
пирогами. Детям дают по пирожку, по кружке молока и выставляют с кухни.
Младший
куксится, а старшему — свобода!
Его
санки самые быстрые в Рябове, со стальными полосками на полозах. Мчат они
седока преданно. Все скорей, скорей! Жуть и веселие в сердце! Веселие и жуть!
По
накатанной дорого с горы, с «прыжка», на запруду и по льду.
Снизу
запорошенное снегом село, как на рождественской картинке.
Церковь
— как наседка, а дома, как цыплята. Дом отца дьякона, дом псаломщика, дом
пономаря, избушка церковного сторожа. Их дом. Он самый большой здесь. Батюшка
Михаил Васильевич — не дьякон и не пономарь — священник.
Мужики
и бабы за глаза о батюшке дурного не говорят. Батюшка за всех обиженных
ходатай.
…Солнце,
поднявшись над деревьями, слепит глаза. На снег тоже не посмотри — огнем горит!
И в сердце зайчиком радость — не жалко солнцу солнца для их Рябова! Вон его
сколько!
И
тотчас на радость набегает, притемняя, тревога.
Как
же это солнце находит Рябово? На такой-то огромной земле?! Отчего солнце знает
его, Витю Васнецова, а царь не знает? Отчего солнца хватает всем, и куполам на
церкви, и лесу, и самой малой снежинке?
И
уже не тревога, печаль сжимает ему сердце. Солнце любит всех, а вот много ли у
него любви? Хватит ли ее, чтобы любить всех? Он начинает быстро вспоминать, кого
любит: папу, маму, дедушку Кибардина, брата Николая — ах, как он далеко теперь,
в Вятке! — Петяшу, стряпуху, вчерашних странников, соседей, мужиков и баб из
окрестных деревень — прихожан их церкви, конюха Кирю… Он рад и других людей
любить, но только не знает их.
Витя
берет с полки журнал. Журналы в их доме старые. Батюшкины друзья присылают из
Вятки комплекты прошлогодних, выписывать денег нет.
Хоть
смотрены журналы по многу раз, Вите все равно интересно рассматривать картинки
— вдруг увидишь то, что проглядел. И еще есть у мальчика тайная надежда застать
картинку врасплох. Пока книга закрыта, наверное, на картинках все, как в жизни:
лошади скачут, люди разговаривают, корабли плывут, пушки палят…
Витя
разом открывает журнал и цепко смотрит на застывшее перед ним море, корабль,
остров. На острове пальмы и вулкан с белым облачком пара над кратером.
В
зарослях джунглей прячутся дикари. Один с копьем припал к земле, другой с луком
и с отравленными стрелами сидит на дереве среди лиан.
На
корабле убрали паруса и опускают якорь. Остров никем еще не открыт, матросов
пугает тишина и неизвестность.
Пока
этот корабль — чужой. Все здесь чужое. Чужие дикари, чужое море, но Витя уже
умеет «чужое» превращать в свое. Он берет бумагу, отточенный отцовский карандаш
и срисовывает картинку. Он мог бы срисовать ее очень похоже, но, чтобы картинка
ожила, чтобы в ней была история не о чужом корабле, а о его, Витином, нужно
нарисовать не этот остров, а другой, похожий на него. И еще надо нарисовать
самого себя. Себя он изобразил на вершине кратера. Фигурка получилась корявая и
нескладно большая, чуть ли не с гору. Тогда фигурка превращается в черный дым —
вулкан извергается.
Приходят
батюшка и матушка. Батюшка смотрит, как рисует сын.
—
Хорошо! Только карандаш держи свободнее. Не нажимай. Вот смотри.
Берет
у Виктора карандаш и легкими, неуловимыми черточками рисует окно, лавку под
окном, кошку на лавке…
—
Папа! — изумляется Виктор. — Ты художник.
—
Нет, Витя. Чтобы стать художником, надо много и долго учиться. Вот прадедушка
твой, Козьма Иванович, мог бы в художники выйти… Поедешь учиться, поглядишь
его рисунки. До сих пор выставлены в Духовном училище. На какой странице мы
остановились? А впрочем, страницы ты и не помнишь… В прошлый раз уснул.
—
И я к вам! — говорит матушка Аполлинария Ивановна. Она усаживается у печи с
вязанием, отец садится в кресло. Петяша калачиком — у ног матери, Витя с новым
листом бумаги за столом.
—
Итак, «Атлантический океан». — Михаил Васильевич открывает журнал, заложенный
четками. — «Кораблям, шедшим из Европы в Америку, обыкновенно нечего было
бояться флибустьеров, ибо на них по большей части находились только товары,
которых продажа была и обременительна и скучна для разбойников; напротив,
корабли, нагруженные золотом и драгоценными камнями и возвращающиеся в Европу,
почти всегда становились их добычею, ибо флибустьеры никогда не пугались
превосходства в силе…» Витя, а ты помнишь, почему морские разбойники
назывались флибустьерами?
—
Потому что плавали на открытых барках, называемых «флибот».
—
Прекрасная у тебя память. Уверен, будешь получать высокие баллы. Ну, продолжим.
«Петр де Гран, один из их вождей, родом из Диеппа, имел только одну барку с
четырьмя пушками и двадцать восемь человек; с этой горстью людей напал он на
большой вице-адмиральский корабль, зацепился за него крючьями и собственноручно
прорубил в нем большое отверстие, так что он начал тонуть; в это самое время
Петр и его товарищи вскочили на него и так испугали этим испанцев, что ни один
из них не взял оружия для защищения себя.
Подражая
отцу, быстрыми линиями Витя рисует вице-адмиральский корабль и барку
флибустьеров. Пираты лезут через борт, в руках у них кривые ножи, они все с
трубками, а на корабле мешки с золотом.
—
Хоть бы непогода унялась, — говорит Аполлинария Ивановна, распуская клубок
«Коля
на каникулы едет! — ликует Витя. — Скорее бы проходил этот долгий вечер! Скорее
бы!»
И
карандаш сам собою рисует крытые санки, лошадь, кучера в тулупе…
Витя
просыпается, как выныривает из пушистого теплого сугроба. Комната наполнена
тихим добрым светом. Солнце словно прикрыло веками глаза, чтобы не разбудить
детей невзначай.
Сегодня
день необычный…! Нынче сочельник… Сегодня не едят до первой звезды.
Ах,
как трудно ждать вечера, но какая радость первому увидеть на небе светлую
искорку.
Витя
улыбается, встает… Но что это — на пустующей Колиной кровати спит человек.
Витя поднимается на носки — Коля! Это Коля!
Руки
и ноги сами собой сгибаются и выпрямляются, и Витя вылетает в соседнюю комнату
в длинной ночной рубахе, встрепанный, пляшущий невероятную пляску радостного
дикаря.
—
Коля! Коля! Коля!
Ели
совсем уже черные, а снег синий, небо же, наоборот, серебряное, четко
очерченное с двух сторон лесом, похоже на поднос для осетра.
—
Горит! — воздев руки, радостно вскрикивает Михаил Васильевич, и все крутят
головами и спрашивают: «Где? Где? Ну, где же?»
И
находят вдруг, и замирают.
—
А вон! — кричит Витя.
—
А вон! — тычет в небо кулаком Петяша. Никто не торопится за столы, за еду. Один
Коля вдруг убегает в дом и скоро возвращается. Но что это? Из рук его сыплются
острые сверкающие звездочки, целый вихрь звездочек.
—
Ах! — говорит Петяша.
И
все смотрят на это диво, и брат, любимый, жданный, становится для Вити
существом необычайным. Он — маг, житель чудесного места, зовомого Город.
Расплескав
все огни, волшебная палочка в руках Коли гаснет, и Коля бросает ее в снег.
—
Дети, дети, — радостно волнуясь, говорит Михаил Васильевич, — посмотрите же на
небо! Вы посмотрите только, какие миры, какие светы смотрят на нас. Это ведь
все — солнца! Каждая пылинка небесная — это солнце! Ах, разума не хватает
объять величие сих просторов, но, слава богу, человеку дано — радоваться.
Смотрите же! Смотрите! Нет зрелища более достойного и прекрасного, чем небо,
полное звезд. И помните, что бы с вами ни случилось в жизни, вы — счастливцы,
потому что видели это лучшее из чудес: паше небо.
Витя
смотрит, смотрит на звезды во все глаза, и ему чудится, что он напитывается их
таинственным, их тревожащим душу светом.
М.
Булатов, В. Порудоминский. Собирал человек слова…
«Замолаживает»?
Что это?
По серому насту сани идут легко, словно под парусом. Снег лежит в
поле длинными грядами. Поле бескрайнее, как море. Ветер гудит, метет снег
низом. Ямщик, укутанный в тяжелый тулуп, понукает лошадей, через плечо
поглядывает на седока. Тот жмется от холода, поднял воротник, сунул руки в
рукава. Новая, с иголочки мичманская форма греет плохо. Седок совсем молодой.
Мичман — первый на флоте офицерский чин.
Ямщик тычет кнутовищем в небо, щурит серый холодный глаз под
заледеневшей бровью, басит, утешая:
— Замолаживает…
— То есть как «замолаживает»?
Мичман глядит недоуменно.
— Пасмурнеет, — объясняет ямщик. — К теплу.
Мичман суетится, вытаскивает из глубокого кармана записную книжку,
карандашик, долго дует на закоченевшие пальцы, выводит старательно:
«ЗАМОЛАЖИВАТЬ — иначе пасмурнеть — в Новгородской губернии значит
заволакиваться тучками, говоря о небе, клониться к ненастью».
Летят сани по снежному полю, метет низовка, а мичману уже не
холодно. И не потому, что замолаживает, заволакивает тучами небо — когда еще
отпустит мороз! — а потому, что задумался мичман о своем, залетел смелой
мыслью далеко за край бескрайнего поля. И про холод позабыл.
Морозный мартовский день 1819 года оказался самым главным в жизни
мичмана. На пути из Петербурга в Москву, где-то у Зимогорского Яма, затерянного
в новгородских снегах, мичман принял решение, которое повернуло его жизнь.
Застывшими пальцами исписал в книжке первую страницу…
Максим Яковлев. Сергий Радонежский приходит на
помощь (Отрывки)
В детстве звали его Варфоломей. Родился он в старинном русском
городе Ростове Великом. Когда его город был разорён во время жестокой вражды
между князьями, его семья перебралась в небольшое селение Радонеж недалеко от
Москвы. Здесь он и стал жить со своими родителями Кириллом и Марией и братьями
Петром и Стефаном.
В детстве Варфоломей очень долго не мог научиться читать. Буквы
почему-то никак не хотели складываться в слова, и он не понимал того, что
написано в книге. Он видел, как посмеивались над ним ребята, как переживали и
расстраивались за него родители, но ничего не мог поделать.
Однажды на лугу он встретил под деревом необычного человека,
одетого в чёрную монашескую одежду. Монах держал в руках маленький драгоценный
ларец. Варфоломей решился подойти к нему и рассказал про свою беду. Монах,
внимательно выслушав мальчика, открыл свой ларец и вложил ему в рот кусочек
просфоры. «Отныне будешь читать и понимать написанное», — сказал этот
необычный монах. С того самого дня Варфоломей стал легко и быстро читать любую
книгу и скоро обогнал в учении всех ребят, а в сердце его зажглась неугасимая
мечта — стать монахом.
После смерти родителей Варфоломей и старший брат Стефан решили
уйти в лес, чтобы жить там отдельно от всех людей и служить одному только Богу.
Несколько дней пробирались братья по глубоким оврагам и зарослям, пока не нашли
подходящее место на склоне лесной горы. Называлась эта гора Маковец. Здесь они
срубили из брёвен домик-келью, а рядом возвели церковь Троицы — во Имя Бога
Отца и Сына и Святого Духа.
Недолго прожили братья вдвоём: Стефан сказал, что больше не может
жить в лесу, а хочет уйти в Москву в монастырь. На следующий день он ушёл.
Варфоломей, проводив его со слезами, остался один посреди дремучего леса.
Терпел он зимой метели и стужу, а летом дожди и зной, стойко преодолевал все
страхи и опасности, которые подстерегают человека в таком диком и безлюдном
месте, но уходить отсюда не собирался.
Здесь, в глухом лесу, исполнилась наконец мечта Варфоломея — он
стал монахом. Один сельский игумен прочитал над ним особые молитвы и остриг на
его голове прядь волос. Когда люди становятся монахами, они получают новое имя.
И Варфоломей стал Сергием.
Началась его монашеская жизнь.
Днём Сергий трудился в лесу и у дома: ходил за водой на родник,
колол дрова, чинил одежду, работал на огороде. Шумели над головой высокие
сосны, звонко выстукивал клювом дятел, порхали и пересвистывались в кустах
лесные птицы. Ночью же Сергий тоже трудился дома или в церкви: читал молитвы и
священные книги.
Однажды
пришёл к нему голодный медведь. Сергий взял хлеб, разделил поровну и половину
отдал ему. С той поры стал медведь навещать его. Бывало, сядет у пня и ждёт,
что ему вынесут. Сергий выйдет, угостит его чем-нибудь. Так они подружились.
Случалось, Сергий последний кусок медведю отдаст, а сам голодным останется.
Зверь же охранял поляну его от злых разбойников.
Прошли годы, и слух о Сергии как о бесстрашном и добром монахе
стал приводить к нему тех, кто искал для себя уединённой монашеской жизни.
Сергий разрешал им селиться рядом со своим жильём. Помогал отёсывать брёвна и
строить кельи. Так образовался в лесу монастырь — будущая великая
Троице-Сергиева Лавра.
Жили монахи трудно, перенося болезни, голод, нужду… Но дружно.
Трудились каждый своим трудом и учились жить чистой и мирной жизнью. А Сергия
они избрали своим игуменом — начальником монастыря и называли его «авва», то
есть «отец».
Стало известно об игумене Сергии по всей Русской земле. Люди
рассказывали друг другу об удивительном монахе из Радонежа и говорили между
собой: «Неужто и правда объявился среди нас человек, чистый пред Богом и
помогающий всем своей сильной молитвой?»
В те времена Русь находилась под властью монгольских кочевников,
которые называли себя Золотой Ордой. Это были коварные и очень умелые в бою
воины. Воины Золотой Орды совершали грабительские набеги на русские города и
селения. Русские люди, жившие в постоянном страхе от вражеских нападений,
уставшие от княжеских ссор, от злобы и ненависти друг к другу, приходили к
Сергию отовсюду. Люди своими глазами видели, как мирно и дружно живут монахи,
как они помогают друг другу, и говорили: «Смотрите, они живут как родные
братья! Почему бы и нам не жить так же?»
Всякого человека, кто бы он ни был — бедный или богатый, —
встречал Сергий с любовью. Многие из простых людей оставались и поселялись
неподалёку от его монастыря, расчищая лес под постройки и пашни.
Пришёл как-то из одной деревни крестьянин и стал искать того, о
ком столько слышал:
— Говорят, у вас великий пророк живёт. Хочу поглядеть на
него.
— Да вот он, — отвечают монахи, — в огороде.
Видит крестьянин на грядках худого монаха с мотыгой, в плохой
одёжке…
— Не может быть, чтобы такой великий человек ходил как
последний нищий! Зачем вы смеётесь надо мной?! — обиделся он.
В ту минуту въехал в монастырские ворота князь со своей дружиной
и, едва спрыгнув с коня, поклонился худому монаху в ноги, потому что это и был
игумен Сергий. А вслед за князем поклонилась и вся дружина.
Крестьянин же скинул шапку и стоял, онемев от удивления…
Люди просили Сергия, чтобы он научил, как им правильно жить, и
слушали каждое его слово.
— Все мы дети Божии, — говорил народу игумен
Сергий, — а значит, все мы братья и сёстры. Будем жить мирно, не причиняя
друг другу обид, и никакие враги не одолеют нас. Единением и любовью спасёмся!
«Будем вместе, как одна большая семья, и Бог вернёт нам свободу!»
— отзывалось в русских сердцах. Люди поднимали головы, становились добрее,
объединялись в надежде сбросить с себя чужеземный гнёт и стать свободными.
Но сказано слово, и настал день.
Поднялся из южной степи Мамай, повелитель Золотой Орды. Он собрал
огромное войско и повёл его на Русь, чтобы навсегда захватить Русскую землю, а
самому править над нею. Загудела степь конным топотом и скрипом многих тысяч
повозок.
Князь Дмитрий Московский сел на коня и поехал к Сергию за советом:
— Мы посылали большие дары Мамаю. Желали договориться миром,
но он и слушать не хочет! Как велишь поступить нам?
Сергий подошёл к нему и сказал:
— Собирай русское войско, князь.
Отпустил с ним на подмогу двух монахов своих: Андрея Ослябю и
Александра Пересвета. Оба они до прихода в монастырь были знаменитыми воинами.
Только не бывало ещё такого, чтобы монахов на бой посылали. Но, видно, страшная
битва нам предстояла.
Князю же сказал на прощание:
— Ступай смело, и победишь.
Князья, забывшие прежние ссоры, стали собирать свои дружины в
единое войско. Все крепкие духом ратники со всей Русской земли собрались с
великим князем Дмитрием на Куликовом поле, между рекою Непрядвой и Доном. Туда
же пришёл и Мамай со своими полчищами…
В
тот день, когда решалась судьба Руси, игумен Сергий встал посреди монашеской
братии и начал рассказывать им о ходе сражения, как будто сам он находился там,
на поле боя…
Восемь часов русские бились за свою Родину, за своё будущее…
За победу в этой битве на Дону прозвали князя Дмитрием Донским.
А вечером того великого дня игумен Сергий отслужил панихиду по
павшим воинам, называя каждого героя по имени…
Слава сошла на Русскую землю. Освободившись от страшной угрозы,
русский народ воспрял духом и расправил плечи.
Не было на Руси такой семьи и такого дома, где бы не знали имя
святого Сергия Радонежского. Люди шли к нему, как к родному отцу.
Люди видели, как Сергий заботится о них, и любили его. Всем он
служил, всем помогал, за всех молился. И всегда трудился: носил из источника
воду, пёк хлеб, колол дрова.
Жизнь Сергия достигла такой чистоты, что взору его было открыто
многое, скрытое от других.
Весной
1392 года, предвидя свою земную кончину, Сергий наложил на себя обет молчания,
чтобы посвятить всё оставшееся время молитве…
Наступила осень. Игумен Сергий уже не вставал с постели. Когда же
пришёл смертный час, обратил он свой взор на родное Отечество. Облетел он
мысленным взором бескрайние, как море, леса, привольные поля и убранные нивы,
курящиеся дымками деревни, полноводные реки, светлые озёра, многолюдные города
и могучие крепости, маковки церквей и соборов, увенчанные крестами… Словно
видел перед собой Сергий князей на дружном совете, и верных бояр, и слободских
и посадских мастеровых, и вереницы крестьянских свадеб, и матерей, ласкающих
своих детей, и дозоры воинов на степном валу…
К ним, а также к ученикам своим и ко всем русским людям — к
живущим, и к тем, кому ещё жить в свои времена, — обращено завещание
святого Сергия Радонежского:
— Живите чисто, как нам Бог заповедал. Храните мир между
собой и всё прощайте друг другу, как дети одного Отца. Я же за всех вас буду
молиться, и всем, кто будет просить меня с верой, приду на помощь…
Ирина Языкова. Преподобный Сергий
Радонежский
Тихий
свет на Маковце-горе
Над обителью, что радуга, цветет:
Это инок Сергий на заре
Троице молитву воздает.
Инок встанет, принесет воды, —
И за все нехитрые труды
Благодарность Богу вознесёт.
Затеплит лампады у икон,
Вспомнит тех, кто страждет и гоним.
По утрам над храмом перезвон:
Ангел Литургию служит с ним!
А случится — вдруг заглянет зверь
Из лесу, свирепый и большой, —
Отворит медведю инок дверь,
Хлеб разделит, напоит водой.
Инок Сергий тих и молчалив,
Но по всей Руси идет молва:
Чудотворен свет его молитв,
Сила благодатная в словах!
Тихий свет на Маковце-горе
Радугой цветет над всей землёй:
Это инок Сергий на заре
Молится с небес о нас с тобой!
«Отче наш! Молению внемли!
Дух Святой, очисти и спаси!
Сыне Божий! В этот грозный час
Не остави каждого из нас!»
Иван
Шмелёв. Масленица (Отрывок главы из книги «Лето Господне»)
Масленица…
Я и теперь еще чувствую это слово, как чувствовал его в детстве: яркие пятна,
звоны — вызывает оно во мне; пылающие печи, синеватые волны чада в довольном
гуле набравшегося люда, ухабистую снежную дорогу, уже замаслившуюся на солнце,
с ныряющими по ней веселыми санями, с веселыми конями в розанах, в колокольцах
и бубенцах, с игривыми переборами гармоньи. Или с детства осталось во мне
чудесное, непохожее ни на что другое, в ярких цветах и позолоте, что весело
называлось — «масленица»? На большом круглом прянике, — на блине? — от которого
пахло медом — и клеем пахло! — с золочеными горками по краю, с дремучим лесом,
где торчали на колышках медведи, волки и зайчики, — поднимались чудесные пышные
цветы, похожие на розы, и все это блистало, обвитое золотою канителью…
Оттепели
все чаще, снег маслится. С солнечной стороны висят стеклянною бахромою
сосульки, плавятся-звякают о льдышки. Прыгаешь на одном коньке, и чувствуется,
как мягко режет, словно по толстой коже. Прощай, зима! Это и по галкам видно,
как они кружат «свадьбой», и цокающий их гомон куда-то манит. Болтаешь коньком
на лавочке и долго следишь за черной их кашей в небе. Куда-то скрылись. И вот
проступают звезды. Ветерок сыроватый, мягкий, пахнет печеным хлебом, вкусным
дымком березовым, блинами. Капает в темноте, — масленица идет. Давно на окне в
столовой поставлен огромный ящик: посадили лучок, «к блинам»; зеленые его
перышки — большие, приятно гладить.
В
субботу, после блинов, едем кататься с гор. Зоологический сад, где устроены
наши горы, — они из дерева и залиты льдом, — завален глубоким снегом, дорожки в
сугробах только.
По
накатанному лотку втаскивают веревками вернувшиеся с другой горы высокие сани с
бархатными скамейками, — «дилижаны», — на шестерых.
Сергей
скатывает нас на «дилижане». Дух захватывает, и падает сердце на раскате.
Мелькают елки, стеклянные разноцветные шары, повешенные на проволоках, белые
ленты снега. Катальщик тормозит коньками, режет-скрежещет льдом.
Масленица
кончается: сегодня последний день, «прощеное воскресенье». Снег на дворе
размаслился. Приносят «масленицу» из бань — в подарок. Такая радость! На
большом круглом прянике стоят ледяные горы из золотой бумаги и бумажные
вырезные елочки; в елках, стойком на колышках, — вылепленные из теста и
выкрашенные сажей, медведики и волки, а над горами и елками — пышные розы на
лучинках, синие, желтые, пунцовые… — верх цветов. И над всей этой «масленицей»
подрагивают в блеске тонкие золотые паутинки канители. Банщики носят
«масленицу» по всем «гостям», которых они мыли, и потом ужприносят к нам. Им
подносят винца и угощают блинами в кухне.
И
другие блины сегодня, называют — «убогие». Приходят нищие — старички, старушки.
Кто им спечет блинков! Им дают по большому масленому блину — «на помин души».
Они прячут блины за пазуху и идут по другим домам.
Я
любуюсь-любуюсь «масленицей», боюсь дотронуться, — так хороша она. Вся — живая!
И елки, и медведики. и горы… и золотая над всем игра. Смотрю и думаю: масленица
живая… и цветы, и пряник — живое все. Чудится что-то в этом, но — что? Не могу
сказать.
Пряник…
— да не земля ли это, с лесами и горами, со зверями? А чудесные пышные цветы —
радость весны идущей? А дрожащая золотая паутинка — солнечные лучи, весенние?.
Поздний
вечер. Завтра будет печальный звон. Сегодня «прощеный день», и будем просить
прощенья: сперва у родных, потом у прислуг, у дворника, у всех. Падаем друг
дружке в ноги. Немножко смешно и стыдно, но после делается легко, будто грехи
очистились.
Песни-веснянки
Жаворонки
прилетите,
Студёну зиму унесите,
Теплу весну принесите:
Зима нам надоела,
Весь хлеб у нас поела!
Жаворонки,
перепёлушки,
Птички ласточки!
Прилетите к нам!
Весну ясную, весну красную
Принесите нам!
На
жёрдочке,
На
бороздочке,
И
с сохой, и с бороной,
И
с кобылой вороной…
Приди
к нам, весна,
Со радостью!
Со великою к нам
Со милостью!
Со рожью зернистою,
Со пшеничкой золотистою,
С овсом кучерявыим,
С ячменем усатыим,
Со просом, со гречею,
С калиной-малиною,
С грушами, с яблочками,
Со всякой садовинкой,
С цветами лазоревыми,
С травушкой-муравушкой.
Любовь
Воронкова. Праздник весны (Глава из книги «Девочка из города»)
На
кухонном столе пыжилось пухлое ржаное тесто. Ребятишки окружили стол. Даже
ленивая Груша встала пораньше. Даже Романок проснулся, хотя завтрак ещё не был
готов.
– Жаворонков
лепить! – крикнул Романок.
– Каких
жаворонков? – удивилась Валентинка. – Из чего лепить? Из теста?
– Не
знает! – со вздохом сказала Груша. – Ничего не знает! Вот уж правду
тётка Марья сказала…
– Бери
тесто, – сказала Таиска, – лепи.
– А
как?
– Да
как хочешь! Вот, гляди, какого мамка слепила!
На
большом противне лежал первый жаворонок. Правда, он очень мало был похож на
птицу. Хвост у него завивался кренделем, вместо крыльев были две бараночки,
вместо глаз торчали две сухие смородины, а клюва и вовсе не было. И всё-таки
это был жаворонок.
Груша
лепила старательно. Она хотела сделать точь-в-точь такого же. Раз мать сделала
такого, значит, и всем надо делать таких.
Зато
у Таиски жаворонок был необыкновенной красоты и нарядности. Хвост у него
распускался веером, на голове, будто корона, поднимался высокий гребень. На
крыльях, широко распластанных по столу, одно перо вниз – другое кверху, одно
перо вниз – другое кверху… Такого жаворонка даже во сне увидеть нельзя!
Романок
тоже что-то валял в муке, что-то комкал, раскатывал, расшлёпывал ладонью, а
потом опять комкал…
Валентинка
отрезала себе кусок теста:
– Значит,
какого хочу?
Она
сделала своему жаворонку хвост в три пера, каждое перо с завитушкой. А крылья
сложила на спинке и концы подняла кверху. Жаворонок вышел не похожий ни на
материн, ни на Таискин.
– Вот
здорово! – сказала Таиска. – Давай придумывать, чтоб все
разные-преразные были.
Противень
заполнялся. Удивительные птицы появлялись на нём – и маленькие и большие, и с
длинными хвостами и с короткими, и с гребешками и без гребешков… Только Грушины
все были похожи друг на друга: хвост крендельком и крылья баранками.
Никто
не уходил гулять. Так и похаживали у печки: как-то испекутся жаворонки, как-то
они зарумянятся?
Тёплый
приятный запах расплывался по избе. Это жаворонками пахнет, праздником, весной…
Ну скоро ли они будут готовы?
Вкусный
запах стал густым и жарким. Мать вытащила противень.
У,
какие чудесные, какие зарумяненные птицы сидят на нём! Целая стая! Что, если
они сейчас взмахнут своими необыкновенными крыльями да и полетят по всей избе?
Мать
каждому дала по жаворонку. Каждый выбрал, какого хотел.
И
когда дед пришёл завтракать, ребятишки встретили его в три голоса:
– Дедушка,
гляди-ка, гляди-ка, жаворонки прилетели!
Дед
поглядел на жаворонков и покачал головой:
– Ух
ты! Вот это птицы так птицы!
Василий Жуковский. Жаворонок
На солнце темный лес зардел,
В долине пар белеет тонкий,
И песню раннюю запел
В лазури жаворонок звонкий.
Он голосисто с вышины
Поет, на солнышке сверкая:
Весна пришла к нам молодая,
Я здесь пою приход весны.
Александр Пушкин. Птичка
В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!
Аполлон Коринфский. Август-собериха (Отрывки)
Стоит
месяц август на грани лета и осени, приходя на светлорусское раздолье
привольное после семи старших братьев-месяцев. «Заревом»-месяцем и «зорничком»
называли его отдаленные предки русского пахаря.
Хоть
и появляется в этом месяце во многих местах на Руси «хлебец-новина», но работы
у деревенского хлебороба хоть отбавляй. «Мужику в августе три заботы», —
замечает крылатое народное слово, — «три заботы: и косить, и пахать и сеять!»
Август
не июль; его не «приберихой», а — наоборот — «соберихой» да
«припасихой»-месяцем в посельском быту зовут. «Что соберет мужик в августе —
тем и зиму-зимскую сыт будет!» — гласит старое присловье
Аполлон
Коринфский. Спожинки
В
старину в этот день крестьяне собирались гурьбою на боярский двор, где и
праздновалось окончание жатвы, сопровождаясь особыми, приуроченными к тому
обрядами. Жницы обходили все дожатые поля и собирали оставшиеся несрезанные
колосья. Из последних свивался венок, переплетавшийся полевыми цветами. Этот
венок надевали на голову молодой красивой девушке и затем все шли с
песнями к господской усадьбе. По дороге толпа
увеличивалась встречными крестьянами. Впереди всех шел мальчик с последним
сжатым снопом в руках. На крыльцо хором выходил боярин с боярынею
и с боярышнями и приглашал жниц во двop, принимая венок и сноп, которые после
этого и ставились в покоях под божницею. Угостившись на боярском дворе, толпа
расходилась по домам.
Детвора
до поздней ночи шумит в этот день у заваленок, проводя время за веселыми
играми, перемежающимися звонкими-дробными припевами. Заливаются-звенят, по всей
деревне разносятся молодые голоса:
«Дожали,
дожили,
Оспожинки
встретили,
Гостей
угостили,
Богу
помолили!
Хлебушко,
расти!
Времечко,
лети, лети –
До
новой весны,
До
нового лета,
До
нового хлеба!..»
Иван Никитин «В чистом поле тень шагает…»
В чистом поле тень шагает,
Песня из лесу несётся,
Лист зелёный задевает,
Жёлтый колос окликает,
За курганом отдаётся.
За курганом, за холмами,
Дым-туман стоит над нивой,
Свет мигает полосами,
Зорька тучек рукавами
Закрывается стыдливо.
Рожь да лес, зари сиянье, —
Дума, Бог весть, где летает…
Смутно листьев очертанье,
Ветерок сдержал дыханье,
Только молния сверкает.
Любовь
Воронкова. Подснежники (Глава из книги «Девочка из города»)
Нежной
прохладой, влажными запахами, звонкими птичьими разговорами встретил их лес.
Деревья
были ещё голые, но на кустах уже развернулись почки.
А
внизу, приподняв почерневшую прошлогоднюю листву, пышно и весело красовались
цветы. Они заполнили все лесные прогалины: лиловые, красные, розовые среди
тёмных мохнатых листьев.
– Дедушка,
что это? – удивилась Валентинка. – Смотри, на одной веточке разные
цветы?
– Это
медуница, – ответил дед. – А что разные цветы, так что же: те, что
лиловые, постарше, а те, что розовые, помоложе…
Немного
дальше, в тени широких ёлок, ещё лежали пласты снега. Но цветы росли и возле
самого снега, и даже сквозь снег пробивались нежные зелёные ростки.
А
дед рассказывал. Лесные цветы – это первые весенние цветы. Другие только ещё в
семенах просыпаются, а у этих под чёрной листвой уже и почки и бутоны готовы.
Чуть снег посторонился – они и выскочили!
Дед
показал Валентинке ветреницу – лёгкий белый цветок, задумчиво глядевший из
полумрака чащи. Раскопал слой листвы, и она увидела закрученные спиралью
бледные ростки папоротника. Отыскал для неё странное растение – Петров крест.
Почти целый год живёт оно под землёй и только ранней весной, когда ещё светло в
лесу, выкидывает из-под земли толстый чешуйчатый стебель и начинает цвести, а
потом снова убирается под землю. Правда, эти чешуйки вовсе не похожи на цветы.
Ну что же? Каждый цветёт как умеет.
Недалеко
от опушки на краю оврага, она увидела что-то голубое. Она подошла ближе. Среди
лёгкой зелени обильно цвели яркие цветы, голубые, как весеннее небо, и такие же
чистые, как оно. Они словно светились и сияли в сумраке леса. Валентинка стояла
над ними, полная восхищения.
– Подснежники!
Настоящие,
живые! И их можно рвать. Ведь их никто не сажал и не сеял. Можно нарвать
сколько хочешь, хоть целую охапку, целый сноп, хоть все до одного собрать и
унести домой!
Но…
оборвёт Валентинка всю голубизну, и станет прогалинка пустой, измятой и тёмной.
Нет, пусть цветут! Они здесь, в лесу, гораздо красивее.
Юрий
Коваль. Фарфоровые колокольчики
Кому
какой, а уж мне больше всего фарфоровый нравится колокольчик.
Он
растёт в глубине леса, в тени, и цвет у него странный малосолнечный. Не
водянистый, но — прозрачный, фарфоровый.
Цветы
его невесомы, и трогать их нельзя. Только смотреть и слушать.Фарфоровые
колокольчики звенят, но шум леса всегда их заглушает.
Ёлки
гудят, скрипят сосновые иголки, трепещет осиновая листва — где уж тут услышать
лёгкий звон фарфорового колокольчика?
Но
всё-таки я ложусь на траву и слушаю. И долго лежу, и уходит в сторону еловый
гул и трепет осины — и далёкий, скромный слышится колокольчик.
Возможно,
это не так, возможно, я всё это придумываю, и не звенят в наших лесах
фарфоровые колокольчики. А вы послушайте. Мне кажется — звенят!
Михаил Пляцковский Колокольчик
—
О чём ты звенишь,
Колокольчик, о чём,
Когда тебя ветер
Заденет плечом?
— Я ветра-задиру
Вдогонку браню.
Меня он разбудит —
И я зазвеню!
— О чём ты звенишь,
Колокольчик, о чём,
Когда тебя туча
Умоет дождём?
— Я серую тучу
Вдогонку браню.
Промокну, продрогну
И громко звеню!
— О чём ты звенишь,
Колокольчик, о чём,
Когда тебя солнце
Согреет лучом?
— Я солнышку рад,
Для него я пою
Весёлую самую
Песню свою!
Владимир Солоухин.
Трава (Отрывок)
Мой
сотоварищ по перу Василий Борахвостов, узнав, что я собираюсь писать книгу о
травах, стал посылать мне время от времени письма без начала и конца, с
чем-нибудь интересным.
«Русский
человек настолько влюблен в природу, что эта его нежность к ней заметна даже по
названиям трав: петрушка, горицвет, касатик, гусиный лук, баранчик, лютики,
дымокурка, курчавка, чистотел, белая кашка, водосбор, заманиха, душичка, заячья
лапка, львиный зев, мать-и-мачеха, заячий горох, белоголовка, богородицы
слёзки, ноготки, матренка, одуванчики, ладаница, пастушья сумка, горечавка,
поползиха, иван-чай, павлиний глаз, лунник, сон-трава, ночная красавица,
купавка, медуница, анютины глазки, бархатка, васильки, вьюнки, иван-да-марья,
кукушкины слёзки, незабудка, ветреница, кошачья лапка, любка, зяблица, водолюб,
красавка… Сколько любви и ласки!»
Читая
все эти названия трав, отчетливо понимаешь, насколько народ знает больше, чем
мы с тобой, ты да я. И что, пожалуй, мы с тобой (ты да я) просуществуем на
свете зря, если не добавим хоть медной копеечки в драгоценную вековую копилку,
коли иметь в виду не названия трав (которых мы с тобой, безусловно, не
добавим), но всяких знаний, всякой культуры, всякой поэзии, всякой красоты и
любви.
Елена Благинина. Журавушка
Прилетел
журавушка
На старые места:
Травушка-муравушка
Густым-густа!
Ивушка над заводью
Грустным-грустна!
А водица в заводи
Чистым-чиста!
А заря над ивушкой
Ясным-ясна!
Весело журавушке:
Весным-весна!
Литературное чтение на родном русском языке Т.А. Луговская «Как знаю, как помню, как умею»
Сказки разные бывают,
В них и игрушки оживают.
Разговоры все потом
Человечьим языком.
В них бывает очень странно,
Но бывает и забавно.
Там фантазии полно!
Сочиняют их давно.
В. Мостовой
– Прочитайте стихотворение медленно.
– Прочитайте текст с постепенным ускорением.
– Прочитайте стихотворение с грустной интонацией.
– А теперь прочитайте стихотворение радостно.
– Прочитайте стихотворение выразительно.
– Как вы поняли, о чём говорит нам автор?
Сказка – это поэтическое или прозаическое произведение, в кото-
ром есть что-то необычное, волшебное.
Большая часть ваших ответов совпала с данным определением.
Самым первым творцом сказок был народ . Люди жили трудно: паха-
ли пашню, сеяли, боронили, жали, молотили, рубили лес, пряли, ткали,
ловили рыбу и надеялись на лучшую долю. И в сказках они изображали
то же. Выдумка внушала уверенность в победе над силами, враждебными
человеку. Сказки не знают непоправимых бед и несчастий. Сказки учили
быть твёрдым в бедах, советовали не мириться со злом, а бороться с ним.
Впервые сказки были записаны в 16 веке, а собирать и изучать их
стли только в 19 веке.
Сказки бывают разные. Есть волшебные , – в них обязательно дол-
жны быть чудеса и волшебные предметы. Есть сказки о животны х, –
в них животные могут говорить, ходить друг к другу в гости и даже учить-
ся в школе. Есть бытовые сказки, – в них описывается жизнь простых
людей: бедного мужика или ловкого солдата. Сказка обязательно учит
чему-то людей, заключает в себе мудрую мысль.
Словарная работа
– Объясните, как вы поняли смысл слов: лучина, кочерга,
≪ дрова занимались разом≫; ≪Лиса ходила, нарядившись простой бабой≫?
Лучина – тонкая щепка сухого дерева.
Кочерга – инструмент из железа или другого огнестойкого материала для перемещения горящих дров и углей в топке печи. Обычно это толстый железный прут длиной около 50 – 100 см, загнутый на конце под прямым углом.
Дрова занимались разом – разгорались сразу.
Лиса ходила, нарядившись простой бабой , – лиса была персонажем сказки.
Татьяна Луговская
Словарная работа
Фре́йлейн – гувернантка-немка.
Ревера́нс – вежливый поклон, приседание.
Марципа́новая – из миндального теста.
Трапе́ция – здесь: цирковой гимнастический снаряд, перекладина,
подвешенная на двух тросах.
Биси́ровать – повторять на бис, то есть второй раз, по просьбе зрителей.
Фиска́лка – здесь: ябедничание.
Оглаше́нный – ведущий себя бестолково, шумно, неистово.
Работа над текстом
– Какие чувства вы испытывали при чтении этого произведения?
– О ком и о чём были Володины сказки?
— Давайте сравним нянины и Володины сказки.
– Кто придумывал эти сказки? ( В няниных историях присутствовали герои из народных сказок. Володя видел сказочных героев в окружающих предметах, он сам придумывал их на ходу .)
– Похожи ли герои этих сказок? Какие в них происходят события? ( В няниных сказках происходят тревожные волнующие события и быстро меняется действие, в них всё бурлит
– Происходили ли в этих сказках сказочные чудеса? ( И Володины и нянины сказки увлекают и удивляют, завораживают
своим неожиданным сюжетом, их хочется слушать .)
– С какой целью рассказывались нянины и Володины сказки? ( На Руси всегда перед сном детям рассказывали или
читали сказки. Каждый день ребёнок получал информацию
в виде новых знаний, и это было лучшее время, чтобы обобщить приобретённый им опыт. Нянины сказки имели воспитательный характер и прививали любовь к народным традициям. Володины сказки были утешением .)
Как знаю, как помню, как умею. Воспоминания, письма, дневники — Татьяна Луговская — читать книгу онлайн бесплатно, автор Татьяна Луговская
Когда няня перехватывала спиртного, то с Додоном у нее устанавливались самые короткие отношения. Она говорила, что он ее свояк, что родом он из их деревни Непрядвы и что до девок был охоч. Он был ее героем. Она любила Додона и была с ним хорошо знакома…
Огонь в печке, Додон, его удивительная жизнь, его мир, так непохожий на наш, рассыпающиеся угли, бесконечная сказка, которая потухала только вместе с печкой, — все это было прекрасно…
Иногда няньку тянуло к реалистическим картинам. Она описывала свою деревню Непрядву, колдуна, живущего у них за околицей, и «кулаверш», которые сидели у него на заборе и все разом улыбались.
— Няня, а кто это такие кулаверши?
— Ну как же, Танечка? Кулаверша это и есть кулаверша!
— А какая она?
— Без ног, без рук — один хвост и голова.
— А как же, нянечка, они без рук, без ног — сидели на заборе?
— Так и сидели посередь забора.
Нянька явно была недовольна моими глупыми вопросами. Вообще лучше было молчать. Молчать и слушать, прижимаясь к ее руке. Одна рука моя, в другой руке кочерга… И опять возникала сказка, опять царь Додон сражался со змеем-горынычем, побеждал неизвестного мне Ерехона («А Ерехон-то был уж такой пакостник, хуже нашей немки-фришки»). Потом Додон вдруг проглатывал весь свет и огонь, которые были на земле, и наступала кромешная тьма. Но не надолго, так как Додон обжирался блинов, его тошнило, и вместе с блинами из него вылетали свет и огонь. И снова на земле становилось светло, и люди сидели у печек.
В нянькиных сказках все было возможно…
Иногда обернешься невзначай или от страха и увидишь в дверях папу, он держит в руках пенсне и улыбается. Ему тоже было интересно слушать. Да что уж тут говорить — все было интересно!..
Совсем пьяная нянька не рассказывала сказок, а сидела на табуретке в кухне (куда я, конечно, пробиралась тайком от мамы и фрейлейн Аделины) и пела жалким тонким голосом только две песни. В одной слов не помню, но припев был странный:
Из-под Вилен, дон, дон, дон — Четыре дощечки.
Что такое было Вилен, почему из-под них было четыре дощечки? Непонятно. Непонятно, но жалостно. И я няньку жалела. Другую песню помню хорошо:
За серебряной рекой, на златом песочке Долго девы молодой я искал следочки.
Нянька пела «пясочки», «слядочки». Из глаз ее капали слезы, кухарка Лиза вздыхала и тоже вытирала слезы фартуком. Принималась реветь и я…
Иногда за длительное пьянство няньку рассчитывали. Она собирала вещи в большой узел и, всхлипывая, уходила «со двора». И тут у меня начиналась напряженнейшая работа: я принималась реветь. С утра до вечера, с вечера до ночи — до хрипоты, до повышенной температуры, до полного изнеможения. Утешить меня было нельзя — я все отрицала, всех ненавидела. Маму за то, что она выгнала няню, фрейлейн Аделину за ее глупые немецкие сказки, которыми она пыталась меня утешить, Лизу за то, что она теперь топила печки. Ненавидела весь мир!
В своем горе я доходила до такой развязности, что с ревом врывалась к отцу в кабинет с требованием возврата няньки. Наконец няньку возвращали. Длительность ее отсутствия зависела от состояния моих голосовых связок. Няня истово клялась (в который раз!), что больше в рот не возьмет спиртного, и восстанавливалась в своих правах. Охрипшая и счастливая, я прижималась к ней.
Жизнь входила в свою колею. Опять трещала печка и в ней кипел огонь, опять Додон появлялся на моем горизонте, опять от няни пахло казенкой, опять она владела моей душой.
Удивительно, что при такой страстной любви к няне, я совсем не помню ее лица.
Хорошо помню ее руки — узловатые, жилистые, какие-то скрюченные, какие-то очень цепкие и корявые: по голове погладит — волосы выдерет, за ухо возьмет — как клещами сожмет, раздевает на ночь — так рванет лифчик, что пуговицы летят. Горячую кочергу никогда не прихватывала фартуком: брала голой рукой. Прекрасные нянины руки были как из железа.
На лице помню только рот, когда она держала в нем булавку, да и то это был не рот, а какая-то щель с морщинами по краям, и интересовала меня больше булавка, вернее половина сломанной английской булавки, которой нянька закалывала свой платок, когда мы шли на прогулку. А еще космы седых волос, выбившихся из-под платка. Вот и все, что сохранила память.
ВОЛОДИНЫ СКАЗКИ
Вторым сказочником в доме после няни был мой старший брат Володя, но сказки у него были совсем другие и рассказывал он их при других обстоятельствах. Володины сказки возникали из предметов, которые меня окружали.
Тут необходимо рассказать маленькую предысторию.
Я родилась, когда мои старшие брат и сестра были уже большие дети. Меня не очень ждали — в виде девочки — на этом свете. Почему-то считалось, что уж если кто и родится, так мальчик. Но родилась девочка, к тому же, когда ей не было года, няня простудила ее. Сделалось двустороннее воспаление легких, потом откуда-то прицепилась дизентерия, и она, то есть я, умерла. Доктор сказал: «Девочка умерла, мне здесь делать нечего», — надел шляпу и ушел. Никогда не терявшаяся в беде мама не согласилась с моей смертью и вкатила мне в рот столовую ложку коньяку. Наверное, огненная жидкость оживила ту ниточку жизни, которая еще где-то скрывалась, и сердце мое забилось.
Два месяца мама лечила меня сама (доктора не верили в мое выздоровление), и я постепенно вернулась к жизни.
Получивши в течение одного года три такие травмы, как рождение, смерть и алкогольное опьянение, я, естественно, росла ребенком слабеньким. У меня никогда не было косичек, так как считалось, что волосы отбирают очень много жизненных сил, меня кутали, поили мясным соком и рыбьим жиром.
Умершую и воскресшую, да еще к тому же младшую девочку, все в доме любили, баловали и мало наказывали.
В детстве больше всего на свете я любила слушать сказки, рисовать бумажные куклы и плакать. Плакала я с упоением. Причина для слез находилась всегда: мама плохо на меня посмотрела, не пустили в кухню вылизывать миску, в которой взбивали сливки, выкинули корзину для бумаг из-под письменного стола отца — без моего ведома и осмотра, фрейлейн сделала замечание или кто-нибудь обидел пьяную няньку. Иногда я просто ходила по комнатам и жаловалась всем, что никто меня не любит и не пожалеет (я говорила «не пожилеет»). Словом, плакать можно было много и вволю. Плакала я в детской, уткнувшись поперек своей постели носом в одеяло. И тут всегда неизбежно появлялся мой брат Володя, который вообще не выносил слез, а моих тем более. Он присаживался рядом на постель или вставал на колени на полу (в зависимости от позиции, которую я занимала) и начинал рассказывать мне сказку (или, как я говорила — «про-сказку»). Эти Володины «просказки» никто не слышал, кроме меня, так как шептались они мне на ухо.