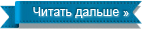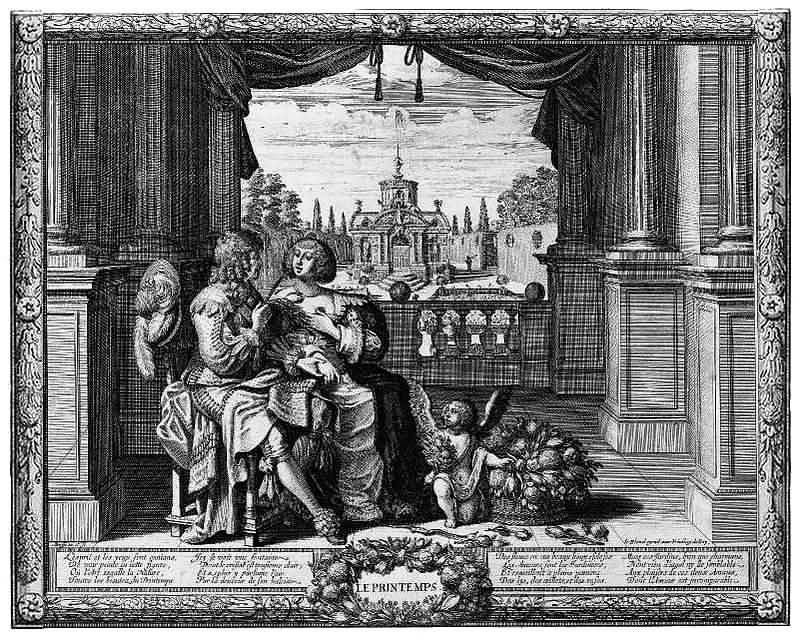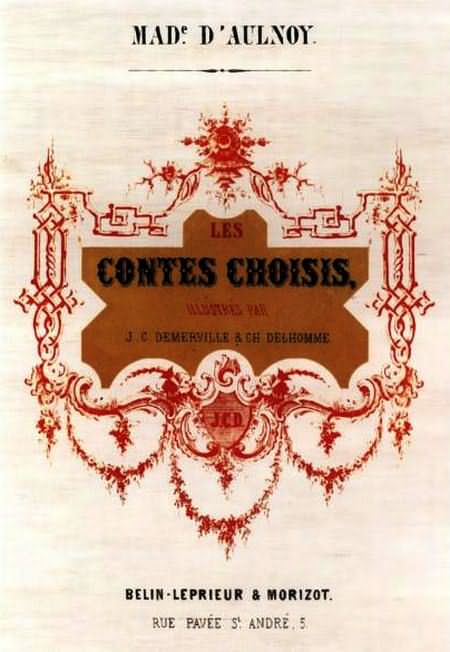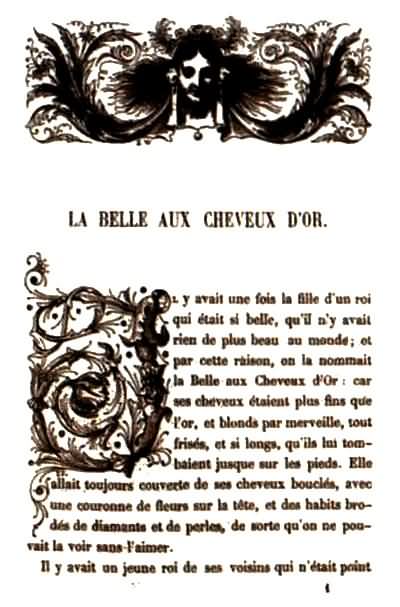Мадам д’Онуа
КАБИНЕТ ФЕЙ
МАРИ-КАТРИН ЛЕ ЖЮМЕЛЬ
ДЕ БАРНВИЛЬ,
графиня д’Онуа
Умерла в январе 1705 г.
Издание включает полное собрание сказок Мари-Катрин д’Онуа (1651–1705) — одной из самых знаменитых сказочниц «галантного века», современному русскому читателю на удивление мало известной. Между тем ее имя и значение для французской литературной сказки вполне сопоставимы со значением ее великого современника и общепризнанного «отца» этого жанра Шарля Перро — уж его-то имя известно всем. Подчас мотивы и сюжеты двух сказочников пересекаются, дополняя друг друга. При этом именно Мари-Катрин д’Онуа принадлежит термин «сказки фей», который, с момента выхода в свет одноименного сборника ее сказок, стал активно употребляться по всей Европе для обозначения данного жанра. Сказки д’Онуа красочны и увлекательны. В них силен фольклорный фон, но при этом они изобилуют литературными аллюзиями. Во многих из этих текстов важен элемент пародии и иронии. Сказки у мадам д’Онуа длиннее, чем у Шарля Перро, композиция их сложнее, некоторые из них сродни роману. При этом, подобно сказкам Перро и других современников, они снабжены стихотворными моралями. Кроме того, некоторые из них публикуются, как и в оригинальных изданиях, в обрамлении новелл: двух «испанских» («Дон Габриэль Понсе де Леон» и «Дон Фернан Толедский») и одной «мольеровской» («Новый Дворянин от мещанства»). Подобное обрамление заставляет вспомнить как о сборниках итальянских новелл и сказок («Декамерон» Боккаччо, «Пентамерон» Базиле, «Приятные ночи» Страпаролы), так и о произведениях современниц писательницы.
Рыцарский роман, барочная рыцарская поэма, галантные романы Мадлен де Скюдери и Оноре де Юрфе, комедии Мольера, басни Жана де Лафонтена, итальянские новеллы, устный фольклор современной автору Франции и, разумеется, античность — сопроводительная статья анализирует все источники творчества д’Онуа, подробно разъясняя ее место в литературе эпохи, влияние ее сказок на последовавший «век Просвещения», а также краткий обзор истории русских переводов и «отголосков» мотивов «Сказок фей» в отечественной литературе.
Издание снабжено подробными комментариями, биографическими данными, таблицей французских литературных сказок с 1690 по 1705 год и расшифровкой сказочных типов по указателю Аарне — Томпсона, библиографическим указателем и указателем иллюстраций.
Издание богато иллюстрировано как редчайшими иллюстрациями (черно-белыми и цветными) из прижизненного и позднейших изданий сказок мадам д’Онуа, так и изобразительными материалами, предельно широко воссоздающими ее эпоху.
Иллюстрации к сказкам мадам д’Онуа (гравюры из «Кабинета фей» (т. 2–4. Амстердам, 1785)) предоставлены Эриком Александровичем Робертом{1}.
В данном томе собраны все сказки Мари-Катрин Ле Жумель де Барнвиль д’Онуа. Перевод осуществлен по изд.: Madame d’Aulnoy. Contes de Fées suivis des Contes nouveaux ou Les Fées à la Mode / Èdition critique établie par Nadine Jasmin. P.: Honoré Champion éditeur, 2004 (Bibliothèque des Genies et des Fées) за исключением сказок «Желтый Карлик» и «Белая Кошка», ранее переведенных Ю. Яхниной (перевод стихов Н. Шаховской) и опубликованных в изд.: Французская литературная сказка XVII–XVIII вв. М., 1991.
В примечаниях к каждой сказке дается небольшая преамбула, поясняющая связь текста с источником. Некоторые сюжеты взяты автором из собраний сказок и новелл Базиле, Страпаролы, Катрин Бернар или мадам де Мюра. Многие сказки имеют фольклорное происхождение и соответствуют тем или иным сказочным типам по указателю Аарне — Томпсона. Номера сказочных типов для каждой сказки приводятся в таблице «Сказки и сборники сказок. 1690–1705 гг». Там же дается описание сказочных типов.
Составитель считает приятным долгом поблагодарить за ценные советы и уточнения А. И. Рейтблата, Н. С. Мавлевич, Р. М. Кирсанову, Н. В. Брагинскую, Е. А. Бечкову, С. Ю. и М. С. Неклюдовых за внимание и ряд ценных указаний при переводе, написании Послесловия и составлении примечаний.
Необходимая для этого издания исследовательская работа в Национальной библиотеке Франции им. Франсуа Миттерана стала возможной благодаря Стипендии Дидро, которую составителю предоставил Дом наук о человеке (Maison des Sciences de l’Homme, Париж). Составитель также благодарит лично директора Дома наук о человеке Мориса Эмара за любезную помощь во всем — от административных проблем до налаживания профессиональных контактов.
СКАЗКИ ФЕЙ[1]
Ее Королевскому Высочеству, Мадам
МАДАМ[2],
Вот вам королевы и феи, которые, осветив счастьем все и вся, что было очаровательного и достохвального в их времена, явились ко двору Вашего Королевского Высочества, чтобы обрести здесь все, что есть самого блистательного и любезного в наше время. Им известно, что во Франции есть одна великая принцесса, все деяния коей должны служить примером и которая сочетает с благородством августейшей крови чудеса доброты и великодушия: им известно, Мадам, что все добродетели в равной мере постарались создать сердце, разум и самое личность Вашего Королевского Высочества. Такие великие принцессы, как Вы, Мадам, несомненно, и дали повод вообразить себе королевство фей: тогда все и решили, что надобны особые гении, которые бы заботились о таких несравненных особах, в коих все волшебно. Если это так, — а сомневаться в этом не приходится, — то Вы сами изволите видеть, Мадам, что у меня были самые веские причины посвятить все эти рассказы о феях Вашему Королевскому Высочеству. Вместе с ними и я осмелюсь поднести Вам этот скромный дар в благодарность за то, что Вы благоволите принять его от меня, и если мне остается еще, чего пожелать, то я не попрошу ни шапки-невидимки, ни красоты Прелестницы[3], а лишь молила бы о таланте, дабы приятно развлечь Ваше Королевское Высочество. Будь мне оказана такая честь, все мои желания были бы исполнены, честолюбие удовлетворено, и я была бы так же счастлива, как если бы все феи на свете наделили меня своими драгоценными дарами. Приношу Вам свою благодарность и всепочтительнейшее смирение, которые и подобают Вам,
МАДАМ,
От нижайшей, покорнейшей и весьма
Вам признательной
Вашего Королевского Высочества
слуги
ТОМ ПЕРВЫЙ
Прелестница и Персинет[4]
или-были король с королевой, и была у них одна-единственная дочка. За несравненные красоту, нежность и ум прозвали ее Прелестницей. Мать души в ней не чаяла. Каждое утро облачали ее в новое платье, то из золотой парчи, то бархатное, а то атласное. Одевалась она великолепно, однако не гордилась и не чванилась. Все утро проводила с учеными, наставлявшими ее в разных науках, а после обеда занималась рукоделием подле королевы. Тогда ей приносили полные вазочки драже[5] и с двадцать горшочков варенья. И повсюду говаривали, что нет на свете принцессы счастливее.
вернуться
1
В оригинале первые четыре тома сказок Мари-Катрин д’Онуа носят заглавие «Contes des Fées», дословно — «Сказки фей». Подобное жанровое определение (правда, несколько видоизмененное — «Contes de Fées») вошло в обиход применителыю к волшебным сказкам на рубеже XVII–XVIII вв. Впервые оно встречается именно у мадам д’Онуа (см.: Barchilon 1998).
вернуться
2
Мадам… — посвящение относится ко всему сборнику сказок. Оно обращено к Елизавете-Шарлотте Баварской (1652–1722), принцессе Палатинской (т. е. Пфальцской), которая в 1671 г. стала супругой Филиппа I Орлеанского, младшего брата Людовика XIV и обладателя титулов «Единственный брат короля» и «Месье».
вернуться
3
…я не попрошу ни шапки-невидимки или роз Принца-Духа, ни юности Флорины, ни красоты Прелестницы… — Автор называет героев своих собственных произведений из первого тома «Сказок фей»: Принц-Дух — герой одноименной сказки, носящий имя Леандр; Флорина — героиня сказки «Синяя птица»; Прелестница — героиня сказки «Прелестница и Персинет», которой открывается том.
вернуться
4
Тип сказки, хотя и не без некоторых оговорок: АТ 425 В (Амур и Психея). В творчестве мадам д’Онуа это первая обработка ее излюбленной версии распространенного сказочного сюжета, к которому она будет обращаться неоднократно (см. с. 858–861 наст. изд.). В том же, 1697 г., что и «Сказки фей» мадам д’Онуа, выходит сборник «Сказки сказок» (Les contes des contes) мадемуазель де Ла Форс (1654–1724), а в нем — сказка «Percinette» (в переводе с французского «петрушечка»), где героиня носит женский вариант того же имени, что и герой данной сказки. Перевод этой сказки, под заглавием «Персинетта», см. в Дополнениях наст. изд. Тип сказки де Ла Форс — 310, т. е. о девушке в башне. Героини сказок этого типа часто носят «растительные» имена («Петросинелла», что значит «петрушечка» в сборнике Базиле, «Рапунцель», что значит «репчатый колокольчик» в собрании братьев Гримм). Кроме сходства имен, связи между персонажами разных сказок нет; возможно, д’Онуа таким образом намекает на «подземное» происхождение принца.
Зато Персинет, необыкновенный супруг и волшебный хозяин подземного дворца, заставляет вспомнить Рике с хохолком — подземного принца из одноименных сказок Катрин Бернар (1662–1712) и Шарля Перро (1628–1703). В отличие от героя сказки Бернар, Рике — волшебный помощник у Перро, при своем безобразном облике и необычайном уме, наделен таким добрым сердцем, что принцесса влюбляется в него и выходит за него замуж.
Сюжет об Амуре (Купидоне) и Психее, впервые в европейской литературе обработанный еще Апулеем в романе «Золотой осел» (II в. н. э.), вошел в моду при французском дворе после издания в 1669 г. прозиметрической повести Жана де Лафонтена (1621–1695) «Любовь Психеи и Купидона» (Les Amours de Psyché et de Cupidon) и постановки в 1671 г. в Тюильри «Психеи» — трагедии-балета Ж.-Б. Люлли на либретто, написанное Мольером в соавторстве с П. Корнелем и Ф. Кино. Эта постановка способствовала популярности истории об Амуре и Психее во французской придворной среде. Сказка мадам д’Онуа, в свою очередь, открыла целую серию французских литературных сказок, сюжетно близких к этой истории.
вернуться
5
Драже (фр. dragée). — Во времена мадам д’Онуа «драже» представляло собой, как правило, обжаренный в сахаре миндаль. В Европе моду на драже при дворе ввело еще семейство Медичи; во Франции оно стало модным во времена Людовика XIV.
Предлагаем ознакомиться с нашей новой версией сайта
Грейс и Дерек
Мадам д`Онуа Мари-Катрин
Жил-был король с королевой, и у них была единственная дочь, которуюзвали Грейс. Это имя очень подходило ей. Она была красива, добра и умна.Грейс была украшением дворца, и многие королевские советники спрашивалиу нее совета перед принятием решений.По утрам мать обучала ее искусству быть королевой. Слуги сервировалией стол серебряными и золотыми приборами и подавали самые роскошные иэкзотические кушанья на свете, словом — она была счастливейшей из девушек.Среди дворцовых дам была вечно всем недовольная и завистливая герцогиня Грудж, у нее были сальные волосы и круглое красное лицо…
Королевский баран
Мадам д`Онуа Мари-Катрин
Жил-был король, и у него было три дочери. Все они были очень красивы, но прекраснее всех была младшая. Ее звали Ванда, и она была отцовской любимицей. Ей всегда дарили больше всех подарков и меньше всех запрещали проказничать.Однажды король ушел на войну. Услышав, что он победил и возвращается домой, дочери принарядились к его приезду: старшая надела зеленое с изумрудами платье, голубое с бирюзой, а младшая — белое с бриллиантами. Радостный король вернулся, и начался пир. Подозвав старшую дочь, отец спросил ее:- Скажи мне, почему ты надела зеленое платье?- Ваше Величество, я услышала о вашей великой победе и надела зеленое платье, чтобы показать мою гордость за вашу храбрость и счастье по поводу вашего счастливого возвращения…
Зеленая змея
Мадам д`Онуа Мари-Катрин
Жила-была королева, у которой родились однажды дочки-близнецы. Она позвала на крестины фей. А в те времена, если феи приходили крестить ребенка, они приносили ему в дар множество подарков. Они могли превратить обычного ребенка в красивейшего и умнейшего в мире. Но иногда феи, рассердившись на что-либо, могли пожелать младенцу много плохого, поэтому все родители старались всячески задобрить фей. И вот во дворце был устроен роскошный банкет для фей. Не успели феи приняться за еду, как появилась старая-старая фея, которую уже много лет никто не видел…
Ясная заря с золотыми волосами
Мадам д`Онуа Мари-Катрин
Жил-был король, и была у него дочь с такими золотыми волосами, что на них невозможно было смотреть: так они переливались и блестели. За это ее назвали Ясной Зарей. Король из соседнего королевства, услышав о ее красоте, сразу же влюбился в нее. Он послал к ней посла с многочисленными дарами и письмом, в котором просил ее стать его женой. Он был уверен, что она согласится, поскольку он был молод и красив, а слава о его храбрости облетела все соседние королевства. В этот день Ясная Заря была в плохом настроении…
Желтый карлик
Мадам д`Онуа Мари-Катрин
Жила когда-то королева. Она родила много детей, но в живых осталась одна только дочь. Правда, эта дочь была прекрасней всех дочерей на свете, и овдовевшая королева не чаяла в ней души; но она так боялась потерять юную принцессу, что не старалась исправить ее недостатки. Восхитительная девушка знала, что красотой больше походит на богиню, чем на смертную женщину, знала, что ей предстоит носить корону; она упивалась своей расцветающей прелестью и возгордилась так, что стала всех презирать.Ласки и потачки королевы-матери еще больше убеждали дочь, что на свете нет жениха ее достойного…
Принцесса-кошка
Мадам д`Онуа Мари-Катрин
Жил-был король, у которого было три прекрасных сына. Он хотел, чтобы один из них наследовал его трон. И он решил, чтобы выбрать более достойного из них, испытать их ум и храбрость.Король позвал сыновей и сказал:- Вы знаете, что я стар и болен для того, чтобы править королевством. Один из вас должен занять мое место. Я отдам трон тому из вас, кто найдет мне самого преданного друга. Я хочу умную, смелую маленькую собачку. И тот из вас, кто достанет мне самую маленькую собачку, унаследует мою корону…
Голубой хохолок
Мадам д`Онуа Мари-Катрин
В одном королевстве жил-был вдовый король. Он был несказанно богат, и у него была дочь, которую звали Эйприл, и была она прекрасней весны. Когда ей исполнилось 15 лет, ее отец женился вновь. У мачехи была дочь, которую звали Тротти, и была она страшнее самой страшной ночи. Ее лицо было как потрескавшаяся кожа барабана, волосы как спутанная пряжа, а тело было желтым, как старый воск. Но мачеха обожала свою дочь и желала для нее всяческого счастья.Однажды король сказал:- Пожалуй, наступило время выдать наших дочек замуж…
Жили-были однажды король с королевой. Жили они счастливо, и подданные их обожали, одного только не хватало и тем и другим — не было у них наследника. Королева, уверенная, что король любил бы ее еще больше, если бы у них был сын, каждой весной отправлялась пить целебные воды, которые славились на всю округу. Туда съезжалось очень много народу и столько чужеземцев, что там встречались люди со всего света.
В большом лесу, куда ходили пить воды, было много источников; они были выложены мрамором и порфиром, так как все старались наперебой их украсить. Однажды королева, сидя на берегу источника, попросила всех своих дам удалиться и оставить ее одну. И начала она свои вечные жалобы.
— Ах, как я несчастна, говорила она, — что у меня нет детей! У самых бедных женщин они есть; вот уже пять лет, как я только того и прошу у неба. Неужели я никогда не приласкаю своего ребенка? Неужели так мне и умереть без этой радости?
Говоря так, она заметила, что вода в источнике забурлила, потом из воды появился громадный рак и сказал ей:
— Великая королева, вы получите наконец то, чего желаете. Скажу вам, что здесь неподалеку есть дивный дворец, построенный феями. Но его невозможно найти, потому что он окружен густыми тучами, через которые взгляд смертного не может проникнуть. Однако я хочу вам услужить, и если вы согласитесь довериться бедному раку, я вас туда отведу.
Королева молча слушала, так как она очень была удивлена тем, что рак говорит по-человечьи. Потом она ответила ему, что очень рада воспользоваться предложением, но что она только не умеет пятиться, как это делают раки. Рак усмехнулся и тут же превратился в хорошенькую маленькую старушку.
— Ну вот, госпожа моя, — сказала она, — как видите, нам незачем пятиться, и прошу вас считать меня своим другом, потому что я думаю только о том, чтобы вам быть полезной.
И она вышла из источника совсем сухой. Она была одета в белое с красным, а ее седые волосы были повязаны зелеными лентами. Никогда еще королева не видала такой любезной старушки. Она поклонилась королеве, поцеловала у нее руку и, не откладывая дела в долгий ящик, повела ее лесной дорожкой, которая королеву очень удивила, потому что сколько раз она не проходила здесь, а этой дорожки никогда не замечала. Как же это она на нее попала? А дело все в том, что по этой дорожке феи ходили к источнику. Обычно она была совершенно закрыта колючим кустарником да терновником, но как только королева и ее спутница появились, сейчас же там вместо колючек выросли розы, жасмины, и апельсиновые деревья сплелись ветвями, образовав навес из листьев и цветов; земля покрылась фиалками, и тысячи различных птиц защебетали на деревьях.
Не успела королева опомниться от удивления, как глазам ее представилось уже ни с чем не сравнимое зрелище дворца, который весь был выстроен из алмазов; и стены, и крыши, и потолки, и полы, и лестницы, и балконы, и даже террасы — все было сделано из алмазов. Совершенно восхищенная, она спросила любезную старушку, во сне ли это или наяву.
— Госпожа моя, — отвечала та, — это вовсе не сон.
В ту же минуту двери замка отворились, и оттуда вышли шесть фей. Но что это были за феи! Самые красивые и самые великолепные, какие когда-либо появлялись в их царстве. Они почтительно поклонились перед королевой, и каждая поднесла ей цветок из драгоценных камней, чтобы у нее был целый букет; тут были роза, тюльпан, анемон, колокольчик, гвоздика и белый цветок граната.
— Королева, — сказали они ей, — мы не можем вам лучше высказать наше благоволие, как тем, что позволили вам посетить нас здесь; мы рады сообщить вам, что скоро у вас родится прелестная принцесса, которую вы назовете Желанье, потому что вы ведь очень долго ее желали. Но не забудьте, как только она родиться, позвать нас, потому что мы хотим одарить ее всякими добрыми качествами. Для этого вы должны только взять ваш букет и назвать каждый цветок по имени, думая о нас; будьте уверены, что мы сейчас же появимся в ваших покоях.
Королева, не помня себя от радости, бросилась их обнимать, и целовались они добрых полчаса. После этого они позвали королеву к себе во дворец, который был так прекрасен, что и описать нельзя. Дело в том, что строил его тот самый архитектор, который создал солнце, и он там все так и сделал, как на солнце, только поменьше. Глаза королевы едва могли выдержать его ослепительный блеск, и поминутно ей приходилось жмуриться. Они повели ее в свой сад. Никогда еще королева не видала таких прекрасных плодов: абрикосы там были величиной с голову, а вишни, кушая, приходилось резать на четыре части, и такого там были прекрасного вкуса плоды, что, попробовав их, королева во всю жизнь не хотела есть никаких других. Был там фруктовый сад, весь состоящий из искусственных деревьев, и они росли и цвели, как и живые деревья.
Не буду рассказывать, как восторгалась наша королева, сколько она говорила о своей маленькой принцессе Желанье, как она благодарила милых фей, которые ей сообщили такую приятную новость; одним словом, она выразила им всю свою нежность и признательность. Фея источника тоже не была забыта ею. До самого вечера королева пробыла во дворце. Она любила музыку, а у фей были такие чудесные голоса, что они показались ей прямо небесными. Надавали ей всяких подарков, и она, еще раз поблагодарив фей, вернулась домой вместе с феей Источника.
Все были ужасно взволнованы ее отсутствием, ее искали повсюду с большим беспокойством и представить себе не могли, куда она могла деваться. Боялись даже, не похитил ли ее какой-нибудь дерзкий чужеземец, потому что она была молода и красива. Одним словом, все чрезвычайно радовались ее возвращению, а так как сама она была бесконечно довольна теми надеждами, которые внушили ей феи, то своей приятной и изящной беседой очаровала всех.
Фея Источника покинула ее у самого ее дома; новые ласковые приветы сопровождали их расставание. Королева пробыла еще восемь дней на целебных водах и не преминула снова пойти в замок фей вместе со своей кокетливой старушкой, которая появлялась всегда в виде рака, а потом уже принимала свой естественный облик.
Королева уехала; она понесла и родила принцессу, которую назвали Желанье. Тотчас же взяла она в руки полученный ею букет, назвала каждый цветок по имени, и в тот же миг явились феи на колесницах. У каждой была особая: у одной — колесница из черного дерева и запряжена белыми голубями, у другой — из слоновой кости, а везли ее маленькие вороны; были еще колесницы из кедра и бамбука. Это были все запряжки союза и мира, так как, когда феи гневались, они являлись на летающих драконах, на змеях, у которых пламя вырывалось из пасти и очей, на львах, на леопардах, на пантерах, и на этих зверях они переносились из одного края земли в другой так быстро, что не успеешь сказать «здравствуйте» или «прощайте». Но на этот раз они были в самом лучшем настроении.
Королева радостно и величественно пригласила их войти к себе, а за ними потянулись карлики и карлицы, сгибавшиеся под тяжестью всяких подарков. После того как они обняли королеву и поцеловали маленькую принцессу, они развернули привезенные ей пеленки, сделанные из такого тонкого и добротного полотна, что можно было сто лет ими пользоваться, и они бы не износились. Феи ткали это полотно в часы досуга. Что касается кружев, то они были еще лучше полотна, и вся история мира была на них представлена иголкой да веретеном.
После этого они показали еще простыни и одеяла, вышитые нарочно для этого случая, и на них были изображены тысячи различных игр, которые любят дети. С тех пор как на белом свете есть вышивальщики да вышивальщицы, еще не видно было таких чудесных вышивок. Но когда появилась колыбелька, королева вскрикнула от восхищения, потому что колыбель превосходила все, что она до сих пор видела. Она была сделана из такого рода редкого дерева, что оно стоило сто тысяч экю за фунт. Четыре маленьких амура поддерживали ее; это были четыре мастерских произведения, где искусство настолько превышало свой материал, хотя сам-то он состоял из алмазов и рубинов, что прямо не расскажешь. Маленькие амуры были оживлены феями, и, если дитя кричало, они потихоньку укачивали и убаюкивали его. Это было чудо как удобно для кормилиц.
Феи взяли девочку к себе на руки, сами запеленали и без конца целовали ее, потому что она уж и теперь была так хороша, что нельзя было на нее взглянуть и не полюбить. Тут они заметили, что она хочет кушать, сейчас же ударили они по полу своей волшебной палочкой, и мгновенно появилась кормилица, такая, какую и нужно было для этой милой куколки.
Теперь оставалось только наделить дитя дарами фей, и они не замедлили это сделать. Одна одарила ее добродетелью, другая — умом, третья — дивной красотой, следующая — счастливой судьбой, пятая — пожелала ей здоровья, а шестая сказала, что все, что бы она ни начинала делать, у нее будет выходить очень хорошо.
Довольная королева тысячу раз их поблагодарила за все те милости, которые они оказали маленькой принцессе, — но в эту минуту все увидели, что в комнату ползет такой громадный рак, что еле-еле пролезает в двери.
— А, неблагодарная королева, — сказал рак, — вы не изволили вспомнить обо мне? Как же вы так скоро забыли фею Источника и ту услугу, что я вам оказала, проводив вас к моим сестрам? Как! Все их вы позвали и только одной мной пренебрегли! По правде сказать, я это предчувствовала, почему и обернулась раком, когда говорила с вами впервые, чтобы намекнуть вам, что ваша дружба ко мне, вместо того, чтобы идти вперед, будет пятиться назад. Королева, огорченная своим промахом, прервала ее и попросила у нее прощенья; она говорила, что, вызывая фей, хотела назвать и ее цветок, но что этот драгоценный букет сбил ее, что для нее было бы немыслимо забыть о тех одолжениях, которые та ей сделала, что она умоляет не лишать ее своей дружбы, а, главное дело, быть подобрее с маленькой принцессой. Все феи, которые боялись, как бы фея Источника не посулила ребенку несчастий и неудач, присоединили свои голоса, чтобы смягчить ее.
— Милая сестрица, — говорили они, — пусть ваша светлость не изволит сердиться на королеву, которая никак не хотела вас огорчить! Покиньте, будьте милостивы, ваше обличье рака и сделайте так, чтобы мы увидали вас во всей вашей красе. Как сказано, фея Источника была весьма кокетлива, и похвалы, которые ей расточали сестры, ее немного смягчили.
— Ну, хорошо, — сказала она, — я уж не причиню маленькой принцессе всего того зла, которое было решила ей сделать, потому что я, правда, хотела ее погубить, и ничто не могло бы мне в этом помешать. Однако предупреждаю вас, что, если принцесса увидит дневной свет раньше, чем ей исполнится пятнадцать лет, ей придется в этом горько раскаяться, и, может быть, это ей даже будет стоить жизни.
Слезы королевы и мольбы славных фей не смогли ничего изменить в приговоре, который был произнесен. И она ушла, пятясь, ибо не захотела покинуть свой панцирь рака. Как только она удалилась из покоев, королева спросила фей, нет ли какого средства предохранить ее дочку от грозящих ей бедствий. Они сейчас же стали держать совет и наконец, после того как обсудили целый ряд различных соображений, остановились на следующем: должно построить дворец без окон и дверей, с подземным входом и воспитать принцессу в этом убежище, пока не минет роковой срок, в продолжение которого ей угрожает несчастие.
Трех ударов волшебной палочки достаточно было, чтобы воздвигнуть громадное здание. Снаружи оно было из белого и зеленого мрамора, на потолках и полах из алмазов и изумрудов изображены были цветы, птицы и тысячи разных приятных вещей. Все стены были обиты бархатом различной окраски, вышитым руками фей. А так как наши феи были учеными историками, то они доставили себе удовольствие вышить самые замечательные истории; будущее было также там представлено, как и прошедшее, и геройские дела величайшего короля в мире были изображены на многих коврах.
Здесь духу Фракии подобен,
Победоносен, величав,
И страшный взор его среди военных слав
Молниеносен, дик и грозен.
А там — спокоен и велик,
В глубоком мире Францией он правит,
И целый мир его, ревнуя, славит,
И пред его законами поник.
И живопись изображает
Черты различные его великих лет:
Он, грозный, грады покоряет,
Великодушен, мир лиет.
Мудрые феи придумали все это для того, чтобы юная принцесса могла без труда изучить различные события жизни героев и других людей.
В ее дворце было светло только от блеска свеч, но их было такое множество, что казалось, в залах вечный день. Лучшие учителя были приглашены к ней. Ее ум, живость и догадливость почти всегда предупреждали то, что ей хотели сообщить. И все учителя восхищались без конца ее удивительным речам, уже в том возрасте, когда другие дети едва умеют назвать по имени свою кормилицу. Ну, да ведь кого феи одарят, та не останется невеждой и дурочкой.
Но если ее разум пленял всех, кто ее видел, то ее красота оказывала не меньшее действие; она восхищала самых бесчувственных людей, а королева, ее мать, так та никогда бы с ней и на минуту не расставалась, если бы долг не заставлял ее быть около короля. Добрые феи приходили время от времени взглянуть на принцессу; они ей приносили разные невиданные редкости, платья как раз точно по мерке, да такие богатые и красивые, что можно было подумать, что они сшиты на свадьбу одной юной принцессы, которая не менее мила, чем та, о которой я рассказываю. Все феи очень ее любили, но фея Тюльпанов любила ее больше всех и особенно заботливо напоминала королеве, что принцесса не должна видеть дневного света раньше, чем ей исполнится пятнадцать лет.
— Наша сестра, фея Источника, — говорила она королеве, — мстительна, и как бы мы ни лелеяли вашу дочку, она принесет ей немало зла, если сможет. Поэтому, госпожа моя, вы должны быть как можно бдительнее.
Королева обещала ей непрестанно думать об этом, но так как ее дочка уже приближалась к тому возрасту, когда должна была выйти из своего замка, она заказала ее портрет. Этот портрет был послан ко дворам самых великих королей мира. Не было принца, который бы не залюбовался им, а один принц так им пленился, что не мог расстаться с ним. Он повесил его у себя в комнате, запирался с ним один на один, разговаривал с ним, точно тот мог его слушать и понимать, и произносил перед ним самые нежные речи в мире.
Король, который теперь почти не видал своего сына, захотел узнать, чем тот занят и почему он не так весел, как обычно. Иные из придворных, что стараются ответить королю раньше других (а таких ведь немало), сказали ему, что следует опасаться, как бы принц не помешался, потому что он по целым дням запирается у себя в комнате, и слышно, как он там один-одинешенек разговаривает, точно там кто-то с ним есть.
Король выслушал это с беспокойством.
— Может ли это быть, — спрашивал он у своих приближенных, — чтобы мой сын помешался? Ведь он всегда был так умен. Вы знаете, что до сих пор все им восхищались, да и сейчас я не вижу, чтобы у него был блуждающий взор; просто он, мне кажется, какой-то грустный. Надо мне самому с ним поговорить, может быть, я разузнаю, что за безумие им владеет.
В конце концов король послал за ним, велел всем выйти вон, и после нескольких слов, которые сын выслушал невнимательно и на которые ответил невпопад, король его спросил, что с ним такое случилось, что сам он и его настроение так изменились. Принц, полагая, что минута благоприятная, бросился к его ногам и сказал:
— Вы решили меня женить на Черной Принцессе. Вы находите очень важным этот брачный союз, и я не могу вам обещать того же, говоря о принцессе Желанье, но, отец мой и повелитель, в ней я вижу такую красу, которой нет у другой.
— А где вы их видели? — спросил король.
— Портреты той и другой прислали мне, — ответил принц Воитель (его звали так после того, как он выиграл три больших сражения). — Уверяю вас, что я так сильно люблю принцессу Желанье, что, если вы не расторгнете нашу помолвку с Черной Принцессой, я должен буду умереть — и я рад, что не буду жить, потеряв надежду соединиться с той, которую люблю.
— Это, значит, с ее портретом, — продолжал строго король, — изволите вы вести разговоры, которые делают вас посмешищем всех придворных? Вас уже считают сумасшедшим, и если бы вы только знали, что мне об этом передают, то устыдились бы своей слабости.
— Я не могу упрекать себя за столь дивный пламень любви, — отвечал он, — и если бы вы увидали портрет этой прелестной принцессы, вы бы одобрили и чувства мои к ней.
— Ну так принесите его сейчас же, — сказал король с нетерпением, выдававшем его горе. Наверно, принц был бы тем весьма озабочен, если бы только он не был уверен, что никто в мире не сможет сравниться по красоте с принцессой Желанье. Он бросился к себе в комнату и вернулся к королю, который почти так же восхитился портретом, как и его сын.
— Ах, — сказал он, — дорогой мой Воитель, теперь я понимаю, что вас так страстно волнует. Да я прямо помолодею, если при моем дворе будет такая очаровательная принцесса. Я сейчас же снаряжу послов к Черной Принцессе, чтобы расторгнуть вашу помолвку; пусть даже у нас с ней возгорится жестокая война, я все же решаюсь на это!
Принц почтительно поцеловал руки отца и несколько раз обнял его колени. Он был так доволен, что его еле узнавали. Он торопил отца послать поскорее гонцов не только к Черной Принцессе, но и к принцессе Желанье. При этом он требовал, чтобы к ней был послан самый богатый и самый хитроумный человек, потому что ему придется выступать в самом блистательном посольстве и добиться того, чего принцу так хочется. Король остановился на Бекафиге; это был молодой, очень красноречивый вельможа, и доходу у него было сто миллионов в год. Он очень любил принца Воителя и, чтобы угодить ему, снарядил такой богатый и пышный посольский поезд, что и вообразить нельзя. Его усердие не знало пределов, ибо любовь принца увеличивалась с каждым днем, и он без конца умолял его ехать как можно скорее.
— Подумайте, — говорил ему принц, — ведь дело идет о моей жизни, ведь я теряю рассудок, как подумаю, что отец принцессы может принять чье-нибудь другое предложение и не захочет его расторгнуть ради меня, — и тогда я ее потеряю навек.
Бекафиг успокаивал его, чтобы немного оттянуть свой отъезд, так как ему очень хотелось, чтобы все его траты принесли ему честь и почет. Он снарядил восемьдесят карет, которые все блестели золотом и алмазами, и самые красивые миниатюры не могли сравниться с теми, которые украшали эти кареты. Было еще пятьдесят других карет, двадцать четыре тысячи конных пажей, одетых роскошнее принцев, да и все остальные в этом великолепном поезде были им под стать.
Когда посланник был на прощальном приеме у принца, тот сказал ему:
— Не забудьте, мой дорогой Бекафиг, что жизнь моя зависит от супружества, которое вы едете устраивать; не упустите ничего, чтобы уговорить и привести к нам принцессу, которую я обожаю.
Он снабдил его тысячей разных подарков, изящество и роскошь которых соперничали друг с другом: тут были и различные любовные изречения, вырезанные на алмазных печатках, карбункуловые часы с буквами имени принцессы Желанье, и браслеты с рубинами, вырезанными сердечком. Словом, чего он только не выдумал, чтобы ей понравиться.
Посланник вез с собой портрет юного принца, написанный человеком столь ученым и искусным, что портрет этот умел разговаривать и говорить очень хитроумные любезности. По правде сказать, он не на все отвечал, что ему говорили, но это было уж не так важно. Бекафиг обещал принцу сделать все возможное, чтобы исполнить его желание и прибавил при этом, что везет с собой такую кучу денег, что если ему откажут в руке принцессы, он столкуется с кем-нибудь из ее приближенных дам и сумеет ее похитить.
— Ах, — воскликнул принц, — на это я не могу согласиться: Мы можем ее обидеть такой непочтительностью.
Бекафиг ничего на это не ответил и пустился в путь. Шумные слухи о посольстве предупредили его прибытие. Король и королева были в восторге; они очень уважали его государя и знали о великих подвигах принца Воителя. Однако они еще лучше были осведомлены о личных достоинствах принца, и потому, когда они думали о том, что пора приискать жениха дочери, то во всем мире не могли найти никого, кто был бы более достоин такой невесты. Для Бекафига приготовили целый дворец и сделали все надлежащие распоряжения, чтобы он увидал королевский двор в полном великолепии.
Король и королева решили, что посол должен увидать принцессу Желанье, но тут к королеве явилась фея Тюльпанов и сказала ей:
— Берегитесь, госпожа моя, не приводите Бекафига к нашей малютке (так она всегда называла принцессу); ни в коем случае не должен он видеть ее, ибо еще не пришло время для этого, и не соглашайтесь отсылать ее к королю, который зовет ее, пока ей не минет пятнадцать лет, ибо я уверена, что если она поедет раньше, с ней случится какое-нибудь несчастие.
Королева обняла добрую фею Тюльпанов и обещала ей послушаться ее совета, после чего они направились к принцессе.
Приехал Бекафиг. Его посольский поезд въезжал в столицу целых двадцать три часа, ибо в этом поезде было шестьсот тысяч мулов; их колокольчики и подковы были из чистого золота, черпаки из бархата и из парчи, расшитой жемчугами. Какая толкотня была на улицах, рассказать невозможно: все до одного сбежались, чтобы поглазеть на поезд. Король и королева вышли навстречу послу, так они были довольны его приездом. Нечего и говорить, как он их приветствовал и с какими церемониями они встречались, но когда он попросил разрешения представиться принцессе, то получил отказ, чем был весьма удивлен.
— Если мы отказываем вам, сеньор Бекафиг, — сказал ему король, — в том, что вы имеете полное право просить, то вовсе не из-за какой-то особой прихоти. Чтобы вы поняли это, надобно вам рассказать диковинную историю нашей дочери. При ее рождении одна фея невзлюбила ее и пригрозила ей страшными несчастьями в том случае, если она увидит дневной свет до достижения пятнадцатилетнего возраста. Она живет у нас во дворце, лучшие покои которого находятся под землей. Мы хотели провести вас к ней, но фея Тюльпанов воспретила нам это.
— Как же так, государь? — спросил посланник. — Неужели мне выпадет несчастье возвратиться без не? Вы благоволите выдать ее замуж за сына моего повелителя, и ее ожидают с величайшим нетерпением; возможно ли, чтобы вас останавливали какие-то пустяки вроде предсказаний фей? Вот портрет принца Воителя, который я должен ей преподнести, он до того здесь похож, что мне кажется, что я вижу его самого, когда смотрю на этот портрет. — Тут же он достал и показал им портрет принца, а так как этот портрет умел говорить только о принцессе Желанье, то все услышали вот что:
— Прекрасная принцесса Желанье, вы себе представить не можете, с каким жаром ожидаю я вас. Явитесь скорее и украсьте наш двор вашими несравненными прелестями. Портрет больше ничего не сказал, но король и королева были так удивлены, что стали просить Бекафига отдать им этот портрет, чтобы снести его принцессе; Бекафиг был очень доволен и вручил им портрет.
Королева до сих пор ничего не рассказывала своей дочке о том, что происходит в столице, она даже запретила дамам, которые служили принцессе, рассказывать ей о приезде посла; но они ее, конечно, не послушались, и принцессе было известно, что затевается великое сватовство. Однако она была очень осторожна и ничего не сказала матери. Когда королева показала ей говорящий портрет принца, который сказал ей несколько вежливых и нежных слов, она была очень удивлена этой неожиданностью. Ведь она никогда не видала ничего подобного, а доброе лицо принца, его умный взгляд и правильность черт удивили ее не менее того, что портрет умел говорить.
— Были бы вы недовольны, — сказала ей, смеясь, королева, — супругом, похожим на этого принца?
— Госпожа моя, — отвечала принцесса, — мне не принадлежит выбор, и я всегда останусь довольна тем, кого вы мне предназначите.
— Ну, хорошо, — сказала королева, — а если выбор наш упал бы на него, разве вы не почувствовали бы себя счастливой?
Принцесса покраснела, опустила очи и ничего не ответила. Королева обняла ее и долго целовала. Она не могла удержаться от слез, когда вспомнила, что скоро расстанется со своей дочкой, потому что оставалось только три месяца до того дня, когда принцессе должно было исполниться пятнадцать лет. Но она скрыла свое огорчение и рассказала ей все, что до нее касалось, про посольство знаменитого Бекафига. Она даже отдала ей редкостные подарки, которые ей привез посол. Принцесса полюбовалась ими, похвалила, проявив большой вкус, самые любопытные подарки, но время от времени ее взгляд ненароком отрывался от них и останавливался на портрете принца с какой-то особой радостью, ей до сих пор неизвестной.
Посол, видя, что он безо всякого успеха добивается отъезда с ним принцессы, и что хозяева довольствуются тем, что обещают ему ее, но обещают так торжественно, что в этом не приходится сомневаться, недолго пожил у короля и поехал обратно к своим повелителям, чтобы доложить о своем посольстве.
Как только принц узнал, что не может надеяться увидать свою милую принцессу раньше трех месяцев, он принялся так жаловаться на судьбу, что встревожил весь двор. Он больше не мог спать, ничего не ел, стал печальным и задумчивым, свежесть его лица сменилась цветом заботы. Целыми днями он лежал на диване в своей комнате и смотрел на портрет принцессы, все время писал ей письма и подносил их к портрету, как будто бы тот мог их прочесть. Наконец силы оставили его, и он опасно заболел. А чтобы открыть причину этой болезни, не нужно было ни медиков, ни лекарей.
Король был в ужасном отчаянии. Он так нежно любил сына, как никогда еще не один отец не любил своих детей. А теперь он начал бояться, что его потеряет. Какое горе для отца! И он не мог и придумать, как помочь принцу. Принц думал о принцессе Желанье, и без нее он должен был погибнуть. В такой великой крайности король решил сам отправиться к королю и королеве, которые обещали ему принцессу, и упросить их, чтобы они сжалились над несчастьем принца и не затягивали их свадьбу. Потому что если еще дожидаться, пока принцессе минет пятнадцать лет, то случится так, что эта свадьба никогда не состоится.
Итак, король решился на чрезвычайный шаг, но что делать, если иначе пришлось бы видеть гибель своего любезного и дорогого сына? Однако тут оказалась еще одна трудность, которую никак нельзя было одолеть. Король был уже стар и не мог отправиться иначе, как на носилках, а этот способ плохо согласовался с нетерпением сына. Потому король опять отправил верного Бекафига с письмами к королю и королеве, где в самых трогательных словах просил их уступить ему.
В это время принцесса Желанье любовалась портретом принца с таким же удовольствием, с каким он сам любовался ее портретом. Она все время в мечтах переносилась туда, где был он, и, хотя она и старалась скрыть свои чувства, все же их не трудно было обнаружить. Две ее фрейлины, из которых одну звали Левкой, а другую Колючая Роза, заметили, что она немножко скучает. Левкой очень любила принцессу и была ей верна, а Колючая Роза втайне завидовала ее достоинствам и ее высокому положению. Мать Колючей Розы воспитала принцессу и после этого стала ее приближенной дамой; она бесконечно любила принцессу, но свою дочь обожала до безумия, и видя теперь, что дочь ее ненавидит прекрасную принцессу, и сама она стала гораздо меньше любить свою воспитанницу.
Посол, которого отправили ко двору Черной Принцессы, был не очень-то хорошо там принят, когда узнали, с каким приятным известием он к ним явился. А надо сказать, что эта эфиопская принцесса была самым мстительным существом в мире. Она нашла, что с ней поступили не очень-то по-рыцарски только что посватались к ней и получили ее согласие, и вдруг является посол с вежливым отказом. Она видела портрет принца, а ведь эти эфиопки если полюбят, так уж так безумно, как никто другой.
— Как же так, государь мой посланник, — сказала она, — верно, ваш повелитель полагает, что я не столь богата или не так уж красива? Прогуляйтесь по моим владениям, и вы увидите, что нет на свете другого такого обширного государства. Пойдемте со мной в мою королевскую сокровищницу, и вы увидите там столько чистого золота, что из всех россыпей Перу не добыть столько. Наконец, взгляните на черную мою кожу, на мой расплюснутый носик, на толстые мои губы — ну, разве не такие бывают красавицы?
— Госпожа моя, — отвечал посол, который до смерти боялся, как бы ему не пришлось попробовать палок, как это другой раз бывает с послами в восточных странах, — я проклинаю повелителя моего так, как только дозволено его подданному, и если бы небо даровало мне самый блистательный трон во вселенной, уж поверьте, я бы недолго думал, с кем его разделить.
— Эти мудрые слова спасли вам жизнь, — отвечала она ему; — я было собиралась с вас начать свою месть, но это было бы несправедливо, так как теперь я вижу, что вы не виноваты в отвратительном поступке вашего государя. Идите к нему и скажите, что я очень счастлива разорвать нашу помолвку, потому что не люблю обманщиков! — Посол, который только о том и думал, как бы с ней распроститься, не замедлил воспользоваться ее приказанием и уехал.
Но эфиопка была слишком уязвлена принцем Воителем, чтобы его простить. И вот села она на колесницу из слоновой кости, запряженную страусами, которые быстро побежали, делая до десяти миль в час. И направилась она во дворец феи Источника, которая была ее крестной и лучшим другом. Она рассказала ей все свои приключения и умоляла помочь ей в ее злой обиде. Фея тронулась горем своей крестницы, посмотрела в волшебную книгу и там тотчас же прочла, что принц Воитель покинул Черную Принцессу только ради принцессы Желанье, в которую влюблен без ума, и даже занемог единственно от нетерпения ее видеть. Хотя фея почти было простила принцессу Желанье к этому времени, но тут она снова распалилась ужасным гневом против не. Она не видела принцессы со дня ее рождения и, наверно, уже не причинила бы ей никакого зла, если бы мстительная Чернавка не стала заклинать ее помочь ей.
— Как! — воскликнула в ярости фея. — Так, значит, опять эта несчастная Желанье будет раздражать меня? Нет, прелестная моя Принцесса, нет, крошечка моя, я не потерплю, чтобы тебя обижали, — небо и все стихии замешаны в этом деле. Возвращайся спокойно к себе домой и надейся на свою крестную.
Черная Принцесса поблагодарила ее и поднесла ей цветов и фруктов, чем та осталась очень довольна.
Посол Бекафиг спешил со всей быстротой в столицу отца принцессы Желанье. Он бросился к ногам короля и королевы, немало пролил слез и сказал самыми трогательными словами, что принц Воитель умрет, если дольше они будут откладывать радостное свидание его с принцессой, их дочерью; ведь в конце концов, осталось только три месяца до того срока, когда ей исполнится пятнадцать лет; что ничего дурного с ней за такой короткий срок случиться не может; что он берет на себя смелость заметить, что такое слепое доверие к феям может повредить их королевскому достоинству. Одним словом, он убеждал их со всем искусством, каким славился. Они поплакали вместе с ним, когда представили себе печальное состояние молодого принца, и наконец сказали ему, что через несколько дней все обдумают и дадут ему решительный ответ. Посол ответил, что ответ можно задержать только на несколько часов, так как повелитель его тяжко болен и воображает, что принцесса сама откладывает свой отъезд, потому что его ненавидит. Тогда ему сказали, что в этот же вечер все решат. Королева побежала во дворец к своей дорогой дочке и рассказала ей все, что произошло. И тогда принцесса Желанье опечалилась беспримерно; сердце у нее сжалось, и она упала без памяти. Тут королева поняла, что она любит принца, и сказала ей:
— Не удручайтесь этим, дорогое дитя мое, ведь вы сможете в один миг исцелить его от болезни, меня беспокоят только страшные угрозы феи Источника, которые она произнесла в день вашего рождения.
— Я уверена, — возразила принцесса, — что если бы мы приняли некоторые предосторожности, то провели бы злую фею. Ну, если бы, например, я поехала в большой карете, со всех сторон закрытой, куда не проходил бы ни один солнечный луч? Ее бы открывали только ночью, чтобы дать нам поесть, и, таким образом, я бы счастливо доехала до принца Воителя.
Королеве очень понравилось это предложение, она рассказала о нем королю, который тоже его одобрил. Он сейчас же послал за Бекафигом, и они пообещали ему уж наверно, что принцесса поедет в самом скором времени, так что посол может вернуться и сообщить эту добрую новость своему повелителю. А сверх того, они добавили, что для того, чтобы ни на одну лишнюю минуту не задержаться, они даже и поезда ей и богатых платьев, как оно подобало быть, делать не будут. Посол в полном восторге бросился к ногам короля и королевы, благодаря их. И немедленно затем он уехал, так и не увидав принцессы.
Горько было бы принцессе расставаться с королем и королевой, если б не привязалась она уже сердечно к принцу, а ведь это такое чувство, которое заглушает почти все другие. Построили ей карету, снаружи — всю из зеленого бархата, с большими золотыми украшениями, а внутри все было обито серебряной парчой, расшитой розами. В этой карете не было ни единого стекла, и была она очень большая. Закрывалась она наглухо, крепче, чем ларчик, и один из самых важных вельмож королевства хранил ключ, которым запирались замки в дверцах.
Красотою Грации сияли,
Утехи, игры, легкий смех!
И, улетая дальше всех,
За ней амуры поспешали.
Взор сочетала величавый
С небесной нежностью она,
Мечта была поражена
Ее улыбкою и славой.
Она могла нас подивить
Красою царственного вида;
Как нежная Аделаида,
Сюда пришла она, чтоб мир нам подарить.
Только немногие кавалеры должны были сопровождать принцессу, дабы не обременять проезда большой свитой. Подарили ей драгоценные ожерелья, которым цены не было, и несколько богатейших платьев, и вот после прощанья, когда король с королевой и весь двор заливались слезами, посадили принцессу в темную карету, а вместе с ней поехали Левкой и Колючая Роза со своей матерью.
Может быть, вы уже позабыли, что Колючая Роза совсем не любила принцессу Желанье, но зато она очень любила принца Воителя, потому что она видела его говорящий портрет. До того ее поразил он, что, уже собравшись ехать с принцессой, она сказала матери, что не жить ей на белом свете, если эту свадьбу сыграют, и что если мать хочет видеть ее живой, так пусть она эту свадьбу расстроит. Мать просила ее не огорчаться и сказала, что постарается все устроить, чтобы сделать дочку счастливой.
А когда королева посылала свое дорогое дитя в путешествие, она ни на кого так не понадеялась, как на эту злую женщину.
— Сокровище мое я доверяю вам! — говорила она ей. — Оно дороже мне соей жизни. Смотрите, чтобы она была здорова, а главное, чтобы не увидала дневного света, — тогда все пропало. Вы ведь знаете, какими бедствиями ей это грозит, и я уговорилась с послом принца Воителя, что, пока ей не исполнится пятнадцати лет, она будет жить в особом замке, где никакого света, кроме свеч, не будет.
Королева подарила этой женщине подарков, чтобы она получше выполнила ее поручение. А та обещала королеве глаз не спускать с принцессы и, как только приедут на место, обо всем ей написать.
Вот так-то король и королева, надеясь на плоды своих забот, не очень-то за нее боялись, и поэтому легче им было сносить разлуку с ней. Каждый вечер кавалеры, сопровождавшие принцессу, открывали карету, чтобы приготовить ей ужин, и от них Колючая Роза узнала, что скоро приедут они в город, где их ожидали. Тогда Колючая Роза стала торопить свою мать, чтобы та сделала поскорей то, что ей обещала, потому что она боялась, как бы король с принцем не выехали им навстречу, а тогда уже не будет случая расстроить свадьбу. И вот однажды около полудня, когда солнце ярко светит, взяла мать Колючей Розы большой острый нож, который она заранее припасла на это дело, да и прорезала одним ударом верх у кареты. И тогда принцесса Желанье впервые увидела солнечные лучи. Не успела она и взглянуть на белый свет, как испустила глубокий вздох и выскочила из кареты, обернувшись белою ланью. И пустилась она бежать в лес все дальше и дальше, покуда не забралась в самую глушь, где и стала горевать одна-одинешенька о том, чем она была да чем стала.
А фея Источника, которая и затеяла все это необычайное дело, видя, что все, кто были с принцессой, бросились ей на помощь — кто за ней в лес, а кто к принцу Воителю, чтобы известить его о том, какое приключилось горе, — готова была перевернуть всю природу: гром загремел, молния засверкала так, что самые храбрые перепугались, а, кроме того, своим волшебством всех этих людей она унесла далеко-далеко от этого места, где их присутствие ей не нравилось.
Только и остались там Левкой да Колючая Роза со своей матерью. Левкой бросилась за своей госпожой, оглашая леса и горы своими жалобами и именем принцессы. А другие две, очень довольные тем, что освободились от тяжкой обязанности, не теряя ни минуты, принялись за то, что задумали. Колючая Роза надела самые богатые платья принцессы Желанье. Королевская мантия, которую сшили к свадьбе, была бесподобной роскоши, а в корону были вправлены алмазы в два или в три раза больше кулака, скипетр был из цельного рубина, а держава, которую она взяла в другую руку, была из жемчужины побольше головы. Уж такие это были редкости, и тяжело же их было нести! Но Колючая Роза хотела разыграть из себя принцессу и решила ничего не упустить в королевском наряде.
В этом наряде Колючая Роза с матерью, которая несла шлейф ее мантии, пошла по дороге к столице принца Воителя. Поддельная принцесса важно шагала вперед, ничуть не сомневаясь в том, что им окажут торжественный прием; и действительно, недалеко они еще отошли, как заметили, что навстречу им движется конница, а посреди ее два великолепных паланкина, сверкающие золотом и драгоценными камнями, и несут их мулы, украшенные султанами из зеленых перьев (это был любимый цвет принцессы). Король, находившийся в одних носилках, и больной принц, бывший в других, не знали, что и подумать об этой странной паре, которая к ним приближалась. Самые нетерпеливые из всадников поскакали им навстречу и, увидав их роскошные одежды, решили, что это, должно быть, важные особы. Они соскочили с коней и почтительно им поклонились.
— Скажите мне, — спросила у них Колючая Роза, — кто находится в этих носилках?
— Госпожа моя, — отвечали ей, — это король наш и принц, его сын, которые выехали навстречу принцессе Желанье.
— В таком случае, — отвечала она, — поезжайте к ним и скажите, что принцесса идет им навстречу; одна фея, которая завидовала моему счастью, рассеяла всех моих провожатых страшными ударами грома, сверкающими молниями и всякими чудесными явлениями; со мной только и осталась моя приближенная дама, у которой письма моего отца и мои драгоценности.
В тот же миг рыцари поцеловали край ее мантии и поскакали обратно, чтобы доложить королю, что перед ними принцесса.
— Как! — вскричал он. — Она идет пешком и при дневном свете?
Они передали то, что она им рассказала. Принц, горевший нетерпением, подозвал их к себе и, не дав им слова выговорить, спросил:
— Поклянитесь мне, что она — диво красоты, истинное чудо, настоящая принцесса!
Они ничего ему не ответили и весьма удивили тем принца.
— Чтобы не перехвалить, вы предпочитаете молчать, — заметил он.
— Государь, вы ее сейчас увидите, — отвечал самый смелый из них; она, наверно, очень изменилась, потому что устала с дороги.
Принц был очень удивлен и, конечно, если бы он не был так слаб, сейчас же соскочил с носилок из нетерпения и любопытства. Король спустился на землю и вместе со всем своим двором подошел к поддельной принцессе. Но взглянув на нее, громко вскрикнул, и, отступив на несколько шагов, сказал:
— Что я вижу! Какое вероломство!
— Государь, — сказала ему приближенная дама принцессы, отважно выступая вперед, — перед вами принцесса Желанье, и вот письма короля и королевы; вручаю вам также и ларчик с драгоценностями, которые они мне передали, когда мы отъезжали.
Король угрюмо промолчал, а в это время принц, опираясь на Бекафига, подошел к Колючей Розе. О боги! Что только с ним сделалось, когда он рассмотрел эту странную фигуру, при взгляде на которую прямо страшно делалось. Она была так высока, что одежды принцессы едва достигали ей до колен, худа она была, как щепка, нос — крючком, словно у попугая, красноватый, лоснящийся, и зубы у нее были такие черные да кривые, каких ни у кого другого не было. Словом, насколько принцесса была хороша, настолько эта была страшна.
Принц, который ни о чем не думал, как только о своей милой принцессе, стоял как вкопанный, глядя на нее с великим удивлением; долгое время он не мог рта раскрыть и наконец сказал королю:
— Я жертва предательства; чудеснейший портрет, которому я отдал свою свободу и любовь, не имеет ничего общего с дамой, которую к нам прислали. Нас захотели обмануть и обманули — и это будет стоить мне жизни.
— Как, государь, — воскликнула Колючая Роза, — вас хотели обмануть, говорите вы? Знайте же, что вы никогда не будете обмануты, если станете моим супругом.
Ее бесстыдство и самомнение были беспримерны. Ее мать добавила еще с своей стороны:
— Ах, красавица моя принцесса! — вскричала она. — Куда мы попали? Разве так принимают дочь короля? Каково непостоянство людей! На что они только способны! Но король, ваш отец, сумеет дать им достойный ответ.
— И мы заставим его это сделать, — ответил король. Он обещал нам красавицу принцессу, а вместо нее посылает нам скелет, мумию, на которую страшно смотреть. Теперь мне уже не удивительно, что он держал это чудное сокровище пятнадцать лет под спудом: он хотел поймать на этом какого-нибудь простачка. Жребий пал на нас, но мы еще постоим за себя!
— Какие оскорбления! — вскричала поддельная принцесса. — Несчастная я, что мне пришлось ехать, доверять словам таких людей! Подумаешь, какое преступление заставить нарисовать себя на портрете чуточку красивее, чем ты есть, — да ведь это же все делают каждый день. Если бы это могло препятствовать бракам, так вряд ли многим принцам удалось бы жениться.
Король и принц, вне себя от ярости, не соблаговолив ей ответить. Каждый из них снова взошел в свои носилки, и без дальних церемоний один из гвардейцев посадил принцессу на лошадь позади себя, и так же пышно усадили и ее приближенную даму. Их повезли в город и там по приказу короля они были заключены в замок Трех Башен. Принц Воитель до того был удручен этим неожиданным ударом, что всю свою скорбь затаил в своем сердце. Когда наконец он собрался с силами заговорить, как только ни плакался он на свою злую судьбу!
Он по-прежнему был влюблен, но ему не о ком было теперь вздыхать, кроме как о портрете. Его надежды более уже не существовали, все его прекрасные мечты о принцессе Желанье рушились. Он готов был скорее умереть, чем жениться на той, кого он принимал за принцессу. Трудно даже себе представить, как велико было его отчаяние; он не мог больше выносить шум королевского двора и решил, как только здоровье ему позволит, удалиться тайно в какое-нибудь уединенное место и там провести остаток своей грустной жизни.
Он никому не рассказывал о этом своем решении, кроме верного Бекафига; он был уверен, что тот последует за ним повсюду. С ним говорил он чаще, чем с кем-нибудь другим, об ужасном обмане, жертвою которого он стал. Как только начал он поправляться, он немедленно уехал, оставив на столе в кабинете короля длинное письмо. В нем он уверял отца, что, когда он немного успокоится, то вернется к нему, но просит, поджидая его, обдумать их общую месть и по-прежнему держать в плену отвратительную принцессу.
Легко представить себе горе короля, когда он прочел это письмо. Разлука со столь дорогим сыном едва не довела его до смерти. А покуда все приближенные старались его успокоить, принц и Бекафиг были уже далеко. Спустя три дня, они очутились в большом лесу, который был очень темен, благодаря своей густой листве и очень приятен свежестью травы и ручейков, что журчали повсюду. Принц, еще не вполне здоровый и утомленный долгой дорогой, соскочил с коня и грустный бросился на траву, подложив руку под голову. Он был еще так слаб, что почти не мог говорить.
— Государь, — сказал ему Бекафиг, — пока вы будете отдыхать, я пойду поискать, нет ли здесь каких-нибудь плодов, чтобы вы могли освежиться, а кстати посмотреть, куда мы с вами попали. — Принц ничего ему не ответил, а только знаком показал ему, что он может идти.
Давно уж мы с вами оставили нашу лесную лань, — я говорю о несравненной принцессе. Она была дивной ланью и безутешно расплакалась, когда неожиданно увидела свое отражение в воде источника, который послужил ей зеркалом.
— Как! — сказала она. — Это я Сегодня действительно со мной произошло самое странное приключение, какое феи могут только послать невинной принцессе вроде меня! Сколько же времени останусь я в этом образе? Куда деваться мне, чтобы львы, медведи и волки не загрызли меня? Как же я буду есть траву?
Так она задавала самой себе тысячу вопросов, чувствуя самую горькую печаль. Одно только могло ее утешить: это то, что она была такой же прелестной ланью, какой была красавицей принцессой.
Голод начал мучить принцессу, она принялась с аппетитом жевать траву, чрезвычайно удивляясь в то же время, как это так может быть. Потом она прилегла на мох. Спустилась ночь, и она провела ее в непостижимом страхе. Она слушала, как хищные звери бродят неподалеку, и не раз, забывая, что она лань, пыталась влезть на дерево. Дневной свет ее несколько успокоил она, любовалась его красотой, и солнце ей казалось столь чудесным, что она не переставала глядеть на него; все, что она до сих пор о нем слышала, казалось ей ничего не значащим по сравнению с тем, что она видела. Это было единственным утешением, которое нашла она в этом пустынном месте. Она была совершенно одна в продолжение нескольких дней.
Фея Тюльпанов, которая всегда любила принцессу, живо ощущала ее горе, но она очень досадовала, что ни королева, ни принцесса не воспользовались ее советами, потому что она много раз им говорила, что если принцесса уедет раньше, чем ей минет пятнадцать лет, то это добром не кончится. Однако она не хотела обрекать принцессу в жертву ярости феи Источника и направила шаги Левкоя к лесу, чтобы новая эта наперсница могла утешать принцессу в ее несчастии.
Красивая лань шла потихоньку по берегу ручья, когда Левкой, которая так устала, что уже не могла идти дальше, прилегла отдохнуть. Она печально размышляла о том, в какую бы сторону ей направиться, чтобы найти свою дорогую принцессу. Когда лань ее заметила, она одним прыжком перенеслась через широкий и глубокий ручей, бросилась к Левкою и начала нежно к ней ласкаться. Левкой бала очень этим удивлена, она недоумевала, то ли здешние звери так любят людей, то ли эта лань ее знает. В конце концов, ведь было очень странно, что дикая лань оказывала человеку такие любезности.
Она внимательно на нее посмотрела и с крайним удивлением заметила, что две крупные слезы катятся из ее глаз; тут уж она больше не сомневалась, что перед ней ее любимая принцесса. Она взяла в руки ее ножки и стала целовать их с такой же нежностью и уважением, как, бывало, целовала она принцессины ручки. Она заговорила с ней и поняла, что лань ожидала ее, но что она не может ей отвечать; тут слезы и вздохи с обеих сторон возобновились с новой силой. Левкой обещала своей повелительнице, что она ни за что ее не покинет, лань отвечала ей глазами и кивками головы, что она этому очень рада и что теперь многие ее горести не так ей будут страшны.
Почти весь день они были вместе. Лань, боясь, что Левкою захочется покушать, повела ее в дальний край лесов, где она заметила дикие деревья, на которых росли очень вкусные дикие плоды. Левкой ела их без конца, так как она умирала от голода, но когда насытилась, то впала в страшное беспокойство, потому что представить себе не могла, где и как они будут спать. Ей казалось немыслимым остаться спать в лесу, среди тысячи опасностей, которые могли приключиться.
— Разве вам не страшно, милая лань, — говорила она, — провести здесь ночь — Лань подняла очи вверх и горько вздохнула.
— Но ведь вы, — продолжала Левкой, — бегали по всему этому громадному лесу, ужели же здесь нет какого-нибудь домика, жилья какого-нибудь угольщика, дровосека, кельи монаха?
Лань ответила ей кивком головы, что ничего она такого не видела.
— О боги! — воскликнула тогда Левкой. — Завтра меня уже не будет в живых! Если удастся мне избежать тигров и медведей, я уверена, что умру просто от страха. И не подумайте, дорогая принцесса, что я говорю о своей судьбе; я думаю только о вас. Увы, каково-то остаться в этих глухих местах одной! И никто не утешит вас! Может ли быть что-нибудь ужаснее?
Бедная лань принялась плакать, она рыдала прямо, как человек.
Ее слезы тронули фею Тюльпанов, которая ее нежно любила. Несмотря на то, что принцесса ее не послушалась, все-таки она продолжала все время заботиться о ней, и тут она внезапно появилась.
— Я не буду вас корить, — произнесла она, — мне слишком тяжело видеть вас в таком состоянии. — Лань и Левкой бросились перед ней на колени. Одна поцеловала руки феи и нежно к ней ласкалась, а другая умоляла фею пожалеть принцессу и вернуть ей образ человеческий.
— Это не в моей власти, — отвечала фея Тюльпанов, — та, кто причинила ей это — могущественная волшебница. Но я могу сократить срок этого испытания, а чтобы облегчить его, скажу вам, что, как только день сменится ночью, она перестанет быть ланью, однако только займется утренняя заря, она опять обратиться в лань и будет бегать по лесам и долам, как дикий зверь.
Это уже было немало — хоть на ночь не быть ланью, и принцесса в восхищении начала прыгать и скакать, что очень развеселило фею Тюльпанов.
— Идите же, — сказала она им, вот по этой тропинке, и вы найдете хижину, довольно опрятную для этих мест.
И, произнеся эти слова, она исчезла. Левкой послушалась ее, она пошла с ланью по указанной феей дороге, и они вышли к хижине у дверей которой сидела старуха и вязала корзинку из тонкого ивняка. Левкой поклонилась ей.
— Приютите меня, бабушка, — сказала она, — с моей ланью! Может быть, у вас найдется комнатка для нас?
— Хорошо, доченька, — отвечала та, — вам найдется местечко; входите сюда с вашей ланью. — И она повела их в прелестную комнатку, со стенами из дерева дикой вишни; там стояли две кровати с чистым бельем и покрывалами и все это было так чистенько и просто, что принцесса говорила потом, что никогда не видела она более приятного жилья.
Как только совсем смеркалось, принцесса Желанье обернулась человеком. Сто раз, а то и больше, поцеловала она Левкоя, благодаря ее от всей души за ее добрые чувства, за то, что она не оставила ее, и обещала ей, что, как только кончится ее испытание, она устроит ее счастье.
Старушка постучала к ним тихонько и, не входя к ним, протянула Левкою прекрасные плоды, которые принцесса покушала с аппетитом, и затем они улеглись спать. Как только занялся день, принцесса Желанье снова стала ланью и принялась скрести копытцем дверь, чтобы Левкой отворила ей.
Грустно было расставаться, хоть и ненадолго, но лань быстро побежала в самую гущу леса и стала там бегать да прыгать, как она делала это и раньше. Мы уже сказали, что принц Воитель остался один в лесу, а Бекафиг пошел искать ему диких плодов. Совсем уже было поздно, когда он наткнулся на избушку доброй старушки, о которой только что шла речь. Вежливо потолковал он с ней и попросил еды для своего повелителя. Старушка наложила ему полную корзину всякой снеди и подала.
— Боюсь я, — сказала она ему, — чтобы не случилось чего с вами в темном лесу; есть у меня для вас комнатка, хоть и бедная, да вас в ней дикие львы не тронут. — Он ее отблагодарил и сказал, что он здесь не один, а с одним своим другом, и пойдет ему об этом сказать. Действительно, ему удалось уговорить своего принца, и тот согласился идти к доброй старушке. Она встретила их по дороге и бесшумно провела в комнату, точь-в-точь такую же, как и комната принцессы; они помещались рядом и разделялись только перегородкой.
Принца всю ночь беспокоили его грустные мысли. Как только блеснули первые лучи солнца в окошках, он поднялся и, чтобы разогнать тоску, пошел в лес, сказав Бекафигу, чтобы он не сопровождал его. Долго он шел куда глаза глядят и наконец вышел на широкую поляну, поросшую деревьями да мхом. Только что он показался, как лань пустилась бежать оттуда.
Посмотрел он на нее да и погнался за ней. Охота была его любимой забавой, но после болезни он уже не мог очень скоро бегать. Несмотря на это, он все-таки гнался за ланью и время от времени пускал в нее стрелу. Бедная лань умирала от страха, хоть ни одна стрела не ранила ее, ибо фея Тюльпанов охраняла ее; и поистине, принц так метко стрелял, что только рука феи могла защитить от его стрел. Никогда еще принцесса-лань так не уставала, никогда еще ей не приходилось так бегать. Наконец ей удалось ускользнуть какой-то тропинкой так ловко, что опасный охотник потерял ее из виду, и так как он и сам очень устал, то прекратил преследование.
День клонился к вечеру, и лань с радостью увидела, что пора уж ей возвращаться, и подбежав к домику, где с нетерпением ждала ее Левкой. Вбежав в комнату, бросилась она, еле дыша, на кровать, вся мокрая, так она измучилась. Левкой ее ласкала и жалела, умирая от любопытства узнать, что с ней такое приключилось. Пришел час, когда ей пора было снова стать девушкой; тогда она бросилась на шею своей любимице и сказала:
— Увы, я боялась только феи Источника и злых хозяев леса, а сегодня за мной гонялся молодой охотник, и так мне пришлось от него бежать, что я почти даже его не разглядела. Стрела за стрелой летели за мною, угрожая мне неминуемой смертью, и уж не знаю, каким я чудом спаслась.
— Не надо вам больше отсюда выходить, принцесса, — сказала Левкой, оставайтесь здесь, в этой комнате, покуда не минет роковое время вашего испытания. А я схожу в ближний город, куплю разных книжек, чтобы не было нам здесь скучно; почитаем мы с вами новые сказки про фей да будем сочинять стихи да песенки.
— Молчи, молчи, моя дорогая, — отвечала ей принцесса, — не нужно мне никаких развлечений, потому что я все время думаю о милом моем принце Воителе. Но та ужасная сила, которая обращает меня днем в лань, та же сила заставляет меня, вопреки моим желаниям, делать то, что делают все лани: я и бегаю и ем траву, как и они. Днем нет моих сил оставаться в комнате.
До того она устала после погони, что сейчас же попросила поесть, а потом ее красивые глазки закрылись, и она заснула до зари. И как только занялась заря, опять она обернулась ланью и убежала в лес.
Принц к вечеру тоже вернулся к своему другу.
— Я провел весь день, — сказал он, — гоняясь за самой красивой ланью, которую я только видел, но она меня провела с удивительной ловкостью Стрелял я уж так метко, что не понимаю, как она могла увернуться от моих стрел Чуть рассвет, я пойду опять в лес, и уж на этот раз ей от меня не уйти.
И вот наш юный принц, который хотел позабыть о своей мечте, что казалась ему несбыточной, был очень доволен, опять пристрастившись к охоте. С раннего утра отправился он опять туда же, где спугнул лань, но та на этот раз поостереглась там показываться, боясь чтобы опять не пришлось ей туго. Смотрел он, смотрел по всем сторонам, долго ходил по лесу, устал и разгорячился. Увидал он на дереве очень красивые яблоки и обрадовался, сорвал их, попробовал, и тут же одолела его дремота. Упал он на свежую траву под деревьями, где кругом щебетали птицы, и сладко заснул.
Пока он спал, боязливая лань, которой нравились уединенные места, приближалась как раз туда, где он лежал. Если бы она его раньше заметила, то, конечно, сейчас же убежала бы, но она увидала его, совсем уже близко к нему подобравшись, и не могла удержаться, чтобы не посмотреть на него. Так крепко он спал, что она перестала бояться и решила на досуге хорошенько его разглядеть. Боги! Что с ней только сделалось, когда она его узнала! Ведь она так о нем мечтала, что не могла забыть его за столь короткое время! Ах, любовь, любовь! Что ты только делаешь! Ужели же бедной лани погибнуть от руки ее возлюбленного? Так, верно, оно и будет, потому что она уже не думает о своей безопасности. Она прилегла в нескольких шагах от него и от радости глаз с него не сводила; она вздыхала, она тихонько стонала. Наконец, осмелев, подошла к нему еще ближе, коснулась его — и он проснулся.
Принц был ужасно удивлен. Он узнал лань, которая так его помучила, и которую он так долго искал, — но странно, что она решилась так близко к нему подойти! Она не стала дожидаться и бросилась со всех ног бежать, а он — за ней. Время от времени они останавливались, чтобы передохнуть, потому что красавица лань еще не отдохнула от вчерашней погони, да и принц тоже. Но что больше всего замедляло бег, — увы! сказать ли — было то, что ей страх как не хотелось удаляться от того, кто ранил ее не стрелами, а любовью. он не раз видел, как она оборачивалась к нему, словно спрашивая, неужели он хочет, чтобы она погибла от его руки; но как только он совсем уж ее настигал, она делала новое усилие и убегала.
— Ах, малютка-лань, — вскричал он наконец, — если бы ты только могла понимать меня! Тогда бы ты не стала убегать от меня; ведь я люблю тебя, я хочу кормить тебя да ухаживать за тобой — такая ты красавица! — Но ветер унес его слова, и она не слыхала их.
Наконец обежали они кругом весь лес, наша лань, совсем обессилев, замедлила шаг. А принц в это время удвоил силы и нагнал ее с такой радостью, что сам себе не верил. Он увидел, что она совсем выбилась из сил; она упала, бедняжка, полумертвая от усталости и ждала только смерти от рук своего победителя. Но вместо того, чтобы причинить ей зло, он начал ласкать ее.
— Красавица моя лань, — сказал он ей, — не бойся меня, я хочу тебя взять с собой и никогда с тобой не разлучаться.
Он нарезал ветвей, послал их ровненько, покрыл мхом, набросал на них роз, которые кругом цвели на кустах, потом взял лань на руки, положил ее головку себе на плечо и уложил ее потихоньку на это ложе. Потом сел около нее, время от времени срывал травы и давал ей, а она ела их из его рук. Принц продолжал с ней говорить, хоть и был уверен, что она его не понимает. Но как ей не приятно было его видеть, все-таки она беспокоилась, потому что надвигалась ночь.
«Что-то будет, — думала она, — когда он увидит, как я вдруг обращусь в девушку. Наверно, он испугается и убежит от меня, а если он не убежит, как я буду с ним одна в темном лесу?» Она только и думала о том, как бы ей убежать от него, когда он сам ей в этом помог: боясь, что ей захочется пить, он пошел посмотреть, нет ли где-нибудь поблизости источника, куда бы он мог ее отвести. Как только он ушел, она тотчас же вскочила и помчалась к своему домику, где ее ждала Левкой. Она бросилась на постель. Стемнело; снова она стала принцессой и рассказала подруге свое приключение.
— Поверишь ли, моя дорогая, мой принц Воитель два дня охотился за мной в лесу, и когда наконец поймал меня, то стал меня нежно ласкать. Ах! До чего же этот портрет, который мне тогда подарили, мало на него похож: он во сто раз красивее. Другой на охоте замарается да обдерется, а он все так же хорош, а до чего мил и красив, и рассказать тебе не сумею. Ну, не несчастная ли я, что мне приходится бежать от принца, который мне сужен да ряжен всеми моими родными, — бежать от него, который меня любит и которого я люблю! Надо же было, чтобы злая фея возненавидела меня со дня моего рождения и погубила всю мою жизнь. — Она принялась плакать, а Левкой ее утешала.
Как только принц отыскал ручей, он пошел назад к своей милой лани; но ее уже не было на том месте, где он ее оставил. Тщетно искал он ее повсюду и чувствовал такую обиду на нее, словно она обладала разумом. «Как! воскликнул он. — Неужели же мне придется иметь вечно повод жаловаться на этот лживый и вероломный женский пол?» В тоске возвратился он к доброй старушке. Он рассказал своему наперснику все приключения с ланью, обвиняя ее в неблагодарности. Бекафиг не мог не улыбнуться гневу принца и посоветовал ему наказать лань, когда он встретится с ней.
— Только ради этого я здесь и останусь, — ответил принц, — и затем мы сейчас же отправимся дальше.
Настало утро, и вместе с ним принцесса обернулась белой ланью. Не знала она, на что решиться: то ли побежать ей в те места, где обычно гуляет принц, то ли пойти другой дорогой, чтобы не попасться ему на глаза. Наконец она выбрала последнее и ушла далеко, но юный принц был тоже не прост и тоже пошел другой дорогой, подозревая, что она пустится на хитрости. И он нашел ее в самой глуши леса. Она чувствовала себя в безопасности. И тут-то вдруг его заметила. В тот же миг она вскочила, одним прыжком перенеслась через кусты и помчалась быстрее ветра, словно ее вчерашняя проделка с ним заставила ее еще больше его бояться. Но в ту минуту, когда она перебегала одну тропку, он схватил лук, да так ловко нацелился, что стрела вонзилась ей в ногу. Она почувствовала ужасную боль, силы оставили ее, и она упала.
Ах! Амур, жестокий и дикий Амур, где же ты был? Как! Ты позволил, чтобы несравненную девушку ранил ее нежный возлюбленный? Но печальный конец был неизбежен, ибо фея Источника так подстроила. Принц подошел к лани. Когда он увидал, что кровь бежит из раны, ему стало очень жаль ее. Он сорвал длинные стебли трав и перевязал ими раненую ногу, потом, как и в прошлый раз, сделал ложе из ветвей. Он положил голову лани себе на колени и сказал ей:
— Не сама ли ты виновата, ветреница моя, в том, что с тобой случилось? Зачем ты вчера меня покинула? Но сегодня уж этого не случится, потому что я понесу тебя сам.
Лань ничего не ответила да и что бы она сказала! Она и виновата была и говорить не могла, а ведь вовсе не всегда те, кто виноват, молчат. Принц нежно ее ласкал.
— Как мне больно, — говорил он, — что пришлось тебя ранить! Ты будешь, верно, теперь меня ненавидеть, а ведь я хочу, чтобы ты любила меня.
Казалось, коли его послушать, то какой-то тайный гений нашептывал ему, что он говорил лани. И вот уже приближался час, когда пора было возвращаться к старушке-хозяйке; он поднял свою добычу и нелегко ему пришлось; он то нес ее, то вел, то волочил за собой. Она вовсе не хотела с ним идти.
«Что со мной будет? — думала она. — Ну как же мне очутиться с ним с глазу на глаз! Ах лучше уж умереть».
Она нарочно двигалась самым неуклюжим образом и очень обременяла его. Он так устал, что весь был мокрый, и, хотя уж недалеко было до их маленького домика, почувствовал, что ему одному не справиться. Он пошел позвать своего верного Бекафига, но прежде, чем покинуть свою добычу, привязал ее несколькими узлами к дереву, чтобы она опять не убежала. Увы! Кто мог бы подумать, что красивейшая принцесса в мире подвергнется такому обращению со стороны принца, который ее обожал! Она тщетно пыталась разорвать путы, но только еще сильнее их затягивала, а кроме того, на беду, образовалась мертвая петля, грозившая ее задушить. В это время Левкой, которой надоело сидеть все время взаперти в своей комнате, вышла подышать свежим воздухом и направилась как раз туда, где белая лань билась в путах. Что с ней только сделалось, когда она увидела свою дорогую повелительницу! Она бросилась развязывать ее, — а узлов было много, да все в разных местах; наконец дело было сделано, но в эту минуту появились принц с Бекафигом.
— Несмотря на все мое уважение к вам, госпожа моя, — сказал принц Левкою, — позвольте мне сказать вам, что вы хотите присвоить чужое добро: я ранил эту лань, она моя, я люблю ее, и я вас умоляю оставить ее мне.
— Сеньор, — вежливо отвечала Левкой (а ведь она была и стройна и прелестна); — эта лань была моей еще до того, как вы ею завладели, и я готова скорей от жизни своей отказаться, чем от нее. А если вы хотите видеть, знает ли она меня или нет, отпустите ее на минуту… Ну-ка, моя Белочка, обнимите меня — Лань бросилась ей на шею. — Поцелуй меня в правую щеку. — Лань поцеловала. — Коснитесь моего сердца. — Она тронула ее грудь ножкой. — Вздохните, — и она вздохнула. Принц не мог уже больше сомневаться в том, что Левкой говорит правду.
— Возвращаю ее вам, — благородно заявил он, — но поверьте, с немалым сожалением. — И Левкой тотчас же ушла со своей ланью.
Они не знали, что принц живет в том же домике; он издалека следил за ними и был очень удивлен, когда увидал, что они входят в хижину доброй старушки. Очень скоро за ними вернулся и он, и так как ему было очень любопытно узнать о белой лани, он спросил у старушки, кто девушка с ланью. Та ответила, что не знает ее, что пустила ее к себе вместе с ланью, что она ей хорошо платит и живет одиноко. Бекафиг осведомился, где их комната, и узнал, что она соседняя с их комнатой и что их отделяет друг от друга только перегородка. Когда они пришли к себе, Бекафиг сказал принцу, что либо он ошибается так, как еще никто никогда не ошибался, либо девушка, которую они только что видели, жила с принцессой Желанье, и он ее видел во дворце, когда приезжал туда с посольством.
— Какие мрачные воспоминания оживляете вы! — сказал ему принц. — И каким образом могла бы она очутиться здесь?
— Этого я не знаю, сеньор, — добавил Бекафиг, — но мне очень хочется посмотреть на нее еще раз, а так как нас разделяет всего лишь дощатая перегородка, я проделаю в ней отверстие.
— Вот бесплодное любопытство, — грустно сказал принц, потому что этот разговор снова пробудил все его горести. Он отворил окно, Выходившее в лес и стал мечтать.
Тем временем Бекафиг трудился и скоро просверлил довольно большое отверстие, Посмотрел он и увидел прелестную принцессу, одетую в платье из серебряной парчи с кармазинными цветами, шитое золотом и изумрудами. Ее волосы падали тяжелыми волнами на самую красивую шею в мире, лицо пленяло живыми красками, а очи приводили в восхищение.
Левкой стояла перед ней на коленях и перевязывала ей руку, откуда обильно текла кровь. Казалось, что они очень озабочены этой раной.
— Дай мне умереть! — говорила принцесса. — Легче смерть, чем это плачевное существование, которое мне приходится влачить. Как! Целый день быть ланью, видеть своего суженого и не быть в состоянии говорить с ним, рассказать ему мое роковое несчастие! Ах! Если бы ты знала, как трогательно он говорил со мной, когда я была ланью, какой у него голос, какие движенья у него благородные и располагающие, — ты бы еще больше меня пожалела, зная, что не можешь поведать ему мою горькую судьбу.
Можно себе представить, как был удивлен Бекафиг всем, что он увидел и услышал. Он подбежал к принцу и отвел его от окошка с невыразимой радостью.
— Ах, сеньор, — сказал он, — не медлите, подойдите же к перегородке, и вы воочию увидите ту, чей портрет вас очаровал.
Принц посмотрел и тотчас узнал принцессу. Он бы умер от счастия, если бы не боялся, что его морочат какие-то чары. Ибо, что же тогда значила удивительная встреча с Колючей Розой и ее матерью, которые были заключены в замок Трех Башен и называли себя — одна принцессой Желанье, другая ее приближенной дамой?
Однако любовь обнадежила его. Всякому хочется убедиться в том, на что направлены его желанья, а случай был таков, что приходилось или умереть от нетерпения или дознаться. И принц, не откладывая дела в долгий ящик, подошел к двери принцессиной комнаты да и постучал тихонько. Левкой, не сомневаясь, что это стучится старушка-хозяйка, которая, кстати, была ей нужна, чтобы помочь перевязать руку ее повелительницы, поспешила отворить дверь и оцепенела от удивления, увидав перед собой принца, который сразу же бросился к ногам принцессы Желанье. Восторг его был так велик, что он не мог ничего толком сказать, и как мы ни старались узнать, что он ей говорил в эти первые минуты, так никого и не нашли, кто бы мог нам в этом помочь. Принцесса была в замешательстве, но Амур, который частенько служит посредником для онемевших, вмешался тут и убедил их обоих, что никогда еще не говорили они так умно или, по крайней мере, так трогательно и так нежно. Слезы, вздохи, клятвы и даже лукавые улыбки — все здесь было.
Так прошла ночь, занялся день, а принцесса Желанье даже не подумала о том — и она уже не обернулась ланью. Вдруг она это заметила; ничто не сравнится с ее радостью, и она так любила принца, что не могла и минуты выдержать, чтобы не поделиться с ним ею. И тут же она начала ему рассказывать свою историю с такою прелестью, с таким естественным красноречием, что самых записных умников за пояс заткнула.
— Как, — воскликнул он, — прелестная моя принцесса, так это вас я ранил в образе белой лани! Как же мне искупить ужасное мое преступление? Я готов умереть от горя на ваших глазах. — Он так был удручен, что его огорчение было написано на его лице. Принцесса Желанье страдала от этого более, чем от своей раны; она уверяла его, что все это пустяк и что ей дорого это несчастье, принесшее ей столько радости.
Она так убедительно говорила, что он не мог больше сомневаться в ее доброте. Чтобы все ей было понятно, он, в свою очередь, рассказал ей о том обмане, который затеяли Колючая Роза со своей матерью, и добавил, что надо поторопиться известить отца о его счастье, о том, что он ее нашел, ибо иначе возгорится ужасная война, так как отец его не преминет отомстить за оскорбление, которое ему будто бы нанесено. Принцесса Желанье упросила его послать письмо с Бекафигом; тот уже готов был исполнить его приказание, как вдруг по лесу разнесся страшный гул и звон военных труб, рогов, литавр и барабанов; им показалось даже, словно большое войско проходит мимо их домика. Принц глянул в окошко и узнал многих рыцарей, знамена и значки; он скомандовал им остановиться и ожидать его.
Никогда еще не ликовало так войско, как на этот раз; все были убеждены, что сам принц Воитель поведет их, чтобы отомстить отцу принцессы Желанье. Войском предводительствовал сам отец принца, несмотря на свой преклонный возраст. Его несли в бархатном паланкине, изукрашенном золотой вышивкой, а за ним ехала открытая повозка, где везли Колючую Розу с матерью. Принц Воитель, увидев паланкин, бросился к нему, а король, простирая к сыну руки с отеческой любовью, вскричал:
— Откуда вы, сын мой? Как могли вы причинить мне такое горе, уехав от нас?
— Государь, — отвечал принц, — благоволите меня выслушать.
Король тотчас сошел с носилок, и, отойдя с ним в уединенное место, сын рассказал ему о своей счастливой встрече и о подлоге Колючей Розы.
Обрадованный король воздел руки и благодарил небо за его милость. В эту минуту он увидал принцессу Желанье, которая была красивее и изящнее всех звезд небесных. Она сидела на великолепной лошади, игравшей под ней, масса перьев различной окраски окружали ее головку, и самые большие алмазы мира украшали ее одежду. Она была одета охотницей. Левкой, которая сопровождала ее, также была в замечательном наряде. Все это было дело рук феи Тюльпанов, это она обо всем позаботилась, и ее старания увенчались успехом. Маленький домик в лесу был создан для принцессы, и там много дней под видом доброй старушки потчевала и ютила свою любимицу.
Когда принц узнал свои войска и выбежал навстречу отцу, фея вошла в комнату принцессы Желанье; она подула на ее руку, и рана мгновенно зажила, и тут же она обрядила принцессу в такой пышный наряд, что, когда появилась она перед глазами короля, он так был очарован, что с трудом мог поверить, что перед ним не бессмертная богиня. Он приветствовал ее самыми ласковыми словами, которые только можно было придумать для такого случая, и просил ее не медлить и поскорее стать королевой его государства.
— Да, — сказал он, — я решил передать королевство принцу Воителю, чтобы он еще более был достоин такой невесты!
Принцесса Желанье ответила ему со всей вежливостью, какую можно было ожидать от хорошо воспитанной особы, а потом, глянув на двух пленниц в повозке, закрывавших себе лица руками, она великодушно попросила короля простить их и разрешить им уехать в той же повозке, куда им заблагорассудится. Король согласился, и тут он еще раз восхитился ее сердечной добротой и похвалил ее за это. Тут же отдали приказ всей армии повернуть налево кругом и маршировать с музыкой домой. Принц вскочил на коня и поехал рядом с принцессой. В столице их встретили громогласные крики восторга; приготовили все, что нужно, ко дню свадьбы, который прошел весьма торжественно, благодаря присутствию шести благосклонных фей, любивших принцессу. Они поднесли принцессе такие богатые подарки, что и вообразить себе нельзя, — и, между прочим, великолепный дворец, тот самый, в котором впервые увидала их мать-королева. Он мгновенно возник в воздухе: пятьдесят тысяч крылатых амуров принесли его и потом установили на широкой поляне по берегу речки. Ну, прекраснее такого подарка, конечно, уж ничего и быть не могло.
Верный Бекафиг просил своего повелителя поговорить с Левкоем, чтобы она стала его женой после того, как справят свадьбу принца. Принц согласился. Прелестная девушка была очень рада, что нашла себе такого хорошего мужа в чужом королевстве. Фея Тюльпанов, которая была еще щедрее своих сестер подарила ей на свадьбу четыре золотых копи в далекой Индии, чтобы она была такой же богатой, как и ее будущий муж. Целый месяц праздновали свадьбу принца, каждый день устраивали новое празднество и приключения белой лани распевали повсюду.
В оригинале первые четыре тома сказок Мари-Катрин д’Онуа носят заглавие «Contes des Fées», дословно — «Сказки фей». Подобное жанровое определение (правда, несколько видоизмененное — «Contes de Fées») вошло в обиход применителыю к волшебным сказкам на рубеже XVII–XVIII вв. Впервые оно встречается именно у мадам д’Онуа (см.: Barchilon 1998).
Ее Королевскому Высочеству, Мадам
МАДАМ1,
Вот вам королевы и феи, которые, осветив счастьем все и вся, что было очаровательного и достохвального в их времена, явились ко двору Вашего Королевского Высочества, чтобы обрести здесь все, что есть самого блистательного и любезного в наше время. Им известно, что во Франции есть одна великая принцесса, все деяния коей должны служить примером и которая сочетает с благородством августейшей крови чудеса доброты и великодушия: им известно, Мадам, что все добродетели в равной мере постарались создать сердце, разум и самое личность Вашего Королевского Высочества. Такие великие принцессы, как Вы, Мадам, несомненно, и дали повод вообразить себе королевство фей: тогда все и решили, что надобны особые гении, которые бы заботились о таких несравненных особах, в коих все волшебно. Если это так, — а сомневаться в этом не приходится, — то Вы сами изволите видеть, Мадам, что у меня были самые веские причины посвятить все эти рассказы о феях Вашему Королевскому Высочеству. Вместе с ними и я осмелюсь поднести Вам этот скромный дар в благодарность за то, что Вы благоволите принять его от меня, и если мне остается еще, чего пожелать, то я не попрошу ни шапки-невидимки, ни красоты Прелестницы2, а лишь молила бы о таланте, дабы приятно развлечь Ваше Королевское Высочество. Будь мне оказана такая честь, все мои желания были бы исполнены, честолюбие удовлетворено, и я была бы так же счастлива, как если бы все феи на свете наделили меня своими драгоценными дарами. Приношу Вам свою благодарность и всепочтительнейшее смирение, которые и подобают Вам,
МАДАМ,
От нижайшей, покорнейшей и весьма
Вам признательной
Вашего Королевского Высочества
слуги
Мадам д’Онуа
КАБИНЕТ ФЕЙ
МАРИ-КАТРИН ЛЕ ЖЮМЕЛЬ
ДЕ БАРНВИЛЬ,
графиня д’Онуа
Умерла в январе 1705 г.
Издание включает полное собрание сказок Мари-Катрин д’Онуа (1651–1705) — одной из самых знаменитых сказочниц «галантного века», современному русскому читателю на удивление мало известной. Между тем ее имя и значение для французской литературной сказки вполне сопоставимы со значением ее великого современника и общепризнанного «отца» этого жанра Шарля Перро — уж его-то имя известно всем. Подчас мотивы и сюжеты двух сказочников пересекаются, дополняя друг друга. При этом именно Мари-Катрин д’Онуа принадлежит термин «сказки фей», который, с момента выхода в свет одноименного сборника ее сказок, стал активно употребляться по всей Европе для обозначения данного жанра. Сказки д’Онуа красочны и увлекательны. В них силен фольклорный фон, но при этом они изобилуют литературными аллюзиями. Во многих из этих текстов важен элемент пародии и иронии. Сказки у мадам д’Онуа длиннее, чем у Шарля Перро, композиция их сложнее, некоторые из них сродни роману. При этом, подобно сказкам Перро и других современников, они снабжены стихотворными моралями. Кроме того, некоторые из них публикуются, как и в оригинальных изданиях, в обрамлении новелл: двух «испанских» («Дон Габриэль Понсе де Леон» и «Дон Фернан Толедский») и одной «мольеровской» («Новый Дворянин от мещанства»). Подобное обрамление заставляет вспомнить как о сборниках итальянских новелл и сказок («Декамерон» Боккаччо, «Пентамерон» Базиле, «Приятные ночи» Страпаролы), так и о произведениях современниц писательницы.
Рыцарский роман, барочная рыцарская поэма, галантные романы Мадлен де Скюдери и Оноре де Юрфе, комедии Мольера, басни Жана де Лафонтена, итальянские новеллы, устный фольклор современной автору Франции и, разумеется, античность — сопроводительная статья анализирует все источники творчества д’Онуа, подробно разъясняя ее место в литературе эпохи, влияние ее сказок на последовавший «век Просвещения», а также краткий обзор истории русских переводов и «отголосков» мотивов «Сказок фей» в отечественной литературе.
Издание снабжено подробными комментариями, биографическими данными, таблицей французских литературных сказок с 1690 по 1705 год и расшифровкой сказочных типов по указателю Аарне — Томпсона, библиографическим указателем и указателем иллюстраций.
Издание богато иллюстрировано как редчайшими иллюстрациями (черно-белыми и цветными) из прижизненного и позднейших изданий сказок мадам д’Онуа, так и изобразительными материалами, предельно широко воссоздающими ее эпоху.
Иллюстрации к сказкам мадам д’Онуа (гравюры из «Кабинета фей» (т. 2–4. Амстердам, 1785)) предоставлены Эриком Александровичем Робертом{1}.
В данном томе собраны все сказки Мари-Катрин Ле Жумель де Барнвиль д’Онуа. Перевод осуществлен по изд.: Madame d’Aulnoy. Contes de Fées suivis des Contes nouveaux ou Les Fées à la Mode / Èdition critique établie par Nadine Jasmin. P.: Honoré Champion éditeur, 2004 (Bibliothèque des Genies et des Fées) за исключением сказок «Желтый Карлик» и «Белая Кошка», ранее переведенных Ю. Яхниной (перевод стихов Н. Шаховской) и опубликованных в изд.: Французская литературная сказка XVII–XVIII вв. М., 1991.
В примечаниях к каждой сказке дается небольшая преамбула, поясняющая связь текста с источником. Некоторые сюжеты взяты автором из собраний сказок и новелл Базиле, Страпаролы, Катрин Бернар или мадам де Мюра. Многие сказки имеют фольклорное происхождение и соответствуют тем или иным сказочным типам по указателю Аарне — Томпсона. Номера сказочных типов для каждой сказки приводятся в таблице «Сказки и сборники сказок. 1690–1705 гг». Там же дается описание сказочных типов.
Составитель считает приятным долгом поблагодарить за ценные советы и уточнения А. И. Рейтблата, Н. С. Мавлевич, Р. М. Кирсанову, Н. В. Брагинскую, Е. А. Бечкову, С. Ю. и М. С. Неклюдовых за внимание и ряд ценных указаний при переводе, написании Послесловия и составлении примечаний.
Необходимая для этого издания исследовательская работа в Национальной библиотеке Франции им. Франсуа Миттерана стала возможной благодаря Стипендии Дидро, которую составителю предоставил Дом наук о человеке (Maison des Sciences de l’Homme, Париж). Составитель также благодарит лично директора Дома наук о человеке Мориса Эмара за любезную помощь во всем — от административных проблем до налаживания профессиональных контактов.
Сост. М. А. Гистер при участии Е. Ю. Шибановой
СКАЗКИ ФЕЙ[1]
Ее Королевскому Высочеству, Мадам
МАДАМ[2],
Вот вам королевы и феи, которые, осветив счастьем все и вся, что было очаровательного и достохвального в их времена, явились ко двору Вашего Королевского Высочества, чтобы обрести здесь все, что есть самого блистательного и любезного в наше время. Им известно, что во Франции есть одна великая принцесса, все деяния коей должны служить примером и которая сочетает с благородством августейшей крови чудеса доброты и великодушия: им известно, Мадам, что все добродетели в равной мере постарались создать сердце, разум и самое личность Вашего Королевского Высочества. Такие великие принцессы, как Вы, Мадам, несомненно, и дали повод вообразить себе королевство фей: тогда все и решили, что надобны особые гении, которые бы заботились о таких несравненных особах, в коих все волшебно. Если это так, — а сомневаться в этом не приходится, — то Вы сами изволите видеть, Мадам, что у меня были самые веские причины посвятить все эти рассказы о феях Вашему Королевскому Высочеству. Вместе с ними и я осмелюсь поднести Вам этот скромный дар в благодарность за то, что Вы благоволите принять его от меня, и если мне остается еще, чего пожелать, то я не попрошу ни шапки-невидимки, ни красоты Прелестницы[3], а лишь молила бы о таланте, дабы приятно развлечь Ваше Королевское Высочество. Будь мне оказана такая честь, все мои желания были бы исполнены, честолюбие удовлетворено, и я была бы так же счастлива, как если бы все феи на свете наделили меня своими драгоценными дарами. Приношу Вам свою благодарность и всепочтительнейшее смирение, которые и подобают Вам,
МАДАМ,От нижайшей, покорнейшей и весьма
Вам признательной
Вашего Королевского Высочества
слуги
ТОМ ПЕРВЫЙ
Прелестница и Персинет[4]

При том же дворе жила очень богатая старая дева по имени Ворчунья. Была она безобразна, с какой стороны ни глянь: волосы огненно-рыжие[6], лицо широкое, толстое и сплошь усыпанное прыщами; из двух глаз, бывших у нее некогда, остался один, да и тот гноился; рот такой большой, будто она весь мир хочет проглотить, но, за неимением ни единого зуба, бояться тут было нечего; а еще по горбу спереди и сзади, и хромала она сразу на обе ноги. Такие-то вот уроды всегда и завидуют всем красивым людям. Она смертельно ненавидела Прелестницу и даже удалилась от двора, чтобы не видеть ее и не слышать о ней, и поселилась в одном из своих замков неподалеку. Стоило кому-нибудь заехать к ней и наговорить о принцессе всяких чудесных историй, как она принималась кричать:
— Неправда, неправда ваша! И вовсе она не прекрасна! Вся она моего мизинца не стоит!
Между тем королева тяжко занемогла и скончалась. Принцесса Прелестница и сама чуть было не умерла с тоски по матушке. Король тоже горько оплакивал такую добрую супругу. С год прожил он затворником в своем собственном дворце. Наконец лекари, опасаясь, как бы он не захворал, предписали ему гулять и развлекаться. Король отправился на охоту, а жара стояла невыносимая, вот и заехал он отдохнуть в первый попавшийся замок.
Тут же герцогиня Ворчунья (а замок этот был ее), узнав о его приезде, вышла навстречу и сказала, что проводит его в самое прохладное место в доме — погреб с крепкими сводами, чистый и приятный. Король последовал за ней и, увидев сотни бочек, стоявших рядами, спросил, неужто все эти внушительные запасы для нее одной.
— Да, Сир, — отвечала она, — для меня одной, но как бы мне хотелось дать отведать и вам: вот «Канарское вино», вот «Сен-Лоран», вот Шампанское, вот «Эрмитаж», «Ривезальт», вот «Россоли» и «Персико», а вот «Фенуйе»[7]. Какое предпочитаете?
— Признаться, я считаю, что лучшее из них из всех — Шампанское.
Тут Ворчунья взяла молоточек и постучала: «Тук-тук». Из бочки высыпалась куча пистолей.
— Это еще что такое? — спросила она с усмешкой. Потом постучала по другой бочке: «тук-тук». Высыпалась горка двойных луидоров[8]. — Ничего не понимаю! — И она засмеялась еще громче, тут же сделав «тук-тук» и по третьей бочке; из той высыпалось столько жемчужин и бриллиантов, что они усеяли весь пол. — Ах, Сир, — вскричала она, — похоже, у меня украли мое прекрасное вино, а взамен подсунули эти безделушки!
— Безделушки! — воскликнул немало изумленный король. — Вот те раз, сударыня Ворчунья, и это-то вы называете безделушками? Да тут хватит, чтобы купить десяток королевств, таких же великих, как Париж!
— Так знайте же, что все эти бочки полны золота и драгоценных камней, и вы станете хозяином всего этого, если только женитесь на мне.
— Ах, — отвечал король, который очень любил деньги, — по мне, так на что лучше, если пожелаете, давайте хоть завтра.
— Но только с условием, что я буду распоряжаться вашей дочерью как ее мать; она будет всецело зависеть от моей власти.
— Всё будет в вашей власти. Ручаюсь в этом.
Она отдала королю ключ от этого богатого погреба, и они вышли вместе, рука об руку.
Как только он вернулся к себе во дворец, Прелестница выбежала навстречу, она обняла его и спросила, хорошо ли он поохотился. Король ответил ей:
— Я поймал живую голубку.
— Ах, Сир, — воскликнула принцесса, — дайте же ее мне, я буду ее кормить.
— Это невозможно, — промолвил он, — чего уж скрывать — я повстречал герцогиню Ворчунью и взял ее в жены.
— О, Небо! — воскликнула потрясенная Прелестница. — Да разве ж это голубка? Больше на сову похожа!
— Молчите, — сказал ей король, — я приказываю вам любить и чтить ее, как родную мать. Идите скорее принарядитесь, я хочу нынче же поехать ее встретить.
Принцесса была очень послушна. Она пошла к себе одеваться. Кормилица увидела по глазам, что ей грустно.
— Что с вами, милая крошка моя? Вы плачете!
— Увы, нянюшка, — отвечала она, — как же мне не плакать? Король нашел мне госпожу. И, как нарочно, она — лютая врагиня моя, ужасная Ворчунья. Каково будет увидеть ее в этой прекрасной постели, так искусно вышитой руками королевы, матушки моей? Смогу ли быть ласковой с этой уродиной, которая хочет моей смерти?
— Дорогое мое дитя, — отвечала кормилица, — дух ваш должен быть так же высок, как и ваш род. Такие принцессы, как вы, должны служить примером для всех, а есть ли пример прекраснее послушания и угождения родному отцу? Обещайте же мне, что не покажете Ворчунье своего неудовольствия.
Принцесса долго не решалась, но слова мудрой кормилицы звучали так убедительно, что она все-таки согласилась быть полюбезнее с мачехой.
Она не мешкая надела зеленое платье с золотой подкладкой; ее распущенные волосы падали на плечи и развевались на ветру, как в те времена было принято. Головным убором послужил ей легкий венок из роз и жасмина, с изумрудными листьями. И так она была хороша в этом облачении, что и сама Венера, мать Амуров[9], отступила бы пред нею. А между тем на лице принцессы застыла невыразимая печаль.
Но вернемся к Ворчунье. Это безобразное создание тщательно прихорашивалось. Уродина заказала себе один башмак с подошвой на пол-локтя выше, чем у другого, чтобы хромать чуть поменьше, и подложила тряпок под лопатку, чтобы скрыть горб; вставила глаз из эмали, самый лучший, какой только смогла найти; еще и набелилась, выкрасила рыжие космы в черный цвет и надела платье из малиновой парчи на голубой подкладке, с желтой юбкой и фиолетовыми лентами. Она хотела въехать в город на лошади, прослышав, что так делали королевы Испании[10].
Пока король раздавал приказания, Прелестница, готовясь ко встрече с Ворчуньей, в одиночестве спустилась в сад, нашла маленькую тенистую рощицу и уселась на траву. «Наконец-то я свободна, — сказала она себе, — тут никто не помешает мне вволю поплакать». И она принялась вздыхать и сетовать так горько, что слезы полились бурным потоком. Собралась она было обратно во дворец, как вдруг, откуда ни возьмись, вырос пред нею паж, одетый в платье из зеленой парчи с белыми перьями, и очень пригожий лицом. Он опустился на одно колено и сказал:
— Принцесса, вас ожидает король.
Никогда прежде не видавшая этого молодого пажа, она была немало удивлена его приятным обликом, однако решила, что он из свиты Ворчуньи.
— Давно ли вы в числе королевских пажей? — спросила она.
— Я вовсе не королевский, — отвечал он, — я ваш и хочу быть только вашим.
— Мой? — удивилась принцесса. — Я не знаю вас.
— Ах, принцесса, — сказал он, — я еще не осмеливался появляться перед вами, но горести, которые угрожают вам после свадьбы короля, мешкать мне не позволяют. А я было хотел, чтобы о моей любви поведали время и те услуги, что я собирался вам оказать…
— Как, — воскликнула принцесса, — паж, какой-то там паж осмеливается говорить мне о любви! Вот предел моим несчастьям!
— Не бойтесь, милая Прелестница, — промолвил он ласково и почтительно, — я Персинет, принц, весьма знаменитый и богатством, и ученостью, так что между нами нет неравенства; а если и отыскивать его, то разве что в пользу достоинств ваших и красоты. Я часто бывал в здешних краях, но вы не замечали меня. Отныне я повсюду буду сопровождать вас, одетый как теперь, и надеюсь быть вам небесполезным.
Пока он говорил, принцесса смотрела на него, изумленная.
— Так это вы, вы, милый Персинет, — сказала она, — тот, кого я так давно желала видеть и о ком мне рассказывали столько удивительного! Как я рада, что вы хотите быть моим другом! Ну, раз вы за меня, то не страшна мне злая Ворчунья!
Побеседовали так еще немножко, и направилась Прелестница во дворец, где ее ждал конь, взнузданный и покрытый попоной. Персинет сам привел его на конюшню, и все поняли, что конь этот для нее. Прелестница уселась в седло, и, поскольку это был скакун горячих кровей, паж вел его под уздцы, то и дело оборачиваясь взглянуть на принцессу, так радостно ему было ее видеть.
Привели коня и Ворчунье, но подле коня Прелестницы выглядел он жалкой клячей, ведь чепрак прекрасного скакуна принцессы весь сиял драгоценными камнями, а на том была обыкновенная сбруя, которая никак не могла равняться с подобным великолепием. Король, занятый тысячей мелких забот, ничего этого даже и не заметил. Зато все придворные не могли налюбоваться принцессой, чья красота была восхитительна, и ее зеленым пажом, который один был красивее всех пажей вместе взятых.
И вот на полпути встретили Ворчунью, та же ехала в открытой карете, согнувшись, ссутулившись хуже любой крестьянки. Король и принцесса обнялись и расцеловались с нею. Ей подвели коня, чтобы дальше ехать верхом, но, увидев скакуна Прелестницы, она вскричала:
— Как?! У этой девчонки конь красивее моего? Уж лучше не быть мне королевой и воротиться в замок, чем позволить так себя унизить!
Король тут же приказал принцессе спешиться и просить Ворчунью оказать ей честь сесть на ее коня. Принцесса повиновалась безмолвно. Ворчунья же, и глазом не моргнув и не поблагодарив, тотчас взгромоздилась в седло, как мешок с грязным бельем; а чтоб она не свалилась, коня держали восемь дворян. Но и тут была не рада и всё что-то ворчала сквозь зубы. Спросили, что гневит ее; «а то, — отвечала, — что мне, раз я госпожа, угодно приказать держать уздечку зеленому пажу, как держал он ее, когда вел Прелестницу». Король приказал зеленому пажу вести коня королевы. Персинет с принцессой взглянули друг на друга, да промолчали. Паж повиновался, и весь двор тронулся в путь. Барабаны затрещали, трубы запели — и поднялся тут невыносимый шум да гром. А Ворчунье только того и надо: нос крючком, рот перекошен, едет и думает, что краше самой Прелестницы. Но тут вдруг нежданно-негаданно как закружится прекрасный скакун, как полетит — никому его не удержать: и понес Ворчунью. Она же, хватаясь то за седло, то за гриву, вопила во всю мочь; наконец свалилась, зацепившись ногой за стремя, а конь всё тащил ее по камням, колючкам и грязи, где она и осталась лежать замертво. Кинулись ее искать и вскорости нашли. Вся она была в ссадинах, на голове четыре или пять ран, рука сломана: никто еще не видывал невесты в столь плачевном состоянии.
Король был в отчаянии. Новобрачную собрали по кусочкам, как разбитый стакан: шапочка тут, башмаки там. Ее отнесли в город, уложили и позвали лучших хирургов. Она же, как ей ни худо, всё бушует:
— Это проделки Прелестницы: уверена, что сего красивого и зловредного коня выбрала она с умыслом меня соблазнить и погубить; а посему пускай король поступит по справедливости, не то вернусь в мой богатый замок, а его больше и видеть не желаю.
Королю доложили о гневе Ворчуньи. А коль скоро его-то главной страстью тут был расчет, то при одной мысли, что лишится тысячи бочек с золотом и бриллиантами, он весь похолодел; сам прибежал к скаредной страдалице, пал к ее ногам и поклялся наказать Прелестницу сообразно ее вине и предоставить ее судьбу решать Ворчунье; та сказала, что этого будет довольно, и тут же велела послать за принцессой.
Едва лишь принцессе доложили, что ее зовет Ворчунья, как вся она побледнела и затрепетала, ибо не сомневалась, что не обласкать ее собираются. Оглядевшись, нет ли вблизи Персинета, она его не нашла и печально направилась в покои злобной мачехи. Не успела Прелестница войти, как закрыли все двери, и четыре женщины, больше похожие на четырех фурий, набросились на нее по приказу своей госпожи, сорвали с принцессы прекрасные одежды и разодрали рубашку. Обнажившиеся ее плечи заблестели такой белизною, что жестокие мегеры, не вынеся этого, прикрыли глаза, точно на сияющий снег смотрели.
— Ну же! Ну же! Смелей! — вопила безжалостная Ворчунья. — Расцарапайте ее всю, выдерите как следует, в клочья порвите эту белую кожу, которой она так гордится.
Прелестница, оказавшись в такой беде, совсем уж было затосковала по Персинету; однако она была почти нага и из скромности не пожелала, чтобы принц видел ее такую; вот и приготовилась пострадать, как несчастный агнец. У каждой из четырех фурий было по вязанке жутких розог да еще по толстой метле из таких же прутьев про запас, ими они без продыху и охаживали бедняжку, а Ворчунья кричала:
— Сильнее! Сильнее! Вы ее жалеете!
Тут уж всяк бы подумал, что с принцессы с живой кожу содрали; однако ж бывает, что судят-рядят, а о чем — не знают; ибо любезный Персинет так отвел глаза этим жестоким прислужницам, что думали они, будто розгами машут, а на деле-то держали в руках перья тысячи цветов и оттенков; и едва Прелестница это увидела, как перестала бояться и проговорила тихонько:
— Ах, Персинет, ведь это вы великодушно явились мне на помощь! Что бы я без вас делала?!
А мучительницы наконец утомились пороть и уже рукой не могли двинуть. На принцессу накинули одежды и выставили ее вон, осыпая ругательствами.
Вернулась она к себе и притворилась, что тяжко страдает; улеглась в постель и приказала остаться с нею только няне; принялась рассказывать ей о своих злоключениях и за беседой заснула. Няня ушла, а принцесса, пробудившись, заметила, что в уголке спальни стоит и не смеет подойти зеленый паж. Тут уж сказала она, что никогда не забудет, скольким ему обязана, и умоляет не оставлять ее на произвол злодейки; после чего попросила его удалиться, ибо ей всегда говорили, что нехорошо оставаться наедине с мальчиками. Он отвечал, что, как могла она уже и заметить, полон к ней почтения, и поскольку она — его госпожа, то повинуется ей во всем, даже и претерпевая некоторые неудобства из-за этого. На том он ее и оставил, посоветовав притвориться, что захворала принцесса от жестокого обращения, коему подверглась.
Ворчунье так отрадно было узнать о плачевном состоянии Прелестницы, что она поправилась вдвое быстрее, чем ожидалось; свадьбу сыграли с самым пышным великолепием. Но король, зная, что больше всего Ворчунье нравится, когда хвалят ее красоту, заказал ее портрет и устроил в ее честь турнир, на котором шесть самых ловких рыцарей королевства должны были сперва громогласно объявить, что королева Ворчунья прекраснее всех принцесс на свете, а потом подтвердить это в состязании. Множество рыцарей, из краев ближних и дальних, съехались сюда доказать обратное. Уродина явилась перед всеми на большом балконе, устланном золотой парчой; ей радостно было наблюдать, с какой ловкостью ее рыцари отстаивают ее неправое дело. Стоявшая позади Прелестница привлекала все взоры; глупая и чванливая Ворчунья думала, что это от нее никто глаз оторвать не может.
И когда, казалось, уже некому было оспаривать красоту Ворчуньи, вдруг появился юный рыцарь, державший чей-то портрет в бриллиантовой шкатулке: он заявил, что Ворчунья — безобразнейшая из женщин, а та, чей портрет в его ларце — прекраснейшая из девиц. Тут же он бросился на шестерых рыцарей и повалил их на землю; потом еще шестерых, а где шестеро, там и двадцать четыре — и он одолел их всех. Затем открыл шкатулку и сказал, что в утешение покажет им этот прекрасный портрет. Тут все узнали в нем Прелестницу, а рыцарь низко поклонился принцессе и удалился, не пожелав назвать своего имени; впрочем, она не сомневалась, что это был Персинет.
Ворчунья едва не задохнулась от злости; шея у нее раздулась, она не могла слова вымолвить и только показала рукою, что виновата во всем принцесса. Обретя же вновь дар речи, принялась сетовать в отчаянии:
— Как? Осмелиться оспаривать у меня первенство в красоте? Так насмеяться над моими рыцарями? Нет, я не могу этого стерпеть, я должна отомстить или умереть.
— Сударыня, — отвечала ей Прелестница, — уверяю вас, что в случившемся нет мой вины; я, напротив, готова кровью подписать (ежели только вам будет угодно), что вы — прекраснейшая особа на свете, а я безобразна как чудовище.
— Ага, вы всё шутите, крошка моя, — сказала Ворчунья, — ну да ничего, я скоро с вами поквитаюсь.
Королю пошли донести о том, как разгневана его жена; принцесса умирала со страху, она умоляла его сжалиться, говорила, что если он отдаст ее в руки королеве, та совсем ее сживет со свету. Король же, ничуть не тронутый, объявил всем:
— Я предаю ее во власть мачехи, и пусть та поступает с нею как заблагорассудится.
Злая Ворчунья с нетерпением дожидалась ночи; едва стемнело, она приказала запрячь коней в колесницу и велела Прелестнице сесть в нее. Ее отвезли под стражей за сотню лье от дома, в огромный лес, куда и зайти-то страшно — столько там было львов, медведей, тигров и волков. Добравшись до самой густой чащи этого ужасного леса, принцессе велели сойти с колесницы и оставили там одну, как она ни умоляла о сострадании.
— Я не прошу вас сохранить мне жизнь, — говорила она, — а лишь молю о быстрой смерти; убейте меня и тем избавьте от ужасов, что ждут меня здесь.
Но ее никто и слушать не стал, словно все оглохли вокруг: слуги, ответом и не удостоив, удалились поспешно, оставив бедняжку одну-одинешеньку. Шла она, шла куда глаза глядят, натыкаясь на стволы деревьев, падала, зацепившись за густой кустарник; наконец, измучившись, рухнула наземь совсем обессиленная.
— Персинет, Персинет! — восклицала она. — Где вы? Возможно ли, чтобы вы меня покинули?
Не успела она произнести эти слова, как открылось глазам ее лучшее зрелище на свете: вспыхнул весь лес, освещенный так пышно, что ни одного дерева не осталось, на котором не висело бы люстры со множеством свечей, а в глубине аллеи она увидела дворец, весь хрустальный и сиявший как солнце. Она подумала, что и это новое чудо — дело рук Персинета, и затрепетала от радости и смущения. «Я одна, — сказала она, — а этот принц молод, любезен, и я ему жизнью обязана. Ах! Это уж слишком! Уйдем же отсюда: лучше умереть, чем любить его». Сказав так, она поднялась и, не оборачиваясь на прекрасный замок, пошла наугад, превозмогая слабость и усталость и с полным смятением в душе.
Тут она услышала сзади шум; ей сделалось страшно при мысли, что вот и пришел свирепый зверь разорвать ее. Она обернулась, дрожа, а перед нею — принц Персинет, прекрасный, как Амур на картине.
— Вы бежите меня, принцесса, — сказал он ей, — вы меня страшитесь, а я-то вас обожаю. Возможно ли? Неужто опасаетесь вы моей непочтительности к вам? Заходите, заходите же без страха во Дворец Фей, я не пойду следом за вами, если вы мне это запретите. Вы встретите там королеву, мою матушку, и моих сестер, которые уже нежно любят вас, по одним лишь моим рассказам.
Прелестница, очарованная смирением и великодушием своего юного поклонника, не смогла отказать и села с ним в маленькую повозку, красиво раскрашенную и вызолоченную, которую с необычайной скоростью помчали два оленя; быстро-быстро проехали они по множеству очаровательных мест в этом лесу, вызвавших у принцессы полный восторг. Везде всё было хорошо видно. Пастухи и пастушки, изящно одетые, танцевали под звуки флейт и волынок. Дальше, по берегам ручьев, видела она поселян с возлюбленными, которые угощались и весело напевали.
— А я-то было думала, что этот лес необитаем, — сказала она, — а между тем здесь столько народу, и как всем весело.
— С тех пор, как вы здесь, милая принцесса, — отвечал Персинет, — в этой туманной пустыне живут лишь наслаждения и приятные увеселения: Амуры следуют за вами и цветы расцветают у ваших ног.
Прелестница не осмелилась ответить, ей не хотелось подолгу вести подобные беседы, и она попросила принца отвезти ее к королеве, его матушке.
Тут же он приказал оленям мчать во Дворец Фей. Входя, Прелестница услышала замечательную музыку. Королева и обе ее дочери были очаровательны, они обняли принцессу и повели в просторную залу, где все стены были из горного хрусталя. С немалым удивлением заметила она, что вся ее история, вплоть до этого самого дня, была выгравирована на них, и даже поездка через лес в повозке с принцем; при этом отделка была такая тонкая, что подобного совершенства не бывало и у самого Фидия[11] со всеми мастерами, каких расхваливают нам древние греки.
— Что за проворные у вас ремесленники, — сказала Прелестница Перси-нету, — стоит мне пальцем пошевелить, как всё это уже выгравировано.
— Ибо никак не хотел бы я потерять ни единой подробности касательно вас, — подхватил он. — Увы, нигде не обрести мне ни счастья, ни радости.
Она ничего не ответила ему и поблагодарила королеву за столь радушный прием.
Роскошно накрыли стол, и Прелестница поела с аппетитом; и то сказать, она уж так радовалась, что вместо львов и медведей, сильно ее страшивших, встретила в лесу Персинета.
Ей, хотя и весьма утомленной, предложили послушать оперу в гостиной, сиявшей золотом и украшенной картинами. Это была «Любовь Психеи и Купидона», с танцами и песенками. Юный пастушок пропел такие слова:
Принцесса, любят вас и, заявить вам смею,
Сам бог любви любить не смог бы вас сильнее.
Медведи, тигры, львы, все хищники подряд
Покорствуют любви и ждут ее отрад.
Хотя бы у зверей вы поучились диких
Не презирать любви и чар ее великих.
На свете, не любя, никто не может жить,
Вы ж холодны одна, боитесь полюбить.
Она покраснела оттого, что к ней обратились в присутствии королевы и принцесс, и призналась Персинету, как ей неловко, что все знают об их тайнах.
— Я, кстати, вспомнила одну присказку, она мне очень нравится:
Чужим не стоит доверяться
И о себе распространяться;
Молчанье мне милей стократ.
Ведь свет так полон предрассудков,
Что очерняет всё подряд,
Иной раз вопреки рассудку.
Он попросил прощения за этакую неловкость. Опера закончилась, и королева велела двум принцессам отвести Прелестницу в ее покои. Свет не видывал ничего более роскошного и изящного, чем мебель в опочивальне принцессы и ее кровать. Прислуживали ей двадцать четыре девицы, одетые нимфами. Старшей из них было восемнадцать лет, и каждая была чудо как хороша. Когда принцессу уложили в постель, раздалась прелестная музыка, которая должна была бы убаюкать ее, но Прелестница так была изумлена, что глаз не сомкнула. «Всё, что я видела здесь, — говорила она себе, — сплошное волшебство. Как же следует опасаться принца, столь любезного и ловкого! Отсюда мне так просто не уйти». Горько было ей думать об этом: из роскошного дворца уйдешь — в лапы жестокой Ворчуньи попадешь; но и Персинет казался ей слишком любезным, так что ей боязно было остаться тут, где он был господином.
Когда она проснулась, ей принесли платья всех цветов, разные уборы из драгоценных камней, кружева и ленты, шелковые перчатки и чулки — все вкуса отменного; чего тут только не было; поставили и туалетный столик из чеканного золота: никогда она еще не казалась такой красивой и нарядной. Персинет вошел в ее опочивальню; одет он был в зеленую парчу с золотом (зеленый был его цвет, ведь цвет этот любила Прелестница). И так прекрасен был юный принц, что не сравнится с ним ничто на свете. Прелестница призналась ему, что не могла уснуть, так ее мучили воспоминания о пережитых бедах и предчувствие, что их продолжение не за горами.
— Чего вам опасаться, сударыня? — сказал он. — Здесь вы полновластная госпожа, все вас обожают. Не покинете же вы меня, чтобы вернуться к вашей злодейке?
— Приняла бы я предложение ваше, будь я хозяйкою судьбы своей; но предстоит мне держать ответ еще пред отцом-королем, и лучше страдать, чем преступить свой долг.
Персинет долго уговаривал ее стать его супругой, а она всё отнекивалась. Он почти силком неделю удерживал ее у себя во дворце, выдумывая для нее всё новые удовольствия и забавы.
Она часто говаривала принцу:
— Хотела бы я узнать, что происходит сейчас при дворе у Ворчуньи и как она объяснила всем свою проделку со мной.
Персинет обещал послать туда своего шталмейстера, человека весьма умного. Она же возразила, что мог бы он и сам ей о том поведать, ибо уже убедилась, как хорошо ему и так известно всё, что и где происходит, и ничьей помощи ему в том не нужно. Тут он сказал:
— Пойдемте же со мной в большую башню, откуда вы всё увидите сами.
И он повел ее на самый верх необычайно высокой башни, которая была из горного хрусталя, как и остальной дворец; и попросил наступить ему на ногу, а мизинец вложить ему в рот, и тогда обратить взор на город[12]. Тут и увидела она мерзкую Ворчунью рядом с королем; уродина говорила ему:
— Несчастная принцесса удавилась. Я сама это видела, вот ведь ужас! Надо поскорей похоронить ее, и вы быстро утешитесь после такой незначительной потери.
Король, услышав о смерти дочери, горько-горько заплакал; Ворчунья же, отвернувшись от него, вышла и приказала найти полено; на него надели чепчик, тканями обернули и в гроб уложили; затем, по приказу короля, ему устроили пышные похороны, и все, кто там был, принцессу оплакивали, а мачеху проклинали и говорили, что она во всем виновата. Кругом царила глубочайшая скорбь. Прелестница слышала и сетования, и шепоты: «Какая жалость — принцесса, такая юная и прекрасная, пала жертвой злобы создания столь безобразного! Изрубить бы злодейку на паштет!» Король же не мог ни пить, ни есть, он рыдал, сердце его разрывалось.
Увидев отца в таком отчаянии, Прелестница воскликнула:
— Ах, Персинет! Я не могу допустить, чтобы он так и считал меня умершей; если любите, отвезите меня домой.
Как он ее ни отговаривал, в конце концов пришлось повиноваться. Тогда он сказал ей:
— Принцесса, вам еще не раз придется вспомнить о Дворце Фей; что вы пожалеете и обо мне, на то я не смею надеяться, ибо ко мне вы еще бесчеловечней, чем Ворчунья к вам.
Она, не слушая его речей, упрямо торопилась с отъездом; и вот уж простилась с его матерью и сестрами. Принц уселся вместе с нею в повозку, олени побежали, и, когда они выезжали из замка, принцесса услышала сзади страшный грохот; она обернулась и увидела, что величественный дворец обрушился и вдребезги разбился.
— Что я вижу, — воскликнула она, — дворца больше нет!
— Нет, — отвечал он, — мой дворец теперь в царстве мертвых, и вы войдете туда не прежде, чем вас похоронят.
— Вы разгневаны, — сказала ему Прелестница, стараясь его смягчить, — однако сами рассудите: вас ли следует жалеть или меня?
Когда они прибыли, Персинет устроил так, чтобы принцесса, он сам и повозка сделались невидимы. Она взошла в комнату короля и бросилась к его ногам. Тогда тот пустился бежать, испугавшись и подумав, что ему явилось привидение. Она удержала его и сказала, что и не думала умирать; Ворчунья отправила ее в дикий лес, но там она забралась на дерево и питалась его плодами; еще открыла ему, что вместо нее похоронили полено, и попросила короля о милости отослать ее в какой-нибудь замок, где гнев мачехи уж ее не достанет.
Король почти не мог в это поверить; приказал он откопать полено и был поражен хитростью Ворчуньи. Тут уж в сяк бы сообразил, в чем дело; но человек-то он был несчастный и слабый, даже прогневаться и то как следует не посмел, а только приласкал дочь и поужинал вместе с нею. Когда приспешницы Ворчуньи доложили той, что принцесса вернулась и ужинает с королем, она пришла в бешенство; прибежав к нему, закричала — пусть-де немедленно прогонит эту плутовку, а не то Ворчунья уедет и больше не вернется; дескать, врет она, что Прелестница, хоть и впрямь немного похожа; ибо Ворчунья сама видела, как принцесса повесилась. И еще прибавила, что считать правдой слова такой лгуньи — значит ее саму ни во что не ставить. И король, ни словом не возразив, покинул несчастную принцессу, поверив или прикинувшись, что вериг, будто это не его дочь.
Вне себя от радости, Ворчунья со служанками потащила бедняжку в каморку, где велела раздеть ее. С нее сорвали богатые одежды, напялили жалкие лохмотья из грубой холстины, ноги обули в деревянные башмаки, а на голову накинули грубый шерстяной колпак. Только и дали ей что немного соломы, чтобы спать, да черствого мякинного хлеба.
Оказавшись в такой беде, она горько плакала и сожалела о Дворце Фей, но уже не осмеливалась призывать на помощь Персинета, ибо поняла, как дурно обошлась с ним, и не надеялась, что он любит ее так сильно, что снова ей поможет. А свирепая Ворчунья тем временем послала за одной феей, которая была еще изобретательнее и жесточе ее самой, и сказала ей:
— Есть тут у меня одна плутовка, которая немало мне досадила; я хочу помучить ее, давая всегда самую трудную работу, которую ей не под силу будет выполнить, и тогда смогу ее поколачивать, а она не посмеет пожаловаться. Как бы мне с вашей помощью каждый день изобретать для нее что-нибудь новенькое?
Фея отвечала, что поразмыслит об этом и дня не пройдет, как вернется. Она и впрямь не преминула приехать и принесла огромный клубок ниток, столь тонких, что они рвались от одного дуновения, и запутанных в такой ком, что не найти ни конца, ни начала. Довольная Ворчунья послала за своей прекрасной пленницей и сказала ей:
— Ну что ж, милая моя кумушка, распутайте-ка своими лапищами вот этот клубок, да уж будьте уверены, если порвете хоть одну ниточку, вы погибли, уж я сама спущу с вас шкуру, можете приниматься за работу когда заблагорассудится, но до заката чтоб всё было готово. — И она заперла комнату на три ключа.
Принцесса разглядывала моток, вертела его так и эдак, тысячу порвала, одну распутала, наконец надоело ей попусту мотать, отбросила она клубок от себя и вскричала:
— Прочь, роковая нить! Ты станешь причиной моей гибели. Персинет! Персинет! Если моя к вам суровость не совсем еще отвратила вас от меня, явитесь; я не прошу уже вас о помощи, просто примите мой прощальный привет!
И она заплакала так горько, что растрогала бы любого, уж не говоря о влюбленном принце. Персинет же распахнул дверь так легко, как будто ключ был у него в кармане.
— Я здесь, милая принцесса, — сказал он, — и, как всегда, готов вам служить; не могу я покинуть вас, хоть вы и дурно воздаете мне за мою к вам страсть. — Он трижды ударил волшебной палочкой по мотку, и порванные нити тут же срослись; стукнул еще дважды — и вот уж они аккуратно распутаны и уложены. Тут он спросил, угодно ли принцессе еще чего-нибудь и призовет ли она его когда-нибудь иначе, чем попав в беду.
— Не упрекайте меня, милый Персинет, — сказала она, — я и без того достаточно несчастна.
— Но, милая моя принцесса, — отвечал он, — от вас одной зависит освободиться от гнета, под коим вы оказались; поедемте со мною и будемте счастливы вместе. Чего вы опасаетесь?
— Что вы недостаточно меня любите, — призналась она. — Я хочу, чтобы время доказало мне неподдельность ваших чувств.
Персинет удалился, оскорбленный подобными подозрениями.
Вот наконец и солнце зашло, а Ворчунье только того и надо было; тотчас явилась она со своими неразлучными четырьмя фуриями, повернула три ключа в трех скважинах и, не успев еще отворить дверь, говорит:
— Побьюсь об заклад, что эта прелестная лентяйка ни одним из десяти пальцев своих не пошевелила; ей небось больше по нраву поспать, чтобы щечки были порумянее.
Когда она вошла, Прелестница показала ей катушку ниток, и там не к чему было придраться. Только и смогла проворчать злодейка, что принцесса неряха и клубок замарала, и отвесила бедняжке две такие пощечины, что ее бело-розовые щечки сделались сине-желтыми. Что было делать несчастной Прелестнице, — терпеливо снесла она оскорбление; ее снова отвели в каморку и накрепко заперли.
Ворчунья была весьма раздосадована, что проделка с мопсом ниток не удалась. Снова послав за феей, она осыпала ее упреками.
— Да выдумайте же, — говорила она, — хоть какую-нибудь хитрость, с которой бы она никак не смогла справиться.
Фея удалилась и назавтра вернулась с огромной бочкой перьев самых разных птиц: соловьев, канареек, чижей, щеглов, коноплянок, славок, попугаев, филинов, воробьев, голубей, страусов, дроф, павлинов, жаворонков, куропаток; захоти я перечислить всех зараз — не закончить бы мне рассказ; и были оные перья все перемешаны меж собою, так что и сами птицы не могли бы разобрать, которые чьи.
— Вот, — сказала фея Ворчунье, — тут-то вы и сможете испытать ловкость и терпение вашей пленницы: прикажите ей высыпать их, и пусть разложит отдельно павлиньи, отдельно соловьиные, и так далее, чтоб для каждой птицы была своя кучка. Такое и фее не под силу.
Ворчунья так и обмерла от радости, едва представив, как тяжко придется несчастной принцессе. Она послала за нею и, по обыкновению осыпав угрозами, приказала закончить работу до заката и заперла ее на три замка в комнате, оставив одну с бочкой перьев.
Прелестница взяла несколько перышек, но она знать не знала, какие чьи, и бросила снова в бочку. Всё брала и брала оттуда пригоршнями, пока не поняла, что ей не справиться.
— Что ж, умрем, — сказала она в отчаянии. — Здесь желают моей смерти, но она, по крайней мере, прекратит мои горести: не следует больше звать на помощь Персинета; люби он меня, так уж наверное был бы здесь.
— Я здесь, принцесса, — воскликнул Персинет, выходя из-за бочки, за которой прятался. — Я здесь, чтобы выручить вас из беды: как теперь, после стольких знаков внимания и доказательств страсти, усомнитесь вы в том, что я люблю вас больше жизни. — Тут он трижды ударил палочкой, и перья, тысячами вылетая из бочки, сами разложились маленькими аккуратными кучками по всей комнате.
— Как же я обязана вам, Персинет! — сказала Прелестница. — Без вас я бы пропала. Будьте уверены, что я вам несказанно благодарна.
Принц вновь не преминул всё в ход пустить, чтобы уговорить ее осчастливить его; она же просила не торопиться, и, как ни тяжко ему было, он согласился.
Явилась Ворчунья. Немало удивленная увиденным, она не могла вообразить, чем бы еще досадить Прелестнице, и наконец все-таки побила ее, сказав, что перья разложены неаккуратно. Затем снова послала за феей, на которую была страшно зла. Фея, придя в замешательство, не нашлась, что ответить; наконец обещала со всем своим умением изготовить короб, который немало навредит пленнице, если та сумеет его открыть, и несколько дней спустя принесла весьма большой ларь.
— Возьмите, — сказала она Ворчунье, — прикажите вашей рабыне отнести его куда-нибудь да запретите ей настрого открывать его — тогда она не сможет удержаться, и вы будете довольны.
Ворчунья так и сделала. Она сказала принцессе:
— Отнесите этот короб в мой роскошный дворец и поставьте на стол в моем кабинете. Но я запрещаю вам, под страхом смерти, заглядывать внутрь.
Прелестница отправилась в дорогу в деревянных башмаках, холщовых лохмотьях и шерстяном колпаке; кто ни попадался ей навстречу, все говорили: «Это переодетая богиня!» — ведь принцесса и в отрепьях была необычайно прекрасна. Она очень устала. Наконец, увидев на опушке пред небольшим леском весьма приятный луг, присела отдохнуть немножко; а ларь по-дожила к себе на колени; дай-ка, думает, возьму да и открою: «И что бы от этого могло случиться? Ведь я ничего оттуда не возьму, но хоть увижу, что там». И, недолго думая, открыла его; тотчас выскочило оттуда множество маленьких человечков, мужчин и женщин, с крошечными скрипочками, столиками, кухоньками и тарелочками; наконец вышел и самый большой, ростом с палец, а казался меж них великаном. Человечки прыгали на лугу, потом встали в несколько рядов и начали бал, прелестнее которого никто и не видывал: одни танцевали, другие готовили, третьи ели, а маленькие скрипачи наигрывали чудесную музыку. Прелестница сначала с удовольствием смотрела на такое диво-дивное. Потом это ей немного наскучило, но стоило ей только попытаться заставить всех человечков попрыгать обратно в короб, как не тут-то было: маленькие господа и дамы разбегались, скрипачи тоже, а повара, взвалив на плечи вертела, а на головы — кастрюли, стремглав добегали до леса, пока принцесса гонялась за ними по лугу, и возвращались на луг, только она добежит до леса.
— О слишком нескромное мое любопытство! — молвила, заплакав, Прелестница. — Сыграло ты на руку моему недругу! Единственная беда, от которой я сама могла бы уберечься, — и вот она со мною случилась! Увы, нет таких упреков, которых бы я не заслужила! Персинет! — воскликнула она. — Персинет! Коли можете вы еще любить принцессу столь неосторожную, придите и помогите мне в этом досаднейшем приключении!
Персинет не заставил долго себя звать: тут как тут, вырос прямо перед нею всё в том же роскошном зеленом наряде.
— Кабы не злая Ворчунья, — сказал он, — вы бы вовсе и не подумали обо мне, принцесса!
— Ах, судите справедливее о моих чувствах, — отвечала она. — Я ни безразлична к заслугам, ни неблагодарна к благодеяниям; да, я испытываю ваше постоянство, но лишь дабы увенчать его, когда совершенно в нем уверюсь.
Персинет, довольный, как никогда, трижды стукнул палочкой: тут же маленькие господа, дамы, скрипачи, повара да и само жаркое — всё вернулось в ларец, будто и не выходило из него. Коляска его стояла неподалеку; он предложил принцессе в нее сесть, чтобы добраться до роскошного замка Ворчуньи; этот экипаж пришелся как нельзя кстати, сделав ее невидимкой; управлять же с радостью сел сам Персинет, и моя хроника утверждает, что принцесса не осталась безразличной к такой приятной компании, но затаила это в своем сердце и старательно скрывала свои чувства.
Прелестница, добравшись до роскошного замка, именем Ворчуньи попросила пустить ее в кабинет, а мажордом ей, смеясь:
— Как! Пасла баранов, а хочешь в такие хоромы? Вон, вон, иди откуда пришла! Никогда еще деревянные башмаки не ступали по этому прекрасному паркету.
Прелестница просила его письменно подтвердить, что он отказал ей; тот согласился. Милый Персинет ждал в экипаже, он отвез ее обратно во дворец и дорогою уж так был нежен и почтителен, что словами не опишешь; всё уговаривал прекратить его муки; она же отвечала ему, что согласится, вот пусть только Ворчунья попробует еще как-нибудь насолить ей.
Только мачеха увидела, что принцесса вернулась, как набросилась на фею да всю ее и расцарапала; и совсем бы придушила, если б такое возможно было с феями. Прелестница же передала ей записку мажордома и ларец: та, даже и не взглянув, кинула и то, и другое в огонь; бросила бы туда и ее саму, если б ей вздумалось. Впрочем, за новым истязанием для принцессы дело не стало.
Ворчунья приказала выкопать посреди сада большую яму, глубокую как колодец, и завалить ее огромным камнем. Она отправилась гулять по саду и сказала Прелестнице и всем, кто с нею был:
— Вот камень, а под ним сокровище, я это точно знаю; отвалим же камень поскорее.
Каждый взялся за дело, и Прелестница тоже. Злодейке того и надо было: едва принцесса оказалась у края, как Ворчунья грубо столкнула ее туда, и яму снова завалили камнем.
Тут уж принцессе не на что было надеяться. Где теперь искать ее Перси-нету? В недрах Земли? Она поняла, сколь премного трудов для того понадобится, и пожалела, что так долго тянула с замужеством.
— Как ужасна моя судьба! — воскликнула она. — Я погребена живой! Такая смерть страшней всего! Вы отомщены за мою медлительность, Персинет; но ведь я боялась, что вы ветреник, как большинство мужчин, которые изменяют, лишь только уверятся, что любимы. Я же хотела убедиться, что у вас верное сердце; и столь несправедливое недоверие стало причиной моей погибели. Но, знай я теперь, что вы будете сожалеть обо мне, кажется, не так горька казалась бы мне моя доля!
Так говорила она, чтобы облегчить скорбь, и вдруг услышала, как отворяется маленькая, невидимая во тьме дверка: тут же стало совсем светло, и открылся ее взору сад, полный цветов, плодов, фонтанов, гротов, статуй, рощиц и зеленых беседок; она без колебаний туда и шагнула и пошла по большой аллее, размышляя, чем может закончиться это приключение, как вдруг увидела Дворец Фей. Как же было ей его не узнать — мало того что подобного дворца из горного хрусталя больше и на свете-то нет, а тут к тому же и на стенах уже выгравированы и новые ее приключения. Появился Персинет с королевой-матерью и сестрами.
— Не отказывайтесь больше, прекрасная принцесса, — сказала королева Прелестнице, — пора вам и сына моего осчастливить, и самой вырваться из-под власти Ворчуньи.
Та же, полна благодарности, бросилась к ее ногам и сказала, что вручает ей свою судьбу и впредь во всем будет послушна; тут и припомнилось ей пророчество Персинета, когда она его покидала, — что дворец его в царстве мертвых, и она снова увидит его не прежде, чем ее похоронят; и теперь убедилась принцесса, сколь велико и знание его, и прочие достоинства; и наконец дала согласие стать его супругою. Тут и принц тоже бросился к ее ногам; дворец же огласился музыкой и пением, и свадьбу сыграли с наипышнейшим великолепием. Уж понаехало тогда фей из краев и ближних и дальних, да в каких роскошных экипажах: одни прибыли на колесницах, запряженных лебедями, других привезли драконы, третьи прилетели на облаках, четвертые на огненных шарах. Явилась и та фея, что помогала Ворчунье мучить Прелестницу. Она немало удивилась, узнав принцессу, принялась умолять забыть былые обиды и поклялась придумать, чем вознаградить ее за все причиненные беды. И впрямь, на празднике остаться не захотела; в карету, запряженную двумя страшными змеями, села да в королевский дворец полетела; там она нашла Ворчунью и свернула ей шею, и не уберегли эту ведьму ни стражники, ни камеристки.
* * *
Ты, зависть пагубная, гнусная и злая, —
Причина всех людских страданий и невзгод.
Ты та, что, ход всей жизни нарушая,
Счастливейшим из нас покоя не дает.
Ты ярость злобной ведьмы возмутила,
Ворчунья принялась принцессу истязать,
Заставила Прелестницу страдать,
Чуть не свела ее в могилу.
Увы! Ее конец тут был бы предрешен,
Когда б не приходил всегда на помощь милой
Красавец Персинет, столь верен, сколь влюблен.
Любовь ее снискав, он счастлив был безмерно,
Он это счастье заслужил, ведь тот,
Кто любит искренне и верно,
В конце концов блаженство обретет.
Пер. М. А. Гистер
Златовласка[13]

По соседству жил молодой король, и никогда он не был женат, хоть и хорош собой и весьма богат; едва услышал он, что говорят о королевне Златовласке, — полюбил ее, хоть и никогда не видавши, да так сильно, что перестал и есть, и пить; и решил он тогда отправить к ней гонца, чтоб предложить сыграть свадьбу: дал гонцу великолепную карету, а еще — больше сотни лошадей и сотню лакеев, и строго наказал ему привезти принцессу в его королевство.
Стоило гонцу откланяться и пуститься в путь, как при дворе принялись судачить про то на все лады; король же, и мысли не допускавший, что Златовласка не согласится к нему приехать, приказал сшить для нее прекрасные платья и спальню роскошно обставить. Пока трудились ремесленники, гонец прибыл к Златовласке и передал ей королевское нежное посланьице; но то ли настроение у нее было в тот день дурное, то ли не понравилось ей, как ей поклонились, — но отвечала она ему, что от души королю благодарна, а вот замуж отнюдь не собирается.
Уехал гонец от двора принцессы совсем опечаленный, что не везет ее с собою; всё, чем снабдил его в дорогу король, пришлось раздать окружающим — ибо была принцесса очень мудра и хорошо знала, что девушкам не следует принимать дары от юношей; потому и не захотела взять ни сверкающих бриллиантов, ни иных королевских подарков, а согласилась лишь принять горсточку английских булавок[14], дабы не огорчать жениха.
Когда гонец приехал в королевскую столицу, где его с таким нетерпением ждали, всех охватила горесть, что не привез он с собою Златовласку, а король уж и вовсе разрыдался как дитя малое и, как его ни утешали, ничего не хотел даже слушать.
А среди придворных был премилый юноша, прекрасный как солнце, и стройней коего во всем королевстве никогда не было; за изящество и вежество звали его Добронравом; и все-то его любили, кроме разве что завистников, покоя не знавших оттого, что король к нему так добр и ежедневно обсуждает с ним государственные дела.
Услыхал как-то Добронрав от придворных, что гонец вернулся несолоно хлебавши и ничего толком не сделал. Тут юноша и пророни невзначай:
— Если б король меня послал к Златовласке — уж со мною бы она поехала, тут и сомневаться нечего.
А злодеи-придворные прямиком к королю:
— Сир, а знаете, что Добронрав говорит? Что если вы его пошлете к Златовласке, то он ее привезет: вот же лукавец каков; он думает, что красивей вас и уж за ним-то она хоть на край света пойдет.
Тогда король преисполнился ярости, да такой, что вышел из себя.
— Ага, — воскликнул он, — каков красавчик любезный! Вздумал насмехаться над моей бедою, как будто он лучше меня; а ну-ка заточите его в мою большую башню и пусть там с голоду умрет.
Королевские слуги явились к Добронраву, а тот и забыл, что сам сболтнул; они отвели его в темницу и по-всякому над ним измывались. Бедному юноше бросили пучок соломы, чтоб на нем спать; и суждено б ему было умереть, коли не было бы у подножия башни маленького источника, из которого он попил немного, чтоб освежить горло, ибо от голода у него во рту пересохло.
И вот однажды, когда силы его совсем иссякли, он промолвил со вздохом:
— Да чем же недоволен король? Нет у него подданного верней меня; никогда я не оскорблял его.
А король случайно проходил мимо той башни; и только услышал он голос прежнего своего любимца, как остановился и стал слушать, несмотря на то, что свита, где все ненавидели Добронрав а, принялась нашептывать ему:
— Да что вас так разобрало, Сир? А то вы не знаете, что он мошенник!
Король отвечал:
— Оставьте; я хочу послушать, что он скажет.
А услышав, как тот жалуется, он был тронут до слез; отворил засовы башни и позвал его. Совсем опечаленный Добронрав как вышел оттуда, так и повалился ему в ноги и воскликнул, обнимая его колени.
— Что я вам сделал, Сир, — сказал он, — чтобы так жестоко меня наказывать?
— Ты насмеялся надо мной и моим гонцом, — отвечал король, — ты сказал, что если б я тебя послал к королевне Златовласке, то уж ты бы ее точно привез.
— Истинно так, Сир, — подтвердил Добронрав, — ведь, так хорошо зная великие достоинства ваши, я уверен, что не смогла бы она вам отказать, и ничего не сказал я такого, что могло бы быть неприятно Вашему Величеству.
Король решил, что и в самом деле был кругом неправ; обведя грозным взором всех, кто злословил на его любимца, он увел его с собою, от души раскаиваясь, что причинил ему горе.
После дружеской пирушки он повел его к себе в кабинет и сказал:
— Добронрав, а ведь я всё еще люблю королевну Златовласку; ее отказ ничуть меня не охладил; но теперь я не знаю, как снова взяться за дело, чтоб она соизволила за меня замуж выйти; хочу послать к ней тебя да попытать счастья — а вдруг ты в этом деле преуспеешь.
Добронрав отвечал, что во всем ему повинуется и готов ехать хоть завтра.
— Ого-го! — воскликнул король. — Ну, так я прикажу снарядить с тобою большое посольство.
— Никакого мне не надо, — возразил Добронрав, — дайте только доброго коня и верительные грамоты от вашего имени.
Король обнял его, от души обрадовавшись, что тот так скор на добрую службу.
И вот в понедельник утром простился он с королем и его приближенными и отправился с миссией, совсем один, без шума и свиты, только и думая, что бы такое предпринять, чтобы склонить Златовласку выйти за его короля: а в карман себе положил он письменный прибор; придет ему какая мысль позанятней, чтобы в торжественную речь ее ввернуть, — он сойдет с коня, усядется под деревом да и запишет ее, чтоб ничего потом не забыть.
Однажды утром, когда еще только занималась заря, ехал он по большому лугу, и пришла ему в голову мысль весьма привлекательная; он спешился, сел под тенью ив и тополей, росших вдоль берега реки, а записав придуманное, осмотрелся, очарованный столь живописным местом, и тут заметил в траве жирного карпа с золотой чешуею, бессильно разевавшего пасть, — ибо, ловя мошек, выпрыгнула рыба из воды так высоко, что упала в траву, где и пришлось бы ей умереть. Добронраву стало ее жалко: и, хоть и был тогда постный день и как раз сгодился бы карп ему на обед, предпочел он потихоньку взять беднягу и пустить обратно в речку. Едва куманек карп освежился прохладной водицей, как сразу принялся резвиться, нырнул к самому дну, а потом выплыл, радостный, прямо к бережку и говорит:
— Добронрав, я вас благодарю за то, что вы для меня сделали; вы меня спасли — ведь, не будь вас, я бы умер. Отплачу и я вам тем же.
Сказав свое доброе слово, он исчез в воде, оставив Добронрава в полном изумленье — каков, оказывается, карп — и учтивый, и любезный.
Продолжил он путь. И вот на другой день видит попавшего в беду ворона: бедную птицу загнал в ловушку здоровенный орел (великий пожиратель ворон); он уж почти ее сцапал и проглотил бы как горошину, не почувствуй Добронрав жалости к несчастному крылатому созданию.
— Вот, — промолвил он, — как сильные мира сего притесняют самых слабых: и зачем бы орлу поедать ворона?
Натянул он лук, всегда висевший на плече, вставил стрелу, прицелился в орла, и — бах! — поразил его, проткнув стрелой насквозь; тот упал замертво, а ворон тому и рад, вспорхнул на дерево и говорит:
— Добронрав, вы великодушно помогли мне, а ведь я всего лишь презренная птица, но отнюдь не неблагодарная — и отплачу вам добром.
Восхитился Добронрав необычайным разумом этой птицы и пошел своей дорогою — и вот, зайдя в густую рощу, — а ночь еще не прошла, так что он и не видел, куда идги-то, — слышит вдруг отчаянное уханье совы.
— Вот те на, — промолвил он, — и ведь как печально кричит, должно быть, попалась в силок.
Осмотрелся он по сторонам и наконец заметил широкие сети, которые по ночам растягивают птицеловы, чтобы ловить мелких пташек.
— Эх, жалко-то как! — сказал он. — Людям мало того, что они все мучают друг друга, — так им надо еще и охотиться за тварями божьими, которые им не сделали ничего плохого.
Вынул он нож и перерезал путы; сова как взовьется ввысь, а потом вернулась и, махая крыльями, говорит ему:
— Добронрав, нет нужды долго объяснять, как я вам обязана: все и так ясно без слов — вот пришли бы охотники, а я в силке, меня и убили бы, если б не вы; я очень вам благодарна и отплачу добром.
Вот какие три замечательных приключения случились с Добронравом в дороге. Он так торопился, что немедля пошел во дворец Златовласки. Все там было восхитительно: грудой простых камней лежали бриллианты, куда ни бросишь взгляд — везде прекрасные платья, конфеты, серебро, всякие чудесные вещи; и он подумал про себя, что, если принцесса согласится все это бросить и уехать с ним к его повелителю-королю — того, должно быть, ждет большое счастье; облачился он в парчовые одежды, украсив их алыми и белыми перьями; причесался, напудрился, умылся; пышный шарф, цветисто расшитый, обернул вокруг шеи, захватил и корзинку, а в нее посадил маленькую собачку, которую купил, проезжая через Булонь. Так Добронрав был пригож и строен и с таким все делал изяществом, что, когда появился он у врат дворца, стражники склонились пред ним в глубоком поклоне и побежали доложить Златовласке, что Добронрав, посол того самого короля-соседа, просит позволения с нею повидаться.
Услышав имя Добронрав, принцесса сказала:
— Что ж, а ведь это добрый знак; держу пари, что он очень мил и всем нравится.
— Поистине так, сударыня, — подхватили все ее фрейлины, — мы его видели с чердака, когда пряли для вас пряжу; как мы приметили его в окошки, так и веретена все пооброняли.
— Ах, вот как! Прекрасно, — отозвалась Златовласка, — так вы развлекаетесь тем, что поглядываете на юношей: а ну-ка подайте мне тотчас мое парадное платье из вышитого голубого атласа, да распустите как следует мои белокурые кудри, да принесите гирлянды свежих цветов, да наденьте на меня сапожки и подайте веер, да не забудьте подмести в моей спальне и под троном — ибо я желаю, чтобы он повсюду говорил, что я истинно красавица королевна Златовласка.
Тут уж все дамы наперебой бросились усердно украшать ее как настоящую королеву, да так поспешно, что все время друг об дружку спотыкались и не слишком в деле преуспели. Наконец принцесса вышла в галерею больших зеркал, чтобы посмотреть, все ли у нее как надо, и взошла на золотой трон, отделанный слоновой костью и эбеновым деревом, источавшим бальзамический аромат, и приказала фрейлинам взять музыкальные инструменты и совсем тихонько запеть, чтобы никого не растревожить.
Вот привели Добронрава в зал для гостей: он так и встал столбом, полный восхищения, и много раз вспоминал потом, как дара речи лишился; однако все ж расхрабрился и произнес чудеснейшую речь: уж так умолял принцессу, уверяя, что большим огорчением ему будет без нее вернуться обратно.
— Любезный Добронрав, — отвечала она ему, — все только что изложенные вами соображения весьма убедительны, и уверяю вас, что склонна благоволить вам боле чем кому угодно; но надо вам знать и то, что с месяц тому назад прогуливалась я с моими фрейлинами по берегу речки и, готовясь к завтраку, сняла перчатку; тут и упал у меня с пальца перстень прямо в воду; а я дорожила им больше, чем всем королевством, — судите сами, как мне тяжела эта потеря. И вот дала я обет не слушать никаких слов о замужестве и супруге, пока гонец его не вернет мне перстень. Теперь вы знаете, что вам нужно делать, — а разговорами меня тешьте хоть две недели, день и ночь, а я своего решения изменить никак не могу.
Добронрав таким ответом был поражен как громом; отвесил ей глубочайший поклон и просил только принять в дар маленькую собачку, корзинку и шарф; однако она отвечала, что никаких подношений не желает, а лучше пусть-ка он подумает над тем, что она ему сказала.
Вернулся он к себе и лег спать не поужинав; а собачка его, которую звали Попрыгунья, есть тоже не могла, пришла и легла подле него. Ночь была долгая. Добронрав то и дело вздыхал.
— Откуда ж взять мне перстень, который уронили в речку месяц назад? — говорил он. — За это и браться-то чистое безумие! Принцесса просто хочет, чтобы я не сумел выполнить ее приказания!
И он вздыхал и от души печалился. Попрыгунья, слышавшая все это, промолвила:
— Дорогой хозяин, прошу вас, не горюйте так о злой судьбине вашей: вы уж слишком милы, чтобы не шло к вам счастье. Дождемся утра и пойдем к берегу речки.
Добронрав ее погладил и ничего не сказал, а заснул совсем удрученный.
Попрыгунья же, едва занялся рассвет, запрыгала так, что его разбудила, и говорит ему:
— Дорогой хозяин, одевайтесь же, и пойдем.
Добронрав с нею согласился. Поднялся, оделся, спустился в сад, а из сада, сам не заметив как, вышел к берегу реки да стал прохаживаться, надвинув на глаза шляпу и скрестив руки и думая только, как обратно вернется, — и вдруг слышит, что кто-то вроде его позвал:
— Добронрав! Добронрав!
Он осматривается — никого нет; подумал — пригрезилось; продолжает прогулку, а его опять окликают:
— Добронрав! Добронрав!
— Кто меня зовет? — спрашивает он.
Тут Попрыгунья, такая маленькая, что могла всмотреться в речной поток, и говорит ему:
— Вот верьте не верьте, а вижу я, что это карп с золотой чешуею.
Тут и вынырнул из воды жирный карп и сказал ему:
— Вы спасли мне жизнь на рябиновых лугах, не будь вас, я бы там и голову сложил: обещал я вам отплатить добром, — ну так возьмите же, милый Добронрав, вот он, перстень Златовласки.
Добронрав наклонился и вынул перстень прямо из пасти у карпа-куманька, поблагодарив его долго и горячо.
И направился он не к себе, а прямиком во дворец вместе с Попрыгуньей, которая уж так была довольна, что уговорила хозяина прийти на берег реки. И вот принцессе доложили, что он просит встречи. Она же сказала:
— Увы, бедный юноша! Он пришел попрощаться со мною, поняв, что я прошу невозможного, и все передаст своему повелителю.
Тут привели Добронрава, а он и подает ей перстень с такими словами:
— Госпожа принцесса, ваше приказание исполнено, благоволите же взять в супруги короля моего!
Увидела она перстень, в полной целости и сохранности, и пришла в такое изумление, такое изумление, что глазам своим не поверила.
— Поистине, милейший Добронрав, — вымолвила она наконец, — не иначе как вам помогает какая-то фея, ибо такое и вправду никому не под силу.
— Госпожа, — отвечал он ей, — я никакой феи не знаю, а лишь вам одной повиноваться желаю.
— Ну, раз вы по доброй воле так говорите, — сказала она, — так сослужите мне еще одну службу, без которой я никогда не выйду замуж. Неподалеку отсюда живет один принц по имени Галифрон, который вбил себе в голову, что возьмет меня в жены, о чем и заявил мне с такими чудовищными угрозами, что, если я откажусь, он все мое королевство разорит. Сами судите, хочу ли я за такого замуж: это великан выше самой высокой башни, и человека ему сожрать — что обезьяне каштан проглотить[15]; выходя за околицу, несет он в карманах маленькие пушечки и стреляет из них, точно из пистолетов; а стоит ему громко заговорить, как все кругом сразу глохнут. Я уведомила его с извинениями, что замуж не хочу ни за что; однако он продолжает меня преследовать: он истребляет всех моих подданных, и вы должны вызвать его на бой и принести мне его голову.
Добронрав был ошеломлен таким предложением. Подумал немного и говорит ей:
— Что ж, госпожа, я вызову на бой Галифрона: полагаю, быть мне побежденному, да зато храбрецом сложу голову.
Принцесса была в полном изумлении и принялась отговаривать его, приводя тысячи причин, да все без пользы — ушел он, чтоб почистить оружие и собраться в поход. Сделав все, что хотел, сунул он Попрыгунью в маленькую корзинку, вскочил на доброго коня своего и поскакал в страну Галифрона; спрашивал у встречных, какие в сих краях новости, а все говорили ему, что правит тут настоящий дьявол, к которому подойти и то страшно; и чем больше он слушал, тем жутче ему становилось. Попрыгунья же его утешала:
— Дорогой мой хозяин, пока вы будете с ним биться, я ему искусаю все ноги, а как он голову-то опустит, чтоб схватить меня, тут вы его и убьете.
Поразился Добронрав эдакой храбрости в маленькой собачонке, да сам знал, что помощи такой будет ему маловато.
Наконец подъехал совсем близко к замку Галифрона — все дороги были усеяны костями и скелетами людей, которых тот съел или на куски разорвал. Ждать пришлось недолго — вот уж увидел он, как идет великан через рощу: голова вздымается над кронами деревьев, а сам ужасным голосом песенку горланит:
Ах вы, милые ребятки,
Как на вкус нежны и сладки!
Ем, а мне все мало — эх,
Так бы и сожрал я всех!
Добронрав в ответ пропел на тот же мотив:
Людоед большой и гадкий!
Выходи — сойдемся в схватке!
Если бой завяжется,
Мало не покажется.
Рифмы тут, конечно, прихрамывали, но ведь он сложил песенку на скорую руку, и удивительно даже, что она так складно вышла, — ибо его охватил неподдельный ужас. Когда Галифрон услышал эти вирши, он принялся озираться и заметил Добронрав а, который потрясал мечом да не забывал браниться, чтобы раззадорить великана. Но этого не понадобилось — тот и так пришел в страшную ярость и, схватив железную палицу, уложил бы милого Добронрава одним махом, если б не сел великану на голову подлетевший ворон, который проворно выклевал ему глаза: кровь залила лицо Галифрона; он выл, ослепленный, разя туда и сюда. Добронрав уворачивался и колол его мечом, вонзая клинок по самую рукоять, так что великан, весь израненный и истекавший кровью, наконец рухнул. Тотчас Добронрав отсек ему голову, сам не свой от радости, что ему так посчастливилось; а ворон, вспорхнув на ветку, сказал ему так:
— Не забыл я, какое добро вы сделали мне, убив орла, меня преследовавшего; обещал отплатить тем же и сегодня так и сделал.
— Это я вам обязан, любезнейший Ворон, — ответил Добронрав, — и пребываю покорнейшим вашим слугою.
И он вскочил в седло, везя с собою жуткую голову Галифрона.
Едва прибыл он в город, как все за ним побежали, крича:
— Вот едет храбрец Добронрав, убивший чудовище!
Принцесса же, слышавшая шум толпы и с ужасом думавшая, что ей сейчас объявят о смерти Добронрав а, не осмеливалась спросить, что там такое, но тут наконец сама увидела, как входит Добронрав с головою великана, уже не внушавшей никакого страха, — ведь бояться теперь и вправду было нечего.
— Госпожа, — промолвил он, — ваш враг мертв, и я надеюсь, что вы примете предложение короля, повелителя моего.
— Ах! А вот и не приму, — возразила Златовласка, — если только прежде не сыщете вы средства принести мне воды из Сумрачного грота. Это неподалеку отсюда — глубокая такая пещера, а если по ней пройти — так целых шесть лье; вход в нее сторожат два дракона, и огонь у них извергается из пасти и из глаз[16]: а когда уж попадаешь в грот, то есть там глубокая яма, в которую надо спуститься, — в ней полным-полно жаб, ужей да змей. На дне этой ямы — маленькая скважина, а из нее бьет ключ — это Источник Красоты и Здоровья; ах, как я хочу воды оттуда — что ни намочишь ею, все как по волшебству становится лучше: красавиц делает она еще красивее, а уродину превращает в красавицу, молодых оставляет навсегда молодыми, а старым возвращает молодость. Видите сами, Добронрав, что без этакого чуда не могу я покинуть свое королевство.
— Госпожа, — ответствовал он ей, — вы столь прекрасны, что никакая вода и не надобна вам, но я всего лишь несчастный гонец, которому желаете вы смерти. Я поищу, чего вы хотите, да уж теперь знаю точно, что оттуда не вернусь.
Златовласка же стояла на своем, и вот ушел Добронрав вместе с маленькой своей Попрыгуньей искать в Сумрачном гроте Воду Красоты; кого ни встречал он по дороге, все говорили:
— Вот жалость какая — столь милый юноша, а совсем тяжко ему приходится: идет один в грот, где и сотне-то не справиться. И отчего это принцессе всегда хочется невозможного?
Он продолжал путь, не ответив ни слова, только стало ему очень-очень горько.
Взошел он на вершину горы и присел отдохнуть немного; отпустил коня пощипать травки, а Попрыгунью отпустил побегать за мошками. Зная, что Сумрачный грот где-то здесь, стал озираться и наконец заметил отвратительную скалу, черную как тушь, и валил из нее густой дым, а это как раз один из драконов изрыгал из глаз и пасти огонь; телом он был с прозеленью желт, с когтями и длинным хвостом, завивавшимся сотней колец. Попрыгунья как увидела, так и не знала куда деться, так ей стало страшно.
Добронрав же, полный решимости умереть, выхватил меч и спустился, держа в другой руке склянку, которую дала ему принцесса, чтоб набрать в нее Воды Красоты и Здоровья. И сказал он маленькой своей Попрыгунье:
— Для меня все кончено! Никогда не набрать мне воды, которую стерегут драконы: я погибну, а ты наполни эту склянку моей кровью и отнеси ее принцессе, чтобы видела, чего она мне стоила, после же найди короля, повелителя моего, и расскажи ему о моем горе.
Говорит он эти слова и вдруг слышит:
— Добронрав! Добронрав!
Он спрашивает:
— Кто зовет меня?
И видит в дупле большого дерева сову, которая ему отвечает:
— Вы освободили меня из охотничьих силков и спасли жизнь мою; обещала я отплатить вам добром. Вот пришла пора: давайте-ка мне склянку, я знаю дорогу в Сумрачный грот, слетаю вам за Водой Красоты и Здоровья.
Вот те на! И кто больше всех радовался? Сами догадайтесь. Добронрав быстро отдал ей склянку, и сова без всяких помех влетела в грот; и четверти часа не прошло, как она вернулась с запечатанной бутылью. Счастливый Добронрав поблагодарил ее от всей души и, снова взойдя на гору, радостный, зашагал обратно в город.
Пришел он прямо во дворец, показал склянку Златовласке, а той и сказать-то нечего; она поблагодарила Добронрава и приказала приготовить все к отъезду. А потом вместе с ним и в путь отправилась. Она находила его весьма милым и часто ему говаривала:
— Захоти вы только — я сделала бы королем вас, и не пришлось бы нам покидать моих земель.
— Негоже было бы мне, — возражал он, — причинять такие огорчения повелителю моему даже за все царства земные, хоть и нахожу я вас прекрасней самого солнца.
Наконец приехали они в большую королевскую столицу, а король уж знал, что едет к нему Златовласка, вышел ей навстречу и преподнес лучшие дары в мире; а свадьбу устроил такую пышную, что все только о ней и говорили. Однако Златовласка, в глубине души полюбившая Добронрава, радовалась, лишь когда он был рядом с нею, и не упускала случая расхвалить его.
— Не быть мне здесь, если б не Добронрав, — говорила она королю, — ему, чтоб мне услужить, пришлось совершить подвиги неслыханные; вы должны быть очень ему признательны — он добыл для меня Воды Красоты и Здоровья, и я никогда не состарюсь, а всегда буду красивой.
Услышали речи королевы завистники и говорят королю:
— Вы совсем не ревнивы, а между тем повод-то у вас имеется: королева так крепко влюблена в Добронрава, что ни еды, ни питья в рот не берет, только и говорит, что о нем и о том, как вы ему обязаны, и будто, пошли вы к ней кого другого, у него ничего бы и не вышло.
— И правда, сам вижу, — отвечал король. — Так запереть же его в башню с кандалами на руках и ногах.
Схватили Добронрава, и вот в награду за верную службу заковали его в колодки по рукам и ногам и заключили в башню: никого он больше не видел, кроме одного лишь тюремщика, который швырял ему кусок черного хлеба через решетку и давал немного воды в миске; зато маленькая его Попрыгунья по-прежнему с ним была, и утешала его, и прибегала все новости ему рассказывать.
Лишь узнала Златовласка о такой немилости — бросилась королю в ноги и, вся в слезах, молила его освободить из темницы Добронрава. Но чем больше она просила, тем сильней он ярился, думая: «Стало быть, она любит его», и не внял увещеваниям; тогда она уже более не заикалась на сей счет и сделалась очень грустна.
Король заметил, что отнюдь не красавцем он ей показался; захотелось ему натереть себе лицо Водой Красоты и Здоровья, чтоб королева наконец его полюбила. Вода стояла во флаконе на краю камина в ее спальне; она поставила ее туда, чтобы почаще на нее смотреть. Но одна из служанок, погнавшись с метлою за пауком, на беду, опрокинула флакон на пол, он и разбился, а вода вся вытекла. Дама же быстро вытерла за собою, вымела осколки и в замешательстве вспомнила, что такой же пузырек видела в королевском кабинете, и в нем полно воды, похожей на Воду Красоты и Здоровья; ничего никому не сказав, она быстренько взяла его и поставила на камин королевы.
А вода из кабинета короля предназначалась для отравления принцев и всяких важных господ, оказавшихся преступниками: им не рубили головы, не вешали, а просто натирали лицо этой водою — они тогда засыпали и больше не просыпались. И вот однажды вечером король взял этот флакон и хорошенько натер себе лицо, а потом заснул да и умер. Маленькой Попрыгунье едва ли не первой стало про то известно; не преминула она тут же сбегать рассказать обо всем Добронраву, а тот приказал ей разыскать Златовласку и напомнить ей о бедном узнике.
Попрыгунье же, поелику при дворе по случаю смерти короля поднялся большой шум, удалось потихоньку прошмыгнуть к принцессе и шепнуть ей:
— Госпожа, не забудьте о несчастном Добронраве.
Та тотчас вспомнила, какие муки ему пришлось перенести из-за нее и по его великой верности: никому ни слова не сказав, вышла она и прямиком направилась к башне. А уж там сама сняла оковы с рук и ног Добронрава и, возложив ему на голову золотую корону, а на плечи накинув королевскую мантию, сказала:
— Пойдемте же, милый Добронрав, я сделаю вас королем и назову своим супругом.
Он бросился к ногам ее и премного благодарил. Все были счастливы иметь такого повелителя. И сыграли самую пышную свадьбу на свете, и жили с тех пор Златовласка с Добронравом долго в счастии и довольстве.
* * *
Коль вдруг случится, что к тебе в беде
За помощью несчастный обратится —
Ему ты не отказывай в нужде,
Добро потом сторицей возвратится.
Пример тому — наш милый Добронрав:
На волю птиц пустив, а карпа — в воду,
Всем даровав свободу,
Он сотворил добро — и оказался прав.
Таких чудес никто не видел сроду,
Ведь все, казалось бы, противу естества:
И кто б поверить мог, что эти существа
Ему, посланцу страсти нежной,
Кто государю был слуга прилежный,
Помогут наконец достигнуть торжества,
Стяжать себе бессмертну славу!
А пережить пришлось немало Добронраву:
Ведь, прелестью принцессы искушен,
Вздыхал о ней прегорько втайне он,
Но королю остался верен.
Вот оклеветан он, хоть был нелицемерен.
Надежды, мнилось, нет. Но благи Небеса!
Муж добродетельный, ты можешь быть уверен:
Бывают в жизни чудеса.
Пер. Д. Л. Савосина
Синяя птица[17]

Ее он принял лучше, чем остальных, вовсю расписывал ей добродетели своей дорогой покойницы, а она ему расхваливала своего дорогого покойника. Так и беседовали, покуда уж и слов не осталось выразить, как они скорбят. Когда хитрая вдовушка заметила, что тема исчерпана, она немножко приподняла свои покровы, и бездольному королю утешно было смотреть, как эта несчастная горемыка весьма искусно моргает большими синими глазами под длинными черными ресницами; да и румянец у нее оказался самый цветущий. Король с большим вниманием ее разглядывал; вскоре он уже меньше говорил о покойной жене, а потом и вовсе перестал. Вдова же по-прежнему оплакивала мужа и твердила, что прекращать траур и не думает. Король молил ее не увековечивать скорбь. Наконец, к немалому удивлению двора и соседей, он женился на ней, и черные одежды сменились зелеными и розовыми[18]: и то сказать, нередко достаточно нащупать у человека слабину, чтобы проникнуть в его сердце и делать с ним что заблагорассудится.
У короля от первого брака была дочка, которая могла бы сойти за восьмое чудо света. Звали ее Флорина, ибо она походила на самое Флору[19] — так была юна, свежа и пригожа. Она не носила роскошных нарядов, ей нравились платья из воздушных тканей, кое-где отделанные каменьями и цветочными гирляндами, на диво украшавшими ее прекрасные волосы. Когда король женился во второй раз, ей было всего лишь пятнадцать лет.
Королева послала за своею дочкой, которая воспитывалась у крестной, феи Суссио, отчего, впрочем, не стала ни красивее, ни милее: Суссио немало над ней потрудилась, да все впустую; тем не менее она нежно любила крестницу. Девицу звали Краплёна, ибо все лицо ее пестрело веснушками, что твоя форель крапинками; черные волосы так сальны да грязны, что до них страшно дотронуться, а желтая кожа сочилась маслом. И все же королева любила ее безумно, только и говорила что о милой Краплёне, а поскольку Флорина во всем ее дочку превосходила, то взбешенная мачеха всячески старалась оболгать принцессу перед отцом-королем. Дня не проходило, чтобы королева как-нибудь не досадила Флорине. Принцесса же, будучи добра и умна, старалась быть выше подобных пакостей.
Однажды король сказал королеве, что Флорина и Краплёна уже совсем большие и пора-де им замуж, так что первого же принца, какой явится ко двору, надо постараться женить на одной из них.
— Думаю, — сказала королева, — что мою дочку мы первой пристроим: она старше вашей да и любезнее во сто крат, так что долго выбирать не придется.
Король, не любивший спорить, согласился и предоставил ей решать в этом деле.
Через некоторое время узнали они, что собирается к ним король Премил. Никогда еще свет не видывал принца столь учтивого да роскошного: и ум, и характер — все в нем было под стать имени. Когда королева узнала о нем, она собрала всех вышивальщиков, портных да ювелиров, чтоб изготовили наряды для Краплёны, а короля уговорила распорядиться, чтоб для Флорины ничего нового не шили; к тому же подкупила фрейлин, и те украли у принцессы все ее наряды, головные уборы и драгоценности, как раз в тот день, когда приехал Премил, так что Флорина стала одеваться, да ни ленточки не нашла. Она поняла, от кого ей такая любезность. Послала за тканями к торговцам — те отвечали, что королева запретила им продавать ей наряды. Бедняжка отыскала лишь одно платьице, все засаленное, и так ей было неловко, что, когда приехал Премил, она забилась в дальний угол залы. Королева приняла гостя с великими почестями и представила ему свою дочку, которая во всех своих драгоценностях сияла ярче солнца и при этом казалась безобразнее, чем когда-либо. Король даже отвернулся, королева же подумала, что это он оттого, что Краплёна ему слишком понравилась и он боится влюбиться, поэтому она каждую минуту подводила к нему дочку. Он спросил, нет ли здесь другой принцессы, по имени Флорина.
— Есть, — отвечала Краплёна и показала пальцем, — вон там прячется, она ведь у нас робкая.
Флорина покраснела и стала так хороша, так хороша, что короля Премила будто ослепило. Он проворно поднялся и низко поклонился принцессе.
— Сударыня, — сказал он, — ваша несравненная краса лучше всяких драгоценностей, и вам нет нужды прихорашиваться.
— Сеньор, — отвечала она, — я, признаться, не привыкла ходить такой неряхой, и лучше бы вам вовсе на меня не глядеть.
— Немыслимо, — воскликнул Премил, — в присутствии принцессы столь дивной смотреть на кого-нибудь другого.
— Ах, — гневно вскричала королева, — довольно же я вас слушала! Верьте моему слову, сеньор, Флорина и так слишком кокетлива, и не след ей выслушивать любезности.
Король Премил без труда разгадал, к чему клонит королева, но ведь не такой он был человек, чтобы ему приказывали, поэтому он не переставал восхищаться Флориной и беседовал с нею три часа кряду.
И вот королева в гневе, а Краплёна безутешна — ведь ей предпочли принцессу. Обе они явились к королю-отцу, горько ему жаловались и добились распоряжения, чтобы, пока не уедет король Премил, Флорину держали взаперти в высокой башне. И тут, не успела принцесса вернуться в опочивальню, как схватили ее четверо стражников в масках, отнесли в темницу и оставили там горевать — она-то хорошо понимала: ей хотят помешать говорить с королем, а ведь он уже успел очень ей понравиться, так что иного она в супруги и не желала.
А король Премил знать не знал, что случилось с принцессой, и дождаться не мог свидания. Он расспрашивал о ней дворян из почетной свиты, которых король-отец к нему приставил: однако ж те, повинуясь приказу мачехи, говорили о Флорине лишь дурное: и кокетка-де она, и ветреница, и характер-то у нее такой скверный — только и делает, мол, что мучает и друзей и слуг, и неряха страшная, а уж скупа до того, что одевается как последняя пастушка: отец-де дает ей денег на дорогие ткани, а она ни гроша из них не потратит. Больно было королю Премилу слушать все это, и он еле сдерживал гнев.
«Нет, — думал он, — не может быть, чтобы Небеса наделили этот перл творения столь низкой душонкой. По правде сказать, видел я, как плохо она одета, но ведь ее стыд — не лучшее ли доказательство тому, что непривычно ей являться на люди в таком виде. Как! Она-то плоха, — столь скромная, чарующе нежная? Не могу в это поверить; уж скорее королева ее оговорила — недаром ведь она не мать, а мачеха! Да и Краплёна эта — такая образина, что не удивительно, если обе завидуют совершеннейшему созданию».
Покуда он так размышлял, приставленные к нему придворные, видя его не в духе, догадались, что ему не нравится слушать дурное о Флорине. Один из них оказался похитрее — он сменил тон и начал превозносить принцессу. Тут король будто от сна воспрянул, и лицо у него сделалось счастливое. Ах, любовь, любовь! Нелегко тебя спрятать! Везде тебя можно заметить: на устах влюбленного, в его глазах, в звуках его голоса; когда любишь, это проявляется во всем — и в молчании, и в беседе, и в печали, и в радости.
Королева, которой не терпелось узнать, что думает их гость, послала за свитой и ну расспрашивать тех, кто втерся к нему в доверие; до утра с ними проговорила и укрепилась в догадке, что король полюбил Флорину. Но что же сказать вам о печали самой бедняжки-принцессы? Она лежала на полу в донжоне, в этой жуткой башне, куда перенесли ее люди в масках.
— Мне было бы не так горько, — говорила она, — если б меня заточили сюда прежде, чем я увидела этого милого короля: образ его довершает мои беды. Нет сомнения: королева так поступила, чтобы помешать мне видеть его! Ах! До чего же дорого обходится моему покою та малая толика красоты, коей наделило меня Небо! — Она плакала так горько, так горько, что даже ее главная врагиня, случись она поблизости, сжалилась бы.
Так и ночь прошла. Королева, все старавшаяся улестить Премила, оказывала ему необычайные знаки внимания: послала одежды несравненной роскоши, сшитые по последней моде, да еще орден рыцарей Амура, который король, основал по ее приказу в день их свадьбы. Это было золотое сердце в эмали огненного цвета, окруженное несколькими стрелами и пронзенное одной, с надписью: «Единственная меня ранит»[20]. Для него же самого королева приказала вырезать сердце из цельного рубина величиной со страусиное яйцо, также окруженное стрелами, каждая из цельного алмаза длиной с палец, на цепи из жемчужин — самая маленькая весом в фунт; словом, свет еще не видывал ничего подобного.
Короля все это так поразило, что он чуть дар речи не утратил. Ему также принесли книгу в золотой обложке с драгоценными камнями, со страницами из тонкого пергамента, с дивными миниатюрами — в ней весьма нежным и галантным слогом был изложен статут ордена Амура. Королю сказали, что знакомая ему принцесса просит его стать ее рыцарем, и все эти подарки от нее. Услышав это, он осмелился надеяться, что речь шла о той, кого он полюбил.
— Как! — воскликнул он. — Прекрасная Флорина думает обо мне! Она так со мной щедра и обходительна!
— Сеньор, — отвечали ему, — вы ошиблись именем: нас послала принцесса Краплёна.
— Краплёна хочет, чтобы я стал ее рыцарем? — спросил король холодно и сурово. — Мне очень жаль, что я не могу принять такую честь, но ведь даже и государи не вольны менять своих обязательств. Мне известен долг рыцаря, я желал бы исполнить его достойно и верно, а посему предпочту скорее отказаться от милости, коей меня одаривают, чем оказаться недостойным ее.
И он тут же положил сердце и книгу обратно в корзину, затем отправил все это королеве, а та вместе с дочкой чуть не задохнулись от гнева, что чужеземный король презрел столь беспримерную милость.
А тот, как только смог, отправился к королю с королевой; он вошел в надежде, что там будет и Флорина, и все искал ее взором. Стоило кому-то войти в залу — тотчас он оборачивался и взглядывал на дверь и казался взволнованным и печальным. Хитрая королева прекрасно понимала, что происходит в его душе, но делала вид, что ничего не замечает, — только и говорила что о развлечениях, а он все отвечал невпопад; наконец все-таки спросил, где Флорина.
— Сеньор, — сказала королева гордо, — король-отец запретил ей выходить из своей опочивальни, пока моя дочь не выйдет замуж.
— А что же заставляет держать прекрасную принцессу в заточении? — поинтересовался Премил.
— Мне это неизвестно, — отвечала королева, — да и, знай я причину, вам бы говорить не стала.
Король, страшно разгневавшись, глядел на Краплёну, в упор ее не видя, и все думал, как это из-за столь ничтожного чудища лишен удовольствия созерцать принцессу. Он быстро распрощался с королевой — слишком тяжко ему было ее видеть — и только попросил одного молодого принца из своей свиты, которого очень любил, не постоять за ценой и любыми средствами подкупить какую-нибудь из фрейлин принцессы, чтоб помогла ему поговорить с его избранницей. Принц без труда нашел нескольких придворных дам, и одна из них сказала, что вечером Флорина будет у окошка, что выходит в сад, и там с ней можно побеседовать, если его величество только будет осторожен, — ибо, прибавила она, «король с королевой так суровы, что, конечно, смерти меня предадут, узнай они только, что я помогла Премилу в его любовных делах». Принц был счастлив, что так ловко провернул дело; он сообщил королю час свидания. Да вот вероломная дама тут же обо всем предупредила королеву, и та приняла меры, сразу смекнув, что надо посадить к окошку Краплёну. Она долго наставляла дочку, и та все так и сделала, хоть и была от природы глупа как пень.
Ночь была так темна, что будь король и не так уверен, что вот-вот увидит возлюбленную, и то бы не заметить ему подлога. Приблизившись к оконцу, он, вне себя от невыразимого счастья, сказал Краплёне все, что хотел сказать Флорине, полностью открыв ей свою страсть. Краплёна же отвечала ему, что она — несчастнейшее существо на свете, тяжко страдает от жестокости мачехи, и горести ее не кончатся до тех пор, пока мачехина дочка не выйдет замуж. Король уверял ее, что, пожелай она только его в супруги, он будет счастлив разделить с ней корону и сердце. Тут он сорвал с пальца кольцо и, отдав его Краплёне, поклялся в вечной верности: теперь надлежит лишь назначить время, когда они отправятся в дорогу. Краплёна, сколько ума хватало, отвечала на его уговоры. Он не мог не заметить, что в ее речах смысла немного, да утешал себя, что это страх быть застигнутой врасплох мешает принцессе говорить умно и свободно, и покинуть ее решился, лишь уговорившись встретиться в тот же час завтрашним вечером, что она ему и обещала от всего сердца. Королева, услышав о таком успехе, обрадовалась, думая, что король теперь у них в кармане. В назначенный день король Премил и вправду прилетел за невестой в паланкине, запряженном крылатыми лягушками — ему подарил их один знакомый волшебник. Ночь была темна, Краплёна вышла через потайную дверцу, и поджидавший Премил заключил ее в объятия и сотню раз поклялся в вечной верности. Но, поскольку ему не хотелось долго лететь в волшебном паланкине, а не терпелось поскорее жениться на возлюбленной своей принцессе, он и спросил ее, где она желала бы заключить с ним брак. Та же отвечала, что во дворце у своей крестной — а это сама знаменитая фея Суссио. Путь туда Премилу был незнаком, однако ему достаточно было лишь приказать крылатым лягушкам — уж те-то назубок знали карту Вселенной и с легкостью перенесли короля и Краплёну прямо к Суссио.
Дворец феи был освещен так ярко, что король сразу узнал бы о своей ошибке, если бы принцесса не закрывала лица вуалью. Она тут же отозвала крестную фею в сторонку и рассказала, как удалось ей заполучить короля Премила, которого теперь надо было успокоить — ведь он наверняка разгневается.
— Ах, доченька, нелегко это будет, — сказала фея, — он слишком любит Флорину, и, боюсь, ничего мы тут поделать не сможем.
Между тем король поджидал их в зале со стенами из алмазов такой чистой воды, что сквозь них ему было видно, как шепчутся Суссио и Краплёна. Тут он подумал, не грезится ли ему это.
— Как! — воскликнул он. — Меня предали? Какие демоны принесли сюда эту противницу нашего счастья! Не иначе, как помешать нашей свадьбе она сюда явилась! А дорогой моей Флорины что-то все нет и нет! Уж не догнал ли ее отец?
Чего только он не передумал и уже начал отчаиваться. Но хуже пришлось ему, когда обе вошли в залу, и Суссио сказала повелительным тоном:
— Король Премил! Перед вами Краплёна, которой вы поклялись в верности; она моя крестница, и я желаю, чтобы вы немедленно обвенчались с нею.
— Чтобы я обвенчался с этим чудовищем! Странного же вы обо мне мнения, если делаете мне подобные предложения. Знайте, я ничего не обещал ей, и, если она утверждает обратное…
— Не продолжайте, — перебила его Суссио, — и не смейте впредь оказывать мне неуважение.
— Я согласен оказывать вам почтение, — отвечал король, — подобающее достославной фее, но только отдайте мне мою принцессу.
— Я ли не эта принцесса, черт побери? — сказала Краплёна, показывая ему кольцо. — Не мне ли ты подарил это кольцо в залог верности? Не со мною ли любезничал ты у маленького окошка?
— Как так! — воскликнул он. — Значит, меня обманули? Нет, я не дам себя провести. Вперед, вперед, лягушки мои верные, я лечу немедленно!
— А вот это уж не в вашей власти, если только я этого не захочу, — возразила ему Суссио.
Она коснулась его, и ноги его приросли к паркету, как гвоздями прибитые.
— Превратите меня в камень, разрежьте на кусочки, — сказал король, — все равно я принадлежу Флорине, и только ей! Так я решил, а уж вы можете пользоваться своей властью как заблагорассудится.
Суссио и льстила ему, и угрожала, и умоляла. Краплёна плакала, кричала, всхлипывала, злилась, смирялась. Король молчал, гневно глядя на них, и ничего не отвечал на все их тирады. Так прошло двадцать дней и ночей, а обе фурии все не умолкали; за все это время они ни куска не проглотили, глаз не сомкнули, даже не присели. Наконец Суссио, усталая и обессиленная, сказала:
— Хорошо же, раз вы не желаете внять голосу разума, выбирайте: семь лет покаяния за несдержанную клятву верности — или женитесь на моей крестнице.
Король, до сих пор ни слова не проронивший, вскричал:
— Делайте со мной что угодно, лишь бы я был избавлен от этой уродины.
— Сами вы уродина, — сказала злобно Краплёна, — смешно мне глядеть на вас, болотный вы королек: явились к нам в своей лягушачьей упряжке, чтобы оскорблять меня да нарушить данное слово. Будь в вас чести хоть на ломаный грош, разве так вы себя вели бы?
— Вот уж, поистине, трогательные упреки, — возразил король насмешливо. — До чего же неразумно — не желать в жены столь прелестную барышню!
— Нет, нет, она не станет твоей женой! — вскричала в гневе Суссио. — Можешь лететь в это окно, если желаешь, ибо быть тебе семь лет синей птицей.
Тут же меняется весь облик короля. Руки и плечи его одеваются легкими перьями и превращаются в крылья, ноги утончаются, обтянуты черной и грубой кожей, глаза, вдруг округлившиеся, блестят на солнце, орлиный нос становится клювом из слоновой кости, а на голове вырастает белый хохолок, наподобие короны. Вот он уже и поет восхитительно, но и говорит не хуже. Увидев, что превращен в птицу, испускает он горестный крик и в мгновение ока улетает подальше от жуткого дворца Суссио.
В тоске перелетал он с ветки на ветку, выбирая лишь деревья, посвященные любви или же грусти: то мирты, то кипарисы[21]. Он пел жалобные песни, сетуя на свою горькую судьбу и на печальную участь Флорины.
«Где-то прячут ее недруги? — думал он. — Что сделалось с ней, прелестницей, с нею, бедняжкой? Не лишила ли ее жизни бесчеловечная королева? Где искать ее? Неужто я осужден семь лет прожить с нею в разлуке? Быть может, ее за это время выдадут замуж, и я навсегда утрачу надежду, которая ныне только и поддерживает меня?» — От этих мрачных мыслей король так страдал, что и жизнь стала ему не мила.
А Суссио тем временем отослала Краплёну к матери — той не терпелось услышать об удачном исходе свадьбы. Но когда королева увидела дочь и услышала ее рассказ о происшедшем — то пришла в страшную ярость, которую выместила на Флорине.
— Ну, раскается же она у меня многократно, что сумела понравиться королю Премилу.
Она поднялась на башню вместе с Краплёной, которую разодела в самые пышные наряды: на голове бриллиантовый венец, а шлейф платья несли за ней три дочери самых богатых баронов. На большой палец уродина надела кольцо короля Премила, которое Флорина успела заметить в тот день, когда ей случилось с ним беседовать. Узница удивилась, увидев Краплёну в столь торжественном облачении. Королева же изрекла:
— Вот моя дочь, она принесла вам показать свои свадебные подарки: на ней женился король Премил, он безумно влюблен в нее, и теперь они счастливы как никто на свете.
Тут же перед принцессой расстелили золотую и серебряную парчу, и на ней разложили драгоценности, кружева, ленты в огромных корзинах из золотой филиграни. Краплёна, вертясь вокруг, все старалась, чтобы луч солнца пал на кольцо короля и поиграл в нем, поэтому Флорине не приходилось сомневаться в своем несчастье. В отчаянии она закричала, чтобы унесли поскорее с глаз долой всю эту столь ужасную для нее роскошь, ибо отныне носить ей один лишь траур, и что всему она теперь предпочтет смерть. Она упала в обморок, а жестокая королева, обрадованная, что весь замысел так ей удался, даже не позволила помочь принцессе — оставив бедняжку одну, в самом плачевном положении, сама пошла к королю и коварно объявила ему, что принцесса, мол, вне себя от любви и оттого беснуется и творит такие безумства, что ее ни в коем случае нельзя выпускать из башни. Тот велел королеве поступать как заблагорассудится, а он, дескать, только доволен ею будет.
Принцесса, едва очнувшись от обморока, задумалась о том, как с нею обходятся, какое дурное обращение ей приходится сносить от недостойной мачехи и что надежда назвать супругом короля Премила теперь навсегда утрачена. Тут скорбь ее сделалась столь нестерпима, что она проплакала всю ночь; подошла она к окошку и все жаловалась горестно. Когда же забрезжил день, прикрыла окошко и продолжала плакать.
Следующей ночью она снова открыла окошко и принялась горько рыдать и вздыхать, проливая потоки слез; с наступлением дня же снова спряталась в своей каморке.
А тем временем король Премил или, лучше сказать, синяя птица, все летал без устали вокруг дворца: он рассудил, что где-то в нем держат взаперти дорогую его принцессу и, должно быть, ее жалобы не менее горьки. Он подлетал к окнам совсем близко и заглядывал в комнаты, но, боясь, что заметит его Краплёна, не решался на большее. «Жизнь моя в опасности, — рассуждал он, — если эти злодейки узнают, где я, то, уж верно, пожелают отомстить. Придется поберечься — или же рискнуть жизнью». Все это принуждало к осторожности, и пел он только по ночам.
Напротив окошка Флорины рос кипарис необычайной высоты: король-Синяя птица уселся на его высокую ветку и тут же услышал, как кто-то жалуется:
— Долго ли мне еще терпеть? Когда же смерть избавит меня от мучений? Кто боится ее, к тем она приходит слишком рано, я же мечтаю о ней, но жестокая избегает меня. Ах, бесчеловечная королева, что я тебе сделала, чем заслужила это ужасное заточение? Разве больше тебе негде мучить меня? Только одного тебе надо — побахвалиться предо мною счастием твоей презренной дочери с королем Премилом!
Король-птица ни слова не пропустил из всех этих жалоб; он с нетерпением ждал рассвета, чтобы увидеть даму, которая так горевала, но та до зари захлопнула окошко и удалилась.
Король вернулся следующей ночью. Луна ярко сияла, и он увидел девицу, которая принялась сетовать у окна.
— О жестокая Фортуна, — говорила она, — ты всегда льстила меня надеждой царствовать, ты одарила меня любовью моего батюшки, — за что же теперь топишь ты меня в море скорби? Неужто в столь нежном возрасте нам уже суждено изведать твое непостоянство? Явись, жестокая, молю тебя, прекрати мои беды!
Чем больше слушал король-птица, тем яснее становилось ему, что это его милая принцесса. Он сказал:
— Обожаемая Флорина, чудо наших дней, зачем стремитесь вы безвременно пресечь собственные? Горе ваше поправимо.
— Ах! — воскликнула она. — Кто это говорит со мною так утешительно?
— Один несчастный король, — продолжала птица, — который любит вас и никогда никого иного любить не будет!
— Король любит меня? — произнесла она. — Не ловушка ли это, приготовленная моей врагинею? Если она хочет узнать мои чувства, я готова рассказать ей о них.
— Нет, о моя принцесса! Влюбленный, который говорит с вами, не способен предать вас!
Сказав так, он подлетел к окну. Флорина сначала испугалась необычной птицы, молвившей столь разумные речи, как будто она была человеком, но красота оперения и нежные слова скоро ее успокоили.
— Неужто мне снова дано видеть вас, о моя принцесса? — воскликнул король. — Но, увы, эта радость омрачена вашим заточением и тем положением, на которое злобная Суссио обрекла меня на семь лет.
— Но вы-то сами кто, премилый мой птах? — спросила принцесса.
— Вы назвали мое имя, — отвечал король, — и все притворяетесь, что не узнали меня!
— Как! Величайший из властелинов мира — король Премил — он, он превращен в маленькую пташку, что сидит на моей руке?
— Увы, прекрасная Флорина, так и есть, — отвечал король, — и утешением для меня служит лишь одно: я принял это испытание, но не отрекся от страсти к вам!
— Ко мне! — проговорила Флорина. — Не пытайтесь меня обмануть, я знаю, вы женились на Краплёне, я узнала на ее пальце ваше кольцо. Я видела, как она вся сияла в бриллиантах, подаренных вами! Она пришла оскорблять меня в моей темнице, в венце и королевской мантии, которую получила от вас, а я… я сидела в цепях и оковах!
— Вы видели Краплёну в подобном наряде? — перебил король. — Она и ее мать осмелились сказать вам, что все эти драгоценности подарил ей я? О, Небо! Возможно ли?! Я слышу подобную ложь и не могу отомстить немедленно! Знайте же, что они хотели меня обмануть, что, назвавшись вашим именем, эта безобразная Краплёна заставила меня похитить себя! Но я, едва осознав свою ошибку, тут же пожелал бежать от нее и наконец предпочел стать синей птицей на семь лет, чем нарушить верность, в которой поклялся вам!
Флорине так отрадно было говорить со своим милым возлюбленным, что она уже не помнила о тяготах заточения. Как только она не утешала его, как не убеждала, что и сама пойдет ради него на жертвы, не меньшие тех, на которые он пошел ради нее. День уже занимался, и почти все офицеры были на ногах, а синяя птица и принцесса все еще беседовали. Тяжко было им расставаться, и они решили каждую ночь встречаться подобным образом. Нет слов выразить, как счастливы они были, что вновь нашли друг друга; каждый без конца благодарил Амура и Фортуну. Между тем Флорина немало тревожилась за короля-Синюю птицу: «Кто же защитит его от охотников, — думала она, — или от орлиных когтей, или от голодного ястреба, который съест его с таким аппетитом, будто вовсе и не короля великого ест? О небо! Что будет со мной, когда его легкие и тонкие перышки, гонимые ветром, долетят до окна моей темницы, вестники беды, что так страшит меня?» От этой мысли бедная принцесса глаз сомкнуть не могла, ведь, когда любишь, мечты кажутся явью, а то, что прежде казалось невозможным, теперь мнится самым что ни на есть вероятным. Поэтому принцесса весь день провела в слезах, до самого того часа, когда пора было подходить к окошку. А у прекрасной птицы день прошел в раздумьях о своей милой. «Как я счастлив, что нашел ее! — говорил он себе. — Как она очаровательна! Как живо я чувствую ее любовь ко мне!» Тут он принимался считать, сколько остается ему до конца испытания, — ибо никто еще не жаждал избавления с таким нетерпением, как наш пылкий влюбленный. А поскольку ему хотелось окружить Флорину самой нежной заботой, он слетал в столицу своего королевства, влетел во дворец и проник в свой кабинет через разбитое окно. Там он взял бриллиантовые серьги такой тонкой работы, что красивей никогда и не бывало, принес их Флорине и попросил надеть.
— Я согласилась бы, — отвечала она, — если бы вы могли видеть меня днем, но ведь мы беседуем только ночью.
Король-птица обещал ей являться в башню, когда она пожелает, — тут же она надела серьги, и ночь прошла за болтовней, подобно прошлой.
На следующий день король-Синяя птица снова полетел в свое королевство. Он влетел во дворец, опять проник в кабинет сквозь разбитое окно и прихватил для принцессы самые роскошные браслеты, какие только есть на свете: были они из цельного изумруда, затейливо ограненного и с отверстием посредине, в которое можно было просунуть руку по локоть.
— Неужто вы полагаете, — сказала ему принцесса, — что мои чувства необходимо подкреплять подарками? Ах, плохо же вы меня знаете!
— Нет, сударыня, — отвечал он, — я не думаю, что эти побрякушки, которые я дарю вам, нужны, чтобы упрочить вашу нежность ко мне; однако моя нежность к вам оскорбилась бы, если бы я пренебрег любой возможностью засвидетельствовать вам внимание; а когда меня нет здесь, пусть напоминают вам обо мне эти безделушки.
Флорина в ответ наговорила ему тысячу любезностей, на которые он ответил тысячей своих — полных такой же нежности.
На следующую ночь влюбленный король-птица принес избраннице весьма большие часы, устроенные внутри жемчужины: блистательная работа превосходила ценностью редкостный материал.
— Нет нужды дарить мне часы, — сказала она галантно, — когда вы далеко, время для меня тянется бесконечно, когда же вы со мною, оно пролетает как сон; откуда же мне знать ему настоящую цену.
— Увы, дорогая принцесса, и со мной происходит то же самое, — отвечал он, — но, быть может, я в этом тонком деле перемудрствовал.
— Вы так страдаете, чтобы сохранить мне верность, — как тут не поверить, что ваши дружба и почтение простираются столь далеко, сколь возможно[22].
При дневном свете король-птица прятался в густых ветвях дерева, чьи плоды служили ему пищей, а иногда пел чудные песни. Голос его очаровывал прохожих: они слышали его, но никого не видели и наконец решили, что это духи поют. Сие мнение так закрепилось, что никто уже не осмеливался войти в лес, зато распространилось множество слухов о чудесах, случавшихся там в изобилии, и вот всеобщий страх сделался залогом безопасности синей птицы.
Дня не проходило без того, чтобы король не подарил что-нибудь Флорине: то жемчужное ожерелье, то драгоценные перстни тончайшей работы, то алмазные булавки, то гребни или букетики из драгоценных камней, разноцветных и похожих на цветы, то приятные книги или медальоны. Наконец у принцессы скопилось несметное множество редчайших сокровищ. Наряжалась она лишь по ночам, ради короля, а утром аккуратно прятала драгоценности под соломенный тюфяк, ибо больше ей было некуда их складывать. Так прошло два года, и Флорина ни разу не пожаловалась на свое заточение. Да и на что ей было сетовать? Ночами напролет беседовала она с возлюбленным, и никто на свете еще не говорил друг другу столько нежных слов, — а ведь она целыми днями сидела одна в темнице, король-птица же — в дупле: и все-таки по ночам они не могли наговориться, ибо сердце и разум изобильно подсказывали им неисчерпаемые темы для бесед.
Между тем злая королева, безжалостно державшая принцессу взаперти, тщетно пыталась выдать замуж Краплёну. Она отправляла посольства ко всем известным ей принцам, но стоило послам явиться, как им давали от ворот поворот. Если бы речь шла о принцессе Флорине, говорили им, вас приняли бы с радостью, Краплёна же пусть себе остается весталкой[23], никто печалиться не будет. Взбешенные Краплёна с матерью принимались тогда еще сильнее мучить ни в чем не повинную принцессу.
— Смотри-ка, даже в заточении эта гордячка нам вредит! — возмущались они. — Как простить все ее злые выходки? Не иначе, как она ведет тайную переписку с иностранными державами, а значит, по меньшей мере государственная преступница. Так к ней и следует относиться. Сделаем же все возможное, чтобы вывести ее на чистую воду.
Они закончили свой совет так поздно, что уже и полночь миновала, когда обе решили подняться в башню и допросить узницу. Та как раз сидела у окошка и беседовала с синей птицей, надев все драгоценности и красиво уложив свои прелестные кудри, — те, кто горюет, обычно так не прихорашиваются. Вся ее комната и кровать были устланы цветами, и она даже зажгла несколько испанских свечек[24], источавших прекрасный запах. Королева подслушивала за дверью; ей показалось, что там поют дуэтом — у Флорины ведь был голосок, подобный ангельскому. А вот и слова — королева сочла их нежностями:
Как наши тяготы горьки,
И как страдания чрезмерны
За то лишь, что мы любим верно!
Но тщетно мучат нас враги:
Не разлучат нас никогда,
Мы будем вместе навсегда!
Этот маленький концерт завершили несколько вздохов.
— Ах, Краплёнушка моя, нас предали! — вскричала королева и, резко рванув дверь, влетела в комнату. Каково же пришлось Флорине? Она поскорей захлопнула окошко, чтобы король-птица мог улететь, больше думая о его безопасности, чем о своей собственной, — но и он не пожелал спасаться: ведь от его орлиного взора не укрылось, в какой опасности оказалась принцесса. Он разглядел королеву и Краплёну! До чего же горько ему стало, что не может он защитить возлюбленную! Они же подошли к бедняжке как две фурии, готовые вот-вот растерзать жертву.
— Об интригах, которые плетете вы против государства, нам все известно! — вскричала королева. — И не думайте, что ваше положение спасет от заслуженного наказания!
— А с кем бы я могла плести интриги, сударыня? — отвечала принцесса. — Не вы ли сами стережете меня вот уже два года? Разве я вижусь с кем-то, кроме тех слуг, которых вы ко мне подсылаете?
Пока она говорила, королева с дочкой изумленно ее разглядывали и были поражены ее ослепительной красотой и дивным нарядом.
— А откуда же у вас такие драгоценности, сударыня, — спросила королева, — и эти камни, что сияют как солнце? Уж не станете ли вы уверять нас, что в башне алмазные копи открылись?
— Я нашла их здесь, — отвечала Флорина, — это все, что я знаю.
Королева посмотрела на нее так, будто в самое сердце ее хотела взглядом проникнуть.
— Так просто вы нас не проведете, — сказала она. — Нам известно все, что вы делаете, с утра до вечера. Вам подарили все эти украшения с одной лишь целью — чтобы вы за них продали королевство вашего отца.
— Словно бы я могла это сделать! — отвечала принцесса с презрительной улыбкой. — Несчастной принцессе, так давно страдающей в цепях, куда как легко устроить заговор подобного рода!
— А для кого же вы тогда так красиво причесаны, кокетка вы эдакая, — продолжала королева, — для кого благовонья в вашей комнате, для кого вы разодеты так, как и при дворе не наряжались?
— У меня здесь достаточно свободного времени, — отвечала принцесса. — Неудивительно, если я и займусь на досуге нарядами; я живу только в горе и слезах, так что эти несколько минут не могут быть мне в упрек.
— Ну, ну, — сказала королева, — мы еще увидим, что эта невинная овечка затевает вместе с нашими врагами!
Королева сама обыскала всю комнату; подняв тюфяк, увидела под ним великое множество бриллиантов, жемчуга, рубинов, изумрудов и топазов, гадая, откуда бы могло взяться все это. Тогда, чтобы погубить принцессу, решила она припрятать в потайном местечке секретные бумаги. Незаметно она сунула несколько листов внутрь печной трубы; но, по счастью, на ней как раз сидел король-Синяя птица, который все слышал, и зрение у него было острее, чем у рыси. Он закричал:
— Берегись, Флорина, враг твой хочет предать тебя!
Этот неожиданный голос так напугал королеву, что она не решилась совершить задуманное.
— Как видите, сударыня, — сказала принцесса, — духи, парящие здесь в воздухе, благосклонны ко мне.
— Я думаю, — отозвалась королева, вне себя от злости, — что вам бесы помогают, да только король, отец ваш, сумеет рассеять все их козни.
— О, Небеса, да если б мне приходилось опасаться лишь гнева моего батюшки! — воскликнула принцесса. — Ваш, сударыня, страшнее во сто крат.
Королева покинула ее, весьма взволнованная увиденным. Она устроила совет, как ей подловить принцессу. Ей сказали, что принцессу, видимо, взяла под защиту какая-нибудь фея или волшебник, и верным средством их раздразнить будут новые муки — тогда-то и удастся раскрыть всю интригу. Королеве эта мысль понравилась. Она поселила в комнату к принцессе одну девицу, строившую из себя саму невинность и якобы присланную ей служить. Но как скрыть столь явный умысел? Принцесса видела в ней шпионку, и как же горько ей это было.
«Как! — говорила она себе. — Неужто не беседовать мне больше с моей птицей, дорогим моим королем? Он помогал мне сносить мои беды, а я его утешала в его горестях. Что же теперь станется с ним? А со мной что будет?» — И слезы у принцессы лились ручьем.
Она уже не осмеливалась подходить к окошку, хотя и слышала, что король-птица летает вокруг: смерть как хотелось ей открыть ему, да не могла она рисковать жизнью возлюбленного. Так продолжалось целый месяц, и король-Синяя птица был в отчаянии. Сколько жалоб он исторг из своего сердца! Как жить без дорогой принцессы? Никогда еще не были ему столь горьки разлука и его превращение. Тщетно искал он способ справиться с каждой из этих бед — сколько голову ни ломал, ничего придумать не мог.
А подосланная к принцессе шпионка весь месяц глаз не смыкала ни днем, ни ночью и в конце концов так уморилась, что заснула глубоким сном. Флорина заметила это, отворила окошко и позвала:
Синяя птица, времени цвет[25],
Лети поскорее ко мне, мой свет!
Это ее собственные слова, мы не изменили в них ни единой буквы. Король-птица услышал их и в мгновение ока явился к окну. Как счастливы они были снова! Сколько всего хотели сказать друг другу! Нежностям и клятвам в верности не было конца. Принцесса не могла сдержать слез; растроганный возлюбленный утешал ее как мог. Наконец пришел час расставания, а тюремщица так и не проснулась. Трогательно было расставание влюбленных.
Назавтра горничная снова заснула, а принцесса подбежала к окошку и сказала, как и в прошлый раз:
Синяя птица, времени цвет,
Лети поскорее ко мне, мой свет!
Король-птица прилетел немедленно, и эта ночь прошла подобно предыдущей, тихо и спокойно, к радости наших влюбленных. Они льстили себя надеждой, что их надзирательнице спится столь сладко, что так теперь и будет каждый раз. И в самом деле, три следующие ночи прошли без тревог, но на четвертую соня вдруг услышала шум и проснулась, притворившись еще спящей. Вглядевшись во мрак, она тут же различила в лунном свете, как прекраснейшая в мире птица беседует с принцессой, ласкает ее лапкой, нежно касается ее губ своим клювиком; а поняв их беседу, немало удивилась, ибо птица говорила как влюбленный, а принцесса отвечала ей с нежностью.
Начало светать, влюбленные попрощались, и так тяжко было им расставаться, будто они предчувствовали беду. Принцесса бросилась на кровать и горько разрыдалась, а король вернулся в свое дупло. Тюремщица же побежала к королеве и обо всем ей рассказала. Та послала за Краплёной и ее компаньонками. Долго они судили-рядили и сошлись на том, что синяя птица — не кто иной как король Премил.
— Какое оскорбление! — воскликнула королева. — Нас обидели, моя Краплёнушка! Эта дерзкая принцесса, которая казалась такой несчастной и подавленной, спокойно беседовала с этим неблагодарным да радовалась! О! Я отомщу, да так, что о моей кровавой мести еще не скоро забудут!
Краплёна просила ее не терять ни минуты и, будучи тут задетой еще больше матушки, уже млела от радости, предвкушая, как не поздоровится влюбленным. Королева снова послала свою подручную в башню и наказала ей виду не подавать, что подозревает что-то или следит, а, напротив, притворяться, что спит крепче прежнего. Та и улеглась пораньше, и храпеть старалась погромче, так что бедная принцесса-горемыка, ничего не подозревая, высунулась в окошко и закричала:
Синяя птица, времени цвет,
Лети поскорее ко мне, мой свет!
Звала всю ночь, но тщетно: птица не появлялась — злая королева приказала повесить на кипарис множество мечей, ножей, кинжалов, бритв, так что, только король-птица прилетел, как тут же был весь изранен: смертоносное оружие изрезало ему лапы, он начал падать, и новые лезвия впились ему в крылья; наконец, пронзенный сотней клинков, с огромным трудом добрался он до своего дерева, оставляя длинный кровавый след. Ах, зачем вас там не было, прекрасная принцесса! Вы помогли бы королю-птице… но нет, вы, конечно, умерли бы от горя, увидев его в столь плачевном состоянии! А сам он и не желал позаботиться о себе — ведь он был уверен, что это Флорина сыграла с ним такую злую шутку.
— О злодейка! — говорил страдалец. — Так-то платишь ты за мою страсть, нежнее коей свет еще не видывал? Если ты желала моей смерти — зачем сама не приказала мне умереть? От твоей руки была бы мне сладка и лютая погибель! Я летел навстречу тебе с любовью и доверием! Я страдал за тебя, и страдал, не жалуясь! Как, ты пожертвовала мною ради самой злобной из женщин! Она была врагом нам обоим, а ты заключила с ней мир и предала меня! Это ты, Флорина, ты сама вонзила в меня эти кинжалы! Ты направила руку Краплёны мне прямо в грудь!
Король был так подавлен этими ужасными мыслями, что решился умереть.
Однако его друг-волшебник, которому крылатые лягушки вернули колесницу без седока, так загоревал, так о короле забеспокоился, что восемь раз облетел всю землю в его поисках, да все не мог найти. Уже в девятый раз он отправился в путь, и вот случилось ему пролетать через лес, где лежал раненый король. Волшебник протяжно протрубил в рог, как было у них условлено, и пять раз прокричал во весь голос:
— Король Премил, король Премил, где вы?
Король узнал голос своего лучшего друга.
— Приблизьтесь к этому дереву, — сказал он, — и увидите несчастного короля, потопленного в крови.
Удивленный волшебник озирался по сторонам, но никого не видел.
— Я — синяя птица! — сказал король слабым и печальным голосом.
Тогда только волшебник разглядел его в маленьком гнездышке. Иной тут растерялся бы, но ему была знакома некромантия во всех подробностях, так что пары слов хватило, чтобы унять кровь. Он нашел в лесу лечебные травы и, нашептав на них несколько заклинаний, вылечил короля так, как будто тот и ранен никогда не бывал. Тут он спросил друга, каким это образом тот превратился в птицу и кто изувечил его так жестоко. Король удовлетворил его любопытство — рассказал, что это Флорина выдала секрет их любви и тайных свиданий королеве, с которой решила заключить мир, и что она же позволила повесить на кипарис кинжалы и бритвы, которые его всего изрезали. Он тысячу раз посетовал на вероломство принцессы, говоря, что желал бы умереть прежде, чем узнал, как она жестокосерда. Волшебник вместе с ним ругал и ее, и всех женщин на свете, советуя забыть принцессу поскорее.
— Как несчастны вы будете, продолжая любить эту неблагодарную! — сказал он королю. — Если она так поступила с вами, от нее всего можно ожидать.
Король-птица не мог послушаться его — он еще слишком любил Флорину. Тогда волшебник, понимавший чувства друга, как тот ни старался их скрыть, ласково ему пропел:
Влюбленным среди всех скорбей
Не впрок идут увещеванья:
Не слышим мы своих друзей,
А слышим лишь свои страданья.
Но время — лучший лекарь нам.
Сначала все старанья тщетны,
Но час придет, и незаметно
Само все встанет по местам.
Король-птица с ним согласился и попросил друга отнести его в свои владения и посадить в клетку, которая защищала бы и от кошачьих когтей, и от любого смертоносного оружия.
— Но как, — сказал волшебник, — ведь вам еще пять лет предстоит оставаться в этом плачевном положении, которое так мало приличествует и вашему поприщу, и вашему достоинству! Ведь враги ваши, не иначе, утверждают, что вы погибли, — они захотят захватить ваше королевство — боюсь, вы утратите его, не успев еще вернуться в ваш первоначальный облик!
— А разве мне нельзя отправиться в мой дворец и править там, как прежде? — спросил король.
— Ах, — отвечал друг его, — это было бы непросто! Кто повинуется человеку, не пожелает слушаться попугая; тот, кто боялся могущественного и славного властелина, с радостью ощиплет вас в облике птицы.
— О, слабость человеческая! — вскричал король. — О, как манит внешний блеск, а ведь он — ничто перед заслугами и добродетелью! И вот случается беда — а мы остаемся беззащитны! Что ж, — продолжал он, — приходится быть философом; будем же презирать то, что нам недоступно: такая участь еще не самая худшая.
— Ну, я-то так быстро не сдамся, — сказал волшебник, — надеюсь все-таки наши какой-нибудь хороший выход.
А тем временем Флорина, несчастная Флорина горевала без своего короля. Дни и ночи сидела она у окошка и повторяла:
Синяя птица, времени цвет,
Лети поскорее ко мне, мой свет!
Присутствие тюремщицы уже не смущало ее. Она была в таком отчаянии, что ничего не ела.
— Что сталось с вами, король Премил? — восклицала она. — Неужто вы пали жертвой наших жестоких врагов? Возможно ли, чтобы эти бешеные звери погубили вас? Увы! Увы! Неужели вас больше нет? Неужели я вас больше не увижу? Или, устав от моих горестей, вы предоставили меня моей жестокой судьбе?
Сколько же слез, сколько рыданий последовало за этими горькими жалобами! Как долги сделались часы в отсутствие короля, такого любезного, так горячо любимого! Принцесса, убитая горем, была так слаба, что еле на ногах держалась; она была уверена, что с королем случилось самое страшное.
Королева и Краплёна торжествовали! Месть доставила им больше радости, чем обида причинила горя. А ведь, по сути, о какой обиде речь? Король Премил не пожелал жениться на несчастной уродине, которую ему было за что ненавидеть, — и только-то. А между тем отец Флорины состарился, заболел и умер. Положение злой королевы и ее дочери изменилось: на них смотрели теперь как на фавориток, злоупотребивших своей фортуной; возмущенный народ ринулся во дворец, все требовали Флорины, именно ее признавая властительницей. Разгневанная королева думала все превозмочь своей гордостью. Она взошла на балкон и пригрозила мятежникам. Тут возмущение стало уже всеобщим — двери в королевские апартаменты выломали, а королеву схватили и насмерть забили камнями. Краплёна успела скрыться вместе со своей крестной Суссио: она ведь была не в меньшей опасности, чем мать ее. Гранды королевства поспешно собрались и поднялись на башню, где томилась и хворала Флорина. Она не знала ни о смерти отца, ни о казни своей врагини и, услышав шум, подумала, что пришли предать ее смерти, но совсем не испугалась: с тех пор, как она утратила синюю птицу, жизнь была ей ненавистна. Однако подданные, бросившись к ее ногам, рассказали о перемене ее судьбы: ей же было все равно. Принцессу перенесли во дворец и там короновали.
О ее здоровье пеклись теперь с большим тщанием; эти заботы и страстное желание самой принцессы поскорее отправиться на поиски синей птицы способствовали ее скорейшему выздоровлению. Она избрала совет, который должен был заниматься государственными делами в ее отсутствие, сама же, взяв с собой великое множество драгоценностей, отправилась в дорогу одна, темной ночью, так что никто в королевстве не знал, куда она собралась.
А тем временем волшебник, принимавший дела Премила так близко к сердцу, отчаялся победить чары Суссио и решил сам отправиться к ней и предложить условия примирения, на коих она согласилась бы вернуть королю прежний облик. Кликнув своих летающих лягушек, он полетел к фее, она же в это время болтала с Краплёной. Волшебник и фея — одного поля ягоды; они были знакомы уже пятьсот или шестьсот лет и за это время неоднократно ссорились и мирились. Она приняла его весьма любезно.
— Чего угодно моему куманьку? — спросила она (ибо так они обращались друг к дружке). — В моих ли силах услужить ему чем-нибудь?
— Да, кумушка, — отвечал волшебник, — вы можете мне очень удружить. Речь идет о моем лучшем друге, короле, которого вы сделали несчастным.
— Ага, ага! Понимаю вас, куманек! — воскликнула Суссио. — Мне очень жаль, но ему пощады не будет, если он откажется жениться на моей крестнице. Вот она перед вами, хорошая и пригожая, сами изволите видеть; а дальше королю решать.
Волшебник дар речи утратил: девица-то была безобразна. Между тем он никак не мог решиться уйти ни с чем, ведь король, сидя в клетке, подвергался бесконечным опасностям. Однажды гвоздь, на котором она висела, переломился, клетка упала, и его Пернатое Величество немало от того пострадало. Мурлык, кот волшебника, был в той же комнате, когда случилась эта неприятность, — он ударил короля когтистой лапой в глаз, да так, что тот едва не окривел. В другой раз королю забыли налить воды; тот от жажды едва типун не нажил, пока наконец ему не дали напиться. А то еще проказница-обезьянка сорвалась с привязи и сквозь прутья клетки ощипала королю перышки, так что оставшегося оперенья едва хватило бы на дрозда или сойку. Однако хуже всего было то, что он мог в любой момент лишиться своего королевства: наследники, что ни день, стряпали новые доказательства его гибели. В конце концов волшебник сговорился с Суссио — решили, что та отправится вместе с Краплёной во дворец короля Премила и останется там на те несколько месяцев, что понадобятся королю, дабы решиться на этот брак; тем временем прежняя наружность будет ему возвращена, однако, случись ему опять отказаться от женитьбы, он снова превратится в птицу.
Фея нарядила Краплёну в серебро и золото, усадила в короб и, закинув его себе за спину, уселась на дракона и полетела, и так обе явились в королевство Премила, который сам только что прибыл туда вместе со своим верным чудотворцем. Три взмаха волшебной палочки — и король снова стал прекрасным, любезным, умным и величественным; но дорогой же ценой доставалось ему преждевременное окончание покаяния: он холодел от одной лишь мысли о браке с Краплёной. Волшебник увещевал его как мог, но все доводы производили весьма слабое впечатление — король беспокоился уже не о своем королевстве, а о том, чтобы елико возможно растянуть срок до свадьбы с Краплёной.
А между тем Флорина, в наряде крестьянки, со спутанными волосами, ниспадавшими ей на лицо, в простой соломенной шляпе, с холщовой торбой на плече, пустилась странствовать, то пешком, то верхом, то по морю, то посуху. Она спешила, но очень боялась сбиться с дороги: ведь, пока она шла в одну сторону, дорогой ее король мог пойти в другую. Однажды она оказалась у ручейка, чьи серебристые воды звонко плескались по камушкам. Флорине захотелось омыть в нем ноги; подвязав лентой белокурые волосы и опустив ноги в ручей, она стала похожа на Диану, вернувшуюся с охоты[26]. Мимо проходила, опираясь на клюку, горбатая старушка, увидела принцессу и говорит:
— Что вы тут делаете совсем одна, прекрасное дитя?
— Добрая матушка, — отвечала королева, — я всегда в большой компании, ведь при мне мои горести, тревоги и беды.
Тут глаза ее наполнились слезами.
— Как, вы так молоды — и плачете! — воскликнула добрая женщина. — Не горюйте, доченька, расскажите мне честно, что с вами приключилось: быть может, я смогу вам помочь.
Королева согласилась, рассказав ей все, что произошло: как с нею обошлась фея Суссио и что ищет она синюю птицу. Тут старушка выпрямилась, морщины ее разгладились, а сама она вдруг похорошела, помолодела и, явившись в роскошном платье, взглянула на королеву с милостивой улыбкой.
— Несравненная Флорина, — сказала она, — король, которого вы ищете, — уже не птица: сестра моя Суссио вернула ему его облик. Он в своем королевстве. Не огорчайтесь, вы скоро окажетесь там и обретете то, к чему стремитесь. Вот вам четыре яичка — разбейте их, когда в том будет необходимость, и внутри вы найдете помощь. — С этими словами она исчезла.
Флорина утешилась; она положила яички в суму и поспешила в королевство Премила.
Шла она восемь дней и ночей без остановки и наконец оказалась у подножия горы необычайной высоты, из такой гладкой слоновой кости, что на нее ступить было невозможно не поскользнувшись. Сотни раз Флорина пыталась на нее взобраться — ничего не выходило. Наконец, отчаявшись преодолеть такое препятствие, легла она у подножия горы, решив там и умереть, да вдруг вспомнила про яички, подаренные феей, достала одно из них и сказала:
— Посмотрим, не насмеялась ли она надо мной, обещая мне помочь.
Разбив яичко, она нашла внутри золотые крючочки, тут же надела их на ноги и руки и с легкостью взошла на гору. Поднялась на самый верх — а тут новое затруднение: весь склон был сплошным ледяным зеркалом. В него с несказанным удовольствием смотрелось шестьдесят тысяч женщин, — ведь зеркало это было двух лье в ширину и шести в высоту[27]. Каждая отражалась в нем, какой хотела: рыжая казалась блондинкой, русая — черноволосой[28]; старухи выглядели молодками, а юные красотки не старели, словом, все недостатки это зеркало скрывало, потому и съезжались к нему со всех концов света. Можно было со смеху умереть, глядя, что за рожи корчат там эти кокетки. Такое диво привлекало туда и немало мужчин. Им тоже нравилось зеркало: плешивых оно отражало с отросшими волосами, другие выглядели выше и стройнее, чем были, осанка становилась воинственной, а лицо — величественным. Женщины, над которыми они насмехались, сами вовсю смеялись над ними; гору эту прозвали сотнями разных имен. Никому еще не удавалось добраться до ее вершины. Увидев Флорину, дамы пришли в отчаяние и закричали:
— И куда же она направляется, эдакая неповоротливая? Ей, чего доброго, втемяшится пройтись по нашему зеркалу — да она же с первого шага все разобьет! — И они подняли страшный шум.
Королева не знала, как быть, но видела, что спускаться опасно; она разбила еще одно яичко, и оттуда выпорхнули два голубка, запряженные в воздушную колесницу, которая тут же выросла, так что в ней можно было удобно разместиться; затем голуби легко спустились, вместе с королевой, для которой все прошло безопасно.
— Маленькие друзья мои, — сказала им она, — если вы отнесете меня ко двору короля Премила, я сумею достойно отблагодарить вас.
Голуби, благовоспитанные и послушные, не останавливались ни днем, ни ночью, пока не прибыли к воротам города. Флорина вышла и наградила каждого из них поцелуем, который стоил короны.
Ах, как заколотилось ее сердце, когда она вошла! Она выпачкала себе лицо, чтобы ее не узнали. Потом стала спрашивать у прохожих, где найти короля. Над нею потешались:
— Короля? А чего тебе от него надо, Милашка-Замарашка? Иди-ка лучше умойся. Не твоими глазами на великого монарха пялиться!
Ничего не отвечая, королева продолжала идти, все спрашивая, как ей повидать короля.
— Завтра он придет в храм с принцессой Краплёной — он наконец согласился на ней жениться, — отвечали ей.
«О, Небо! Что я слышу! Краплёна, недостойная Краплёна станет женой короля!» Флорина едва не умерла; силы ее оставили — ни идти, ни говорить не может. Она села у ворот на голые камни, волосы на глаза упали, лицо скрывает соломенная шляпа. «О, я несчастная! — говорила она себе. — Я пришла сюда, чтобы довершить торжество моей соперницы и сделаться свидетельницей ее счастья! Так, стало быть, из-за нее король-Синяя птица перестал прилетать ко мне! Ради нее, уродины, совершил он злейшую из измен — когда я изнывала от горя, опасаясь за его жизнь! Предатель изменил, он думал обо мне меньше, чем если бы и вовсе никогда меня не видел, он предоставил меня моим страданиям, а сам обо мне и не вспомнил!»
В горе редко бывает аппетит; королева нашла себе ночлег и улеглась без ужина. Чуть свет побежала она в храм, еле-еле туда проникла под насмешки солдат, и протиснулась поближе к трону Краплёны, в которой все уже видели королеву. Как же горько было Флорине, столь нежной и утонченной! Она встала вблизи трона за мраморной колонной. Первым появился король, он был прекраснее и милее, чем обычно. Затем явилась и Краплёна, роскошно разодетая и такая безобразная, что страшно смотреть, и, насупя брови, взглянула на королеву.
— Кто ты такая, — спросила она, — что позволяешь себе приближаться к моему великолепию да перед моим золотым троном стоять?
— Зовусь я Милашка-Замарашка, — отвечала Флорина, — а пришла я издалека продавать диковинки.
Тут она порылась в своей холщовой торбе и достала оттуда изумрудные браслеты, которые ей подарил король Премил.
— Ого! — воскликнула Краплёна. — Хорошенькие у тебя стекляшки! Продашь мне их за пять золотых?
— Покажите их знатокам, сударыня, — отвечала королева, — тогда уж и договоримся о цене.
Краплёна, влюбленная в короля так, как лишь эдакое пугало может влюбиться, была рада предлогу поговорить с ним; она показала ему браслеты и спросила его мнения. Увидев их, он вспомнил о тех, что когда-то подарил Флорине; побледнел, вздохнул, долго молчал и наконец сказал:
— Эти браслеты стоят всего моего королевства. Я думал, что во всем свете лишь одна такая пара, да вот вторая сыскалась.
Краплёна вернулась на свой трон, где смотрелась она как устрица в ракушке, и спросила королеву, сколько та хочет за браслеты, не набивая цену.
— Нелегко вам было бы их купить, сударыня, — отвечала Флорина. — Лучше предложу вам другой торг. Позвольте мне поспать нынче ночью в Каморке Эха, что во дворце королевском, а я за это отдам вам изумруды.
— Так и быть, Милашка-Замарашка. — И Краплёна загоготала как безумная, обнажив корявые зубы, длинные, как кабаньи клыки. Король не спросил, откуда взялись браслеты, не столько от безразличия к их хозяйке (а замарашке нечем было привлечь к себе внимание), сколько от отвращения к Краплёне. А надо сказать, что в бытность синей птицей король рассказывал Флорине, что во дворце под его опочивальней есть Каморка Эха, так хитро устроенная — что ни скажешь в ней шепотом — все это услышит король, находясь у себя; так что Флорине было не найти лучшего способа упрекнуть его в неверности.
По приказу Краплёны королеву отвели в Каморку. Она тут же принялась плакать да жаловаться:
— Стало быть, не ложно мое горе, о жестокий король-Синяя птица! Забыл ты меня, полюбил мою недостойную соперницу! И браслеты, которые я взяла из твоих бесчестных рук, не напомнили обо мне, вот как я тебе стала безразлична!
Тут рыдания оборвали ее речь, а когда она вновь нашла в себе силы, то продолжала горевать до утра. Королевские лакеи всю ночь слышали вздохи и всхлипы и доложили о том Краплёне, а та спросила королеву, что это, мол, она такой шум подняла.
— Я крепко спала, — отвечала та, — а во сне я громко разговариваю.
Король же, как ни странно, ничего не слышал: с тех пор, как он полюбил Флорину, сон его покинул, а потому, чтобы хоть немного поспать, он принимал на ночь опийную настойку.
Королева провела полдня в крайнем беспокойстве.
«Если он слышал меня, — думала она, — возможно ли столь жестокое равнодушие? А если не слышал — что же делать, чтобы услышал?»
Больше диковинок у нее не было; драгоценности, конечно, красивы, но, чтобы раззадорить любопытство Краплёны, нужно было нечто иное. Флорина разбила еще одно яичко — оттуда появилась карета из блестящей стали, изукрашенная золотом и запряженная шестью мышами; кучером был розовый крысенок, а форейтор тоже из крысиной породы, серой масти. В карете сидели четыре марионетки, попроворнее и поумнее тех, кого показывают на ярмарках Сен-Жермен и Сен-Лоран[29]. Они выделывали удивительные номера, особенно две маленькие цыганочки, так отплясывавшие сарабанду и пас-пье, что куда там самому Леансу[30]. Королева пришла в восторг от этого нового чуда некромантии. Она тихонько дождалась вечернего часа, когда Краплёна выходила на прогулку, и тогда уселась в глубине аллеи и пустила галопом мышей, которые везли карету с крысятами и марионетками. Эта новинка так потрясла Краплёну, что она принялась не переставая кричать:
— Милашка-Замарашка, Милашка-Замарашка, хочешь пять золотых за карету да мышиную упряжку?
— Спросите всех ученейших мужей королевства, сколько может стоить такое чудо, и я послушаюсь их мнения.
Краплёна, во всем властная да упрямая, отвечала:
— Не надоедай мне, грязнуля, а говори сразу цену!
— Еще одну ночь поспать в Каморке Эха, — сказала королева, — вот все, о чем я прошу.
— Да иди уж, поспи, чучело гороховое, не откажу тебе! — отвечала Краплёна и, повернувшись к дамам из свиты, сказала: — Вот ведь безмозглая, такие редкости задаром отдает.
Этой ночью Флорина говорила еще нежнее, но так же тщетно — ведь король не забывал принимать свой опий. А лакеи судачили меж собой:
— Эта крестьянка, не иначе, помешанная — что это она там бормочет всю ночь?
— А между тем, — возражали другие, — речи-то ее умные и страстные.
Флорина с нетерпением ждала рассвета, чтобы узнать, тронула ли ее речь короля. «Как! Этот варвар глух к словам моим! Он уже не слышит свою дорогую Флорину — а я-то имею слабость все еще любить его! Заслуживаю я, стало быть, его презрения!» — но все было напрасно, она не могла излечиться от любви. У нее оставалось последнее яичко, разбила она его — а оттуда появился пирог; в него запекли шесть птичек, обложенных ломтиками сала, прожаренных на славу и очень лакомых. При этом птички чудесно пели, гадали по руке, а в медицине смыслили больше самого Эскулапа[31].
Королева была в восторге от этой замечательной вещицы. Взяла она свой говорящий пирог и отправилась в переднюю к Краплёне. Пока она там поджидала, подошел к ней один из королевских лакеев и сказал:
— А знаете, Милашка-Замарашка, кабы король не пил сонных капель, он бы от ваших причитаний глаз не сомкнул!
Тут уж Флорина перестала удивляться, что король ее не слышит; порылась в торбе и сказала:
— По мне, пусть бы и вовсе не спал! А вы, если нынче не дадите ему этого снадобья, то получите все эти жемчуга да бриллианты!
Лакей тут же согласился и дал слово сделать, как она хочет.
Тут показалась Краплёна. Она увидела королеву, которая притворилась, будто собирается есть пирог.
— Что это ты тут делаешь, Милашка-Замарашка? — спросила Краплёна.
— Сударыня, я ем астрологов, музыкантов и медиков, — отвечала Флорина. Тут же птицы запели лучше сирен, а потом закричали: «Подайте нам золотой, расскажем, что было, что будет, чем душа успокоится». А та утка, что солировала, прокричала громче всех:
Кря-кря-кря, мы тут все — лекаря,
лечим от всех болезней —
от любви лечить бесполезно!
Краплёна, которую это чудо поразило больше всех прежних диковинок, закричала:
— Провалиться мне на этом месте, что за чудо-пирог! Хочу, чтоб он был мой! Ну-ка, Милашка-Замарашка, говори, чего за него просишь?
— Как обычно, — отвечала королева, — поспать в Каморке Эха.
— Так и быть, — сказала Краплёна милостиво (уж больно она обрадовалась чудо-пирогу). — Да вот тебе пистоль[32] в придачу.
Флорина, довольная как никогда, — ведь теперь она надеялась, что король наконец услышит ее, — поблагодарила и откланялась.
Как только пришла ночь, отправилась она в Каморку, того только и желая, чтобы лакей слово сдержал и вместо сонных капель дал королю другое питье, от которого тот глаз бы сомкнуть не смог. Едва все во дворце заснули, как начала она свои обычные жалобы.
— Скольким опасностям подвергалась я, пока искала тебя, — говорила она, — а ты меня избегаешь и на Краплёне жениться собираешься. Что же я тебе сделала, чтобы ты все свои клятвы забыл? Помнишь ли, как ты в птицу превратился, и как добра я была с тобой, да как нежно мы беседовали? — и повторила все, что они говорили тогда друг другу, — доказательство, что ничего для нее не было дороже этих воспоминаний. Король не спал; он ясно слышал голос Флорины, каждое слово различал и все никак в толк взять не мог, откуда слова эти доносятся. Однако в сердце его, изнывающем от нежности, с такой живостью возник образ его несравненной принцессы, что он снова ощутил всю боль расставания, как в ту ночь, когда ножи изранили его в ветвях кипариса. Он заговорил в ответ:
— Ах, принцесса! Как жестоко поступили вы с влюбленным, который вас обожал! Возможно ли: вы пожертвовали мною ради наших общих врагов!
Флорина слышала все и поспешила ответить; тут она и сказала, что, соблаговоли он повидаться с Милашкой-Замарашкой, все тайны ему тут же разъяснятся. Услышав это, король, сгорая от нетерпения, позвал одного из лакеев и спросил, нельзя ли поскорее Милашку-Замарашку привести к нему. Лакей отвечал, что нет ничего проще, ведь она ночует в Каморке Эха. Король не знал, что и думать. Как было поверить, что прекрасная принцесса Флорина могла переодеться грязнулей-простолюдинкой? И если у Замарашки голос королевы и все их секреты ей ведомы — значит, она и есть Флорина? В таких раздумьях король поспешно оделся и спустился по потайной лестнице в Каморку Эха; дверь королева изнутри замкнула, но у него были свои ключи ото всех комнат во дворце. Флорина предстала ему в легком платье из белой тафты — она прятала его под безобразными лохмотьями; ее прекрасные кудри рассыпались по плечам; она лежала на кровати, на которую лампа бросала лишь тусклый свет из угла каморки.
Король вошел; любовь возобладала над обидой, и, стоило ему узнать возлюбленную, как бросился он к ее ногам, омыл ее руки слезами и едва не умер от радости, боли, от тысячи разом нахлынувших мыслей.
Не меньше него была взволнована и королева. Сердце ее сжалось, не давая вздохнуть; она молча, не отрываясь, глядела на короля; когда же снова смогла заговорить, упрекать уже не было сил; от счастья, что снова видит его, забыла она все свои жалобы и горести. Наконец все им стало ясно, во всем они друг перед другом оправдались. Нежность взаимная вспыхнула жарче прежнего, и единственным, что омрачало их счастье, была фея Суссио.
Но в это мгновение верный друг волшебник явился влюбленным вместе с одной знаменитой феей, а именно — с той самой, что подарила Флорине четыре яичка. После первых приветствий и поздравлений волшебник и фея сообщили, что заключили ради них союз, и теперь Суссио им не страшна, ничем она дальше навредить им не сможет, так что они могут не мешкая заключить брак.
Отрадно было волшебнику и фее видеть счастье двух сердец. Едва рассвело, как весть об их свадьбе разнеслась по дворцу, и Флорина очаровала всех. Новость долетела и до Краплёны; она помчалась к королю, и каково же было ее удивление при виде прекрасной соперницы! Только хотела уродина рот открыть, чтобы обругать Флорину, как волшебник и фея превратили ее в крапчатую хрюшку, так что и имя осталось при ней, и характер ее ворчливый, и голос визгливый. Захрюкала она, заворчала, да и побежала под всеобщий хохот на скотный двор.
Избавились король Премил и королева Флорина от этой постылой гадины — и вот уж только и думали о предстоящей свадьбе, которую сыграли с несравненной роскошью и галантностью. Легко догадаться, как счастливы были они теперь, пережив столько горестей.
* * *
Краплёна злая брак стремилась навязать
Премилу и весьма неосторожно
О том не думала, что обрекла страдать
С ним вместе и себя — ведь как не знать,
Что без любви блаженство невозможно!
И, даже королевой став,
Она бы счастья не добилась,
А все бы от бессилья злилась,
К себе супруга цепью приковав.
Король Премил был совершенно прав:
По мне, стать лучше хоть бы синей птицей,
Хоть вороном, хоть филином летать,
Чем на уродине жениться
И постоянно созерцать
Предмет, достойный отвращенья.
Подобных браков уж не сосчитать
В наш век. По моему сужденью,
Вот было б счастье наконец,
Когда б волшебники и феи
Противились бы Гименею[33]
И не пускали под венец
Тех, кто стремится в брачные тенета
По прихоти иль по расчету:
Ведь брачный радостен венец
Лишь для влюбленных двух сердец.
Пер. М. А. Гистер
Принц-Дух[34]

Когда пришло время пригласить к нему воспитателя, король выбрал принца, который с давних пор претендовал на корону, и честно и храбро отстоял бы ее, если бы дела его шли лучше. Но он уже давно об этом не помышлял; его предназначением было хорошо воспитать единственного сына короля.
Никогда еще не встречалось сердца более благородного, души более живой и проницательной, более мягкой и покорной: что он ни скажет, все мило и необычайно изящно; он был само совершенство.
Король выбрал этого знатного господина, дабы тот направлял юного Фурибонда в верное русло, а сыну приказал во всем ему повиноваться; но ребенок был непослушный, и сколько его ни стегали, все без пользы. Сына же его воспитателя звали Леандром; все его любили: дамы смотрели на него весьма благосклонно, но раз он не привязывался ни к кому, то и ославили его холодным красавцем; объявили они ему войну, а он так и не полюбил ни одну и почти не отходил от Фурибонда — а тот рядом с ним казался еще безобразнее. Он-то подходил к дамам лишь для того, чтобы наговорить грубостей: и одеты-де плохо, и выглядят простовато; обвинял их при всех в использовании румян; выведывал про их любовные интрижки лишь для того, чтобы рассказать о них королеве, а та их бранила и наказывала постом; за такие проделки Фурибонда смертельно ненавидели. Он прекрасно это понимал и очень часто сердился на юного Леандра.
— Вы счастливец, — говорил он, поглядывая на него враждебно, — дамы вас хвалят и вам аплодируют, а со мной совсем не так.
— Государь, — скромно отвечал Леандр, — им мешает сблизиться с вами почтение, которое они к вам испытывают.
— Они правы, — говорил Фурибонд, — ибо я поколотил бы их, чтобы научить, как надо себя вести.
Однажды, когда к королю издалека прибыли послы, принц в сопровождении Леандра остановился в парадном зале, чтобы посмотреть, как они пройдут. Те же, заметив Леандра, тут же склонились перед ним в глубоких реверансах, выказывая восхищение; а поглядев затем на Фурибонд а, приняли его за придворного карлика, подхватили на руки и давай крутить и вертеть, как он ни брыкался и ни увертывался.
Леандр был в отчаянии: неустанно твердил он, что это сын короля; к несчастью, переводчик ушел ждать послов к государю. Леандр делал им знаки, но, увидев, что они не обращают на них никакого внимания, стал проявлять подчеркнутое смирение перед Фурибондом: и послы, вместе со свитой принявшие все это за игру, смеялись до колик и давали тому щелчки да подзатыльники, как это было принято в их краях. Доведенный до отчаяния, толстый принц вынул свою маленькую шпажку, которая была не длиннее веера, и покалечил бы кого-нибудь, если бы не король, вышедший к послам и немало удивленный такой горячностью: он извинился за нее перед ними, поскольку знал их язык. Те же ответили, что это не повлечет за собой никаких последствий, ибо они прекрасно видели, какой у этого ужасного маленького карлика дурной нрав. Огорчился король, что злобные и нелепые манеры его сынка ввели в заблуждение послов.
Стоило им удалиться, как Фурибонд схватил Леандра за кудри и вырвал две или три пригоршни волос, а если бы мог, то и задушил бы, и приказал ему навсегда убираться с глаз долой. Отец Леандра, обиженный поступком Фурибонд а, отправил сына в сельский замок; юноша не сидел там без дела: он любил охоту, рыбалку и прогулки, умел рисовать, много читал и играл на разных инструментах: не прислуживать более своенравному принцу он счел за счастье и, несмотря на одиночество, не скучал ни минуты.
Однажды Леандр долго прогуливался по своим садам и, когда стало очень жарко, зашел в маленький лес с такими высокими и ветвистыми деревьями, что рад был очутиться в их тени: для развлечения он начал играть на флейте и вдруг почувствовал, как что-то несколько раз обвилось вокруг его ноги и сильно ее сжало; он опустил взгляд и очень удивился, увидев толстого ужа. Леандр обмотал руку платком и, схватив змею за голову, собрался ее убить; но уж обвился хвостом вокруг его запястья и, пристально глядя на юношу, казалось, молил о пощаде. Тут прибежал садовник и, едва успев взглянуть на ужа, закричал хозяину:
— Господин, держите его крепче, я вот уже час за ним гоняюсь, чтобы его убить; эта хитрейшая тварь разоряет наши цветники.
Леандр еще раз взглянул на ужа, который был покрыт пятнами тысячи необычайных цветов и так же не отрывал от него взгляда, не пытаясь защититься.
— Раз уж ты хотел его убить, — сказал Леандр садовнику, — а он пришел искать у меня защиты, я тебе запрещаю причинять ему вред и хочу его покормить; а когда он сбросит свою красивую шкуру, я позволю ему уйти.
Леандр принес ужа в просторные покои, ключи от которых держал при себе, и велел подать отрубей, молока, цветов и трав, чтобы покормить его и порадовать: вот вам и счастливый уж! Леандр иногда заходил на него взглянуть. Уж, едва его заприметив, сразу выползал навстречу с самым благодарным видом, на какой только способны ужи: принца это удивило, а впрочем, он вскорости о том позабыл.
Всех придворных дам огорчил его отъезд: говорили только о нем, желали его возвращения.
— Увы, — говорили они, — при дворе больше нет удовольствий с тех пор, как Леандр его покинул; виной тому злой Фурибонд. Разве устремления Леандра дурны оттого только, что он от рождения более мил и желанен? Или, на радость злюке, должен и он обезобразить себе лицо и тело? Что ж теперь, дабы уподобиться ему, нужно раздробить себе кости, растянуть рот до ушей, и чтоб глаза едва открывались, а нос был оторван? Что за маленький несправедливый уродец! В жизни у него никогда не будет радости, ибо любой, кто бы ему ни встретился, окажется красивей его.
Какими бы злодеями ни были принцы, у них всегда найдутся льстецы; да ведь у злодеев их даже больше, чем у других. Были они и у Фурибонд а; его власть над королевой внушала страх; а когда ему рассказали о том, что говорили дамы меж собою, он был разгневан, почти взбешен. Таким он и вошел в покои королевы, объявив ей, что убьет себя на ее глазах, если она не найдет способа погубить Леандра. Королева, ненавидевшая юношу за то, что тот был красивей этой обезьяны, сынка ее, ответила, что она давно разглядела в нем предателя и с радостью поможет его умертвить; пускай сын ее отправится на охоту, возьмет самую близкую челядь и устроит так, чтобы и Леандр был там же; тогда его, любимца всеобщего, и проучат как следует. Итак, Фурибонд отправился на охоту; когда Леандр услышал у себя в лесу звуки рожков и лай собак, он оседлал коня, чтобы посмотреть, в чем дело. Очень удивившись неожиданной встрече с принцем, он спешился, с почтением его поприветствовав: Фурибонд встретил его как нельзя любезней, велел за собою следовать, а сам, отвернувшись, сделал знак убийцам, что пора напасть. И быстро зашагал прочь, как вдруг огромный лев вышел из глубокой пещеры и, бросившись на него, повалил наземь. Свита бросилась врассыпную, и остался только Леандр один на один с разъяренным зверем; он схватился за шпагу, рискуя быть съеденным, и оказался так храбр и ловок, что спас своего самого злейшего врага. От страха Фурибонд потерял сознание, и Леандр привел его в чувство целебными снадобьями. Когда принц немного пришел в себя, Леандр предложил ему своего коня: любой до глубины души проникся бы благодарностью и не преминул бы сказать и сделать множество любезностей — но не этот неблагодарный уродец: о нет, он-то даже не взглянул на Леандра и вскочил на его жеребца лишь для того, чтоб догнать наемных убийц и приказать довести дело до конца. Те окружили Леандра, и, не будь он настоящим смельчаком, неизбежно был бы убит. Став спиною к дереву, чтобы не получить удара в спину, Леандр не пощадил никого из нападавших, сражаясь отчаянно. Фурибонд, думая, что он мертв, поспешил приблизиться, чтоб полюбоваться этаким зрелищем, но его взору предстало совсем иное — все злодеи испускали дух. Леандр же при виде принца промолвил:
— Господин мой, если меня убивали по вашему приказу — я жалею, что защищался.
— Вы наглец, — гневно ответил принц, — попробуйте только еще раз попасться мне на глаза, уж тогда я заставлю вас умереть.
Леандр ничего не ответил, он вернулся к себе, сильно опечаленный, и провел ночь в размышлениях; и, коль скоро никак не мог противостоять сыну короля, то решил пойти странствовать по свету. Но, собравшись в путь, он вспомнил про ужа; взял молоко и фрукты и понес ему. Открыв дверь, принц заметил необычный свет, мерцавший в углу; он бросил туда взгляд и с удивлением увидел даму, чей благородный и величественный вид не оставлял сомнений в высоком происхождении; ее одежды из пурпурного атласа были обшиты бриллиантами и жемчугом: грациозно шагнув ему навстречу, она молвила:
— Юный принц, не ищите ужа, принесенного вами, — его здесь больше нет, зато я отплачу вам за услугу; но я должна вам все объяснить: знайте, что я фея Миловида, известная веселыми и ловкими проделками. Мы, феи, живем сотню лет, без старости, болезней, без горестей и страданий, а когда этот срок проходит, мы на неделю превращаемся в ужей[35], и только это для нас опасно, ибо мы на время теряем дар предвидеть и избегать несчастия, а если нас убивают, мы больше не оживаем; но проходит семь дней, и вот мы снова те же, столь же красивые, могущественные и богатые: теперь вы знаете, господин, чем я вам обязана, и было бы справедливо вернуть вам долг: подумайте, чем я могу быть вам полезна, и доверьтесь мне.
Юный принц, до сих пор не имевший дела с феями, был так удивлен, что лишился было речи. Но наконец, отвесив ей глубочайший поклон, вымолвил:
— Сударыня, после той радости, какую я получил, оказав вам услугу, мне больше нечего просить у судьбы.
— Я была бы сильно опечалена, — ответила она, — если бы вы не дали мне возможности быть вам полезной; учтите, что я могу превратить вас в великого короля, продлить вашу жизнь, сделать вас еще красивее, даровать вам залежи алмазов и златые хоромы; я могу сделать вас превосходным оратором, поэтом, музыкантом и художником; могу внушить дамам любовь к вам или сделать вас еще умнее; могу превратить вас в духа воздуха, земли и воды.
Тут Леандр ее перебил.
— Позвольте, сударыня, вас спросить, — сказал он, — если я стану духом, что мне это даст?
— Множество полезных и приятных вещей, — проговорила фея, — вы невидимы, когда вам этого хочется; в одно мгновение вы пересекаете огромные просторы вселенной; вы взлетаете, не имея крыльев; вы спускаетесь в глубь земли, не будучи мертвым; вы погружаетесь в морские бездны и не тонете; вы проходите повсюду, хотя окна и двери заперты; и, как только считаете нужным, вы предстаете в своем естественном облике.
— Ах, сударыня, — воскликнул Леандр, — я хочу стать духом; я собрался странствовать, роль духа сулит мне бесконечные радости, и я предпочитаю ее всему остальному, что вы мне столь великодушно предложили.
— Станьте же духом, — ответила Миловида, трижды проведя рукой по его глазам и лицу, — станьте духом любимым, станьте духом красивым, станьте духом шаловливым.
Затем она поцеловала его и дала ему красную шапочку, украшенную двумя перьями попугая.
— Когда наденете эту шапочку, — продолжила она, — то станете невидимым, а если снимете — вас увидят.
Довольный Леандр водрузил красную шапочку себе на голову, пожелав оказаться в лесу и сорвать дикие розы, которые там приметил: в тот же миг его тело стало легче мысли; он перенесся в лес, вылетев в окно и порхая, как птица; не без страха парил он на такой высоте, а перелетая реку, боялся упасть в нее, да так, что никакое могущество феи его не спасет. Однако ж он счастливо приземлился у подножья розового куста, сорвал три розы и тут же вернулся в свои покои, где его ожидала фея. Леандр преподнес ей цветы, довольный тем, что его первый опыт был столь удачным. Фея велела ему сохранить эти розы; одну — на тот случай, если ему понадобится золото; другой нужно коснуться груди своей возлюбленной, чтобы проверить ее верность; а последняя защитит его от болезни. Затем, не дожидаясь благодарности, фея исчезла, на прощание пожелав ему счастливого пути.
Леандр бесконечно обрадовался только что полученному им чудесному дару.
— Мог ли я подумать, — сказал он, — что за спасение бедного ужа от рук моего садовника обрету столь редкие и огромные возможности? Ах! Что за радости ожидают меня! Какие приятные мгновения! А сколько всего я узнаю! Став невидимым, я проведаю о самых тайных приключениях.
Поразмыслил он и о том, каким острым блюдом отомстит Фурибонду; распорядился должным образом своими делами, оседлал самого красивого скакуна по имени Серебряный и отправился в путь, взяв с собою немного челяди, дабы можно было поскорей распустить слух об его возвращении.
Надо сказать, что Фурибонд, который был превеликим лгуном, сообщил, что, не выкажи он храбрости, Леандр на охоте убил бы и его самого; пока же он перебил всех его людей, и теперь Фурибонд жаждет справедливости. Король, поддавшись на уговоры королевы, приказал схватить Леандра; когда же тот сам явился во дворец с весьма решительным видом, Фурибонду сообщили об этом. Боясь выйти навстречу, тот побежал в покои матери и, сказав, что Леандр явился, принялся умолять задержать его. Королева, ни в чем не отказывавшая своему уродцу, не преминула разыскать короля: и принц, которому не терпелось узнать о принятом решении, без слов последовал за ней и притаился за дверью, приникнув к ней ухом и откинув волосы, чтобы лучше слышать. Леандр же пришел в большой зал дворца, надев красную шапочку и став невидимкой; заметив подслушивающего Фурибонд а, он взял гвоздь и молоток и накрепко прибил его ухо к двери.
Фурибонд, придя в бешенство, отчаянно бился о дверь, испуская пронзительные вопли. Услышав их, королева побежала освободить его, да и оторвала ему ухо напрочь; он обливался кровью и корчил такие ужасные гримасы, точно ему перерезали горло. Безутешная королева сажает его к себе на колени, целует оторванное ухо и прилаживает обратно. Тогда Принц-Дух берет те розги, какими стегают монарших собачек, и давай хлестать королеву — по руке, а сынка — по роже; та принялась вопить, что ее бьют-убивают; приходит король, сбегается народ, глядь — а никого и нет. Тут кругом зашептались, что королева сошла с ума, когда увидела оторванное ухо Фурибонда. А король-то этому верит пуще всех: она к нему, а он от нее: презабавная вышла сцена. Наконец добрый Дух, наградив Фурибонда еще тысячей ударов, покинул зал, вышел в сад и стал видимым: тут он принялся дерзко рвать вишни, абрикосы, клубнику и цветы в саду и на грядках королевы, подходить к которым было запрещено под страхом смерти, ибо она одна только их поливала. Удивленные садовники доложили Их Величествам, что принц Леандр обрывает фруктовые деревья и цветы в саду.
— Какая дерзость! — воскликнула королева. — Мой миленький Фурибонд, дорогой малыш, забудь на мгновенье о больном ухе и беги к этому злодею: возьми наших мушкетеров, солдат, придворных, возглавь их сам, поймай его и изруби на рагу.
Воодушевленный матерью, Фурибонд во главе тысячи вооруженных до зубов стражников входит в сад — и что же: Леандр, встав под деревом, бросает в него камень, поранив ему руку, а войско бомбардирует сотней апельсинов.
Фурибонд хотел было подбежать к Леандру — но вот того уже нигде и не заметно: невидимкою он прошмыгнул Фурибонду за спину, обмотал ему ноги веревкой да и дернул; растянулся Фурибонд, уткнувшись носом в землю: его подняли и отнесли в кровать, совсем ослабевшего.
Леандр, довольный местью, вернулся к лакеям, дал им денег и велел возвращаться в свой замок, не желая, чтоб его хоть кто-нибудь сопровождал — ведь тогда стал бы известен секрет красной шапочки и роз. Он еще не знал, куда хочет пойти; вскочил на славного своего Серебряного да и отпустил поводья; так он пересек леса, равнины, холмы и долины, без счета и без числа; иногда отдыхал, ел и спал, не встречая на пути ничего достойного упоминания. Наконец Леандр прибыл в один лес, и было там так жарко, что он спешился посидеть немного в тени.
Сидел он, сидел и вдруг услышал вздохи и рыдания; оглядевшись, заметил какого-то человека, который то бежал, то останавливался, кричал, рвал на себе волосы и сам себя бил; несомненно, то был несчастный безумец; однако он показался Леандру молодым и статным; его одежды, некогда великолепные, все были изорваны. Принц, тронутый состраданием, обратился к нему.
— Я вижу вас в состоянии, — сказал он, — столь плачевном, что не могу удержаться и не спросить вас о его причине и хочу предложить вам помощь.
— Ах, господин, — ответил этот молодой человек, — беде моей нельзя помочь: не далее как сегодня моя дорогая возлюбленная принесет себя в жертву старому ревнивцу, у которого много денег, но зато он сделает ее самым несчастным созданием на свете!
— Так она вас любит? — спросил Леандр.
— Смею надеяться, да, — промолвил он.
— И где она? — продолжил принц.
— В замке на краю этого леса.
— Ну что ж, подождите меня, — заключил Леандр, — я принесу вам оттуда добрые вести в мгновение ока.
Вмиг надел он красную шапочку и пожелал перенестись в замок. Не успел он еще там оказаться, как услышал приятные созвучия; а уж внутри-то повсюду пели скрипки и прочие музыкальные инструменты; он вошел в большую гостиную, где полным-полно было родных и друзей старика и юной барышни, прекрасней которой на свете и не сыщешь; но ее бледность, грустное лицо и слезы, часто выступавшие на глазах, ясно говорили о том, как она страдает.
Леандр, Дух-невидимка, притаился в уголке, чтобы присмотреться к присутствующим: он увидел, как отец и мать этой милой девушки вполголоса бранили ее за недовольный вид, а потом вернулись к гостям. Дух встал позади матери и шепнул ей на ухо:
— Почему ты заставляешь свою дочь отдать руку и сердце этому уроду, — уверяю тебя, не пройдет и недели, как ты будешь наказана за это смертью.
Придя в ужас от голоса, угрожавшего ей ниоткуда, женщина громко вскрикнула и упала. Муж спросил, что стряслось. Та воскликнула, что, если свершится бракосочетание ее дочери, ей придется умереть, и посему она не потерпит этого ни за что на свете. Муж принялся с насмешкой бранить ее пустою выдумщицей; тут Дух и ему сказал потихоньку:
— Недоверчивый старик, да ты и сам умрешь, коли не поверишь жене своей; разорви супружеские узы дочери и поскорее отдай ее любимому.
Эти слова произвели чудодейственный эффект: жениха тотчас же выпроводили, объяснив, что так велели высшие силы; он, будучи нормандцем[36], принялся было спорить и скандалить; но Дух прокричал такое ужасное «угу-гу» ему в ухо, что едва не оглушил, а в довершение всего еще и сплясал на его подагрических ногах, так что совсем их раздавил.
Тогда побежали в лес на поиски влюбленного, по-прежнему пребывавшего в отчаянии. Так хотелось Духу снова его увидеть, что с его нетерпением мог поспорить разве что пыл юной возлюбленной. Влюбленные чуть не умерли от радости; пиршество, приготовленное для бракосочетания со стариком, послужило для их счастливой свадьбы; Леандр же, оставив обличье духа, внезапно появился в дверях гостиной как незнакомец, привлеченный звуками праздника. Жених, едва заприметив, бросился к его ногам, выражая ему тысячу всевозможных благодарностей. Леандр провел в этом замке два дня и мог бы разорить хозяев, если б захотел: ведь они предлагали ему все свое добро. С глубоким сожалением он оставил столь славное общество.
Отправившись в путь, он пришел в один большой город, где жила королева, которой нравилось пополнять свой двор самыми красивыми людьми. Прибью, велел он сшить себе прекраснейшие наряды: ведь ему стоило лишь взмахнуть розой, чтоб денег появилось полным-полно. Легко догадаться, что красивого, умного, молодого, а главное, пышно одетого принца королева с принцессами приняли с превеликим почетом и уважением.
Этот двор был из самых галантных: кто противился любви, тот становился там посмешищем: Леандр захотел последовать обычаю, решив, что превратит любовь в забаву, а уезжая прочь, с легкостью покинет предмет своей страсти; понравилась же ему одна из фрейлин, красавица Блондина; та, само совершенство с виду, была при этом столь холодна и серьезна, что он не знал, с какой стороны к ней подступиться.
Каждый вечер он устраивал для нее восхитительные праздники, балы и комедии, доставлял ей диковины с четырех концов света, но все это ее не трогало; и чем равнодушней она казалась, тем сильней он ее добивался, а более всего подстегивало его то, что она, думалось ему, еще никогда никого не любила. Чтобы убедиться, он решил испытать свою розу: в шутку он коснулся ею груди Блондины — вмиг из свежей и цветущей стала она сухой и увядшей. Хватило этого Леандру, чтобы узнать о счастливом сопернике; это глубоко его уязвило, и, дабы все увидеть своими глазами, он пожелал очутиться вечером в покоях Блондины: и вот вошел туда музыкант с такой злобной рожею, что гаже на свете нет, и прорычал сочиненные для нее три-четыре преотвратительнейших куплета, а девушка обрадовалась им так, словно в жизни не слышала ничего прекраснее; потом урод принялся кривляться как умалишенный, а ей это нравилось, ибо она от него была совсем без ума; и наконец, она позволила, чтобы этот заморыш, себе на беду, поцеловал ей руку. Возмущенный Дух бросился на дерзкого музыканта и, грубо вытолкав его на балкон, выбросил в сад, где несчастный от падения лишился последних зубов.
Порази Блондину молния, она и то удивилась бы меньше; девушка подумала, что это был призрак. Дух покинул покои невидимкою и тут же возвратился к себе, где написал Блондине письмо, полное заслуженных ею упреков. Не дожидаясь ответа, он уехал, оставив свои туалеты оруженосцам и придворным; прочих слуг наградил и оседлал верного Серебряного, полный решимости после такой шутки больше не влюбляться.
Все быстрее и быстрее скакал Леандр: долго не проходила печаль его, да разлука и здравый смысл взяли свое. Прибью в один город, он узнал, что как раз сегодня некую девицу торжественно постригут в монашки, хотя сама она того вовсе не желает; принц был этим тронут: он уж совсем было уверился, что его красная шапочка призвана исправлять ошибки общества и служить для утешения несчастных. Он побежал в часовню: там на голову юной девы в белых одеждах и с распущенными волосами возлагали венок из цветов: двое братьев вели ее под руки, а следом шла мать с большой толпою мужчин и женщин; старейшая из монахинь ожидала всех у дверей часовни. В сей миг Дух возопил:
— Остановитесь же, о злые братья и неосмотрительная мать, остановитесь! Само Небо против этой несправедливой церемонии! Не послушаетесь — вас раздавят как лягушек.
Люди принялись озираться, не видя, откуда раздаются столь ужасные угрозы: братья же сказали, что это любовник сестры забился в какую-то щель и вещает оттуда, как оракул. Но рассерженный Дух взял длинную палку и поколотил их как следует: все видели, как палка сама по себе дубасила их по спинам, точно молот бил по наковальне; удары, вот уж без спору, сыпались самые настоящие. Монахини, охваченные страхом, обратились в бегство; остальные последовали их примеру. Дух остался с юной жертвой; он тотчас снял свою шапочку и спросил девушку, чем может ей помочь: та же с дерзостью, неожиданной для девицы ее возраста, ответила, что есть один рыцарь, который ей небезразличен, но недостаточно богат. Тогда Леандр так взмахнул розой феи Милашки, что оставил им десять миллионов. Они поженились и зажили очень счастливо.
Последнее его приключение было самым приятным: въехав в густой лес, он услышал жалостные крики молодой особы; не сомневаясь, что некая барышня попала в беду, он огляделся и наконец увидел четырех вооруженных людей, уводивших девушку, которой на вид было лет тринадцать или четырнадцать. Леандр очень быстро приблизился и крикнул им:
— Что вам сделало это дитя, почему вы обращаетесь с ней как с рабыней?
— Ха-ха, мой милейший господин, — сказал их предводитель, — а вам-то какое дело?
— Я вам приказываю, — добавил Леандр, — отпустить ее сию же минуту.
— Ну еще бы, так вот прямо сейчас и отпустим, — смеясь, воскликнули они.
Принц в гневе спрыгнул на землю и надел красную шапочку, ибо сражаться в одиночку с четырьмя людьми, стоившими целой дюжины, показалось ему небезопасным. Итак, он надел свою шапочку — и только его и видели. Воры сказали: «Он сбежал, не стоит его искать, поймаем лишь его лошадь». Один остался стеречь девушку, а трое других устремились за Серебряным, который заставил их побегать. Девушка же все причитала.
— Увы, моя прекрасная принцесса, — говорила она, — как я была счастлива в вашем дворце! Смогу ли жить вдали от вас? Знай вы о моем злоключении, уж послали бы своих амазонок[37] за несчастной Абрикотиной.
Услышав такое, Леандр без промедления ухватил державшего ее вора и привязал к дереву, а злодей не успел даже пикнуть, ибо не видел, кто его привязывал. На его крики прибежал еще один и, запыхавшись, поинтересовался, кто это его так приторочил.
— Знать не знаю, — ответил тот, — я никого не видел.
— Это всё твои отговорки, — сказал другой, — а мне-то давно известно, какой ты жалкий трус — вот чего ты заслуживаешь. — И он дал ему двадцать ударов кнутом.
Дух изрядно позабавился, слушая крики несчастного, затем связал и второго вора, схватив его за руки и повернув лицом к приятелю. Не преминул он и попенять ему:
— Что, храбрец ты этакий, тебя-то кто связал, а? Ты-то сам теперь разве не жалкий трус?
Тот смолчал, лишь опустив голову со стыда и все думая, как так вышло, что он связан, а вокруг никого нет.
Абрикотина же, улучив момент, побежала, сама не зная куда. Леандр, потеряв ее из виду, трижды окликнул Серебряного, а тот, поспешая к хозяину, нанес пару ударов копытами двум преследовавшим его ворам: одному разбил голову, а другому сломал три ребра. Так хотелось догнать Абрикотину, ибо Духу она показалась очень милой; пожелав оказаться рядом с нею, он в тот же миг ее и увидел, да еще такой усталой, такой усталой, что ей пришлось к дереву прислониться — ее даже ноги не держали. Завидев бодро скакавшего Серебряного, она воскликнула:
— Славно, славно, вот милый конек, который отвезет Абрикотину во Дворец Удовольствий.
Дух слышал ее, а она-то его не видела. Он подскакал, Серебряный встал, и она вскочила ему на спину; тут Дух крепко обнял ее и к ней прижался. О! Как испугалась Абрикотина, почувствовав рядом невидимку! Не смея шевельнуться, закрыв глаза и лишившись речи, она боялась, что это призрак. Принц уж хотел положить ей в рот лучшие в мире драже[38] — ведь ими всегда были полны его карманы, — но она даже зубов разжать не смогла, так ей было страшно.
Наконец он снял свою шапочку и сказал:
— Отчего же вы, Абрикотина, столь робки и пугливы — ведь это я вырвал вас из рук похитителей!
Тут ее глаза раскрылись.
— Ах, господин, — обрадовалась она, — так это вы, мой спаситель! А то мне страшно было рядом с невидимкой.
— Я не невидимка, — ответил он, — а не замечаете вы меня потому, что у вас, должно быть, глаза болят.
Абрикотина хоть и была весьма умной, но этому поверила. Леандр спросил, сколько ей лет, из каких она краев и как оказалась в руках похитителей.
— Я должна удовлетворить ваше любопытство, ибо слишком многим вам обязана, — промолвила она, — однако, господин, поедемте же скорее дальше, и я расскажу вам все по дороге.
Некая фея, не имевшая себе равных в учености, весьма увлеклась одним принцем, а поскольку она одна из всех фей оказалась столь влюбчивой, то и вышла за него замуж, не слушая подруг, твердивших ей, что она дурно поступает по отношению к миру фей. Тогда они просто изгнали ее, и ей оставалось лишь построить большой дворец невдалеке от их королевства. Принца же, за которого она вышла замуж, приводило в бешенство, что жена знает о каждом его шаге, — вот она ему и надоела. Стоило ему лишь бросить взгляд на другую даму, как она устраивала дома настоящий шабаш[39] — любое самое милое создание превращала в страшилище.
И в одно прекрасное утро сей принц, не вынеся такого избытка нежных чувств, оседлал коня и припустил от нее так быстро, как только мог; уехал куда подальше и доскакал так далеко, что забился там в расщелину скалы и думал, что уж теперь-то она его не найдет. Это не помогло; фея, догнав его, сообщила, что она на сносях и умоляет его вернуться, что денег, лошадей, собак и оружия у него будет вдоволь, а она еще и построит манеж и заведет во дворце игры с мячами и шарами, чтобы его развлечь. Это его, однако, не убедило — он от природы был упрям и свободолюбив. И как ведь нагрубил-то: назвал ее и кровосоской, и старой каргою.
«Радуйся же, — сказала она в ответ, — что я умней тебя, дурака; да захоти я только — и быть тебе котом, вечно орущим в водосточных канавах, или гадкой жабой, барахтающейся в грязи, а то совой или тыквой: но я поступлю с тобою еще хуже — оставлю тебя здесь вместе с твоим сумасбродством. Сиди же в дыре своей, в темной пещере с медведями, да кликни местных пастушек себе в компанию; авось поймешь когда-нибудь разницу между нищенками да крестьянками и мною — а я фея такая, что стоит мне захотеть, и я милей всех».
Тотчас села она в летучую карету и быстрее птицы умчалась прочь. Вернувшись же, первым делом перенесла по воздуху дворец подальше оттуда, выгнав челядь и набрав вместо нее женщин из племени амазонок и поручила им стеречь остров так, чтоб никогда туда не мог попасть ни один мужчина. Назвала же это место Островом Тихих Удовольствий, имея в виду, что мужской пол таковые доставить не способен; и дочь свою воспитала в том же духе. Это поистине несравненное создание. Я как раз в услужении у этой самой принцессы, а коль скоро вместе с ней правят Услады, то в ее дворце никогда не стареют: вот взгляните на меня — а ведь мне более двухсот лет. Когда моя госпожа выросла, фея-мать оставила ей остров, преподав ей основы счастливой жизни, сама же возвратилась в королевство Фей: а принцесса Тихих Удовольствий чудесно правит своим государством. Сколько живу на свете, а не приходилось, кажется, видеть мне других мужчин, кроме похитителей моих и вас, сударь; а воры эти мне сказали, что их послал один уродливый коротышка по имени Фурибонд, который влюблен в мою госпожу, хотя видел только лишь ее портрет: они слонялись вокруг острова, не смея на него слупить, ибо бдительные наши амазонки не пускают никого; но я, ухаживая за птицами принцессы, упустила ее красивого попугая и, боясь ее гнева, в его поисках неосмотрительно покинула остров; они схватили меня и, когда б не ваша помощь, уж точно увезли бы отсюда.
— Если благодарность вам не чужда, — сказал Леандр, — о прекрасная Абрикотина, могу ли я надеяться, что вы позволите мне проникнуть на Остров Тихих Удовольствий и увидеть эту восхитительную принцессу, которая не стареет?
— Ах, господин, — отвечала она, — пропадем мы с вами из-за этакой затеи! Извольте уметь обходиться без того, чего не знаете: вы никогда не бывали в этом дворце, так и представьте себе, что его и вовсе нет.
— Это не так просто, — ответил принц, — забыть о том, что уже чудесным образом поселилось в памяти; и я не согласен с вами, что полное изгнание нашего пола — надежный способ обретения тихих удовольствий.
— Господин, — ответила она, — решение не в моей власти; признаюсь даже, что, будь все мужчины похожи на вас, принцесса, быть может, приняла бы другие законы: но поскольку я встретила за всю жизнь только пятерых, четверо из которых притом оказались так злы, я и делаю вывод, что плохих все-таки больше и лучше прогнать их всех.
Беседуя подобным образом, они оказались на берегу широкой реки; тут Абрикотина ловко спрыгнула на землю.
— Прощайте, господин, — сказала она принцу, присев перед ним в глубоком реверансе, — я вам желаю такого счастья, чтобы весь мир был Островом ваших Удовольствий; уезжайте быстрее, а то как бы наши амазонки вас не увидели.
— Я же, прекрасная Абрикотина, — отвечал он, — желаю вам чувствительного сердца, чтобы вы иногда обо мне вспоминали.
Тут принц повернул коня и вскоре очутился в густом лесу, что рос на берегу реки. Он снял с Серебряного седло и уздечку, дав ему прогуляться и пощипать травы; сам же надел красную шапочку и пожелал оказаться на Острове Тихих Удовольствий. Это мгновенно исполнилось, и он оказался в самом прекрасном и необычном месте на свете.
Дворец был из чистого золота; он стоял на изваяниях из хрусталя и драгоценных камней, которые изображали знаки зодиака и все чудеса природы, все науки и искусства, все стихии, море и рыб, землю и зверей, охоту Дианы и ее нимф[40], благородные шествия амазонок, деревенские забавы, пастушек с их стадами и собаками, хлопоты сельской жизни, земледелие, жатву, сады, цветы, пчел; и среди всего этого разнообразия нельзя было заметить ни мужчин, ни мальчиков, ни даже хоть какого-нибудь бедного маленького Амура[41]: фея была слишком зла на своего легкомысленного супруга, чтобы снизойти до его неверного пола.
«Абрикотина меня не обманула, — сказал принц сам себе. — В этих краях запрещена даже мысль о мужчинах. Посмотрим, много ли они на этом потеряли».
Он вошел во дворец, на каждом шагу встречая вещи столь удивительные, что, стоило ему лишь взглянуть, как его одолевало неистовое желание унести их с собой; золото и бриллианты были не просто редкими по красоте, но еще и поражали мастерством отделки. Повсюду он видел молодых особ, нежных, невинных, смеющихся и красивых, как ясный день; он прошел через огромное количество просторных комнат: одни были наполнены прелестными китайскими шелками[42], чей аромат и причудливость цветов и рисунков доставляли бесконечное удовольствие. Стены других были из фарфора, столь тонкого, что при свете солнца они казались прозрачными; третьи — выточены из горных пород: янтаря, кораллов, лазури, сердолика, а комната принцессы целиком состояла из огромных зеркал, ибо такого очаровательного создания не могло быть слишком много.
Ее трон был выточен из цельной жемчужины, лежащей в глубине раковины; принцесса с комфортом на нем восседала; и слева, и справа он был обрамлен гирляндами рубинов и бриллиантов, но и это великолепие затмевала несравненная красота самой принцессы. Выглядела она совсем как ребенок, зато манеры отличались изысканным воспитанием, как у цветущих молодых дам. Ничто не могло сравниться с нежной живостью ее глаз: невозможно было найти в ней ни единого изъяна; она любезно улыбалась фрейлинам, которые в тот день нарядились нимфами, чтобы ее развлечь.
Не найдя Абрикотины, принцесса спросила, куда та подевалась. Нимфы ответили, что искали ее, но безрезультатно. Дух же, сгорая от нетерпения вступить в беседу, сказал голосом попугая (ибо в комнате их было много):
— Милая принцесса, Абрикотина скоро вернется; ее могли похитить, если бы не молодой принц, который ее спас.
Принцесса удивилась столь разумному ответу птицы.
— Вы очень милы, попугайчик, — отвечала она ему, — но, кажется, ошибаетесь; вот вернется Абрикотина — смотрите же, она вас отхлещет.
— Меня не отхлещут, — возразил Дух, все еще подражая попугаю. — Напротив, она расскажет вам о страстном желании этого незнакомца попасть к вам во дворец, дабы разрушить ложные представления, которые вы составили о всей мужской половине.
— Поистине, попугай, — воскликнула принцесса, — жаль, что вы не всегда такой милый, а то как нежно я бы вас полюбила.
— Ах! Если, чтобы вам понравиться, нужно всего лишь разговаривать, — ответил Дух, — что ж, буду болтать без умолку.
— Что ж такое, — продолжала принцесса, — да поклянитесь сперва, что этот попугай не колдун?
— Скорее влюбленный, — сказал он.
В этот миг вошла Абрикотина и бросилась в ноги своей прекрасной госпоже: она поведала ей о приключении и живо описала портрет принца с весьма выгодной стороны.
— Я ненавидела бы всех мужчин, — добавила она, — не встреть его. Ах, сударыня, как он очарователен! Во всем его виде и манерах есть нечто благородное и остроумное; и поскольку все им сказанное бесконечно меня радовало, то, думаю, я поступила правильно, что не привела его сюда.
Принцесса ничего не ответила, продолжив расспросы о принце: не знает ли Абрикотина, как его зовут, из каких он краев, кто по происхождению, откуда явился и куда направлялся — после чего погрузилась в глубокую задумчивость.
Дух за это время успел осмотреться и сказал тем же птичьим голоском:
— Абрикотина неблагодарна, сударыня. Этот несчастный странник умрет с горя, если не увидит вас.
— И что же, попугай? Пусть себе умирает, — вздохнула принцесса, — а тебе, глупой птице, которая смеет тут рассуждать как существо разумное, я запрещаю говорить мне об этом незнакомце.
Леандра обрадовало впечатление, оставленное у принцессы рассказом Абрикотины и речами попугая; он так любовался хозяйкой острова, что позабыл клятвы никогда уж больше не влюбляться: кокетка Блондина тут не могла идти ни в какое сравнение. «Возможно ли, — говорил он сам себе, — чтобы такое совершенство природы, такое чудо наших дней вечно оставалось на острове и ни один смертный не смел бы к ней приблизиться! Но, — продолжал он, — что мне за дело до других, если уж попасть сюда так повезло мне, если я вижу, слышу ее, восхищаюсь ею и уже без памяти люблю?»
Было поздно, принцесса прошла в зал из мрамора и порфира, где воздух приятно освежало множество бьющих фонтанов. Как только она вошла, заиграла благозвучная музыка и подали роскошный ужин. Вдоль стен располагались вольеры с редкими птицами, за которыми ухаживала Абрикотина.
За время своих странствий Леандр научился подражать птичьему пению, и он принялся посвистывать как те птицы, которых здесь не было. Принцесса послушала, огляделась с восхищением и, встав из-за стола, подошла поближе. Дух защебетал вполовину громче и звонче; подражая голосу кенара, он пропел стихи, вдруг пришедшие ему на ум:
Прекрасной жизни дни
Бесследно пролетают,
Для тех грустны они,
Кто о любви не знает:
Любовь вас умоляет
В ваш дом ее впустить,
Супруга посылает
Она вам, может быть.
Принцесса, удивленная еще больше, подозвала Абрикотину и спросила, не она ли научила петь кого-то из этих кенаров. Девушка ответила, что нет; однако, по ее мнению, кенары столь же сообразительны, как и попугаи. Представив, как Абрикотина дает уроки своему крылатому народцу, принцесса улыбнулась. Потом она вновь села за стол, чтобы завершить свой ужин.
Леандр устал с дороги и был изрядно голоден; он подошел к богато накрытому столу, от которого исходили такие соблазнительные ароматы. У принцессы был голубой кот[43], какие в те времена вошли в моду, и она очень его любила; одна из ее фрейлин взяла его на руки и сказала ей:
— Сударыня, Василек хочет поесть.
Тотчас его посадили за стол перед золотым блюдечком, а рядом лежала искусно сложенная салфетка; кот, в ошейнике из жемчуга и с золотым бубенчиком на шее, принялся за еду с видом Раминагробиса[44]. «Ого! Ого, — сказал Дух сам себе, — толстый голубой котяра, да он, должно быть, отродясь мышей не ловил и уж наверное не родовитей меня, а какова честь — есть вместе с моей прекрасной принцессой! Хотел бы я знать, любит ли он ее так же, как я, и справедливо ли, что я вкушаю лишь дым, тогда как он поедает лакомые кусочки!» Он осторожно снял голубого кота, сел в кресло и посадил его себе на колени; никто не видел Духа: да и как его увидеть? На нем была красная шапочка. Принцесса накладывала куропатку, перепелку, фазана на золотую тарелку Василька: куропатка, перепелка и фазан исчезали в мгновение ока; весь двор говорил: «Никогда еще голубой кот не ел с таким аппетитом». Среди угощений стояло превосходное рагу. Дух брал его, вложив вилку в кошачью лапу; случалось ему за нее и дернуть; Василек, не понимавший шуток, мяукал и пытался царапаться, раздраженный до крайности; тогда принцесса говорила: «Подайте же пирог или фрикасе бедному Васильку; видите, как он их просит!» Леандр тихонько посмеивался над таким забавным приключением, но у него, не привыкшего есть так обильно, ничем не запивая, пересохло горло; он подцепил кошачьей лапой большую дыню, которая немного утолила его жажду, и, когда ужин был почти закончен, стянул из буфета две бутыли изысканного нектара.
Принцесса отправилась к себе, позвав Абрикотину, и уже в кабинете велела ей запереть за ними дверь; Дух не отставал и вошел третьим, никем не замеченный. Принцесса сказала наперснице:
— Признайся, что ты преувеличила, описывая мне этого незнакомца; ведь не может быть, чтобы он был так хорош.
— Уверяю вас, сударыня, — ответила девушка, — что я скорее уж недохвалила его.
Принцесса вздохнула и мгновенье размышляла, затем заговорила вновь:
— Я признательна тебе, — продолжала она, — что ты отказалась привести его с собой.
— Но, сударыня, — возразила Абрикотина (которая была очень хитрой и успела прочесть мысли своей госпожи), — что вам за беда, приди он полюбоваться чудесами наших прекрасных краев? Или вы хотите вечно прозябать в безвестности на краю света, спрятавшись от всех смертных? Зачем вам вся эта роскошь, пышность и великолепие, если никто их не видит?
— Замолчи, замолчи, болтушка, — замахала руками принцесса, — не тревожь счастливого покоя. Сама подумай: будь моя жизнь бурной, разве прожила бы я шестьсот лет? Лишь тихие и невинные удовольствия способствуют этому. Разве мы не читали в романах о революциях в больших государствах[45], о внезапных ударах изменчивой судьбы, о немыслимых любовных смятениях, о горечи разлуки и ревности? Что виною всем этим тревогам и печалям? Только общение людей друг с другом. Я, стараниями своей матери, избавлена от подобных неурядиц: я не знаю ни сердечных мук, ни напрасных желаний, ни зависти, ни любви, ни ненависти. Ах! Так будем же, будем и дальше жить столь же безмятежно!
Тут уж Абрикотине сказать было нечего. Принцесса, немного помедлив, поинтересовалась, что она об этом думает. Девушка спросила, зачем же тогда посылать портрет принцессы во многие дворы, где он послужит лишь причиной раздоров, поскольку все захотят им обладать и, не в силах этого добиться, придут в отчаяние.
— И все же признаюсь тебе, — сказала принцесса, — я хотела бы, чтобы мой портрет оказался в руках этого незнакомца, имени которого ты не знаешь.
— Ох, сударыня, — ответила Абрикотина, — уж не захотели ли вы страстно, чтобы вас увидели? Что ж, по-вашему, пусть это желание крепнет?
— Да, — воскликнула принцесса, — оно есть, и породили его уколы тщеславия, прежде мне незнакомые.
Дух не пропустил из этой беседы ни единого слова; многое из сказанного давало ему сладкую надежду, другое же — отнимало.
Было поздно, принцесса отправилась спать. Как хотелось Духу последовать за ней к ее туалетному столику, но, хотя ему стоило лишь пожелать этого, почтение его удержало: он подумал, что должен позволять себе лишь то, что она сама ему разрешит; чувства его были столь нежными и утонченными, что он терзался из-за пустяков.
Он зашел в комнатку рядом со спальней принцессы, чтобы иметь удовольствие хотя бы услышать ее голос. Та как раз спрашивала Абрикотину, не видала ли та чего-нибудь необычного за время своего маленького путешествия.
— Сударыня, — сказала ей девушка, — я проходила через один лес, в котором видела животных, подобных детям; они взбирались на деревья и плясали там, словно белки; внешность их уродлива, зато ловкость не имеет равных.
— Ах, как бы я хотела таких, — сказала принцесса, — но при подобной живости поймать их, должно быть, нельзя.
Дух, хорошо знакомый с тем лесом, понял, что это обезьяны[46]; в тот же миг он пожелал там очутиться. Наловил с дюжину разноцветных больших и маленьких мартышек, с большим трудом загнав их в большой мешок, после чего пожелал оказаться в Париже, — ведь он слышал, что там за деньги можно достать все что угодно. Он отправился к коллекционеру Дотелю[47], купил у него маленькую золотую карету, в которую запряг из них шестерых, с зеленой шерстью и в крошечных огненно-сафьяновых сбруях, расшитых золотом; затем отправился к знаменитому кукольнику Бриошé[48], где нашел еще двух превосходных обезьян: самую умную звали Брискамбий[49], другую — Персефорет[50], и обе были весьма галантны. Он нарядил Брискамбия королем и посадил его в карету; Персефорет послужил кучером; другие обезьяны были в костюмах пажей — ничего грациозней и придумать нельзя. Он поместил карету и разодетых обезьян в тот же мешок. И вот принцесса, еще не успевшая заснуть, услышала в парадном зале шум; тут ее нимфы поспешили доложить ей о прибытии короля Карликов. Карета как раз въехала в ее покои вместе с обезьяньей свитой; и простые обезьяны тоже отличались в проказах и фокусах, не отставая от Брискамбия с Персефоретом. На самом-то деле всем управлял Дух: он выпустил из маленькой золотой кареты макаку, державшую бриллиантовую шкатулку, и та с большим изяществом подала ее принцессе, которая поспешно ее открыла и нашла внутри записку
Какая благодать, какие чудеса!
Прекрасен сей дворец, пленит его краса!
Но это всё вовеки несравнимо
С единственной, что мною так любима.
Благословен сей сладостный покой,
Вы правите от мира в отдаленье,
Теряю с вами я рассудок свой,
Не смея вам раскрыть души томленье.
Легко догадаться об ее удивлении. Брискамбий сделал знак Персефорету идти танцевать с ним. Никакие прославленные Фаготены[51] не могли сравниться с этой парой. Но принцессу, поначалу хохотавшую до упаду, встревожили эти стихи, неизвестно откуда взявшиеся, и потому она распустила танцоров, хотя они и развлекали ее, и погрузилась в глубокие размышления, не в силах раскрыть такую странную загадку. Леандр остался доволен и вниманием, с каким принцесса прочла его стихи, и тем удовольствием, которое она испытала при виде обезьян; однако он сильно нуждался в коротком отдыхе, при этом опасаясь, что займет покои какой-нибудь из нимф. Походив еще по парадному залу, он наконец спустился вниз и вошел в открытые нижние покои, столь приятные и удобные, что лучше и представить нельзя: там стояло ложе, покрытое золотой и зеленой воздушной тканью, с жемчужными оборками и обшитое рубинами и изумрудами. Было еще светло, и стоило полюбоваться необычайным великолепием этого сооружения. Заперев хорошенько дверь, он уснул, но мысли о прекрасной принцессе много раз его будили, и, только подумав о ней, он не мог удержаться от влюбленных вздохов.
Он встал так рано, что весь извелся от нетерпения, когда же снова ее увидит; тут, осмотревшись, заметил он приготовленный холст и краски; сразу же вспомнил, что принцесса говорила Абрикотине о своем портрете; и, не теряя ни минуты (ибо он рисовал лучше самых превосходных мастеров), сел перед большим зеркалом и изобразил самого себя; потом на том же холсте нарисовал и овальный портрет принцессы, воображая ее так живо, что ему не нужно было видеть ее, чтобы сделать первый набросок; красоту принцессы он еще и незаметно приумножил. А раз он и за работу-то взялся только чтоб угодить ей, то и портрет вышел как нельзя лучше: на полотне он стоял коленопреклоненный и держал в одной руке портрет принцессы, а в другой — свиток, на котором было написано: В моем сердце она еще краше.
Когда принцесса вошла в кабинет, то с удивлением обнаружила там портрет мужчины; с еще большим изумлением разглядела она на картине и саму себя, а слова, написанные на свитке, дали ей обильную пищу для любопытства и мечтаний. Будучи здесь одна, принцесса не знала что и подумать о таком необычайном приключении; но она убедила себя, что это любезность Абрикотины; оставалось лишь выяснить, не был ли портрет этого рыцаря всего лишь игрой ее воображения; она вскочила и кликнула ее. Дух, в красной шапочке, был уже в кабинете, сгорая от любопытства увидеть дальнейшее.
Принцесса велела Абрикотине взглянуть на картину и сказать, что она о ней думает. Девушка вскрикнула, едва только посмотрев:
— Уверяю вас, сударыня, что это тот самый великодушный незнакомец, коему я обязана жизнью; да, это он, никаких сомнений: его лицо, его фигура, волосы и весь облик.
— Ты притворяешься удивленной, — сказала принцесса с улыбкой, — но ведь это ты его сюда поставила.
— Я, сударыня? — ответила Абрикотина. — Клянусь вам, что никогда в жизни не видела эту картину; да и не дерзостью ли было бы прятать от вас вещь, которая вас интересует? И каким чудом она могла попасть в мои руки? Я не умею рисовать, и в этих местах не появлялся ни один мужчина. Между тем он нарисован рядом с вами.
— Я охвачена страхом, — сказала принцесса, — должно быть, его принес какой-то демон.
— Сударыня, — промолвила Абрикотина, — да уж не Любовь ли это? Если вы того же мнения, осмелюсь дать вам совет: давайте сейчас же его сожжем.
— Как жаль! — вздохнула принцесса. — Мне кажется, эта картина весьма украсила бы мой кабинет.
Она молча любовалась ею. Но Абрикотина настаивала: принцесса должна сжечь предмет, попавший сюда не иначе как по волшебству.
— А эти слова: В моем сердце она еще краше, — спросила принцесса, — мы что же, сожжем и их?
— Не нужно жалеть ничего, — ответила Абрикотина, — даже ваш портрет.
Она тотчас побежала за огнем. Принцесса подошла к окну, не в силах больше смотреть на портрет, который так тронул ее сердце, но Дух, не желая мириться с тем, что его творение сожгут, улучил минутку, чтобы схватить его и убежать, оставшись незамеченным. Едва он покинул кабинет, как она обернулась, чтобы еще раз посмотреть на этот волшебный портрет. Каково же было ее удивление, когда его там больше не оказалось! Она искала по всем углам; вернулась Абрикотина, принцесса спросила ее, не она ли только что убрала картину. Девушка ее заверила, что нет; и это последнее происшествие окончательно их напугало.
Спрятав полотно, Дух вернулся; ему было так приятно видеть и слышать свою прекрасную принцессу; каждый день он ел за ее столом вместе с Васильком, хотя того это и не радовало; однако и Дух не очень-то был доволен, поскольку до сих пор не посмел ни заговорить, ни показаться — а как же заставить себя полюбить, ежели ты невидимка.
Принцесса очень ценила всяческие изысканные пустяки — они рассеивали ее сердечную тоску. Однажды, сидя в окружении своих нимф, она сказала им, что с радостью посмотрела бы, что за наряды носят дамы при разных дворах, чтобы самой одеваться изящней всех. Этого было достаточно, чтобы Дух облетел весь свет. Нацепив красную шапочку, он оказался в Китае, накупил там самых красивых тканей и запомнил, какие платья там носят; потом полетел в Сиам и то же сделал там; за три дня успел побывать в четырех концах света; по мере того, как пополнялась его ноша, он возвращался во Дворец Тихих Удовольствий и прятал в кабинете все, что принес. Собрав бесконечное число диковин (деньги для него ничего не значили, и его роза поставляла ему их без конца), он купил пять или шесть дюжин кукол и одел их в платья, какие носят в Париже, — а это такое место на земле, где мода в особом почете. Куклы, разнообразные и несравненные по великолепию, Дух расставил в кабинете принцессы.
Когда она туда вошла, ее удивлению не было границ: в руках у каждой был подарок — часы или браслет, бриллиантовая пуговица или ожерелье; а самая красивая держала сверток. Принцесса его раскрыла и нашла там портрет Леандра; воспоминание о первом изображении помогло ей узнать второе. Она громко вскрикнула, затем, глядя на Абрикотину, сказала ей:
— Что же за оказии такие с некоторых пор происходят в этом дворце: то птицы обладают здравым умом, то, кажется, стоит мне лишь загадать желание, чтобы оно исполнилось; дважды попадается мне облик того, кто вырвал тебя из рук похитителей; а тут еще и ткани, бриллианты, вышивка, кружева и нескончаемые диковины. Кто же это — фея ли, демон — и где тот, кто потрудился оказать мне столь приятные услуги?
Услышав такое, Леандр бросил к ногам принцессы следующие стихи, написав их на табличках:
Нет, я не демон и не фея,
Но от любви к вам сам не свой.
Прошу вас, сжальтесь надо мной;
Предстать пред вами я не смею.
Принц-Дух
Эти таблички для письма так сверкали золотом и драгоценными камнями, что принцесса тут же их заметила; она открыла их и с крайним изумлением прочитала написанное.
— Так, значит, этот невидимка — чудовище, — рассудила она, — раз он не смеет показаться. Но если бы он и впрямь был ко мне привязан, ему хватило бы деликатности не показывать мне столь трогательный портрет: ах, нет, он меня не любит, раз подвергает мое сердце такому испытанию, или мнит о себе слишком много и уж точно лучше, чем он есть.
— Я слышала, сударыня, — ответила Абрикотина, — что духи состоят из огня и воздуха, у них нет тела, а действуют лишь их душа и воля.
— Я этому очень рада, — ответила принцесса, — такой возлюбленный не потревожит моей спокойной жизни.
Обрадованный тем, как занимает ее его портрет, Леандр вспомнил, что у принцессы есть любимый грот, где она бывает каждый день; там собирались воздвигнуть статую Дианы, а пока стоял пустой пьедестал. Он встал на него, пышно разодетый, надев лавровый венок и взяв лиру, на которой играл лучше Аполлона[52], и с нетерпением ждал, когда явится принцесса. Сюда она приходила помечтать о незнакомце — рассказ Абрикотины вместе с увиденными на холсте приятными чертами Леандра лишили ее покоя: она полюбила одиночество, утратив веселость нрава, что несказанно удивляло ее нимф.
Войдя в грот, принцесса пожелала остаться одна; нимфы удалились, каждая на отдельную тропинку; она же бросилась на ложе из дерна, вздохнула, уронила несколько слезинок; прошептала что-то, но так тихо, что Дух ничего не расслышал. Он надел красную шапочку, чтобы она не увидела его раньше времени, затем снял, и она заметила его с крайним удивлением; поскольку он продолжал стоять в позе статуи, то она, и приняв его за таковую, смотрела с тревогой, однако не без удовольствия; но, как ни изумило ее нежданное зрелище, а радость победила страх, и эта фигура, неотличимая от живой, уже не так пугала ее, когда принц, тронув струны лиры, наконец пропел такие слова:
Я места этого без памяти боюсь!
Здесь чувства даже камень обретает!
Напрасно клялся я, что больше не влюблюсь,
Ведь всякий смертный волю здесь теряет!
Кто вам сказал, что дивный сей дворец
Есть место лишь для удовольствий милых?
Свободной жизни здесь моей конец,
Я этому противиться не в силах.
Своей я пылкой страсти уступаю,
Прожить я здесь до старости желаю.
Как ни очарователен был голос Леандра, но тут уж принцесса от страха побледнела и упала без чувств. Встревоженный принц спрыгнул с пьедестала и надел красную шапочку. Он взял принцессу на руки, приводя ее в чувство с несравненными рвением и усердием; вот наконец, открыв свои прекрасные глаза, она принялась осматриваться, ища его и не находя ни души, но ведь кто-то, она чувствовала, был рядом с нею, держал ее за руки, целовал их, орошал их слезами. Она долго не осмеливалась заговорить; ее беспокойный разум метался между страхом и надеждой; она и боялась Духа, и любила его, представляя тем самым незнакомцем. Наконец она воскликнула:
— Дух, любезный Дух, не вы ли мне так нужны!
При этих словах Духу весьма захотелось обнаружить себя, но он все еще не решался. «Если я испугаю ту, кого люблю, — сказал он себе, — она больше никогда не полюбит меня». Эти мысли заставили его потихоньку отступить вглубь грота.
Принцесса, думая, что она одна, позвала Абрикотину и поведала ей о чудесах с ожившей статуей: о том, какой небесный голос говорил с нею и как Дух помог ей прийти в себя.
— Как жаль, — вздохнула она, — что этот дух безобразен и ужасен! Ибо могут ли быть манеры галантней и милее, чем у него?
— А кто вам сказал, сударыня, — ответила Абрикотина, — что он такой, каким вы его представляете? Разве не полагала Психея, что Амур — это змей?[53] Ваша история отчасти похожа, вы столь же прекрасны: да полюби вас сам Купидон, неужто не полюбили бы вы его в ответ?
— Если Купидон то же самое, что и незнакомец, — сказала принцесса, покраснев, — увы, уж лучше бы мне было полюбить Купидона! Но мне ли мечтать о подобном счастье! Меня увлекла несбыточная мечта; и сей роковой портрет, и твои рассказы о незнакомце пробудили во мне мысли, столь противоположные матушкиным наставлениям, что я премного боюсь быть за это наказанной.
— Ах, сударыня, — прервала ее Абрикотина, — да вы уж и так достаточно настрадались! Зачем предвидеть несчастья, которым не суждено случиться?
Легко представить, какую радость доставил этот разговор Леандру.
Тем временем коротышка Фурибонд, который принцессу хоть никогда и не видел, однако по-прежнему был в нее влюблен, с нетерпением ожидал возвращения четырех разбойников, отправленных им на Остров Тихих Удовольствий: из них вернулся только один, доложивший, что принцессу защищают амазонки и без большого войска туда проникнуть не удастся.
Король, его отец, недавно умер, и Фурибонд стал полновластным владыкой. Он собрал более четырехсот тысяч человек и сам возглавил их — генерал из него вышел еще тот: Брискамбий и Персефорет и те командовали бы лучше; его боевой конь был ростом с пол-локтя. Завидев сие воинство великое, амазонки сказали о том принцессе, а она тут же отправила верную Абрикотину в королевство фей, чтобы спросить у матери, как прогнать коротышку Фурибонда из своего государства. Но Абрикотина нашла фею сильно разгневанной.
— Мне известно обо всем, что делает моя дочь, — сказала ей та, — в ее дворце принц Леандр; он любит ее, он ею любим; никакие мои усилия не смогли защитить ее от власти Любви, и вот она под ее роковым влиянием. Увы! Злодей-Амур не довольствовался теми бедами, что причинил мне, он покусился на то, что я люблю больше жизни! Мне невозможно противостоять веленью судьбы. Возвращайтесь, Абрикотина, не хочу больше говорить об этой девчонке, уж так огорчила меня ее склонность!
Абрикотина отправилась обратно с плохими вестями; ее госпожа, кажется, готова была совсем предаться отчаянию. Дух невидимкою был рядом, его до крайности огорчала глубина ее горя. В ту минуту он не осмелился заговорить с ней, но вспомнил, что Фурибонд очень жаден, и, если дать ему много денег, он может и отступиться. Принц переоделся в амазонку и перенесся в лес, кликнув свою лошадь. Серебряный был тут как тут, подбежав к нему с радостной резвостью, — он очень скучал вдали от дорогого хозяина, однако не фазу признал его в женском платье и даже сперва испугался. Леандр прибыл в лагерь Фурибонда. Все приняли его за амазонку — так он был красив. Королю сказали, что юная дама хочет говорить с ним от имени принцессы Тихих Удовольствий. Тот, поспешно напялив мантию, уселся на трон, похожий на жабу, наряженную королем.
Леандр обратился к нему с речью и сказал, что принцесса, предпочитающая тихую и мирную жизнь, во избежание войны предлагает ему столько денег, сколько он пожелает. «Амазонка» просила оставить ее в покое — в случае же отказа она всеми силами будет защищаться. Фурибонд отвечал, что сжалится над нею, что для него большая честь поддержать ее, и, если ему пришлют всего лишь тысячу тысяч миллионов пистолей, он тотчас вернется в свое королевство. Леандр объяснил, что отсчитывать тысячу тысяч миллионов пистолей было бы слишком долго, и пусть он просто скажет, сколько хочет комнат, набитых золотом, а уж это для такой щедрой и могущественной принцессы просто пустяк. Весьма удивился тому Фурибонд, что ему позволяют повысить цену, вместо того чтоб просить ее понизить; про себя же подумал, что нужно заграбастать все золото, какое только можно, а потом схватить амазонку и убить ее, чтобы она не вернулась к своей госпоже.
Он сказал Леандру, что хочет тридцать больших комнат, до краев заполненных золотыми монетами, и дает королевское слово, что повернет назад. Леандра отвели в эти комнаты, тут он принялся так трясти своей розою, что пистоли, четвертаки, луидоры, золотые экю, нобели, соверены, гинеи, цехины[54] так дождем и посыпались, и было это чудо, в мире доселе не виданное.
Фурибонд был вне себя от восторга, но чем больше золота он видел, тем больше ему хотелось схватить амазонку и заполучить принцессу. Как только тридцать комнат были наполнены, он крикнул стражникам:
— Хватайте, хватайте эту плутовку, все ее монеты фальшивые!
Тут стражники накинулись было на амазонку; но красная шапочка была надета в мгновение ока, и Дух исчез: они подумали, что он убежал; бросились за ним и оставили Фурибонда одного. Вот тут Дух и схватил его за волосы и отрубил ему голову, словно курице, так, что несчастный маленький король даже не видел руки, перерезавшей ему горло.
Прихватив эту голову с собой, Дух перенесся во Дворец Удовольствий; принцесса прогуливалась там, грустно размышляя о том, что велела передать ей мать; она думала, как с небольшим количеством амазонок дать отпор четырем сотням тысяч солдат Фурибонда. Вдруг она заметила висевшую в воздухе голову. Это чудо сильно ее удивило, она не знала, что и думать. Еще более изумило ее, когда голова легла к ее ногам, — а кто ее туда положил, она не видела; в тот же миг послышался голос:
— Не бойтесь, милая принцесса, Фурибонд больше не причинит вам зла.
Абрикотина узнала голос Леандра и воскликнула:
— Уверяю вас, сударыня, что невидимка, который произнес эти слова, и есть тот незнакомец, кто меня спас.
Принцесса казалась удивленной и обрадованной.
— Ах, — сказала она, — если незнакомец и дух — это и правда одно и то же, то признаюсь, что была бы счастлива засвидетельствовать ему свою признательность!
— Я еще намерен потрудиться, чтобы ее заслужить! — ответил Дух и вернулся к армии Фурибонда, где только что разлетелась весть о смерти короля. Стоило ему лишь появиться там в своей обычной одежде, как все бросились навстречу: капитаны и солдаты окружили его с громкими радостными восклицаниями, признав в нем своего короля и его право на корону. Он великодушно позволил им разделить между собой тридцать комнат с золотом — так это войско навеки стало богатым. Проведя несколько церемоний, дабы убедиться в верности солдат, Леандр снова вернулся к принцессе, приказав войску отступать короткими переходами в свое королевство. Принцесса легла спать. Войти к ней принцу не позволило глубокое почтение; он спустился в те покои, где по-прежнему спал ночами, ибо чувствовал себя усталым и очень нуждался в отдыхе, вот почему, против обыкновения, забыл запереть дверь на ключ.
Принцессу мучили жар и тревога; поднявшись ни свет ни заря, она, неодетая, спустилась в нижние покои. И как же удивилась, обнаружив там спящего Леандра! Долго она всматривалась в его черты, пока не убедилась, что это он, незнакомец с портрета. «Это не может быть Дух, — говорила она себе, — ибо разве духи спят? Разве это тело из огня и воздуха, которому, по словам Абрикотины, и места-то вовсе не надобно?» Она осторожно гладила его по волосам, слушала, как он дышит, прильнув к нему. Радость и страх охватывали ее попеременно. Пока она любовалась им, появилась ее мать-фея, да еще с таким чудовищным шумом, что Леандр внезапно проснулся. Как неожиданно и досадно ему было увидеть свою принцессу в крайнем отчаянии! Мать тащила ее прочь оттуда, осыпая тысячей упреков. О, что за горе для юных влюбленных! Еще немного, и их разлучат навсегда. Принцесса не смела возразить ужасной фее, только бросала умоляющие взгляды на Леандра.
Здраво рассудив, что ему не удержать ее вопреки воле столь могущественной феи, он попытался тронуть сердце разгневанной матери красноречием и покорностью. Подбежав к ней и бросившись к ее ногам, он умолял сжалиться над молодым королем, который никогда не изменит ее дочери и сочтет за наивысшее блаженство сделать ее счастливой. Тут и принцесса, вдохновленная его примером, обняла колени матери, твердя, что без короля ей теперь не жить и она перед ним в большом долгу.
— Вы не знаете превратностей любви, — воскликнула фея, — и измен, на которые способны эти милые обманщики, очаровывающие нас лишь для того, чтобы отравить нам жизнь, уж я-то знаю это. Не хотите же вы, чтобы ваша судьба уподобилась моей?
— Ах, сударыня, — ответила принцесса, — да разве не бывает исключений? Король, кажется, дал вам такие искренние обещания, отчего бы ему не уберечь меня от всего того, чем вы пугаете?
Как ни вздыхали они у ног несговорчивой феи, как ни орошали ее руки слезами — ничто не могло ее тронуть. И не заслужить бы им ее прощения, не появись вдруг добрая фея Миловида, сияя ярче солнца: ее сопровождало Прощение; а следом поспешала толпа Амуров, Игр и Услад[55], которые распевали тысячу дивных и новых песен и резвились, словно дети.
Она обняла старую фею.
— Моя дорогая сестра, — сказала ей Миловида, — я уверена, что вы не забыли тех добрых услуг, какие я вам оказала, когда вы пожелали вернуться в наше королевство; без меня вас бы никогда там не приняли; и с тех пор я ни разу не просила вас об одолжении, но вот настало время для одной просьбы, и весьма существенной. Простите эту прекрасную принцессу; позвольте этому молодому королю взять ее в жены. Обещаю, что он ей не изменит — их дни будут вышиты золотом и шелками. Вы останетесь премного довольны, а уж я никогда не забуду той радости, какую вы мне доставите.
— Я соглашусь на все, что вы пожелаете, дорогая Миловида, — воскликнула фея, — придите же в мои объятия, дети, только так смогу я заверить вас в своем расположении.
С этими словами она обняла принцессу и ее возлюбленного. Довольная фея Миловида со свитой пропели хвалу Гименею: и благозвучность этих песнопений разбудила всех нимф дворца, прибежавших в прозрачных легких платьях узнать, что случилось.
Какой приятный сюрприз для Абрикотины! Ей стоило лишь бросить взгляд на Леандра, чтобы его узнать, а увидев, как он держит принцессу за руку, она уверилась в их взаимном счастье. А когда фея-мать сказала, что хочет перенести Остров Тихих Удовольствий вместе с чудесным замком в королевство Леандра и сама останется там, вместе с ними, продолжая приносить им добро, — тогда уж рассеялись у Абрикотины и последние сомнения.
— На что бы ни вдохновило вас еще ваше великодушие, — сказал король фее-матери, — вы не сможете преподнести мне подарка, равного тому, который я уже получил сегодня. Вы сделали меня счастливейшим из людей, и я чувствую самую глубокую признательность.
Этот милый комплимент очень понравился фее: она ведь была воспитания старомодного, а тогда витиеватыми комплиментами осыпали за любой чих.
Предусмотрительная Миловида взмахнула волшебной палочкой — и перенесла генералов и капитанов войска Фурибонда во дворец принцессы, дабы и они тоже попировали всласть на предстоящем чудесном празднике. Уж она-то позаботилась о том, чтобы пиршество удалось на славу: пяти или шести томов не хватит, чтобы описать комедии, оперы, турниры, игры в кольцо[56], музыку, бои гладиаторов, охоту и другие пышные события, происходившие на этой прекрасной свадьбе. А самое примечательное — то, что среди рыцарей, перенесенных доброй феей в эти прекрасные края, каждая нимфа нашла себе мужа, да еще влюбленного так пылко, точно они были вместе уже лет десять — а ведь на самом-то деле еще и дня не прошло, но волшебная палочка может и не такое.
* * *
Куда ушли златые времена,
Когда всесильной, доброй феей
От бед, каких не сыщешь злее,
Невинность душ была защищена?
Когда по воле шапочки и розы
Вершились разные метаморфозы.
Он видел все, но был невидим сам,
И так прошел он половину света,
Заставив всех поверить в чудеса, —
Ведь розой обладал Леандр заветной,
Которой стоило лишь помахать,
Чтобы большим богатством обладать.
Вторая удивляла силой редкой,
Страданья и недуги прочь гоня.
А третья роза — как она коварна —
Расскажет все о милой, не тая,
Охвачена ль душа ее пожаром
Иль это искра лживого огня.
Увы! Что до возлюбленных беспечных,
Счастлив, кто в ослепленье верит им:
Они в любви клянутся бесконечной,
Но чувства их растают, словно дым.
Пер. Е. Ю. Шибановой
ТОМ ВТОРОЙ
Принцесса Веснянка[57]

Но вот королева зачала. День и ночь она думала, как сохранить жизнь маленькому созданию, еще даже на свет не появившемуся, какое даст ему имя, что за наряды, игрушки и куклы подарит.
Глашатаи на всех перепутьях призвали предстать перед королевой лучших кормилиц, чтобы она выбрала одну-единственную для своего дитяти. И вот с четырех концов света во дворец потянулись кормилицы, и каждая несла по младенцу. Королева же, гуляя в тенистом лесу, присела на пенек и сказала королю:
— Ваше Величество, выберем одну из них, ибо у наших коров не хватит молока, чтобы накормить столько малых детей.
— С радостью, друг мой, — сказал король, — пусть же их позовут.
И вот все кормилицы, сперва присев в глубоком реверансе перед королем с королевой, выстроились в ряд, и каждая встала под деревом. Когда монархи вдоволь налюбовались на их румяные лица, прекрасные зубы, их груди, полные превосходного молока, — тут на телеге, которую толкали два отвратительных крошечных карлика, появилась безобразная женщина, кривоногая и такая горбатая, что колени упирались ей в самый подбородок, косоглазая и вся черная, словно в саже вымазана; прижимая к груди маленькую обезьяну, она бормотала что-то на тарабарском языке, которого никто не понимал. Она тоже встала под деревом, как и другие кормилицы, но королева прогнала ее.
— Ступайте прочь, — сказала она, — толстая вы уродина, не иначе как вы дурно воспитаны, раз посмели предстать предо мною в таком виде. Идите-ка отсюда поскорее, а не то я прикажу вытолкать вас взашей.
И эта угрюмая женщина побрела прочь, бурча что-то злобное. Тут ужасные карлики затащили телегу на толстое дерево, и она удобно устроилась в дупле.
Королева, которая тут же о ней забыла, выбрала себе прекрасную кормилицу; но стоило ей лишь объявить о своем решении, как ужасная змея, затаившаяся в траве, ужалила женщину в ногу, — бедняжка упала замертво. Королева в тоске обратила взор на другую — тут же орел, пролетавший мимо с черепахой в когтях[58], уронил ее несчастной кормилице прямо на голову — голова разбилась вдребезги, точно была из стекла. Королева, опечаленная пуще прежнего, позвала третью, — та же, поспешив к ней, упала в кусты шиповника и выколола себе глаз.
— Ах, — воскликнула королева, — ну что сегодня за ужасный день! Стоит мне только выбрать кормилицу, как с ней тут же случается несчастье! Позовите моего лекаря, пусть он о них позаботится!
Собравшись идти во дворец, она вдруг услышала за спиной раскатистый злобный хохот, а обернувшись, увидела горбатую злодейку, восседавшую на телеге в обнимку с детенышем-обезьянкой. Ах так! Вот кому, стало быть, вся компания и даже сама королева служили потехою! Это было столь досадно, что Ее Высочество едва не бросилась на горбунью с кулаками, догадавшись, что та и была причиной всех случившихся с кормилицами несчастий, — но ведьма трижды взмахнула волшебной палочкой: тотчас карлики превратились в крылатых грифов, телега — в огненную колесницу, и все они взмыли в воздух, вопя и осыпая всех проклятиями.
— Увы, друг мой, мы пропали, — воскликнул король, — это фея Карабос[59]; еще маленьким мальчиком я подшутил над ней, подсыпав серы ей в суп, и с тех пор злодейка только и ждет случая отомстить мне за эту шалость.
— Знай я хотя бы, что это она, — заплакала тогда королева, — я бы уж постаралась ее задобрить, а теперь остается лишь умереть.
Огорченный тем, как убивается его супруга, король произнес:
— Любовь моя, давайте подумаем, как нам быть, — и ободряюще взял ее под руку, ибо она все еще дрожала от страха перед Карабос.
Вернувшись в покои, король с королевой позвали лучших советников. Наглухо заперли двери и окна, чтобы никто не мог их услышать, и решили: как только дитя появится на свет, нужно пригласить во дворец фей со всего света. Посему они повсюду разослали к ним гонцов с депешами, где излагалась учтивая просьба явиться к королеве в день ее разрешения от бремени и никому ничего об этом не говорить, а то как бы Карабос не учинила раздор. А в награду каждой из фей даруют платье из голубого бархата, нижнюю юбку из бархата малинового, ярко-красные атласные туфли с прорезями, маленькие позолоченные ножницы и шкатулку с тончайшими иголками[60]. Гонцы отправились в путь, а королева с придворными барышнями засели за рукоделие, чтоб успеть все это приготовить. Хотя и знавала она многих, только пять из них откликнулись на приглашение — и прибыли как раз в тот момент, когда маленькая принцесса появилась на свет. Феи тут же заперлись в королевских покоях, чтобы наделить малышку добродетелями: одна одарила ее непревзойденной красотой, вторая — острым умом, третья — несравненным голосом, четвертая же — талантом слагать стихи и прозу.
Когда настал черед пятой феи, в дымоходе так грохнуло, будто с колокольни рухнул огромный камень, и упавшая из трубы Карабос, вся в саже с головы до ног, прокричала что есть мочи:
Пусть лишь в день, когда исполнится
ей двадцать,
Беды и несчастья прекратятся.
Услышав такое, королева, еще лежавшая в постели, принялась плакать и умолять Карабос сжалиться над маленькой принцессой. Тут и все феи заговорили разом:
— Ах, сестра, расколдуйте ее: что она вам сделала?
Но ужасная ведьма лишь ворчала и ничего не отвечала. Тогда пятая фея, не успевшая ничем наградить новорожденную, чтоб хоть немножко исправить дело, наделила принцессу долгой и счастливой жизнью после того, как проклятье утратит силу. Карабос в ответ расхохоталась и полезла обратно в камин, бурча насмешливые куплеты. Все феи были очень опечалены, но пуще всех горевала несчастная королева, однако же она отдала феям все, что было обещано, и даже ленты, которые они так любят. Феям накрыли роскошные столы, и самая старшая из них, уходя, посоветовала королеве до двадцати лет держать принцессу взаперти, не позволяя общаться ни с кем, кроме прислуги.
И вот король выстроил башню без окон, без дверей; мало того что внутри можно было ходить только со свечой в руке — но и в саму башню вел вырытый под землею туннель длиной в целое лье, по которому кормилицам и гувернанткам доставлялись нужные пожитки, — через каждые двадцать шагов в ней были тяжелые запертые двери и повсюду стражники.
Юную принцессу нарекли Веснянкой, ведь была она краше роз и лилий, свежее и прекрасней самой весны; что ни сделает или ни скажет, все было прекрасно; она с легкостью постигала самые сложные науки и росла такой статной и красивой, что король с королевой не могли сдержать радостных слез. То, бывало, просит отца с матерью еще с нею побыть, а то — забрать ее отсюда: уж очень грусть-тоска ее мучает, а почему — про то и сама не знает; но они все медлили.
Кормилица, которая никогда с нею не расставалась, а ума-то ей было не занимать, порою рассказывала принцессе, как устроен мир, и девочка тотчас же все понимала, будто видела собственными глазами. Король же часто говаривал королеве:
— Друг мой, мы оставим Карабос с носом: ведь мы хитрее. Наша Веснянка будет счастлива вопреки ее предсказаниям.
И королева смеялась до слез, представляя, как раздосадована будет злая колдунья. Они разослали портреты Веснянки по всему свету, ибо скоро уже предстояло принцессе покинуть башню, и им хотелось выдать ее замуж. И вот, когда до ее двадцатилетия оставалось всего четыре дня, двор и весь город, с великой радостью ожидавшие освобождения принцессы, возвеселились еще больше, узнав, что посол короля Мерлина[61], Фанфаринет, прибыл просить ее руки для наследника престола.
У кормилицы не было тайн от принцессы, — она поведала ей об этом, а еще расхвалила Фанфаринета, сказав, что во всем мире нет никого прекрасней.
— Ах! Как же я несчастна, — воскликнула девушка, — зачем меня держат в темной башне, будто я повинна в страшном преступлении; я никогда не видела неба, солнца и звезд, а ведь они, должно быть, так великолепны; лошадь, обезьяну и льва я знаю лишь по картинкам; король с королевой говорят, что мне надо пробыть здесь до двадцати лет: все-то они убеждают меня набраться терпения, а мне порою кажется, что они ждут моей погибели, хоть я и не сделала им ничего плохого.
И она принялась плакать так горько, что глаза ее стали величиной с кулак; и ее кормилица, и молочная сестра, и обе няньки, и гувернантка, горячо любившие свою принцессу, зарыдали так же горько; они едва не задыхались от слез; кругом слышались одни причитания да вздохи; и воцарилось великое уныние.
Веснянка же, посмотрев, как они сокрушаются, схватилась за нож и закричала:
— Эй, вы, потрудитесь придумать что-нибудь, чтобы я все-таки увидела, как в город въедет прекрасный Фанфаринет. И незачем знать об этом королю с королевой! Решайте сами, что лучше — или я тут, не сходя с места, зарежусь, или вы доставите мне хоть эту маленькую радость.
Как услышали такое кормилица и все остальные, так и заплакали пуще прежнего, но подумали, что пусть уж принцесса увидит Фанфаринета, а то, чего доброго, и правда умрет с тоски. Думали-думали, да так ничего и не выдумали, а тут и ночь прошла. А Веснянка в отчаянии все твердила свое:
— Не говорите больше, что вы меня любите; будь так, вы бы давно уж нашли какой-нибудь способ: ведь я читала, что любовь и дружба способны на все.
Наконец они затеяли сделать в башне пробоину, чтоб сквозь нее можно было видеть, как приедет Фанфаринет. Отодвинули кровать принцессы и тотчас принялись трудиться день и ночь: сначала отскребли побелку, потом мелкие камни, и наконец получилась дырочка, в которую с трудом просовывалась иголка.
Вот так Веснянка впервые увидела белый свет — она была им ослеплена; и поскольку принцесса без конца смотрела в маленькую щель, то скоро увидела, как появился Фанфаринет во главе своей свиты. Он восседал на белом коне, который гарцевал под звуки труб и дивно пускался вскачь: впереди шли шесть флейтистов, игравших самые восхитительные арии из опер, шесть гобоев вторили им эхом, потом гремели трубы и литавры. На Фанфаринете был расшитый жемчугом камзол, золотые ботфорты, алые перья, множество лент и столько бриллиантов (а у короля Мерлина их были целые кладовые), что пред ним меркло само солнце. От такого зрелища Веснянка совсем потеряла голову и, не долго думая, решила, что не хочет в мужья никого, кроме этакого красавца, и что навряд ли его хозяин будет столь же мил ее сердцу, и что у нее нет стремления к власти. А раз уж она так долго жила в башне, то и в каком-нибудь сельском замке с ним проживет ничуть не хуже, да и вообще сидеть на хлебе и воде с Фанфаринетом все равно лучше, чем с кем-нибудь другим есть жареных цыплят и сладости. Наконец прибегла к выражениям такого свойства, что наперсницы забеспокоились, где она успела всего этого нахвататься, и деликатно намекнули, что при ее высоком положении так нельзя. Принцесса же позатыкала им рты, даже не соизволив дослушать.
Как только Фанфаринет прибыл во дворец, королева явилась за дочерью. Все улицы были застланы коврами, все дамы выглядывали из окон, уже приготовив корзины: одни — с цветами, другие — с жемчужинами, третьи — с превосходными маленькими конфетами, — так им хотелось осыпать ими проходящую мимо Веснянку.
Ее как раз принялись наряжать, когда к башне верхом на слоне подъехал карлик. Он прибыл по поручению пяти добрых фей, которые были с принцессой в день ее рождения: они прислали ей корону, скипетр, платье из золотой парчи, юбку, искусно сшитую из крыльев бабочек, и восхитительную шкатулку, полную драгоценных камней, и притом, как сказали Веснянке, чрезвычайно ценных; никто никогда не видел столько богатств сразу. От такого восхитительного зрелища королева упала без чувств. Что же до принцессы, то она взирала на подарки равнодушно, думая об одном только Фанфаринете.
Карлика поблагодарили, дав пистоль на вино и больше тысячи локтей разноцветных ленточек; из одной он смастерил себе красивые подвязки, из другой — бант на шею, третью прицепил себе на шапочку: был он таким крошечным, что под всеми этими лентами его совсем не стало видно; в подарок феям королева обещала поискать какую-нибудь красивую вещицу, а щедрая принцесса преподнесла им несколько прялок из Германии[62], чьи веретена были выточены из кедра.
На принцессу надели все, что привез карлик из дальних краев, и она стала так ослепительна, что даже солнце зашло с досады, да и луна, хотя ей и незнаком стыд, не посмела появиться, пока принцесса была в пути. Веснянка шла по улицам, ступая по богатым коврам, и толпа восклицала: «Ах, как она прекрасна! Ах, как она прекрасна!»
Пока она шла в этом торжественном убранстве в сопровождении королевы, четырех или пяти дюжин принцесс крови[63] и более десяти дюжин принцесс, приехавших на праздник из соседних государств, — вдруг совсем стемнело, раздался гром, и полило как из ведра, да еще с градом; королева натянула на голову мантию, а придворные дамы — свои юбки; Веснянка собиралась поступить так же, когда, откуда ни возьмись, налетели тысячи воронов, сов и других зловещих птиц, чье карканье не предвещало ничего хорошего: следом, размахивая крыльями, появился ужасный филин исполинских размеров, неся в клюве шарф из паутины, расшитый крыльями летучих мышей. Он сбросил его на плечи Веснянки, и когда после этого послышался раскатистый хохот, все поняли — то была злая шутка Карабос.
Это мрачное происшествие всех расстроило, а больше всех раздосадовало королеву; кинулась она сорвать черный шарф, но тот, казалось, накрепко прирос к плечам ее дочери.
— Ах, — воскликнула королева, — вот они, происки нашего недруга неукротимого; напрасно я посылала ей пятьдесят фунтов варенья, столько же рафинированного сахара и два окорока по-майнцски[64] — ничто не помогло!
Пока королева горько сетовала, все промокли до нитки. Веснянка же, без ума от посла, продолжала идти вперед: ей не было дела ни до Карабос, ни до ее шарфа — предвестника несчастья, она мечтала лишь понравиться Фанфаринету. Принцесса как раз искала его взглядом, как вдруг увидела, что посол появился рядом с королем: в тот же миг дивно заиграли трубы, барабаны и скрипки, народ закричал в два раза громче, и началось необычайное веселье.
Фанфаринет был юношей разумным, но, едва увидев прекрасную Веснянку, столь милостивую, исполненную величественной прелести, пришел в такое восхищение, что забыл все слова и только бормотал и запинался, точно пьяный, хотя, конечно, выпил разве что чашку шоколада[65], и наконец совсем отчаялся, поняв, что назубок выученную торжественную речь, которую месяцами зубрил и помнил даже во сне, сейчас в мгновение ока попросту забыл.
Пока Фанфаринет, срочно вспоминая, что надо сказать, склонялся перед принцессой в глубоких реверансах, та, не задумываясь, отвесила ему полудюжину таких же. Наконец, чтобы вывести посла из затруднительного положения, первой начала беседу:
— Сеньор Фанфаринет, я и так знаю, что и помыслы ваши прелестны, и ум на месте; однако поспешим же во дворец: по милости злой Карабос дождь льет как из ведра, и если мы спрячемся от него, то ее обманем.
Фанфаринет галантно ответил, что фея мудро предвидела пожар, который способны разжечь прекрасные глаза принцессы, вот и пролила такие потоки, дабы его унять.
После таких слов он предложил принцессе опереться на его руку. Та же тихонько промолвила:
— Никогда вам не догадаться о моих чувствах, пока я сама вам о них не расскажу, хоть это мне и огорчительно, но пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает[66]: знайте же, господин посол, что я с замиранием сердца наблюдала, как вы восседаете на гарцующем коне; я сожалела, что вы явились просить за другого, а не за себя; если вы будете так же отважны, как я, мы не оставим надежд найти избавление; вместо того чтобы сочетаться браком с вами как представителем короля, я с радостью сочетаюсь с вами лично: хоть вы, я знаю, и не принц, но нравитесь мне так же, как если бы вы им были; мы вместе уедем на край света, сперва, конечно, нас будут ругать, но потом еще какая-нибудь дама поступит так же, а то и хуже — тогда станут судачить о ней, а про меня позабудут: и я заживу счастливо вместе с вами.
Фанфаринет ушам своим не поверил, ибо такой чести от восхитительной Веснянки вообразить не мог даже в грезах; он и тут не нашелся что ответить: будь они одни, бросился бы к ее ногам, а сейчас лишь сжал ей руку, да так сильно, что чуть не сломал мизинчик принцессы, заставив ее вскрикнуть от боли. Когда Веснянка вошла во дворец, зазвучало несметное число музыкальных инструментов, а в тон им — божественные голоса, и пели они так чисто, что никто и шелохнуться не смел. Король же, расцеловав дочь в лоб и в обе щеки, сказал ей:
— Моя маленькая овечка (ибо он давал ей множество ласковых прозвищ), не желаешь ли ты выйти замуж за сына великого короля Мерлина? Ведь это им прислан сюда сеньор Фанфаринет, который заберет тебя в самое прекрасное королевство на свете.
— Конечно, батюшка, — ответила принцесса, приседая в глубоком реверансе, — что угодно вам, то приятно и мне, лишь бы моя милая матушка была согласна.
— Она согласна, крошка моя, — сказала королева, обнимая дочь, — итак, пойдемте отпразднуем это.
С великим проворством в огромном зале накрыли тогда сотню столов. Давным-давно не бывало пира, подобного этому: пили-ели, ели-пили, — а Веснянка с Фанфаринетом только друг на друга смотрели и так размечтались, что обо всем позабыли.
После пиршества начался бал, потом балет и комедия; веселились допоздна и так наелись, что уснули прямо стоя: король с королевой, охваченные дремой, свалились на диван; дамы и кавалеры захрапели; музыканты фальшивили, а актеры декламировали невесть что. Только наши влюбленные оставались бодрыми и резвыми, все чаще обмениваясь многозначительными взглядами; принцесса, заметив, что стражники, растянувшись на соломенных подстилках, крепко спят, сказала Фанфаринету:
— Доверьтесь мне, вот случай как нельзя лучше: а то потом, на брачной церемонии, отец приставит ко мне всяких фрейлин и принца, чтоб везти к вашему королю Мерлину; так что нам следует бежать сейчас, и притом как можно быстрее.
Она взяла с собою кинжал короля, украшенный бриллиантами, и шляпку королевы, которую та сняла, чтобы удобнее было спать, потом подала свою белую руку Фанфаринету, он же опустился на колено.
— Я клянусь, — произнес он, — Вашей Светлости в верности и в вечном повиновении: великая принцесса, разве осмелюсь я противиться вашему благу, раз вы так добры ко мне?
Они вышли из дворца и при свете потайного фонаря[67], который посол нес в руке, по грязным улицам добрались до пристани, где нашли маленькую лодку, а в ней — спящего старого лодочника; они его разбудили, и, увидев Веснянку, такую прекрасную и нарядную, всю в бриллиантах и шарфе из паутины, он принял ее за богиню ночи и упал на колени. Но времени терять было нельзя, и принцесса приказала поскорее отправляться в путь. Весьма опасное путешествие — ведь на небе не было ни луны, ни звезд; еще не рассеялись дождевые чары феи Карабос; однако в шляпке королевы был рубин, сиявший ярче полусотни факелов, так что Фанфаринету (как о том рассказывали) и потайного фонаря не понадобилось; и еще вдобавок там был камень-невидимка.
Фанфаринет спросил принцессу, куда та желает плыть.
— Увы, — ответила она, — я просто хочу плыть вместе с вами, все мои помыслы лишь об этом.
— Но, сударыня, — возразил посол, — я не осмелюсь везти вас к королю Мерлину, я не желаю этого всей душой.
— Ну что же, — промолвила принцесса, — отправимся тогда на пустынный Беличий Остров — он так далеко, что там никто нас не найдет.
Она приказала старому моряку трогаться в путь, и тот подчинился, хоть и была у него всего лишь утлая лодчонка.
Едва взошел ясный день, как проснулась королева, следом и все остальные глаза протерли, и только и помышляли теперь о том, как бы побыстрее сыграть свадьбу. Ее величество спешно потребовала свою прелестную шляпку, — тут обыскали все, от ларцов с драгоценностями до кухонных котлов, забегала и сама встревоженная королева, заглянув и в погреб, и на чердак, — но драгоценная шляпка как в воду канула.
Король же приказал тотчас подать ему кинжал с бриллиантами; пустились на поиски и все перерыли, обнаружив сундуки и шкатулки, ключи от которых потеряли сотню лет назад: каких только там не нашли диковинок — кукол, головками качавших и глазками вращавших, золотых овечек с ягнятами и полным-полно лимонных корок и засахаренных грецких орехов, но король был так безутешен из-за пропаж, что с тоски сам оттаскал себя за бороду, а королева, чтоб не отставать, — себя за волосы: ведь и шляпка, и кинжал стоили дороже десяти городов размером с Мадрид.
Когда король понял, что дальнейшие поиски бесполезны, он сказал королеве:
— Любовь моя, соберемся же с духом и поспешим завершить торжество, которое уже так дорого нам обошлось.
Он спросил, где принцесса. Тут вышла ее кормилица и ответила:
— Господин мой, я ищу ее вот уже два часа и нигде не могу найти.
Уж тут их терпению пришел конец; на короля и смотреть-то жалко стало, а его супруга принялась кричать, словно орлица, оставшаяся без птенцов, а потом упала в обморок. Дабы привести ее в чувство, ей в лицо выплеснули пару ведер воды Венгерской Королевы[68], все дамы и барышни плакали, а слуги восклицали: «Как? Неужели королевская дочь исчезла?» Король приказал старшему пажу:
— Разыщите мне Фанфаринета — нечего ему спать, притулившись где-нибудь в уголке, пусть вместе с нами скорбит.
Паж обшарил все закоулки во дворце, но и ему повезло не больше, чем искавшим Веснянку, шляпку и кинжал; это еще прибавило горя королю с королевой.
Король созвал всех советников и солдат; они с королевой велели обтянуть зал черной тканью, а сами сменили пышные наряды на траурные власяницы, подпоясанные веревками, — от такого зрелища разорвалось бы и самое черствое сердце. Зал наполнился рыданиями и вздохами, по полу ручьями текли слезы. А поскольку речь-то король приготовить не успел, то и просидел три часа, ни словечка не проронив; наконец начал так:
— Слушайте же все, от мала до велика: я потерял мою дорогую дочь Веснянку и не знаю, сбежала она или ее похитили. С ней исчезли шляпка королевы и мой кинжал, оба предмета весьма дорогие, а еще хуже то, что с нами больше нет Фанфаринета: и как бы король, его пославший, не отправился его искать, решив, что мы изрубили его на фарш. Будь у меня средства, я бы еще подождал, но расходы на свадебное торжество меня разорили: итак, мои дорогие подданные, придумайте же, что мне теперь делать.
Все восхитились прекрасной речью короля (никогда еще он не был так красноречив). Тут слово взял королевский канцлер сеньор Разболтай:
— Ваше Величество, ваше огорченье — наше огорченье; а чтоб скрасить его, примите великодушно наше подношение: заберите всех наших жен с детьми в придачу. Однако принцессе ведь еще не исполнилось двадцати лет, так что это наверняка проделки феи Карабос, а если начистоту, так ваша дочь от Фанфаринета глаз не отводила, а он от нее: должно быть, это Амур сыграл с ними злую шутку.
Услышав такое, королева в негодовании перебила канцлера.
— Думайте, что говорите, сеньор Разболтай, — сказала она, — у принцессы не тот нрав, чтобы влюбиться в Фанфаринета, — я ее слишком хорошо воспитала.
Тогда кормилица, слышавшая все это, упала на колени.
— Я поведаю вам, что случилось, — призналась она. — Принцесса заявила, что умрет, если не увидит Фанфаринета. Мы проделали в стене дырочку, в которую она его и разглядела и тотчас же решила, что не желает в мужья никого другого.
Эта новость всех опечалила: было ясно, что канцлер Разболтай оказался весьма проницательным; раздосадованная королева так разбранила кормилицу, молочную сестру, обеих нянек и гувернантку, что, задуши она их, никто бы и слова не сказал.
Наконец адмирал Шапка-Колпак, перебив королеву, воскликнул:
— Вперед, отыщем Фанфаринета! Без сомнения, этот негодяй увез нашу принцессу.
Все захлопали в ладоши и подхватили: «Вперед!» И вот одни пустились в плавание по морю, а другие странствовали из одного королевства в другое, стуча в барабаны и дуя в трубы. Когда вокруг собирался народ, они кричали:
— Кто хочет получить красивую куклу, варенья засахаренного и жидкого, маленькие ножницы, золотое платье и атласный чепчик, пусть покажет нам, куда Фанфаринет увез принцессу Веснянку.
Но все отвечали им только:
— Ступайте дальше, мы их не видели.
Тем, кто поплыл по морю, повезло больше, ибо после довольно долгого путешествия однажды ночью они увидели впереди сияние на воде, точно горел большой плавучий костер: они не осмелились приблизиться и только гадали, что бы это могло быть, как вдруг свет пристал к пустынному Беличьему Острову, ибо это были принцесса и ее возлюбленный с их сияющим рубином. Влюбленные высадились на остров и, дав сто экю золотом лодочнику, распрощались с ним, заставив поклясться головой, что он ничего никому не расскажет.
Первое, что встретилось старику на обратном пути, были королевские суда; завидь он их раньше, мог бы обойти, но адмирал его заметил и отправил погоню; бедняга был таким старым и немощным, что ему не хватило сил грести. Его настигли и привели к адмиралу, который заставил его обыскать: у лодочника нашли сто экю золотом, совсем новых, поскольку монеты отчеканили как раз к свадьбе принцессы. Адмирал подверг старика допросу — тот же, чтобы не отвечать, притворился глухим и немым.
— Так, так, — сказал адмирал, — привяжем-ка этого немого к грот-мачте и отстегаем его кнутом: против немоты лучшего средства нет.
Когда старик увидел, что дела его плохи, он признался, что небесной красоты девушка и благородный рыцарь приказали ему отвезти их на пустынный Беличий Остров. Из таких слов адмирал заключил, что это и была принцесса, и он приказал флоту окружить остров.
Тем временем Веснянка, уставшая от путешествия по морю, нашла зеленую опушку под густыми деревьями, прилегла под ними и тихонько уснула, но Фанфаринет, скорее голодный, чем влюбленный, поспать ей не дал.
— Вы думаете, сударыня, — сказал он, разбудив ее, — что я смогу долго здесь оставаться? Я не вижу тут никакой еды: да будь вы даже прекрасней самой Авроры, нам и тогда нужно было бы чем-то питаться — у меня слишком длинные зубы и в животе совсем пусто.
— Как же это, Фанфаринет! — воскликнула принцесса в ответ. — Возможно ли, чтобы доказательства моей дружбы не заменяли вам всего на свете? Возможно ли, чтобы ваши помыслы были не только о вашей удаче?
— Скорее уж о моем несчастье! — вскричал тот. — Дай Бог, чтобы вы снова оказались в вашей темной башне!
— Благородный рыцарь, — кротко произнесла принцесса, — умоляю вас не сердиться, я поищу повсюду: быть может, найду какие-никакие плоды.
— Ну и идите себе, — сказал он, — чтоб вас там волки съели.
Огорченная принцесса побежала в лес, раздирая свои прекрасные одежды о колючки, а белую кожу — о шипы; она так оцарапалась, точно играла с кошками (вот какие огорчения приносит любовь к молодым рыцарям). Походив там и здесь, она вернулась и с грустью сказала Фанфаринету, что ничего не нашла. Он повернулся к ней спиной и удалился, ворча себе под нос.
На следующий день поиски возобновились, и тоже безуспешно: три дня они не ели ничего, кроме листьев и майских жуков. Принцесса, ни на что не жалуясь, проявляла куда больше нежности.
— Благом было бы для меня, — говорила она Фанфаринету, — страдай одна только я, и меня бы не пугала смерть от голода, было бы что подать вам к столу.
— Да хоть умрите, мне это все равно, — отвечал посол, — лишь бы у меня было то, что мне нужно.
— Возможно ли, — воскликнула принцесса, — чтобы вас так мало трогала моя смерть? Где же клятвы, которые вы мне давали?
— Есть большая разница, — возразил посол, — между счастливым человеком, которому незнакомы ни голод, ни жажда, и несчастным, обреченным испустить дух на пустынном острове.
— Мне грозит та же опасность, — продолжала принцесса, — но я же не сетую.
— Поделом вам, — резко перебил посол, — вы пожелали покинуть отца с матерью и отправиться на поиски любовных приключений, вот и поглядите, как нам сейчас хорошо!
— Но это все из-за любви к вам, Фанфаринет, — сказала она, протягивая ему руку.
— Я бы без нее прекрасно обошелся, — ответил посол и отвернулся от нее.
Красавица принцесса, вне себя от печали, принялась плакать так горько, что могла бы разжалобить даже скалу; она села под кустом белых и алых роз и долго на них смотрела, а потом вымолвила:
— Какие же вы счастливые, юные цветы, вас обдувает теплый ветер, вас поливает роса, вас греет солнце, вас лелеют пчелы, ваши шипы вам защитою, и все вами восхищаются! Увы! Отчего мне не дано быть такой же безмятежной!
От подобных мыслей она пролила столько слез, что подножье розового куста стало влажным; с великим изумлением девушка увидела, как куст зашевелился, распустились розы, и самая прекрасная из них произнесла:
— Была бы и твоя судьба такой же завидной, если б ты не полюбила; лишь влюбленные подвергаются страшным бедам, несчастная принцесса! Возьми из дупла этого дерева медовый сот, но не отдавай же, о простодушная, Фанфаринету.
Принцесса подбежала к дереву, уж и не зная, сон это или явь: она разыскала мед и тотчас отнесла его неблагодарному возлюбленному.
— Вот, — сказала она, — этот мед я могла бы съесть сама, но мне хочется разделить его с вами.
Не поблагодарив девушку и даже на нее не взглянув, Фанфаринет вырвал у нее сот и съел целиком, не дав принцессе ни кусочка, еще и посмеялся над ней, наговорив дерзостей и сказав, что от сладкого у принцесс зубы портятся.
Веснянка, огорченная пуще прежнего, присела под дубом и так же восхитилась им, как до этого розовым кустом. Дуб, полный сострадания, склонил к ней ветви и произнес:
— Как жаль было бы прерывать твою жизнь, прекрасная Веснянка. Возьми этот кувшин молока и выпей его, но неблагодарному возлюбленному ни глотка не давай.
Тут изумленная принцесса увидела большой кувшин, полный молока, — но она помышляла лишь о том, что Фанфаринета, съевшего более пятнадцати фунтов меда, должна мучить страшная жажда, вот и поспешила отнести ему кувшин.
— Напейтесь же, милый Фанфаринет, — сказала она, — и не забудьте оставить мне глоток, ибо я до смерти хочу есть и пить.
Он грубо схватил кувшин и выпил весь залпом, потом вдребезги разбил его о камни, не преминув и злобно ухмыльнуться:
— Кто не поел, тому незачем и пить.
Принцесса, воздев руки к небу, воскликнула:
— Ах! Вот справедливое наказание, вполне мною заслуженное: это за то, что я покинула короля с королевой, столь опрометчиво полюбив человека, которого не знаю, и за то, что сбежала с ним, позабыв и свой титул, и несчастья, коими грозила Карабос.
И она принялась плакать так горестно, как еще никогда не плакала, забрела в самую густую чащу и без сил упала у подножья вяза, на ветке которого сидел соловей и восхитительно пел: он так и заливался, хлопая крыльями, словно обращался именно к принцессе, а словам как будто научился у Овидия[69]:
Любовь слепа, коварна, многолика,
И милости нам дарит, как владыка,
Своим обманом сладостным пленяет
И злыми стрелами нам сердце отравляет.
— Кто может знать это лучше меня? — воскликнула принцесса, перебивая его пение. — Увы! Уж моей-то судьбе ведома жестокость ее стрел.
— Воспрянь духом, — сказал ей влюбленный соловей, — и поищи вон в том кусте. Ты найдешь там миндаль в шоколаде и пирожные из кондитерской «Ле Кок»[70]; но не будь же наконец столь неблагоразумной — не отдавай их Фанфаринету.
Принцессу, не успевшую забыть, как посол дважды обошелся с ней, уже не нужно было предостерегать, к тому же она была так голодна, что сама съела все орехи и пирожные. Прожорливый Фанфаринет, заметив, что принцесса ела без него, пришел в такую дикую ярость, что прибежал, сверкая глазами и махая шпагой, чтобы ее убить. Девушка проворно разыскала в шляпке королевы камень-невидимку и, став незримой для посла, все упрекала его за неблагодарность, да так, что было ясно: она все еще не в силах его возненавидеть.
Тем временем адмирал Шапка-Колпак отправил Жана Коко по прозвищу Соломенный Сапог, посыльного Канцелярии, сообщить королю, что принцесса и Фанфаринет высадились на Беличьем Острове и что, не зная местности, он, адмирал, боится ловушек. Новость эта несказанно обрадовала Их Величества: король приказал принести огромную книгу, каждый лист которой был длиною в восемь локтей; это было составленное одной ученой феей описание всех земель; в ней он прочел, что Беличий Остров необитаем.
— Отправляйся же, — сказал он Жану Коко, — и скажи адмиралу, чтобы поскорее высаживался на остров: я и так дал своей дочери слишком долго оставаться с Фанфаринетом.
Как только Жан Коко пришвартовался, адмирал приказал бить в барабаны и литавры; дули в трубы, играли на гобоях, флейте, скрипке, виоле, органах и гитаре: и такой эти музыкальные орудия, и военные и мирные, устроили отчаянный тарарам, что весь остров заходил ходуном. Заслышав столь громкие звуки, встревоженная принцесса побежала к возлюбленному предложить свою помощь: а коль скоро тот не отличался храбростью, то опасность их быстро примирила.
— Держитесь позади меня, — сказала ему принцесса, — я возьму камень-невидимку и буду разить врагов кинжалом моего отца, а вы в это время пронзайте их шпагой.
Невидимая принцесса выступила против армии адмирала; они с Фанфаринетом на пару зарубили всех солдат, которые их даже не увидели; повсюду раздавались лишь крики: «Я погиб, я умираю». Войско стреляло, да так ни в кого и не попало: принцесса и ее возлюбленный ныряли, словно утки, и пули проскакивали у них над головами. Наконец адмирал, огорченный, что по непонятной причине у него такие потери, так и не сообразив, кто их атакует и как защищаться, дал сигнал к отступлению, чтобы держать совет на кораблях.
Уже была глубокая ночь; принцесса и Фанфаринет укрылись в густой лесной чаще; девушка была так слаба, что легла на траву и совсем было заснула, как вдруг разбудил ее тихий и нежный шепот: «Спасайся, Веснянка, ибо Фанфаринет хочет тебя убить и съесть». Быстро открыв глаза, она увидела, как злой Фанфаринет, озаренный сиянием рубина, уже занес руку, чтобы шпагою пронзить ей грудь: не в силах противиться отменному аппетиту, он решил умертвить и сожрать пухленькую беленькую Веснянку. Принцесса, недолго думая, схватилась за кинжал, которым сражалась, и вонзила его Фанфаринету в глаз с такой яростью, что тот умер на месте.
— Получай, неблагодарный, — воскликнула принцесса, — последнюю милость, более всего тобою заслуженную; послужи потомкам примером коварного возлюбленного, и пусть твое бесчестное сердце не знает покоя.
Когда первый приступ гнева прошел и принцесса задумалась о своем положении, то теперь уж сама готова была последовать за тем, кого только что убила.
— Что со мной будет? — воскликнула она, рыдая. — Я одна на этом острове: дикие звери меня съедят или я умру от голода.
Она почти жалела, что не стала добычей Фанфаринета, и, вся дрожа, с нетерпением ожидала рассвета, поскольку боялась привидений, а особенно — ночных кошмаров.
Сев под деревом и поглядев ввысь, она вдруг заметила слетавшую с небес прекрасную золотую колесницу, запряженную шестью огромными хохлатыми курицами; кучером был петух, а форейтором — толстый цыпленок. В колеснице сидела дама, столь прекрасная, что была краше солнца; ее одежды были вышиты золотыми блестками и серебряным бисером. Тут принцесса увидела и другую колесницу, запряженную шестью летучими мышами; в ней кучером был ворон, а форейтором — навозный жук: внутри сидела безобразная обезьяна в платье из змеиной кожи, а на голове вместо фонтанжа[71] красовалась жаба.
Удивление юной принцессы невозможно описать; она все никак не могла опомниться, когда вдруг одна колесница ринулась на другую, и прекрасная дама с золотым копьем в руках, а уродливая — с ржавой пикой начали жестокую битву, длившуюся более четверти часа: наконец красавица одержала победу, а уродина сбежала вместе со своими летучими мышами. В тот же миг красавица приземлилась и обратилась к Веснянке.
— Не пугайтесь, милая принцесса, — произнесла она, — я вступила в схватку с Карабос лишь ради любви к вам. Она, пользуясь своей властью, хотела проучить вас, поскольку вы покинули башню за четыре дня до двадцатилетия, но я приняла вашу сторону и прогнала Карабос. Наслаждайтесь же счастьем, которое я вам подарила.
Благодарная принцесса упала к ногам феи.
— Великая повелительница фей, — молвила Веснянка, — такое великодушие мне льстит. Уж и не знаю, как вас отблагодарить, и могу сказать лишь одно: вся моя кровь принадлежит вам до последней капли, о моя спасительница.
Фея трижды поцеловала принцессу, и та стала еще краше прежнего (если, конечно, такое вообще можно вообразить). Она приказала своему петуху отправиться к королевским кораблям и передать адмиралу, чтобы тот явился без опаски, а толстого цыпленка послала к себе во дворец за самыми прекрасными в мире нарядами для принцессы.
Адмирал, услышав принесенную петухом новость, от радости чуть умом не тронулся: он поспешно сошел на остров вместе со своими людьми; тут и Жан Коко, заметив, как спешно люди покидают корабли, заторопился следом за ними, не забыв взгромоздить на плечо вертел, весь унизанный дичью.
Адмирал Шапка-Колпак не прошел и одного лье, когда увидел на широкой лесной тропе колесницу, запряженную курицами, и рядом с ней двух дам. Он узнал принцессу и бросился к ее ногам, но девушка ему сказала, что все почести полагаются великодушной фее, ибо это она вырвала ее из цепких лап Карабос. Тогда адмирал поцеловал край платья феи и произнес в ее честь самые прекрасные хвалебные речи, какие только вообще когда-нибудь произносились. Он все еще разглагольствовал, когда фея его перебила:
— Клянусь вам, я чувствую запах жаркого.
— Да, мадам, — вмешался тут Жан Коко, показывая вертел, унизанный превосходными куриными ножками, — чего уж там, пусть Ваше Высокоблагородие снимет пробу.
— Весьма охотно, — ответила фея, — однако хорошенько поесть пора не столько мне, сколько принцессе.
Мигом на кораблях нашлось всё необходимое: радость была так велика, а стол так обилен, что ничего лучшего и желать не оставалось.
Когда отужинали, вернулся толстый цыпленок — и тут фея одела Веснянку в платье из золотой и зеленой парчи, усеянное рубинами и жемчужинами, перевязала ее прекрасные волосы тесьмой из бриллиантов и изумрудов, возложила ей на голову венок из цветов, усадила ее в свою колесницу, и, когда они пролетали по небу, все звезды думали, что это сама Утренняя Заря, которая еще не уступила место дню, и приветствовали летевшую мимо принцессу: «Здравствуй, Заря!»
Тут пришло время фее откланяться, но девушка воскликнула:
— Как! Сударыня, но должна же я открыть матушке королеве имя той, что сделала мне столько добра?
— Милая принцесса, — ответила фея, — обнимите ее за меня и скажите, что я пятая фея, которая была с вами в день вашего рождения.
Когда принцесса взошла на корабль, из каждой пушки дали по тысяче залпов: она благополучно прибыла в порт, а там король с королевой; едва их увидев, она бросилась к их ногам, прося прощения за свои неосторожные поступки — но родительская нежность одержала верх, и во всех бедах обвинили старуху Карабос.
Тем временем прибыл сын великого короля Мерлина, встревоженный отсутствием вестей от своего посла; и следом за ним шло множество лошадей и тридцать лакеев, разодетых в красное с богатыми золотыми галунами. Он был в сто раз краше неблагодарного Фанфаринета. Дабы не вызывать подозрений, принцу не стали рассказывать про похищение: ему лишь с невинным видом сообщили, что его посол захотел пить и, желая набрать воды, упал в колодец и утонул. Принц без труда в это поверил, и тогда устроили свадебный пир, а уж тут началось такое веселье, что все горести прочь.
* * *
Даже если любовь нас себе подчиняет,
Горе тем, кто о долге своем забывает;
Даже если в пучину она увлекает,
Пусть лишь разум всегда и везде нами правит:
Пусть он будет хозяином нашим сердцам,
И пусть воли не даст он любовным страстям.
Пер. Е. Ю. Шибановой
Принцесса Розетта[72]

Она зачала и родила прекрасную девочку, такую милую, что стоило лишь разок на нее взглянуть, чтобы ее полюбить. Королева щедро угостила всех фей, которых к ней пригласила, и, когда они собрались было уходить, сказала им:
— Не забудьте о своей славной традиции и скажите мне, что ожидает Розетту (именно так назвали маленькую принцессу).
Феи отвечали, что свою колдовскую книгу дома забыли и лучше вернутся еще раз.
— Ах, — встревожилась тогда королева, — это не сулит мне ничего хорошего: вы не хотите огорчать меня плохим предзнаменованием, но я молю вас поведать мне обо всем, не таите от меня ничего.
Они оправдывались, как могли, но королева лишь сильнее желала узнать, в чем дело. Наконец главная фея ей сказала:
— Мы боимся, сударыня, как бы Розетта не принесла большого несчастья своим братьям; ей суждено навлечь на них погибель: вот и все, что мы можем разглядеть в судьбе этой прелестной девочки. Мы очень расстроены, что не можем сказать вам ничего приятнее.
Они ушли, а лицо у королевы стало таким печальным-препечальным, что король принялся спрашивать, в чем дело. Королева ответила, что подошла слишком близко к очагу и сожгла всю кудель на своем веретене.
— Только и всего? — спросил король. Он поднялся на чердак и принес ей столько кудели, сколько она не спряла бы и за сто лет.
Королева продолжала грустить; король снова спросил, что стряслось; она ответила, что, сидя на берегу реки, уронила в нее свою зеленую атласную туфельку.
— Только и всего? — сказал король. Он сделал заказ всем сапожникам королевства и принес ей десять тысяч туфелек из зеленого атласа.
Королева по-прежнему горевала; король спросил, что на сей раз; она же придумала, будто блюда за обедом были так вкусны, что она вместе с ними проглотила обручальное кольцо с пальца. А это кольцо король давно хранил у себя и сразу смекнул, что она говорит неправду.
— Моя дорогая супруга, — сказал он, — вы обманываете меня, вот ваше кольцо, я ношу его в кисете.
Вот тебе раз! Это ее захватило врасплох (ведь, когда раскрывают обман, выходит самая неприглядная вещь на свете), и она видела, что король сердится; вот почему и пришлось ей поведать ему о том, что феи напророчили малышке Розетте, и предложить вместе поискать какого-никакого спасительного средства. Король был удручен, да так сильно, что после долгих дум сказал:
— Единственный способ спасти сыновей — это убить малышку, пока она еще в пеленках.
Но королева воскликнула, что скорее сама примет смерть, чем согласится на такую страшную жестокость, и пусть он придумает что-нибудь другое.
Только об этом и размышляли король с королевой; и вот Ее Величеству рассказали, что неподалеку в густом лесу живет старый отшельник — спит он в дупле и всем советы дает.
— Я тоже должна к нему пойти, — воскликнула королева, — раз уж феи предсказали мне беду, а спасительное средство указать забыли.
И вот с утра пораньше оседлала она маленькую белую ослицу с золотыми подковами, а две ее фрейлины сели на добрых коней. Подъехав к лесу, королева с дамами спешились и поискали дерево, в котором жил отшельник. Тот женщин не очень-то жаловал, но, увидев королеву, все же вымолвил:
— Ну, милости просим. Чего от меня желаете?
Она рассказала ему о том, что феи напророчили Розетте, и попросила совета; он же отвечал: нужно-де посадить принцессу в башню и запереть ее там на веки вечные. Королева его поблагодарила, дала ему хорошую милостыню и, вернувшись, обо всем королю поведала.
Когда король получил такие известия, он приказал быстро возвести большую башню и заключил в нее свою дочь; а чтобы она не скучала, он вместе с королевой и двумя братьями навещали ее каждый день. Старшего принца звали Большим, а младшего — Маленьким. Они нежно любили сестру, ведь никого им не приходилось видеть красивей и добрее ее, и каждый ее взгляд стоил дороже сотни пистолей. Когда ей исполнилось пятнадцать лет, Большой принц сказал королю:
— Папенька, сестрица уже совсем большая, на выданье — не пора ли нам и свадьбу сыграть?
Маленький принц заговорил о том же с королевой. Их Величества отвлекли их, ничего не ответив на этот вопрос.
Но вот король с королевой сильно заболели и умерли почти в один день. Печаль овладела людьми: двор облекся в траур, и повсюду слышался колокольный звон. Розетта была безутешна из-за потери матушки.
Когда короля с королевой похоронили, маркизы и герцоги возвели Большого принца на трон из золота и бриллиантов, облачив в одежды из красного бархата с изображениями луны и солнца и возложив на голову корону. И затем весь двор прокричал три раза:
— Да здравствует король!
Все думали лишь об увеселениях.
Король и его брат решили: «Теперь, когда мы государи, нужно освободить нашу сестру из башни, — сколько же ей там еще томиться». А путь к башне вел через сад — ее построили такой неслыханной вышины, поскольку покойные король с королевой хотели, чтобы принцесса осталась там навсегда. Розетта вышивала красивое платье, держа перед собою пяльцы; увидев братьев, она поднялась и взяла короля за руку.
— Сир, — промолвила она, — теперь вы король, а я ваша покорная слуга: освободите же меня, ибо премного тоскую я в этой башне, — и горько заплакала. Его Величество обнял ее и принялся утешать: дескать, она свободна и он сейчас отведет ее в прекрасный замок. Карманы у него были набиты драже. Он вынул горстку и протянул Розетте.
— Ну же, — сказал он ей, — покинем эту ужасную башню; король скоро выдаст тебя замуж, печалиться больше нечего.
Оказавшись в прекрасном саду, полном цветов, фруктов, фонтанов, Розетта, до сей поры ничего подобного не видавшая, была так удивлена, что не могла и слова вымолвить. Только все озиралась, прогуливалась, нет-нет, да и остановится полюбоваться, то сорвет фрукты с деревьев, то цветы с клумбы; ее маленький песик по кличке Непоседа, зеленый, как попугай, и одноухий, приплясывал от радости, кувыркаясь и тявкая на бегу: гав, гав, гав.
Этим Непоседа развеселил все общество; вдруг он помчался в лесок, принцесса за ним, — и каково же было ее восхищение, когда увидела она там большого павлина, распустившего хвост; и показался он ей таким красавцем писаным, что глаз не отвести. Король с принцем спросили, что ее так обворожило. Она показала им павлина и спросила, что это такое. Они объяснили, что это птица, мясо которой вполне пригодно в пищу.
— Что! — воскликнула принцесса. — Да как вы смеете убивать такую красивую птицу и есть ее? Так вот же вам: я выйду замуж только за короля павлинов, а став павлиньей королевой, запрещу их есть.
Тут король несказанно удивился.
— Но, сестра моя, — возразил он, — где же мы вам найдем короля павлинов?
— Где вам угодно, Сир; но я ни за кого другого не выйду.
Так уж принцесса решила, а потом братья повели ее в свой замок, приказав туда же доставить павлина и отнести в ее покои (ибо она его очень полюбила). Тут сбежались придворные дамы, никогда доселе Розетту не видавшие, и ну ее чествовать: одни — вареньем, другие — сладостями, третьи — золотыми платьями, красивыми лентами, а еще куклами и расшитыми башмачками, уж не говоря о жемчугах и бриллиантах. Она же была такой учтивой и мягкой, и целовала ручки, и склонялась в реверансе, когда ей подносили красивую вещицу, так что все дамы и кавалеры были ею весьма довольны.
Пока она вела беседы в хорошем обществе, король и принц думали-га-дали, как им отыскать короля павлинов и есть ли вообще такой на свете; им пришло в голову, что нужно написать портрет принцессы Розетты, и притом изобразить ее такой красивой — совсем как живая, только что не говорит; а ей они сказали так:
— Раз уж вы хотите выйти замуж только за короля павлинов, то поедем-ка мы поищем его по всему свету. Вы же позаботьтесь о королевстве, ожидая нашего возвращения.
Розетта поблагодарила их за заботу, заверив, что будет править хорошо, а из удовольствий оставит себе разве что полюбоваться прекрасным павлином да приплясывающим Непоседой. Они не могли сдержать слез, прощаясь с принцессой.
В пути два принца то и дело спрашивали:
— Не встречали ли вы короля павлинов?
Все им в ответ: нет да нет.
Они продолжали путь и наконец зашли так далеко, так далеко, как никто еще не заходил.
А прибыли они в королевство майских жуков; все тут было им диковинно: обитатели этой страны жужжали так сильно, что король чуть было не оглох. Один жук показался ему весьма рассудительным, и он спросил, в каких краях можно отыскать короля павлинов.
— Сир, — сказал ему майский жук, — его королевство в тридцати тысячах лье отсюда. Вы избрали самый длинный путь, чтобы туда добраться.
— А откуда вам это известно? — спросил король.
— Да как же, — ответил майский жук, — мы и вас хорошо знаем, ведь в ваших садах мы проводим два или три месяца в году.
Тогда король и его брат обнялись и расцеловались с майским жуком; они крепко подружились и вместе отужинали; братья с восхищением осмотрели все диковины этого края, где самый маленький лист с дерева стоил целый пистоль. Затем они откланялись, чтобы завершить свое путешествие; идти пришлось недолго, поскольку они уже знали дорогу. Кругом росли деревья, усеянные павлинами, на каждой ветке по птице, а перекрикивались они меж собою так громко, что было слышно за два лье.
Король сказал брату:
— Если повелитель павлинов и сам павлин, то как же наша сестра собирается выйти за него замуж? Нужно быть безумцем, чтобы на это согласиться; сами видите, какого красавца получим мы в зятья и каких маленьких павлинчиков в племянники.
Принц обеспокоился ничуть не меньше.
— Вот же злополучная прихоть пришла ей на ум, — согласился он, — и как она только додумалась, что на свете есть король павлинов.
Придя в большой город, они увидели, что его населяет множество мужчин и женщин, чья одежда сшита из павлиньих перьев; подобными перьями украшалось тут все, и это считалось очень красивым. Навстречу им мчал король в красивой маленькой карете из золота и бриллиантов — ее несли во весь опор двенадцать павлинов. Этот павлиний государь был так ослепительно красив, что король и принц остолбенели: у него были длинные, светлые, вьющиеся волосы, белое лицо, а корона из павлиньего хвоста. Он же, увидев людей, одетых иначе, чем его подданные, решил, что это, должно быть, чужестранцы; тогда он остановил карету и подозвал их.
Король и принц, вежливо поклонившись, сказали:
— Сир, мы прибыли из дальних краев преподнести вам сей прекрасный портрет.
Тут они вынули из сундука большой портрет Розетты; всмотревшись в него, король павлинов воскликнул:
— Я не могу поверить, что на свете есть такая прекрасная девушка.
— Она еще в сто раз краше, — отвечал король.
— Ах! Вы шутите, — обиделся король павлинов.
— Сир, — сказал принц, — мой брат — король, как и вы; наша сестра, чей портрет вы видите, — принцесса Розетта: мы пришли к вам ее посватать: она красива и умна, и мы дадим за ней в приданое буасо[73] золотых экю.
— О да, — сказал король, — я охотно женюсь на такой, и ни в чем не будет ей отказа, а уж как я любить ее стану; да только если хоть в чем-то окажется она хуже своего портрета, то я прикажу вас убить.
— Что ж, годится, — сказали братья Розетты.
— Ах, вам это годится? — подхватил король. — Тогда ступайте в темницу и оставайтесь там, покуда не прибудет принцесса.
Принцы сделали это без возражений — ведь они-то не сомневались, что сама Розетта еще прекрасней своего портрета.
Пока они сидели в темнице, король приказал прислуживать им наилучшим образом; он часто их навещал, а в его замке висел тот самый портрет принцессы, от которого он так потерял голову, что не спал ни днем, ни ночью. Братья же отправили ей из башни письмо с повелением побыстрее приехать, ибо король павлинов ее ждет; однако ж не сообщили, что они узники, чтоб она ни о чем не тревожилась. Принцесса, получив это известие, от восторга была вне себя; всем рассказала, что король павлинов нашелся и хочет взять ее в жены. Зажигали огни, палили из пушек, повсюду ели конфеты и сладости, а всему приходившему народу целых три дня раздавали хлеб с маслом и вареньем, побрякушки и сладкое вино. Проявив такую неслыханную щедрость, Розетта оставила своих красивых кукол добрым подругам, а королевство брата — старым мудрецам, наказав им тратить поменьше, а дани к возвращению короля собрать побольше, а еще умоляла их беречь своего павлина, да и пустилась в путь, взяв одну лишь кормилицу да свою молочную сестру с зеленым песиком Непоседой.
Они отправились по морю на лодке, везли мешок золотых экю и нарядов, которых хватило бы, чтоб десять лет менять их по два раза в день, а сами лишь смеялись да пели. Кормилица спрашивала у лодочника:
— Да близко ли, близко ли оно, королевство павлинов?
— Да нет же, — отвечал он ей.
Она все за свое:
— Да когда же? Когда же?
— Скоро, — отвечал он ей, — скоро.
Тут она и в третий раз:
— Подплываем? Подплываем?
Он ответил:
— Да, да.
Едва он вымолвил это, как кормилица присела рядом и шепнула:
— Захоти только — и навсегда станешь богатым.
— Хочу, — отвечал он.
— Пожелай только — и получишь много пистолей, — продолжала она.
Он ответил:
— Я большего и не желаю.
— Тогда, — сказала она, — этой ночью, пока принцесса будет спать, ты поможешь мне сбросить ее в море. Она утонет, а я одену свою дочь в ее прекрасные одежды, и мы отведем ее к королю павлинов, который сразу на ней женится, а ты в награду получишь столько бриллиантов, сколько сможешь унести.
Лодочник предложению весьма удивился: очень жаль ему было топить такую красавицу, но старуха достала бутыль вина и так его напоила, что он ни слова против не смог вымолвить.
Когда наступила ночь, принцесса, как обычно, отошла ко сну; ее маленький Непоседа мило почивал, развалившись на постели, не шевеля ни передними, ни задними лапами. Розетта крепко спала, когда злая кормилица, которая ложиться и не думала, пошла за лодочником. Она втолкнула его в покои принцессы, затем, стараясь не разбудить, они подняли ее вместе с пуховой периной, подушкой, простынями и одеялами; молочная сестра суетилась, во всем им помогая: и они бросили все это в море, а принцесса спала так сладко, что не проснулась.
Но, к счастью, ее перина была сделана из перьев птицы-феникса, весьма редких и имеющих свойство не тонуть в воде, так что принцесса плавала на постели, точно в лодке; однако вода мало-помалу намочила перину, затем подушку. Тут Розетта испугалась, что описалась в кроватку[74] и ее будут за это бранить.
Поскольку она ворочалась с боку на бок, Непоседа проснулся; своим превосходным нюхом он почуял треску и морских языков прямо у себя под носом и принялся тявкать, да так громко, что перебудил всех рыб: а те и давай вовсю резвиться, толкаясь головами в принцессино ложе, которое заходило ходуном и крутилось как волчок. Ну и ну! И удивлена же была Розетта! «Наша лодка пляшет на волнах? — говорила она себе. — Мне никогда еще не было так неуютно, как этой ночью».
А тут еще и этот тявкающий Непоседа: ну, жизнь стала совсем невыносимой. Злая же кормилица с лодочником, издалека услышав его лай, посмеивались меж собою:
— Вот забавный песик! Выпей-ка вместе с хозяйкой за наше здоровье; ну, а мы поспешим причалить, — ибо они уже подплывали к городу короля павлинов.
На берег моря отправили сто карет, запряженных всевозможными редкими животными: там были львы, медведи, олени, волки, лошади, быки, ослы, орлы, павлины, а карету для принцессы Розетты тащили шесть синих обезьян, которые и скакали, и по канату ходили, словом, выделывали тысячу премилых штук: на них была красивая сбруя из темно-красного бархата с золотыми нашивками. Для развлечения принцессы королем были выбраны шестьдесят юных барышень, одетых в разноцветные платья, и золото с серебром были самыми скромными из их украшений.
Кормилица нарядила дочку с великим старанием; навесила бриллианты Розетты ей на голову и плечи, напялила на нее самое красивое платье принцессы — но в этих нарядах девица выглядела уродливей обезьяны, с волосами чернее грязи, косыми глазами, черепашьими ногами, с большим горбом на спине, с угрюмой гримасой на лице, притом она злобно озиралась и то и дело ругалась.
Подданных короля павлинов, стоило ей лишь сойти с лодки, это зрелище поразило как громом — они даже речи лишились.
— И что вы тут встали? — рассердилась девица. — Заснули, что ли? А ну-ка быстро несите чего-нибудь поесть, негодники, а не то я прикажу вас всех повесить.
Они же, слыша этакие угрозы, промеж собой говорили:
— Какая мерзкая зверюга! Такая же злюка, как и уродина! Хороша партия для нашего короля, вот уж право слово: не стоило выписывать ее с края света.
Она же продолжала держать себя госпожою и за ничтожные оплошности раздавала всем пощечины да тумаки.
С такой-то свитой она ехала очень медленно, восседая в карете словно королева, но павлины, удобно рассевшиеся по деревьям, чтобы приветствовать проезжающую принцессу, и приготовившиеся было кричать «Да здравствует прекрасная королева Розетта!», увидев столь безобразную бабу, принялись вопить: «Фи, фи! Что за гадкое чудище!» Она же, сходя с ума от ярости и досады, сказала стражникам:
— Убейте этих разбойников-павлинов, которые меня оскорбляют.
Павлины же, смеясь над нею, быстро улетали прочь.
Хитрый лодочник, глядя на все это, тихонько сказал кормилице:
— Кума, плохи наши дела; что уж, ваша дочь-то, не могла быть и покрасивей, что ли.
— Замолчи, болтун, — отвечала та, — навлечешь беду.
Короля известили, что принцесса приближается.
— Итак, — спросил он, — правду ли сказали мне ее братья? Она прекрасней, чем ее портрет?
— Сир, — возразили ему, — хорошо бы ей быть хотя бы столь же красивой.
— О да, — сказал король, — я буду этому рад, пойдемте же на нее посмотрим.
А при дворе поднялся большой шум, и он, поняв, что привезли невесту, только и слышал:
— Фи, фи! Что за гадкое чудище!
Он подумал, что это о какой-то карлице или зверушке, которую она привезла с собой, — ведь ему и в голову не могло прийти, что речь о ней самой.
Портрет Розетты несли на длинном шесте всем напоказ, и король степенно шел следом в окружении своих баронов и павлинов, за которыми шествовали послы соседних королевств. Король павлинов сгорал от нетерпения — так ему хотелось взглянуть на свою дорогую Розетту. Вот те на! Увидел — и чуть не помер; разгневался как никто на свете и одежды на себе порвал, а к ней близко и подойти-то боится.
— Как, — вскричал он, — парочка негодяев, заключенных мною в темницы, дерзко насмехалась, предложив мне в жены такую обезьяну; да они достойны смерти! А эту выскочку вместе с кормилицей и тем, кто их сюда доставил, посадим в самое сердце моей высокой башни.
В это время король и его брат — узники, знавшие о скором прибытии сестры, приосанились, чтобы ее встречать. Но тюремщик с солдатами, вместо того чтоб освободить их, повели в мрачное подземелье, где вода была им по шею, а в ней плескалось множество гадких тварей; безграничными были удивление их и тоска.
— Увы, — жаловались они меж собою, — каким несчастьем обернулась для нас эта свадьба! Что ж навлекло на нас столь большую беду?
И ничего не могли понять — только и знали, что их хотят казнить.
Так прошли целых три дня. На четвертый король павлинов пришел, чтобы через щель выкрикивать им оскорбления.
— Вы присвоили титул короля и принца, — возмущался он, — чтобы поймать меня в ловушку и обязать меня взять в жены вашу сестру; но вы оба всего лишь оборванцы, не стоящие воды, которую пьете; живо мои судьи вынесут вам справедливый приговор; уже прядут веревку, на которой я прикажу вас повесить.
— Повелитель павлинов, — ответил ему разгневанный король, — не будьте столь поспешными, ибо вы можете в этом раскаяться: я такой же король, как и вы, у меня есть славное королевство, наряды, короны и много экю — и я готов отдать все до последней рубашки. Хо-хо! Как вы торопитесь нас вздернуть. Что ж такое мы у вас украли?
Услышав столь решительные речи из уст пленника, король засомневался и стал подумывать, а не отпустить ли ему братьев вместе с сестрой, вместо того чтоб казнить; но его советник, отъявленный льстец, подзуживал его, сказав, что необходимо отомстить как следует, а не то все будут над ним смеяться и принимать его за ничтожного королька с четырьмя денье за душой[75]. Тогда он поклялся их не прощать и приказал вершить суд, продлившийся недолго: стоило лишь сравнить портрет настоящей принцессы Розетты с той, которая явилась себя за нее выдавать. Разумеется, братьев приговорили к обезглавливанию как лжецов — ведь они обещали королю прекрасную принцессу, а доставили ему какую-то безобразную деревенщину.
В темнице им приговор и зачитали. Братья же воскликнули, что ни в чем не лгали: их сестра-принцесса прекрасней ясного дня, и за этим кроется непонятная им интрига, а посему попросили они еще семь дней сроку до казни, чтоб попытаться доказать свою невиновность. Крепко разгневался на них король павлинов и никак не соглашался на эту милость, но наконец уступил.
А пока при дворе вершились такие дела, мы вернемся к несчастной принцессе Розетте. Когда наступил день, она с изумлением обнаружила, что осталась без лодки и помощи в открытом море; не меньше был удивлен и Непоседа. Она принялась плакать, да так горько, что разжалобила всех рыб: не знала, что ей делать и как ей быть.
— Без сомнения, это король павлинов, — говорила она, — он, он приказал бросить меня в море, не захотев стать моим супругом; а чтобы окончательно от меня избавиться, он решил меня утопить. Вот странный человек! — продолжала она. — А уж как бы я его любила! И как мы могли бы прекрасно поладить! — И расплакалась пуще прежнего, ибо любовь была сильнее ее.
Так она провела два дня, носимая морем то туда, то сюда, промокшая до костей, прослуженная до полусмерти и почти оцепеневшая; не согревай ее сердца хоть немного малыш Непоседа, умереть бы ей сотню раз. Ее мучил ужасный голод; вокруг плавало множество устриц, которых она ловила и ела, сколько хотела; как ни недолюбливал их Непоседа, а пришлось и ему удовольствоваться тем же угощеньем. Наступила ночь, и Розетте стало так страшно, что она сказала псу:
— Громче, громче лай, Непоседа, а то кабы морские языки нас не съели.
Он и лаял всю ночь напролет, а наутро ложе принцессы прибило к берегу. Стояла у самых волн одинокая маленькая хижина, а в ней жил добрый старик: бедняк, он ничуть не помышлял о богатствах мира сего. Услышав тявканье Непоседы, он от души удивился: нечасто приходилось ему видеть здесь собак; подумал он было, что какие-то странники сбились с пути, и вышел милосердно указать им дорогу. Тут и заметил он принцессу и Непоседу, плывших по водам. Розетта же, едва завидев его, протянула к нему руки и закричала:
— Милый старик, спасите меня, вот уж два дня я страдаю и гибну.
Услышав, как грустно она причитает, он проникся жалостью, сходил в хижину и принес оттуда длинный багор, потом зашел в воду по шею, едва не потонув два или три раза. Наконец он потянул так, что вытащил ложе на берег. С большой радостью Розетта и Непоседа ступили на твердую землю. Принцесса от всего сердца поблагодарила старца и, завернувшись в одеяло, босая, вошла в его лачугу, где бедняк разжег для нее костерок из сушеных листьев и достал из сундука самое красивое платье своей покойной жены, вместе с чулками и башмаками — вот и облаченье для принцессы. Она, и переодетая крестьянкой, была восхитительна, как ясный день, а Непоседа приплясывал вокруг, чтобы ее развлечь.
Старик прекрасно видел, что Розетта дама знатная, ибо одеяла ее вышиты золотом и серебром, а подушка — из атласа; он спросил у девушки, что с нею приключилось, пообещав, что никому ничего не скажет. Она поведала ему все от начала до конца, обливаясь слезами, ибо все еще думала, что это король павлинов приказал ее утопить.
— Что же нам делать, девочка моя? — ответил ей старик. — Вы такая великая принцесса, привыкшая есть лакомые кусочки, а у меня лишь черный хлеб да репа; у вас будет скудный стол; но коли угодно на меня положиться, я пойду к королю павлинов и скажу ему, что вы здесь: несомненно, взгляни он только на вас, как тотчас и предложит вам быть его королевою.
— Ах, он злой, — возразила Розетта, — он приказал меня убить; но вот вам и дело — найдите маленькую корзинку да повесьте на шею моего пса — пусть принесет поесть, а не то случится большая беда.
Старик принес корзину, принцесса повесила ее на шею Непоседе и сказала ему:
— Ступай в город, найди там самый лучший котелок и принеси мне то, что в нем варится.
Непоседа побежал в город, где лучшим котелком был королевский; забежал он на придворную кухню, открыл его, проворно взял все, что было внутри, и вернулся домой. Тогда Розетта сказала ему:
— Теперь сбегай туда же в кладовую и набери там самого лучшего.
Непоседа вернулся и принес белого хлеба, мускатного вина, всевозможных фруктов и варенья; он так нагрузился, что больше унести был не в силах.
Тут король павлинов захотел отобедать, а ни в котелке, ни в кладовой ничего нет; все растерянно переглядывались, а его охватил ужасный гнев.
— Так и быть, — сказал он, — придется обойтись без обеда, только уж к вечеру извольте зажарить мясо на вертеле, потому что хочу я хорошего жаркого.
Вечером принцесса сказала Непоседе:
— Ступай в город, зайди на лучшую кухню и принеси мне хорошего жаркого.
Непоседа сделал то, что приказала хозяйка; а раз лучшей кухней была королевская, он и вошел туда без шума; пока повара стояли к нему спиной, он снял с вертела все аппетитнейшее жаркое и принес принцессе полную корзину, а она тут же послала его в кладовую, откуда Непоседа доставил еще и фруктовые закуски вместе с королевскими конфетами. Король, оставшийся без обеда и мучимый голодом, хотел пораньше перекусить, но ничего опять не нашлось; он был страшно разгневан и лег спать, не поужинав. На другой день — то же самое и в обед, и в ужин: три дня король не пил и не ел, ибо стоило ему лишь сесть за стол, как тут же докладывали, что все припасы кто-то стащил. Тогда его советник, опасаясь уже и за жизнь его, спрятался в углу кухни, не спуская глаз с кипящего котла; каково же было его удивление, когда увидел он потихоньку открывшую его маленькую зеленую собачку с одним-единственным ухом; вынув мясо, она положила его в корзинку и вышла. Он последовал за ней до самых городских ворот и пришел к хижине старика. Вернувшись, тотчас же рассказал он королю, что все его вареные и жареные яства утром и вечером уходят к бедному крестьянину.
Король был очень удивлен и велел послать за несчастным. Советник, желая ему услужить, отправился туда сам с отрядом лучников. Старик с принцессой в это время как раз обедали жарким с королевской кухни; по приказу советника их схватили и связали толстыми веревками, вместе с Непоседой.
Доставили их во дворец. А король промолвил:
— Завтра истекают семь дней, которые я дал этим обманщикам, — казню их вместе с похитителями моего обеда.
И он вошел в зал правосудия. Старик пал на колени и сказал, что все расскажет. Король же увидел, как горько плачет прекрасная принцесса, и очень ее жалел; тут старик возьми да и скажи, что зовут ее принцессой Розеттой и что оставили ее одну в открытом море; как ни ослаб король, оставаясь так долго без еды, — он сию же минуту трижды подпрыгнул и бросился обнять принцессу и освободить от пут, повторяя, что любит ее всем сердцем.
Тут послали за принцами, которые подумали, что их ведут на казнь, и брели понурив головы; привели и кормилицу с дочкою. Злодейки же, едва окинув взглядом собравшихся, сразу во всем сознались. Розетта кинулась на шею братьям; кормилица с дочкой и лодочником бросились на колени, моля о пощаде. Радость была столь велика, что король и принцесса их простили, а доброго старика щедро вознаградили — он навсегда остался во дворце.
Наконец повелитель павлинов попросил прощения у короля и у его брата, сожалея, что жестоко с ними обошелся; кормилица вернула Розетте красивые одежды и мешок с золотыми экю, и свадьба длилась две недели. Все были довольны, а больше всех Непоседа — ведь отныне он ел лишь крылышки куропаток.
* * *
За всеми нами Небо наблюдает,
И, коль беда невинному грозит,
Оно тотчас же на защиту встанет
И за обиду гневно отомстит.
Когда мы видим, что плывет Розетта
Как Алкион[76], качаясь по волнам,
Изменчивому повинуясь ветру,
Ее в душе, конечно, жалко нам.
Уж как бы не нашла она конец
Средь волн морских, суровых и холодных,
Как бы она не стала, наконец,
Добычей легкою китов голодных.
Но Небо не дало ей умереть.
Помог ей и зеленый Непоседа
Не стать для языков морских обедом,
Смог милую хозяйку накормить.
Когда коснется пропитанья дело,
Его попробуй кто остановить.
На псов таких ты полагайся смело!
Итак, Розетта наша уцелела,
Обидчиков смогла она простить.
Вы, кто обижен словом или делом
И за нее желает отомстить,
Сумейте даровать врагам прощенье,
Поверженным, упавшим в ноги к вам,
Пусть милость станет праведным отмщеньем.
Людовик в том примером служит нам[77].
Пер. Е. Ю. Шибановой
Золотая Ветвь[78]

Королева-мать пожелала, чтобы его назвали Кривобок: то ли ей нравилось это имя, то ли она сочла, что оно подойдет принцу лучше всего, раз уж он был так несуразен телом. Король Хмурен, который больше думал о своем величии, нежели о благополучии сына, положил глаз на дочь одного соседнего короля, чьи владения были столь обширны, что, присоединив их к своим, Хмурен стал бы самым грозным владыкой на земле. Он рассудил, что эта принцесса прекрасно подойдет его отпрыску, ибо не сможет попрекнуть Кривобока некрасивой и уродливой внешностью, будучи и сама столь же безобразна и уродлива. Ее всегда возили в кресле-колымаге, потому что у нее были переломаны ноги. Звали ее Кочерыжица. Во всем мире было не сыскать столь любезного и утонченного существа — казалось, этим Небеса решили ее вознаградить за ту жестокость, какую проявила к ней природа.
Король заказал портрет Кочерыжицы и, получив его, приказал повесить под балдахином в парадной зале, затем послал за принцем Кривобоком и велел ему взирать на портрет с нежностью, ибо изображенная на нем принцесса предназначена ему в жены. Кривобок взглянул на портрет и тут же отвернулся с презрением, оскорбившим его отца.
— Разве вы недовольны? — сказал тот язвительно и сердито.
— Нет, повелитель, женитьба на калеке меня не прельщает.
— Уж кому, как не вам, — заметил король, — попрекать принцессу ее недостатками, — вы ведь и сами изрядно уродливы!
— Именно поэтому, — возразил принц, — я и не хочу соединять свою жизнь с таким же чудищем; мне достаточно своего горя: что же будет, случись у меня такая же жена?
— А! Вы боитесь произвести на свет новых уродов, — ответил король, желая оскорбить принца, — да это все пустые страхи: вы все равно женитесь на ней. Мне достаточно только приказать.
Кривобок ничего не ответил; он поклонился королю и покинул залу.
Король совершенно не привык даже к слабому сопротивлению. Упорство сына привело его в неописуемый гнев. Он приказал запереть его в башне, которую построили когда-то специально для строптивых принцев, но вот уже двести лет как она пустовала, так что внутри обветшала совершенно. От всего ее убранства веяло глубокой древностью. Принц любил читать. Он попросил принести книг, и ему позволили взять их в библиотеке, располагавшейся в башне. Поначалу он обрадовался. Обратившись же к чтению, ничего не смог понять: столь старинный язык оказался ему недоступен. Он откладывал книги в сторону, а затем снова брался за них, стараясь понять хоть что-нибудь или по меньшей мере занять себя. Король Хмурен, уверенный, что принцу скоро наскучит сидеть в заточении, поступил так, как если бы тот уже согласился жениться на Кочерыжице: он отправил послов к соседу, пригласив его дочь, которой посулил безоблачное счастье. Отцу Кочерыжицы это было приятно: ведь пойди-ка найди мужа-принца для калеки. Он принял предложение Хмурена, хотя, по правде говоря, портрет принца Кривобока не вызвал у него большого умиления. Он приказал повесить его в великолепной галерее своей башни; туда привезли принцессу Кочерыжицу. Увидев портрет, она опустила взор и залилась слезами. Ее отец, возмущенный выказанным ею отвращением, поднес к ее лицу зеркало и сказал:
— Дочь моя, вы льете слезы — но посмотрите на себя и признайте, что плачем вашему горю не поможешь.
— Если бы у меня было намерение выйти замуж, о повелитель, возможно, мне не пристало бы проявлять такую чувствительность; но я готова смириться со своим уродством, если смогу одна страдать из-за него — я не хочу никого удручать своим видом. Пусть я на всю жизнь останусь несчастной принцессой Кочерыжицей — и буду довольна или, по крайней мере, не стану жаловаться.
Но, какими бы благородными ни были намерения принцессы, король не стал ее слушать; ей пришлось уехать вместе с прибывшими за ней послами.
Пока ее везут в колымаге, на которой Кочерыжица, и правда, похожа на настоящую кочерыжку, вернемся в башню и посмотрим, чем занят принц. Никто из стражей не осмеливался заговорить с ним. Им было приказано оставить его в одиночестве, держать впроголодь и донимать дурным обращением. Король Хмурен умел заставить себе подчиняться — если не из любви, то из страха, но к принцу относились так хорошо, что, как могли, старались скрасить его страдания.
Однажды, гуляя по обширной галерее и предаваясь грустным думам о судьбе, по воле которой он так уродлив и безобразен, а теперь еще и должен связать свою жизнь с такой же бездольной принцессой, он взглянул на окна, расписанные столь выразительно и красочно, что, почувствовав особенное восхищение, остановился получше их рассмотреть; но ничего не мог понять, потому что там представлены были события, произошедшие много веков назад. Больше всего удивило его, что одно из изображений походило на него самого как две капли воды, так что можно было подумать, будто это его портрет. Человек этот что-то искал в стене донжона, потом извлекал из нее золотой шомпол, которым вскрывал какую-то небольшую комнату. Там было еще много деталей, поразивших воображение принца; и этот же персонаж присутствовал на большинстве витражей. Как могло случиться, думал Кривобок, что здесь было мое изображение, когда я еще даже не родился? И в силу каких роковых обстоятельств художнику пришло в голову написать такого же уродца, как я? На витражах он видел и красивейшую особу со столь правильными чертами и таким одухотворенным лицом, что не мог отвести взор. И много еще там было диковинных вещей, а чувства так поразительно переданы, что ему казалось, будто все происходит у него на глазах, хотя это были всего лишь росписи.
Он покинул галерею, лишь когда стемнело и витражи стали уже неразличимы. Вернувшись в спальню, он взял одну из старинных рукописей, первую попавшую в руки; ее страницы были из тонкого пергамента с росписями по краям, а обложка — золотая с синей эмалью. Он застыл в удивлении, увидев те же рисунки, что и на окнах галереи; попытался прочесть текст, но не смог. Вдруг увидел он, как изображенные на пергаменте музыканты запели; на другой странице игроки в бассет и триктрак[79] начали сдавать карты и бросать кости. Он стал листать дальше: вот изображен бал — все дамы нарядно одеты и блещут красотою. Он перевернул еще страницу — и почувствовал аромат изысканных блюд; изображенные на картинке люди пировали; самый высокий из них был в четверть локтя, а одна из дам обернулась к принцу и воскликнула:
— За твое здоровье, Кривобок! Постарайся же вернуть нам нашу королеву, и тогда ждет тебя счастье; иначе тебе не миновать беды.
Услышав эти слова, принц ощутил такой невыразимый страх (а ведь он уже давно вздрагивал от испуга), что выронил книгу и сам упал замертво рядом с ней. На шум прибежали стражники; они горячо любили его и позаботились о том, чтобы привести его в сознание, а потом спросили, что с ним приключилось; он ответил, что его так плохо кормят и обращаются столь недостойно, что воображение у него разыгралось, и вот ему пригрезилось, будто он наяву видит и слышит то, что описано, — вот его и охватил страх. Опечаленные стражники накормили его, несмотря на запрет короля. Утолив голод, принц снова открыл книгу у них на глазах, но не увидел ничего подобного; это убедило его в том, что все ему почудилось.
На следующий день он вернулся в галерею; и вновь люди на витражах двигались, гуляли по аллеям, охотились на оленей и зайцев, ловили рыбу или строили маленькие домики; изображения эти были весьма малы, и повсюду он находил человека, похожего на себя. Тот и одет был в похожий наряд, он поднимался в донжон и находил золотой шомпол. Поскольку принц не был голоден, то и не мог полагать, будто все ему привиделось. «Все слишком таинственно, — подумал он, — чтобы можно было этим пренебречь, не стараясь разузнать побольше; возможно, я смогу что-то выяснить в донжоне». Он поднялся и стал выстукивать стену, и вот в одном месте звук показался ему глуше. Он взял молоток, пробил дыру и нашел там золотой шомпол искусной выделки. Не зная еще, что с ним делать, принц вдруг увидел в углу старинный комод из дешевого дерева. Принц хотел открыть его, но, поворачивая туда-сюда, никак не находил замочную скважину; наконец он обнаружил маленькое отверстие и, подумав, что тут-то шомпол ему и пригодится, сунул его туда и сильно потянул на себя — тут комод возьми да и откройся. Каким ветхим и невзрачным был он снаружи, таким же красивым и восхитительным оказался изнутри: все ящики были высечены из горного хрусталя, или из янтаря, или из драгоценного камня; открыв один, принц увидел по бокам, снизу, сверху и в середине, ящички поменьше, разделенные жемчужно-перламутровыми перегородками, раздвинув которые можно было их открыть: каждый был доверху наполнен прекраснейшим в мире оружием, богато украшенными коронами, замечательными портретами. Принц Кривобок был восхищен, он без устали открывал все новые и новые ящички. Наконец он добрался до крошечного ключика, выточенного из цельного изумруда, которым открыл самую глубокую и потайную дверцу — сияние изумительного карбункула в форме большой шкатулки так его и ослепило. Принц поспешно вынул ее из отверстия, но какой же ужас охватил его, когда он обнаружил, что шкатулка полна крови и в ней лежит отрезанная рука, державшая еще один ларец, — на сей раз с портретом.
При виде этого Кривобок задрожал, волосы у него на голове встали дыбом, ноги подкосились, и он с трудом удержался, чтобы не упасть. Он присел на пол, все еще держа в руках шкатулку, но не решаясь взглянуть на зловещую руку; его охватило большое желание поставить шкатулку на место, но он подумал, что все, произошедшее с ним до сих пор, уж слишком таинственно. Вспомнились ему и слова, произнесенные дамой в книге: выбор за ним, и тогда его ожидает либо счастье, либо беда; будущее страшило его не меньше, чем настоящее. И, упрекнув себя в недостойной мужчины робости, он через силу взглянул на руку.
— О несчастная рука, — сказал он, — не можешь ли ты как-нибудь поведать о своей печальной судьбе? Если я в силах сослужить тебе службу, не сомневайся в моем великодушном желании помочь.
При этих словах рука зашевелилась и, задвигав пальцами, обратилась к нему с речью, которую он расслышал так же хорошо, как если бы ее произносили человеческие уста.
— Узнай же, — произнесла рука, — чем ты в силах помочь тому, с кем я разлучена волею жестокосердного ревнивца. Ты видишь на этом портрете обворожительную красавицу, которая стала причиной моего несчастья. Не медля, отправляйся в галерею, найди место, ярче всего освещенное солнцем, и ты обнаружишь мое сокровище.
И тут рука умолкла; принц продолжал вопрошать ее, но та не отвечала.
— Куда мне положить вас? — спросил он. Она вновь подала ему знак; сообразив, что ее надлежит положить обратно в комод, он так и поступил. Потом снова все запер, положив шомпол в то отверстие в стене, из которого взял его, и, начиная уже привыкать ко всем этим чудесам, спустился в галерею.
При его появлении стекла стали звенеть и подрагивать весьма необычным образом; он поискал то место, куда падали самые яркие солнечные лучи, и, увидев, что это было изображение чрезвычайно прекрасного и величественного юноши, застыл в восхищении. Приподняв картину, он обнаружил панель из черного дерева с золотой окантовкой, как и в остальной части галереи: он не знал, как ее снять, и нужно ли это. Осмотрев витражи, он понял, что панель поднимается; и вот, пройдя внутрь, он попадает в вестибюль из порфира, украшенный статуями; поднимается по широкой лестнице из агата с позолоченными перилами; оказывается в зале, сделанной целиком из лазурита, и, пройдя через множество покоев, поражавших роскошными росписями и богатым убранством, наконец входит в маленькую спальню, отделанную бирюзой, и на ложе из золотого и синего шифона видит даму, которая, казалось, спала. Ее красота не знала себе равных; волосы чернее вороного крыла оттеняли белизну лица; казалось, что сон ее беспокоен; она как будто была чем-то удручена и выглядела больной.
Опасаясь ее разбудить, принц тихонько приблизился; он услышал, что она разговаривает, и, прислушавшись к ее речам, различил несколько слов, прерываемых вздохами:
— Неужто ты, коварный, полагаешь, что я смогу полюбить тебя, разлучившего меня с любимым моим Тразименом[80]? Как? У меня на глазах ты осмелился отрубить руку, которая должна всегда внушать тебе ужас? Так ли ты намеревался доказать мне свое уважение и любовь? Ах! Тразимен, мой нежный друг, неужто я вас больше не увижу?
Принц заметил, что с ее сомкнутых ресниц заструились капли и потекли по щекам, подобно слезам Авроры[81].
Он неподвижно застыл у изножья ее постели, не зная, разбудить ли ее или же оставить погруженной в тягостный сон; он уже понимал, что Тразимен был ее возлюбленным и это его руку он нашел в донжоне. Принц задумался и был очень смущен, как вдруг услышал восхитительную музыку, — это были соловьи и канарейки, которые так ладно щебетали, что их пение превосходило самые прекрасные голоса. И тут появился необычайно огромный орел; он медленно летел, сжимая в когтях Золотую Ветвь, украшенную рубинами в виде вишен, не отрывая взора от спящей красавицы; казалось, он смотрит на солнце[82]; раскрыв крылья, он парил над нею, то поднимаясь, то вновь опускаясь к ее ногам.
Спустя некоторое время он подлетел к принцу, вложив золотую ветвь ему в руку, в этот миг птицы запели так пронзительно, что их трели вознеслись к самому своду дворца. Принц, уже свыкшийся с тем, что необычные события следовали одно за другим, решил было, что эта дама заколдована и ему надлежит совершить славный подвиг; он приблизился к ней, преклонил колено, коснулся ее ветвью и сказал:
— О прекрасная и очаровательная дама, что погружена в сон неизвестной мне силой, заклинаю вас во имя Тразимена пробудиться к жизни, которая, как кажется, в вас угасла.
Дама открывает глаза, видит орла и восклицает:
— Постойте, милый друг, постойте.
Но величавая птица испускает столь же пронзительный, сколь и горестный крик и улетает прочь вместе со своими пернатыми музыкантами.
В сей миг дама оборачивается к Кривобоку.
— Я поддалась влечению сердца, забыв о благодарности, — сказала она ему, — но знаю, что всем обязана вам и что это вы зажгли для меня светоч, потухший двести лет назад. Колдун, который любил меня и причинил столько страданий, предназначил вам это великое дело. Я могу вам помочь, и я горю желанием сделать это. Решайтесь же, а я применю все подвластное мне искусство волшебства, чтобы сделать вас счастливым.
— Сударыня, — ответил принц, — если ваше знание позволяет вам проникнуть в глубины моего сердца, вам нетрудно понять, что, несмотря на все невзгоды, которые меня удручают, у меня меньше поводов для жалоб, чем у кого бы то ни было.
— Я приписываю эти слова благородству вашей натуры, но все же не заставляйте меня быть неблагодарной. Чего вы желаете? Я могу все: только попросите.
— Я бы желал, — промолвил Кривобок, — вернуть вам прекрасного Тразимена, разлука с которым стоила вам стольких страданий.
— Вы слишком великодушны, заботясь о моих интересах в ущерб своим; это великое дело закончит другой человек: большего я вам не скажу. Знайте лишь, что он будет вам небезразличен, но не отказывайте мне в удовольствии оказать вам услугу. Итак, чего же вы хотите?
— Сударыня, — тут принц упал к ее ногам, — вы видите, как я уродлив, надо мною смеются, называя меня Кривобоком; сделайте меня не таким несуразным.
— Ступай, принц, — сказала фея, трижды коснувшись его Золотой Ветвью, — ступай же, ты станешь столь прекрасным и совершенным, каких не было прежде и не будет в грядущем, и пусть отныне тебя зовут Идеал; по праву дано тебе это имя.
Благодарный принц поцеловал ее колени; радость не давала ему произнести ни слова, но и по молчанию она догадалась, что происходило в его душе. Ей пришлось приказать ему встать, и, взглянув в украшавшие зал зеркала, Идеал не узнал Кривобока. Он стал выше на три фута, волосы теперь крупными локонами падали на плечи, лицо исполнилось величия и изящества, черты стали правильными, а глаза светились умом; иными словами, доброжелательная и чуткая фея постаралась на славу.
— Ах, будь мне только дозволено, — сказала она, — поведать вам вашу судьбу! Предостеречь от опасностей, уготованных вам вашим жребием! Научить, как их избежать! С каким бы удовольствием я прибавила это к услуге, которую только что вам оказала! Но тем самым я оскорблю высшего Гения, который вас направляет: итак, принц, покиньте эту башню и помните, что фея Благосклона всегда будет на вашей стороне.
При этих словах дворец и все те чудесные вещи, что так поразили принца, исчезли; он очутился в дремучем лесу, более чем в ста лье от башни, в которую приказал его заключить король Хмурен.
Оставим его приходить в себя от вполне закономерного удивления и посмотрим, что произошло, во-первых, со стражниками, каковых король к нему приставил, а во-вторых, с принцессой Кочерыжицей. Эти бедные стражи, удивленные тем, что принц не просит ужина, вошли в его покои и, не найдя там, принялись повсюду искать, ужасно испугавшись, как бы он не сбежал. Но все их старания были напрасными, и они уже отчаялись, боясь, что король Хмурен, известный своим суровым нравом, прикажет их казнить. Перебрав все возможные способы смирить его гнев, они решили, что одному из них следует лечь в постель и не выходить из спальни; остальные же скажут, что принц болен, и вслед за тем притворятся, будто он умер; а выпутаться из беды им поможет полено, завернутое в саван. Это средство показалось им самым верным — так они и поступили. Самый низкорослый из стражников лег в постель, ему приделали огромный горб. А королю передали, что его сын заболел. Тот счел, что его попросту хотят разжалобить, и по-прежнему отвечал крайней суровостью; именно это им и было нужно; и чем предупредительнее были они, тем безразличней становился король.
Что до принцессы Кочерыжицы, то она прибыла в маленькой колымаге не более локтя высотой. Король Хмурен вышел ей навстречу и, увидев, как она уродлива на своих жалких носилках, с шелушащейся, как у трески, кожей, со сросшимися бровями, широким плоским носом и ртом до ушей, не смог удержаться, чтобы не сказать ей:
— По правде говоря, принцесса Кочерыжица, вы напрасно презираете моего Кривобока: хоть он и весьма уродлив, но, поверьте, вы-то еще гаже.
— О повелитель, — отвечала она, — я не так самолюбива, чтобы оскорбиться вашими обидными речами; однако уж не полагаете ли вы и в самом деле такими словами заставить меня полюбить очаровательного сынка вашего. Так вот же, заявляю вам, что, хоть у меня и множество изъянов и передвигаюсь я в этой колымаге, замуж за него выходить не собираюсь и предпочитаю зваться принцессой Кочерыжицей, нежели королевой Кривобок.
Услышав такой ответ, король весь закипел от злости.
— Ах вот что, — промолвил он, — так-то вы разговаривали с отцом, когда жили в вашем королевстве, ну, а здесь повелеваю я: как прикажу, так и будет.
— Есть вещи, — возразила она, — которые дано выбирать нам самим; меня сюда привезли против моей воли, предупреждаю вас: я буду считать вас самым заклятым из своих врагов, прибегни вы к насилию.
Король покинул ее в еще большем раздражении, предоставив принцессе покои в своем дворце и придворных дам, которым было приказано убеждать ее, что стать женой принца — для нее самое лучшее.
Тем временем стражники, боясь, что их обман раскроется и король узнает о бегстве сына, поспешили передать ему, что принц умер. При этом известии его охватила такая скорбь, какой от него никто не ждал: он плакал, кричал и, обвиняя Кочерыжицу в своей невосполнимой потере, заключил ее в башню вместо дорогого усопшего сына.
Бедная принцесса в равной степени была удручена и удивлена, оказавшись в заточении; она была весьма храброй и высказала все, что думает, о таком суровом обращении, полагая, что королю это передадут, однако никто не посмел и пикнуть. Тогда принцесса написала отцу о том, как плохо с ней обращаются, и попросила помощи. Но и эти надежды оказались напрасными: ее письма перехватывали и доставляли королю Хмурену. Но все-таки в печали ее поддерживала надежда на избавление, и она каждый день отправлялась в галерею посмотреть на росписи; так много было там картин — а больше всего ее поражало, что и она сама нарисована в своей колымаге. «С тех пор, как я прибыла в эту страну, — думала она, — художники находят странное удовольствие в том, чтобы писать с меня портреты; что ж, разве мало лиц не столь безобразных? Или моим уродством они хотели еще больше подчеркнуть красоту этой юной пастушки, которая кажется мне столь очаровательной?» Затем она принялась рассматривать портрет одного пастуха, и глаз не смогла оторвать от него. «Как же это горько, — говорила она себе, — быть так обделенной природой, как я! И как же счастливы те, кто красив!» Тут она увидела себя в зеркале и, резко отвернувшись, хотела уж было расплакаться, но каково же было ее удивление, когда она заметила у себя за спиной низенькую старушку в шапочке, которая была еще безобразней ее, — она передвигалась в каталке, столь ветхой, что было в ней дыр двадцать, не меньше.
— Принцесса, — сказала ей старушка, — вы можете выбирать между добродетелью и красотой; ваши жалобы так трогательны, что я их услышала. Если захотите стать красивой, то будете очаровательны, блистательны, обходительны; а пожелаете остаться какая вы есть, — станете мудрой, почитаемой и смиренной.
Разглядев собеседницу, Кочерыжица спросила, неужели красота не может сочетаться с мудростью.
— Может, — ответила ей старушка, — но в вашем случае так уж было решено, что вы можете выбрать только одно из двух.
— Ну что ж, — решительно воскликнула Кочерыжица, — я предпочитаю уродство.
— Как! Вам больше нравится пугать людей своим видом? — спросила старушка.
— Да, сударыня, — ответила принцесса, — уж лучше пусть на меня обрушатся все несчастья, лишь бы я осталась добродетельной.
— Я тут припасла для вас свой желто-белый свисток, — сказала фея. — Подуй вы с желтой стороны, — станете похожей на эту восхитительную пастушку, которая вам так нравится, и вас полюбит пастух, чей портрет столько раз притягивал ваш взор; подув с белой, вы сможете еще дальше пройти по пути добродетели, на который вступаете столь отважно.
— О сударыня, — сказала принцесса, — не отказывайте мне в этой милости, она послужит мне утешением, когда на меня будут взирать с презрением.
Старушка протянула ей свисток добродетели и красоты; Кочерыжица без колебаний подула с белой стороны и поблагодарила фею, которая тут же исчезла. Принцесса была довольна сделанным выбором, и сколь ни завидовала она несравненной красоте пастушки, изображенной на витражах, но в утешение себе подумала, что красота проходит, как сон; а добродетель — это вечное сокровище, и ее-то красота непреходяща и длится дольше жизни: она все еще надеялась, что отец во главе своей огромной армии освободит ее из заточения. Ей так не терпелось этого дождаться, что она умирала от желания подняться на башню и посмотреть, не приближается ли помощь. Но как забраться столь высоко? Она и до своей спальни ковыляла со скоростью черепахи, а подниматься вверх ей всегда помогали служанки.
Найденный ею способ отличался необычайной ловкостью. На башне висели часы; она сняла гири и сама заняла их место. Когда часы стали заводить, ее подбросило на самый верх, и она успела увидеть в бойнице городские окрестности, но ничего не заметила и, сойдя вниз, присела у стены отдохнуть. Это была та самая стена, которую Кривобок или, лучше сказать, принц Идеал не сумел заделать до конца; и вот кусок штукатурки отвалился, и золотой шомпол, звякнув, упал прямо к ногам Кочерыжицы. Она увидела его и, подняв с пола, стала раздумывать, для чего он мог бы пригодиться. Поскольку она была умнее многих, то и рассудила, что с его помощью можно открыть комод, в котором нет замочной скважины. Это ей удалось, и она не меньше, чем принц, обрадовалась редким и изящным вещам. Там было четыре тысячи ящиков, наполненных старинными и недавно сделанными украшениями; наконец нашла она и золотую дверцу, и шкатулку из карбункула, и руку, плавающую в крови. Она вздрогнула и хотела ее отбросить, но это ей никак не удавалось, словно мешала тайная сила. «Увы мне! Как же быть? — думала она с грустью. — Лучше уж умереть, чем и дальше держать эту отрезанную руку». И в этот миг донесся до нее мягкий и нежный голос, говоривший:
— Мужайся, принцесса, твое счастье зависит от этого приключения.
— Ох! Но что же я могу сделать? — ответила она, дрожа.
— Нужно, — сказал голос, — отнести эту руку в спальню и спрятать ее в изголовье постели; и когда увидишь орла, немедля ему ее отдать.
Как бы сильно ни испугалась принцесса, голос был так убедителен, что она во всем повиновалась; положила на место драгоценности, не взяв ни одной из них, и закрыла все ящики. Стражники, опасаясь, как бы и она не сбежала, и не найдя ее в спальне, отправились на поиски и с удивлением обнаружили там, куда она, по их словам, могла подняться только при помощи колдовства.
Три дня она была сама не своя, даже не отваживалась открыть прекрасную шкатулку, ибо отрезанная рука внушала ей слишком сильный страх. Наконец, однажды ночью, она услышала шум у своего окна, открыла штору и в свете луны увидела парящего орла. Она спустилась с постели, как могла, проползла по комнате и открыла ставни. Орел влетел в спальню, громко хлопая крыльями от радости, и она не медля отдала ему руку, которую он сжал в когтях и спустя мгновение вдруг исчез; теперь на его месте был самый красивый и хорошо сложенный юноша, какого ей приходилось видеть; его чело украшал венец, а одежда была расшита драгоценными камнями. В руках он держал портрет. И вот он первым заговорил.
— Принцесса, — сказал он Кочерыжице, — двести лет назад вероломный колдун взял меня в плен. Мы оба любили прекрасную фею Благосклону. Меня не отвергли, и он весь исходил ревностью. Его искусство превосходило мое; и, желая воспользоваться этим, дабы меня погубить, он властно заявил мне, что запрещает впредь встречаться с ней. Его запрет был вызовом как моей любви, так и моему положению; я пригрозил ему, и красавица, которую я боготворил, была так оскорблена поведением колдуна, что в свою очередь запретила ему приближаться к себе. Тогда злодей решил наказать нас обоих.
Однажды, когда я сидел подле нее, очарованный портретом, подаренным мне ею и все-таки в тысячу раз менее прекрасным, нежели оригинал, вдруг появился он и отсек мне руку ударом сабли. Фее Благосклоне (так зовут мою королеву) это доставило больше страданий, чем мне самому, — она без чувств упала на постель, я же в тот миг почувствовал, как покрываюсь перьями; я превратился в орла. Мне было дозволено каждый день прилетать к моей владычице, но ни приблизиться к ней, ни разбудить ее я был не в силах; в утешение лишь слушал, как она непрестанно вздыхает и во сне зовет дорогого своего Тразимена. А еще я знал, что через двести лет одному принцу суждено пробудить ее к жизни, а другой принцессе — отдать мне отрезанную руку, вернув мое обличив. Некая фея, которая печется о вашем благополучии, пожелала, чтобы так произошло; это она спрягала мою отсеченную руку в тайнике башни, и это она наделила меня властью выразить вам свою признательность. Назовите, принцесса, то, что могло бы доставить вам наибольшее удовольствие, и вы немедленно это получите.
— Великий король, — отвечала Кочерыжица (после недолгого раздумья), — если я не ответила вам сразу, то не потому, что сомневаюсь; но должна вам признаться, что не привыкла к таким необыкновенным происшествиям, и мне кажется, что все это происходит скорее во сне, нежели наяву.
— О нет, сударыня, — молвил Тразимен, — я докажу вам, что это не обман, лишь поведайте мне, какой дар вы изволите пожелать.
— Попроси я всего, чего мне недостает до совершенства, — сказала она, — то, как ни велика ваша власть, вам было бы нелегко исполнить мое желание, но я ограничусь самым главным: сделайте мою душу столь же прекрасной, сколь уродливо мое тело.
— Ах, принцесса, — вскричал король Тразимен, — вы покорили меня таким правильным и мудрым выбором; однако невозможно исполнить то, что уже свершилось; но пусть же и ваше тело станет так же прекрасно, как душа.
Он коснулся принцессы портретом феи — и вот уж она чувствует, как хрустят ее кости, вытягиваясь и расправляясь, она становится выше ростом, красива и стройна, величава и скромна, прекрасные черты пленяют изяществом, а лицо белей молока.
— Какое чудо, — восклицает она, — неужели это я? Возможно ли?
— О сударыня, — отвечает Тразимен, — это вы; мудрый выбор в пользу добродетели привел к счастливой перемене, случившейся с вами. Как я счастлив, что после всего, чем я вам обязан, именно мне было предназначено поспособствовать этому! Но забудьте свое прежнее имя, пусть отныне вас зовут Брильянта, вы заслужили это имя умом и красотой.
В тот же миг он исчез, а принцесса, сама не зная как, очутилась на берегу небольшой речки, в тенистом уголке, прекрасней которого и на свете нет.
Она еще не видела своего отражения. Вода в речке была столь прозрачной, что, посмотрев на себя, она с изумлением увидела, что превратилась в ту самую пастушку, чьим изображением так восхищалась в галерее. И правда, на ней было белое платье, отделанное тонким кружевом, самое чистенькое, какое вообще могут носить пастушки; пояс сделан из цветков роз и жасмина, и волосы тоже украшены цветами; у себя в руках она обнаружила украшенный позолотой расписной пастуший посох, а неподалеку у берега — стадо барашков[83], слушавшихся каждого ее слова; при стаде даже была собачка, которая, казалось, знала ее и так и ластилась к ней.
И она принялась размышлять об этих новых чудесах. С рождения и до сего дня никого в мире не было уродливее ее — но она была принцессой. А теперь она стала прекраснее дневного светила — но была всего-навсего пастушкой и не могла смириться с утратой былого положения.
Все эти размышления так утомили ее, что она уснула. Как я уже говорила, она не спала всю ночь, а потом прошла сто лье, сама того не заметив: немудрено, что от долгого пути немного и притомилась. Барашки и собачка, окружив ее, казалось, охраняли, заботясь о ней так, как пристало бы заботиться о них ей, пастушке. Солнце, хотя и находилось в зените, не докучало ей; деревья пышными кронами укрывали ее от жарких лучей; а свежая и мягкая трава, на которую она опустилась, казалось, гордилась тем, что служит ложем такому прелестному созданию. И повсюду,
Ей головками кивая
И, на зависть всем цветам,
Средь травы благоухая,
Расцвели фиалки там.
Птицы нежно щебетали вокруг, а легкий ветерок как будто затаил дыхание, опасаясь разбудить ее. Некий пастушок, разморенный полуденной жарою, заметил издалека эту полянку и поспешил туда, чтоб прилечь отдохнуть; но, увидев юную Брильянту, застыл в таком изумлении, что, не обопрись он о деревце, непременно бы упал, ибо узнал в ней ту юную особу, чьей красотой любовался в галерее башни и на пергаментных страницах книги; и читатель, верно, уже догадался, что этот пастушок был никем иным, как принцем Идеалом. Неведомая сила задержала его в этих краях; и всех, кто его видел, он покорял — ведь ловкость, красота и ум выделяли его среди пастухов не меньше, чем при дворе — его родовитость.
Он не мог оторвать от нее взор, полный нежности и восхищения, каких никогда еще не испытывал. Он опустился на колени подле нее и любовался ее прекрасными чертами, казалось, лишенными малейшего изъяна; его сердце первым заплатило ее красоте дань, в которой никто впоследствии не мог ей отказать. Покуда он предавался размышлениям, Брильянта пробудилась и, увидев рядом Идеала в образе пастуха, но одетого с таким изяществом, тут же его узнала по виденному ею портрету.
— Любезная пастушка, — сказал он, — что за счастливый случай привел вас сюда? Вы, несомненно, пришли лишь затем, чтобы принять от нас дань уважения и любви. Ах! Я уже предчувствую, что первым поспешу выразить вам свое почтение.
— Нет, пастух, — отвечала она, — я вовсе не претендую на почести, которых не заслужила; я хочу оставаться простой пастушкой, я люблю свое стадо и свою собачку. Одиночество имеет для меня свою прелесть, и я не ищу ничего иного.
— Как! Юная пастушка, вы — здесь, но намерены скрываться от смертных, живущих в этих же местах! Возможно ли, — продолжал он, — что вы будете с нами так злы? По крайней мере, сделайте исключение для меня, ведь я первый, кто предложил вам свои услуги.
— Нет, — повторила Брильянта, — я не хочу видеть вас чаще других, хотя уже начинаю ценить вас больше остальных; но расскажите мне, о мудрый пастух, кто мог бы приютить меня, ведь, поскольку я здесь никого не знаю и столь юна, что не могу жить одна, я была бы рада вверить себя чьей-нибудь заботе.
Идеал был счастлив, что она обратилась к нему за советом. Он отвел ее в маленький домик, такой чистенький, что и в самой его простоте была особая прелесть. Там жила маленькая старушка, которая редко отлучалась, потому что почти не могла ходить.
— Милая матушка, — сказал ей Идеал, показывая на Брильянту, — взгляните же на несравненную девушку, одно присутствие которой омолодит вас.
Старушка поцеловала ее и приветливо сказала, что будет очень рада; ей, конечно, неловко, что домик так скромен, но, по крайней мере, она постарается согреть ее теплом своего сердца.
— Я и не думала, — молвила Брильянта, — что встречу такой любезный прием; поистине, милая матушка, я буду счастлива поселиться с вами. Не откажитесь, — добавила она, обращаясь к пастушку, — назвать мне свое имя, чтобы я знала, кому обязана.
— Меня называют Идеалом, — ответил принц, — но отныне я не желаю никакого иного имени, кроме звания вашего раба.
— А я, — прибавила старушка, — желала бы узнать, как зовут пастушку, которую я приютила у себя.
Принцесса ответила, что ее зовут Брильянтой. И бабушка, казалось, была очарована столь прелестным именем, а Идеал наговорил ей тысячу комплиментов.
Старая пастушка, понимая, что Брильянта проголодалась, подала ей в чистенькой крынке парного молока с ситным хлебом, свежими яйцами, свежевзбитым маслом и сливочным сыром. Идеал сбегал в свою хижину и принес клубники, орехов, вишни и других плодов, украсив все это цветами; а чтобы подольше оставаться подле Брильянты, он попросил позволения поесть вместе с ней. Ах! И захоти она даже отказать ему в этом — и то не смогла бы, таким блаженством казалось ей его общество, хоть она и старалась держаться с прохладцей.
После их расставания она еще долго думала о нем, а он — о ней. Они виделись каждый день: Идеал привык пасти свое стадо в тех же местах, куда она приводила свое, пел ей песенки, полные любовного пыла, играя на флейте и на мюзете[84]; Брильянта же танцевала, а потом благодарила его столь изящно и скромно, что его восхищению не было предела. И каждый из них размышлял о череде удивительных приключений, выпавших им на долю, и обоих понемногу охватывало волнение. Идеал упорно искал с ней встреч.
Едва пастух Брильянту находил,
Как о любви ей говорил
И так расписывал ту страсть,
что в нем пылает,
Влеченье, что сердца соединяет,
Что и пастушка поняла:
Тем странным чувством без названья,
Что в сердце родилось
наперекор желанью,
Сама любовь была.
Брильянта не могла не знать:
Неопытность к беде ведет
Того, кто чистоту блюдет,
И пастушка вперед решила избегать.
Но как же было тяжко Самой бедняжке!
Она, томясь, себя нередко упрекала,
Что скромного поклонника бежала!
А пастушок не мог понять,
Чем вызвано такое поведенье,
Не раз хотел он это разузнать,
Но тщетны были все мученья:
Брильянта уж его не хочет больше знать.
Она же старательно его избегала и без устали корила себя. «Как! Неужто я осмелилась полюбить, — восклицала она, — и полюбить простого пастуха! Что же за судьба у меня? Я предпочла добродетель красоте: казалось, небо сделало меня прекрасной, чтобы вознаградить — но как же я несчастна! Не будь у меня этой бесполезной красоты, пастух, коего я бегу, не стремился бы понравиться мне, и я не краснела бы, боясь тех чувств, что к нему питаю». Так она плакала, предаваясь горестным мыслям, и еще больше страдала оттого, что принимала возлюбленного за простого козопаса. Он был столь же печален и удручен: ему хотелось рассказать Брильянте о своем благородном происхождении, полагая, что в ней, быть может, пробудится тщеславие, а следом — и большая к нему благосклонность, но затем он убеждал себя, что она ему не поверит и попросит доказательств, а ему взять их будет неоткуда. «Как жесток мой жребий! — горевал он. — Я хоть и был безобразен, а все же наследовал отцу. Огромное королевство сглаживает многие недостатки. Теперь же, назови я себя принцем перед ней или моими подданными, — все напрасно: никто меня не узнает; только и принесла мне добра фея Благосклона, что, забрав мое имя и уродство, сделала пастухом, заставив страдать из-за прелестей безжалостной пастушки, которая едва меня терпит. О злая судьба, — говорил он, вздыхая, — сжалься надо мной или верни мне мое уродство и былое равнодушие!»
Вот каким горестным сожалениям предавался в одиночестве каждый из влюбленных. Но поскольку Брильянта по-прежнему упорно избегала Идеала, однажды он решил поговорить с ней, и, чтобы изобрести предлог, не рискуя ее ничем оскорбить, взял маленького ягненка, украсив его лентами и цветами; надел на него ожерелье из раскрашенной соломы, сделанное так искусно, что это был поистине шедевр; сам облачился в наряд из розовой тафты, отделанный английским кружевом, взяв в руки посох с повязанными лентами, а на пояс повесив сумку, — в таком виде он был прекраснее, чем все Селадоны мира[85]. Он нашел Брильянту сидящей на берегу ручья, который неторопливо струился в густых зарослях; ее барашки бродили вокруг. Пастушка была погружена в такую глубокую грусть, что толком и не следила за ними. Идеал робко приблизился к ней.
— Что я вам сделал плохого, прекрасная пастушка, — сказал он, — чем вызвал к себе такое отвращение? Вы не позволяете своему взору даже коснуться меня, вы меня избегаете. Неужели моя страсть так оскорбительна для вас? Или вы рассчитываете встретить более чистое и верное чувство? Разве мои слова и поступки не были всегда исполнены почтения и рвения вам услужить? Но вы, вероятно, любите кого-то другого, не мне предназначено ваше сердце.
Она тут же ответила ему:
Пастух! Коль вас я избегаю,
В тревоге стоит ли вам быть?
Понять нетрудно, полагаю,
Что опасаюсь вас любить.
Тому, кто ненависть питает,
Другого легче избегать.
Бежать нас разум заставляет,
Любовь стремится удержать.
В тревоге я: в сие мгновенье
Решимость тает, лишь взгляну на вас.
Я медлю; у любви кто в услуженье,
Пастух, тому нелегок долг подчас!
Покинуть милого нет сил без промедленья!
Коль любите меня, увы!
Прощайте и за мной не следуйте всечасно.
Хоть жизнь без вас снести, быть может,
я не властна,
Но не должны идти за мною следом вы!
Сказав так, принцесса ушла. Отчаявшись, влюбленный принц хотел было последовать за нею, но страдания его так усилились, что он упал без чувств под деревом. Ах! Суровая и неприступная добродетель, для чего страшитесь вы того, кому с ранних лет были так дороги? Он не в силах отречься от вас, и его страсть абсолютно невинна. Но принцесса остерегалась и себя не меньше, чем его; она не могла не воздать должное этому очаровательному пастуху, однако хорошо знала: надлежит избегать того, что чересчур любезно нашему сердцу.
Не выразить, как тяжело пришлось ей в этот миг, — обречь себя на разлуку с тем, кого она любила так нежно и горячо, как никого еще в своей жизни. Не удержавшись, Брильянта несколько раз обернулась посмотреть, не следует ли он за ней, и заметила, что он упал без чувств. Она любила его, но отказала себе в утешении помочь ему и, выйдя в поле, с мольбой подняв взор к небесам и молитвенно сложив руки, воскликнула:
— О, добродетель! О, слава! О, величие! Я пожертвовала покоем, — воскликнула она, — ради тебя, о судьба! О Тразимен! Я отказываюсь от своей роковой красоты; верни мне или мое уродство, или, не вгоняя меня в краску, — возлюбленного, которого я вынуждена покинуть!
При этих словах она остановилась, сама не зная, идти ей дальше или вернуться. Сердце рвалось обратно в лес, где оставался Идеал, но добродетель восторжествовала над любовью. Она из благородства решила больше не видеться с ним.
С тех пор, как принцесса очутилась в этих местах, она часто слышала рассказы о знаменитом колдуне, живущем в замке, который он построил со своей сестрой на окраине острова. Люди только и говорили, что об их познаниях: что ни день, происходило новое чудо. Она подумала, что стереть из ее сердца образ очаровательного пастуха сможет только колдовская сила, и, не сказав ни слова своей сострадательной хозяйке, принявшей ее как родную дочь, пустилась в путь, столь погруженная в свои невзгоды, что вовсе и не подумала об опасностях, подстерегающих юную и прекрасную девицу, путешествующую в одиночестве. Она не останавливалась ни днем, ни ночью — не ела и не пила, — так ей хотелось поскорее добраться до замка и излечиться от любви. Но, проходя темным лесом, она вдруг услышала песенку, которую, как показалось ей, напевал голос одной из подруг, а в словах она различила свое имя. Она остановилась и услышала вот что:
Идеал, наш пастушок,
Строен, статен и высок;
Он Брильянту полюбил,
Что юна, мила, красива, хороша — нет сил.
Отрасти жар пылал в крови,
Тщился пастушок влюбленный милой деве угождать,
Но строптивица и знать
Не желала о любви.
А в разлуке с пастушком
Сердце девичье тоска переполняла,
Это говорит о том,
Что не меньше от любви она страдала.
Правда, редко так случалось,
Чтоб Брильянта огорчалась,
Ибо был всегда он рядом
(А она тому и рада).
Рядом с милой лежа на лужку,
Пел свои ей песни он, бывало,
И внимала та прелестница дружку,
А случалось, подпевала.
— Ах! Это уж слишком, — сказала она, проливая слезы. — Нескромный пастух, ты хвастался невинными знаками расположения, которые я тебе оказывала! Ты осмелился предположить, что мое слабое сердце окажется чувствительней к твоей страсти, нежели к чувству долга! Ты раскрыл нескромность твоих желаний, и теперь обо мне поют в лесах и долинах!
И ее охватила такая досада, что, встреть она его сейчас, — выказала бы безразличие, а может быть, даже ненависть. «Нет больше надобности, — думала она, — в лекарстве от моего недуга; мне нечего опасаться пастуха столь мало достойного. Я вернусь в хижину с пастушкой, чье пение слышала».
Она что было сил выкрикнула имя подруги, зовя ее, но никто ей не ответил, хотя пение раздавалось где-то совсем рядом. Ее охватили беспокойство и страх. На самом деле это был лес колдуна, и со всеми, кто заходил в его чащу, непременно что-нибудь приключалось.
Брильянта, взволнованная, как никогда прежде, поспешила выйти из него. «Неужто пастух, так меня пугавший, — говорила она себе, — уже столь неопасен для меня, что я подвергну себя риску встречи с ним? Что, если мое сердце, вступив с ним в сговор, стремится обмануть меня? Ах! Нужно бежать, это лучшее средство для такой несчастной принцессы, как я». Она подходила все ближе к замку колдуна; а очутившись рядом с ним, беспрепятственно вошла внутрь. Шагая через несколько широких дворов, до того заросших буйными сорняками, словно никто не бывал там уже сто лет, она выполола их все, расцарапав руки. Потом вошла в темный зал, куда через маленькую щелочку проникала лишь узенькая полоска света, а пол был весь устлан крыльями летучих мышей. На потолке вместо люстр висели двенадцать котов, жалобное мяуканье коих сводило с ума; а на длинном столе бились привязанные за хвостики двенадцать мышей, и перед каждой — кусочек сала, до которого они не могли дотянуться; выходило, что коты видели мышей, но не могли их съесть, а мыши дрожали от страха, взирая на котов, и страдали от голода, хотя рядом лежало сало.
Едва принцесса увидела несчастных животных, как в зал вошел колдун в длинном черном одеянии. На голове у него вместо шляпы сидел крокодил; поистине, ни у кого еще не было столь чудовищного головного убора. Старик был в очках, а в руке держал кнут из двадцати живых змей. О! Какой ужас охватил тогда принцессу! Как же ей захотелось назад к своему пастуху, барашкам и собачке! Она думала только о бегстве и, не сказав ни слова, бросилась к двери, но та вся была затянута густой паутиной. Принцесса откинула одну паутинку, но под ней оказалась другая, а под той — третья; едва она снимет одну, появляется новая, а за ней еще — этим отвратительным слоям не было ни конца ни края. Бедная принцесса изнемогала от усталости: у нее не хватало сил раздвигать их. Она было присела немного отдохнуть, но тут ей в тело впились острые шипы. Вскочив, она вновь принялась снимать занавеси из паутины, но те знай опять появлялись одна за другой. Злой старик, глядя на нее, захлебывался от смеха и наконец сказал:
— Так тебе вовек не справиться. А ведь я еще никогда не видел столь юного и прекрасного создания; хочешь, возьму тебя в жены? Могу отдать тебе этих подвешенных к потолку котов, и делай с ними что захочешь, и тех мышей на столе в придачу. Коты — на самом деле принцы, а мыши — принцессы. Плутовки некогда удостоились чести понравиться мне (ведь я всегда был весьма разлюбезный кавалер), но ни одна не захотела меня полюбить. Принцы же были моими счастливыми соперниками. Меня охватила зависть: хитростью я заманил их сюда и превратил в котов и мышей. Занятнее всего то, что теперь они ненавидят друг друга столь же сильно, сколь любили прежде, так что едва ли я мог бы быть отомщен лучше.
— Ах, господин, — вскричала Брильянта, — превратите меня в мышь: я заслуживаю этого не меньше, чем несчастные принцессы.
— Как, — сказал чародей, — и ты, маленькая пастушка, тоже не согласна полюбить меня?
— Я приняла решение никогда не любить, — отвечала она.
— О, вот глупышка! — рассмеялся колдун. — Я буду кормить тебя восхитительными яствами, рассказывать тебе сказки, одевать в лучшие в мире наряды; ты всегда будешь ездить в карете или паланкине, тебя будут называть госпожой.
— Я решилась никогда не любить, — повторила принцесса.
— Придержи язык, — в гневе вскричал тогда старик, — или пожалеешь.
— Мне все равно, — сказала Брильянта, — я решила никогда не любить.
— Ну что ж, бессердечное создание, — промолвил он, прикоснувшись к ней, — не желаешь меня полюбить — так быть тебе созданием необычным: ни зверем, ни рыбой, без костей и крови, и притом зеленого цвета, ибо ты еще так юна; как и прежде, будет для тебя, легкой и резвой, луг родным домом, а называть тебя станут цикадой.
В тот же миг принцесса Брильянта превратилась в самую прекрасную цикаду на земле и, обрадовавшись свободе, тотчас вылетела в сад.
Едва придя в себя, она горько запричитала: «Ах! Где ты, моя колымага, милая колымага? Так вот к чему привели ваши обещания, Тразимен? И эта-то участь поджидала меня двести лет? Красота, недолговечная, как весенний цвет, а под конец — одеяние из зеленого крепа, и жизнь необычного существа, ни зверя, ни рыбы, без костей и крови. Как же я несчастна! Увы! Корона скрыла бы все мои недостатки, дав мне достойного супруга; а останься я пастушкой, очаровательный Идеал только и хотел бы что обладать моим сердцем: за свое несправедливое пренебрежение к нему я поплатилась сполна и вот превратилась в цикаду, обреченную стрекотать днем и ночью, а на сердце у меня всегда так горько, что хочется плакать!» — Так говорила цикада, спрятавшись меж тонких травинок на берегу ручья.
Но что же делал принц Идеал в разлуке со своей прекрасной пастушкой? Суровость, с какой она обошлась с ним, поразила его в самое сердце, так что он не в силах был последовать за ней и лишился чувств, долго пролежав без сознания под деревом, где упал на глазах у Брильянты. Наконец прохладная земля или иная неведомая сила привели его в чувство: в тот день он не осмелился отправиться за нею и только вспоминал последние произнесенные ею стихи:
Коль друга нежный пыл
Нас в бегство обратил,
Мы тем быстрее убегаем,
Чем больше чувств
к нему питаем.
Они показались ему лестными и вдохнули надежду; он пообещал себе, что, приложив время и старания, добьется признания. Но что же с ним стало, когда, придя к старой пастушке, он узнал, что Брильянта не возвращалась со вчерашнего дня? Он думал, что умрет от беспокойства, и ушел, удрученный самыми разными мыслями; печальный, присев на берегу ручья, он сто раз готов был броситься в воду и, оборвав свою жизнь, прервать вместе с ней череду страданий. Наконец он шилом начертал на коре рябины такие стихи[86]:
О, чистота прозрачных вод,
О, нивы тучные и красота полей,
Искал я здесь конец своих невзгод,
Но стала скорбь, увы, сильней.
Ведь та, о ком вздыхаю я,
Кто вам придал очарованье,
Бежав меня, сии покинула края,
И боле вам не лицезреть мое страданье.
Заря пред наступленьем дня
Узрит, как неизбывно я тоскую;
Как солнце лишь взойдет,
я слезы лью рекой,
Скорблю, когда оно уходит на покой.
Рябина нежная, прости ж меня,
Что я изранил этот нежный стан;
Ведь сам, увы, страдаю я
Мучительно от боле тяжких ран.
Я жизнь твою не отнял, начертав
Здесь имя милой,
что послужит украшеньем.
Увы! Брильянту потеряв,
Лишь в смерти сам найду я утешенье.
Тут ему пришлось прерваться, ибо он увидел сухонькую старушку в брыжах, и фижмах, и в бархатной шапочке, седые волосы под которой были заколоты гребнем, да притом такую древнюю, что один вид ее внушал всяческое почтение.
— Сынок, — сказала она ему, — что ж вы так горестно вздыхаете; поведайте мне, в чем причина вашей печали.
— Увы! Матушка, — отвечал ей Идеал, — я оплакиваю разлуку с прелестной пастушкой, которая избегает меня; я решил искать ее по всему миру, пока не найду.
— Отправляйтесь в эту сторону, мой мальчик, — сказала она, указывая на дорогу, ведущую к замку, где несчастная Брильянта превратилась в цикаду. — Предчувствую, что вы вскоре ее найдете.
Идеал поблагодарил ее и взмолился, чтобы любовь была к нему благосклонна.
По пути принц не встретил ничего примечательного, но, когда он вступил в лес, окружавший замок колдуна и его сестры, ему привиделась его пастушка. Он поспешил следом, но она все удалялась и удалялась от него.
— Брильянта, — крикнул он ей, — обожаемая Брильянта, подождите немного, смилостивитесь и выслушайте меня.
Но видение ускользало, в погоне за ним прошел остаток дня. Когда настала ночь, он увидел замок, озаренный множеством огней: льстя себя надеждой, что его пастушка может быть там, он спешит туда, беспрепятственно проходит внутрь, поднимается по ступеням и, войдя в великолепный зал, видит высокую и старую колдунью: ее худоба ужасает; глаза подобны двум угасшим лампадам; из-под кожи лица выпирают кости, руки длинны как палки, пальцы остры как спицы, а скелет будто обтянут черной шагреневой кожей. При этом ее губы накрашены, на плечах зеленые и розовые банты, плащ из серебряной парчи и алмазная корона на голове — все украшенное драгоценными камнями.
— Наконец-то вы пришли, принц, — сказала она ему, — а ведь я вас так давно ждала. Забудьте о своей пастушке; стыдитесь, ибо такое увлечение не подобает вашему сану. Я королева Метеоров, я желаю вам добра, и никто не осчастливит вас лучше, если вы меня полюбите.
— Полюбить вас, — воскликнул принц, взглянув на нее с возмущением, — полюбить вас, сударыня! Ха! Как будто я могу повелевать своим сердцем! Нет, я был бы не в силах нарушить верность; но честно скажу вам — если бы я и полюбил кого-то другого, то никак не вас. Выберите среди своих метеоров какой-нибудь объект любви, который вас устроит: любите воздух, любите ветер, а смертных оставьте в покое.
Принц задел самолюбие злой феи, и та пришла в ярость: стоило ей пару раз взмахнуть волшебной палочкой, и галерея наполнилась ужасными чудовищами, с которыми принцу пришлось сражаться, призвав на помощь всю свою ловкость и мужество. У одних было множество голов и рук, другие — в обличье кентавров или сирен, а еще — львы с человеческими лицами, сфинксы[87] и летающие драконы. У Идеала был только пастуший посох и небольшая рогатина — ею он вооружился, отправляясь в путь. Иногда колдунья приостанавливала бой, спрашивая, не передумал ли он. Принц же неизменно отвечал, что отдал сердце другой и будет ей верен. Обозленная его упрямством, она сотворила призрак Брильянты.
— А ну-ка, взгляни в глубину галереи, — сказала она ему, — видишь там свою подругу? Вот и подумай-ка теперь: не женишься на мне — тигры разорвут ее на клочки прямо у тебя на глазах.
— Ах, сударыня, — вскричал принц, бросаясь к ее ногам, — ради спасения своей возлюбленной я буду рад умереть; пощадите же ее жизнь, забрав мою.
— Не говори мне о твоей смерти, — возразила фея, — коварный, мне нужны твои рука и сердце.
Пока они препирались, принц слышал голос своей пастушки; казалось, она плачет.
— Неужто вы позволите растерзать меня? — говорила она ему. — Если любите, исполните приказ королевы.
Несчастный принц не знал, как поступить.
— Как же так, о фея Благосклона! — вскричал он. — Неужто вы покинули меня после стольких обещаний? Придите, придите же, я взываю к помощи вашей!
Едва выговорив это, он услышал голос свыше, возвестивший: «Положись на волю судьбы; но будь верен и ищи Золотую Ветвь!»
И тут ведьма, уже считавшая, что колдовство принесло ей победу, отступила перед препятствием столь серьезным, как покровительство Благо-склоны.
— Вон с глаз моих, злополучный и упрямый принц, — вскричала она, — а раз в твоем сердце бушует такое пламя, то ты и превратишься в сверчка, приятеля тепла и огня.
Тотчас прекрасный и очаровательный принц Идеал стал маленьким черным сверчком, и сгореть бы ему заживо в первом же камине, не вспомни он об утешительном и благосклонном голосе. «Быть может, отыскав Золотую Ветвь, — подумал он, — я опять стану самим собою. Ах! Найти бы мою пастушку — какое это было бы счастье!»
И сверчок поспешил покинуть роковой дворец; куда идти, он не знал, однако вверил себя заботам прекрасной феи Благосклоны и потихоньку поскакал по дороге совсем один: ведь сверчку не страшны ни грабители, ни неприятные встречи. Устроившись на ночлег в дупле дерева, он встретил там очень печальную цикаду: она совсем не стрекотала. Сверчок, и не подозревая, что на самом деле перед ним существо, наделенное чувствами и разумом, сказал:
— Куда вы, кумушка, направляетесь?
Она же ему отвечала:
— А вы, кум сверчок, куда держите путь?
Этот ответ чрезвычайно удивил влюбленного сверчка.
— Как?! — вскричал он. — Так вы умеете разговаривать?
— Как, между прочим, и вы! — возразила ему она. — Или вы находите, что цикады глупее сверчков?
— Да ведь это совсем неудивительно: я-то на самом деле молодой человек.
— Я вам больше скажу, — парировала цикада, — я-то на самом деле девушка.
— Значит, ваша участь подобна моей, — вздохнул сверчок.
— Видимо, так, — ответила цикада. — Но куда же вы все-таки скачете?
— Я был бы счастлив, — признался сверчок, — пойти дальше вместе с вами. Я слышал неведомый голос, — добавил он, — который возвестил: «Положись на волю судьбы и ищи Золотую Ветвь!». — Я подумал, что это было сказано мне, и смело пустился в путь, хоть и сам не знаю, куда.
Их разговор прервали две мышки — они мчались что было сил и, увидев дупло, юркнули в него, едва не задавив кума сверчка и куму цикаду. Те отскочили, прижавшись в уголке.
— Ах, госпожа, — проговорила та мышь, что была побольше, — у меня от бега в боку закололо; а как чувствует себя ваше высочество?
— У меня вырван хвост, — ответила мышка помоложе, — но не решись я на это, до сих пор бесилась бы на столе у старого колдуна. Однако каково же было преследование! Вот счастье, что мы спаслись из этого проклятого дворца!
— Я немного побаиваюсь кошек и мышеловок, моя принцесса, и от всей души надеюсь, что мы скоро доберемся до Золотой Ветви.
— Так ты знаешь, где ее найти? — спросило ее Мышиное Высочество.
— Еще бы, госпожа! Как свой родной дом, — сказала ее собеседница. — Это чудесная Ветвь: одного листочка достаточно, чтобы всегда быть богатым; она приносит достаток, разрушает чары, дарит красоту, сохраняет молодость; итак, пора отправляться за ней, пока не рассвело.
— Мы с этим почтенным сверчком, если позволите, будем иметь честь вас сопровождать, — вмешалась тут цикада, — ибо тоже, подобно вам, совершаем паломничество к Золотой Ветви.
Засим последовал взаимный обмен любезностями; мыши были принцессами, которых злой колдун привязал к столу, и они обращались к сверчку и цикаде с несравненной обходительностью.
Все проснулись очень рано и вместе отправились в путь, стараясь не шуметь, — ведь притаившиеся в засаде охотники, услышав их разговор, могли схватить их и посадить в клетку. Так они добрались до Золотой Ветви, что росла в дивном саду: вместо песка дорожки были усыпаны восточным жемчугом, ровнее горошин; розы были из алых бриллиантов, с изумрудными листьями, цветы гранатов — из граната, ноготки — из топазов, нарциссы — из желтых бриллиантов, фиалки — из сапфиров, васильки — из бирюзы, тюльпаны — из аметистов, опалов и бриллиантов — и все это цветочное разнообразие сверкало ярче самого солнца.
И в этом саду (как я уже сказала) росла Золотая Ветвь — та самая, которой принц Идеал, получив ее от орла, коснулся заколдованной феи Благо-склоны. Вся покрытая вишнями-рубинами, Ветвь вздымалась над кронами самых высоких деревьев. Стоило сверчку, цикаде и двум мышкам приблизиться к ней, как они обрели свой первоначальный облик. О, что за радость! Как велик был восторг влюбленного принца при виде своей прекрасной пастушки! Он бросился к ее ногам, намереваясь поведать ей о тех чувствах, какие пробудила в нем эта столь приятная и неожиданная встреча, но тут появились королева Благосклона и король Тразимен, и притом со всей пышностью, подобавшей великолепию сада. Четыре амура, вооруженных луками и колчанами, несли на остриях стрел небольшой паланкин из золотой и синей парчи, в котором находились Их Величества.
— Сюда, милые влюбленные, — воскликнула королева, протягивая к ним руки, — подойдите же и примите короны, вы заслужили их своими добродетелью, знатностью и верностью; отныне вас ожидает жизнь, полная наслаждения. Принцесса Брильянта, — продолжила она, — сей пастух, которого так страшится ваше сердце, — принц, предназначенный вам в супруги вашими отцами. Ведь он не умер в башне. Пусть он станет вашим мужем, а я уж позабочусь о вашем покое и счастье.
Принцесса, преисполненная радости, бросилась в объятья Благосклоны и, не скрывая слез, заструившихся из глаз, знаками показала, что от чрезмерного счастия не может произнести ни слова. Идеал встал на колени перед великодушной феей; почтительно целуя ей руки, он только и мог пролепетать что-то бессвязное. Тразимен обошелся с ним очень ласково, и Благосклона призналась, что ни на миг их не покидала: это она поднесла Брильянте желто-белый свиток, она же приютила принцессу, обернувшись старой пастушкой, и, куда пойти поискать любимую, подсказала принцу тоже она.
— Что ж тут скажешь, — добавила фея, — будь это в моей власти, уберегла бы я вас от испытаний, но ведь радости любви тоже нужно заслужить.
Тогда со всех сторон послышалась нежная музыка; амуры увенчали коронами юных влюбленных, вступивших в брак; а пока шла церемония, — обе принцессы, едва успевшие сбросить мышиные шкурки, обратились к фее с мольбою: чтобы та силой своих чар освободила несчастных мышей и котов, томившихся в замке колдуна.
— В такой замечательный день, — отвечала та, — я не могу отказать вам.
Трижды взмахнула она Золотой Ветвью, и появились все, кого держал у себя злой волшебник; каждый тотчас же обрел истинное обличье и сразу нашел свою возлюбленную. Великодушная фея, желая ради такого праздника порадовать всех, отдала им содержимое комода, стоявшего в донжоне. Этот подарок в те времена был ценнее, чем десяток королевств. Нетрудно представить, как они остались довольны и благодарны. В завершение сего великого деяния Благосклона и Тразимен проявили щедрость, превосходящую все предшествующее, объявив, что дворец и сад Золотой Ветви отныне принадлежат королю Идеалу и королеве Брильянте и еще сотня королевств в придачу, и притом вместе с королями и подданными.
* * *
Когда Брильянте фея помощь предлагала
Так кстати, что и говорить,
Могла бы та, коль пожелала,
Дар редкой красоты просить;
И это было бы немало!
Про то, что нежный пол готов
Довольно приложить трудов
В угоду красоте, напомнить я б желала.
Но, голос сладкий искушенья
Не слушая, свое Брильянта предпочтенье
Души и разума красотам отдает:
Ведь прелести, что нам являет нежный лик,
Как дивные цветы, вдруг отцветают вмиг,
Душа же в вечности живет.
Пер. М. Н. Морозовой
Апельсиновое дерево и Пчела[88]
или король с королевой, которым для полного счастья не хватало только детей. Королева была уже немолода; она и не надеялась больше родить, как вдруг понесла и произвела на свет девочку, прекрасней которой нигде не сыскать. Королевский двор охватила небывалая радость. Каждый старался придумать для принцессы имя, столь же чудесное, как и она сама. Наконец ее назвали Любима. Королева приказала вырезать это имя на сердечке из бирюзы: Любима, дочь короля Счастливого острова[89], — и повесила его на шею принцессе, веря, что бирюза принесет ей счастье. Но не тут-то было: однажды кормилица повезла малышку на морскую прогулку, и тут неожиданно разразилась такая неистовая буря, что сойти на берег стало невозможно; а поскольку на столь маленьком кораблике плавать можно было только вдоль берега, то он сразу же разлетелся в щепки. Кормилица и все матросы погибли. Маленькую принцессу, которая спала в своей колыбельке, повлекло по волнам, и наконец море выбросило ее в краю весьма живописном, но почти пустынном, с тех пор, как там поселились людоед Сокрушилло и его жена Истязелла, — они поедали всех без разбору. Людоеды — страшные создания: стоит им лишь раз попробовать человечинки[90] (так они называют людей), как ничего другого они есть уже почти не могут, а Истязелла неизменно находила способ заманить кого-нибудь, потому что наполовину была феей.
Она за целое лье учуяла маленькую несчастную принцессу и прибежала на берег, чтобы найти ее прежде мужа. Оба были изрядно прожорливы, а уж безобразней их и придумать нельзя — с единственным косым глазом на лбу, огромной как печное устье пастью, широким и плоским носом, длинными ослиными ушами, торчащими во все стороны космами и двумя горбами — спереди и сзади.
Однако, увидев в богато украшенной колыбельке завернутую в пеленку из золотой парчи Любиму, машущую ручонками, ее щечки, подобные белым и алым розам, и смеющиеся алые губки, слегка приоткрытые, как будто она улыбалась чудищу, Истязелла впервые в жизни почувствовала что-то вроде жалости и решила сперва выкормить малютку, а уж потом, раз так полагается, и съесть.
Она взяла ее на руки, взвалила колыбельку на спину и пошла в пещеру.
— Смотри-ка, Сокрушилло, — сказала она своему мужу, — я принесла человечину, жирненькую и нежненькую, но, клянусь головой, ты не получишь от нее ни кусочка; это прекрасная малышка, я хочу вырастить ее, мы выдадим ее замуж за нашего людоедика, и у них родятся очаровательные детишки — вот будет нам радость на старости лет.
— Ишь ты, — ответил Сокрушилло, — в тебе, как я погляжу, ума еще больше, чем жира. Дай-ка мне посмотреть на малютку: что-то уж больно она хороша.
— Попробуй только съешь ее, — сказала Истязелла, положив младенца в когтистые лапы мужа.
— Да я скорей умру с голода.
И Сокрушилло, Истязелла и их людоедушка принялись ласкать девочку совсем как люди, — вот уж поистине диво дивное.
Но при виде этих безобразных страшилищ бедное дитя, не находя сосок своей кормилицы, сморщило личико и запищало изо всех сил, так что эхо пошло по всей пещере Сокрушилло. Истязелла, испугавшись, что муж рассвирепеет, отнесла малютку в лес, за ней увязались и маленькие людоедики — всего их было шестеро, один другого уродливее. Как я уже говорила, она наполовину была феей; ее умение заключалось в том, чтобы взять волшебную палочку из слоновой кости да загадать желание. Итак, она взмахнула палочкой и сказала:
— Во имя царственной феи Друзио, я желаю, чтобы сей же час из наших лесов явилась самая красивая лань, нежная и кроткая; пусть оставит своего олененка и кормит это очаровательное создание, дарованное мне судьбой.
И в тот же миг появляется лань; людоедики радостно ее приветствуют. Она приближается и кормит малышку своим молоком; затем Истязелла относит дитя обратно в пещеру; лань бежит рядом, скачет и резвится: дитя любуется ею и гладит. Стоит девочке заплакать в своей колыбельке — лань готова накормить ее, а людоедики — укачать.
Так выросла королевская дочь, пока ее оплакивали днем и ночью; отец, считая ее погибшей в морской пучине, подумывал, кто же будет ему наследовать. Он завел об этом разговор с королевой; той же было все равно — раз ее ненаглядная Любима, к несчастью, уже пятнадцать лет как мертва, желать вновь увидеть ее — чистое безумие, а родить снова нечего и надеяться. Тогда король написал своему брату, чтобы тот выбрал среди его сыновей самого достойного и немедля прислал его. Послы, получив все необходимые указания, пустились в путь. А был он не близок, но крепки были корабли и ветер дул попутный, — так что вскоре они приплыли к брату короля, тоже владевшему большим королевством. Монарх принял их великолепно; а услышав просьбу отпустить с ними своего сына, чтобы тот наследовал его брату, и вовсе расплакался от радости, объявив, что пошлет того, кого сам бы сделал наследником; а был это второй его сын, равно прекрасный и знатностью и нравом, и все желаемые качества в нем доходили до истинного совершенства.
Тогда послали за принцем Любимом (так его звали); и хотя послам уже поведали о его достоинствах, они были поражены, увидев его. Ему было восемнадцать. Амур, нежный Амур был не так красив, но прелесть ничуть не умаляла воинственного благородства, так что весь облик его внушал нежность и уважение. Ему сообщили, что призывает его венценосный дядя и король-отец повелевает немедля отправиться в путь. Так он взошел на борт и поплыл в открытое море.
Предоставим ему следовать своим путем, и да хранит его судьба. Вернемся в пещеру Сокрушилло и посмотрим, чем занята наша маленькая принцесса. Она все растет и хорошеет, и можно сказать, что своими прелестями превзошла божество любви, граций и всех богинь вместе взятых. Казалось, в глубокой пещере Сокрушилло, Истязеллы и их людоедиков засияли солнце, звезды и все небесные светила. Жестокость этих чудовищ делала ее лишь еще мягче, а догадавшись об их пристрастии к человечинке, она всячески старалась спасать тех несчастных, что попадали к ним в лапы: случалось ей тем самым навлекать и на себя самое ярость людоедов. Кончилось бы тем, что их терпение лопнуло, если бы людоедушка не берег ее как зеницу ока. Ах! На что только не способно сильное чувство! Ведь это маленькое чудовище, с любовью созерцая прекрасную принцессу, и само обрело кроткий нрав.
Но увы! Как принцесса страдала, думая, что должна выйти замуж за такого отвратительного поклонника! Ее, ничего не знавшую о своем происхождении, роскошные пеленки, золотая цепочка и бирюза навели на мысль, что родом она из каких-то хороших краев; еще явственнее говорили ей об этом ее чувства. Она не умела ни читать, ни писать, не знала никаких языков, умея говорить лишь на людоедском наречии; но ей, жившей в полном неведении окружающего мира, была свойственна такая добродетель, мягкость и естественность, как если бы она выросла при самом учтивом дворе мира.
Она сшила себе наряд из тигриной шкуры: ее руки были наполовину обнажены; за плечами висел колчан со стрелами, а на поясе лук. Ее светлые волосы, перехваченные листиком тростника, развевались на ветру, падая на плечи и спину; на ногах были тростниковые же башмачки. В таком наряде она носилась по лесам, подобно Диане[91], и так и не знала бы о своей красоте, не послужи прозрачная вода в источнике ей нехитрым зеркалом, в которое она часто смотрелась, не становясь, однако, ни тщеславной, ни самодовольной. Or солнца ее кожа, подобно воску, становилась лишь белее, и морской воздух не мог заставить ее потемнеть. Она питалась лишь тем, что удавалось поймать во время рыбалки или охоты, и под этим предлогом часто покидала ужасную пещеру, чтобы не видеть самых отвратительных из всех созданий, что сотворила природа. «О Небо, — говорила она, проливая слезы, — что я сделала тебе, что ты предназначило меня в жены этому ужасному людоеду? Уж лучше бы мне утонуть в волнах! Зачем мне жизнь, коли суждено прожить ее столь плачевно? Неужели ты не сжалишься хоть немного над моими страданиями?» — Так она взывала к богам, моля их о помощи.
Когда разыгрывалась буря и море выбрасывало на берег каких-нибудь несчастных, она сразу бежала туда, дабы отвести их от пещеры людоедов. Как-то ночью задул ужасный ветер. Едва занялся день, она помчалась к морю и заметила человека, который, ухватившись за бревно, пытался достичь берега в борении с бурными волнами, отбрасывавшими его назад. Принцесса всей душой желала ему помочь: она делала ему знаки, показывая, куда лучше плыть, но он не слышал и не видел ее — вот, кажется, он совсем рядом и спасен, но затем волна накрывала его, и он опять исчезал. Наконец его выбросило на песок, лежащего без движения. Любима подошла к нему и, испугавшись его смертельной бледности, размельчила в пальцах всегда бывшие при ней травы с таким сильным запахом, что любой пришел бы в чувство, и натерла ему губы и виски. Открыв глаза, он так изумился красоте и одеянию принцессы, что едва мог понять, сон это или явь. Он заговорил первым, затем она, но они не могли понять друг друга и только обменивались внимательными, изумленными и восхищенными взглядами. Принцесса до этого встречала только бедных рыбаков — они часто попадали в лапы к людоедам, и многих из них ей, как я уже говорила, удавалось спасти. Что же было ей думать теперь, при виде самого прекрасного и роскошно одетого юноши на свете? А ведь это был принц Любим, ее родственник, чьи суда, попав в жестокую бурю, разбились о рифы; его люди, оказавшись во власти волн, погибли или были выброшены на далекие и пустынные берега.
Юный принц, в свою очередь, был изумлен тем, что столь восхитительное создание расхаживает в таком дикарском виде и живет в необитаемой глуши; а вспомнив всех знакомых дам и принцесс, подумал, что ни одна из них не могла сравниться с ней. Пребывая в этом взаимном удивлении, они продолжали говорить, но по-прежнему не понимали друг друга; куда больше значили их взгляды и жесты. Но вот принцесса вдруг вспомнила об опасности, которой подвергнется этот чужеземец, и на лице ее отразились печаль и уныние. Встревоженный принц хотел взять ее за руки, она же его отталкивала и, как могла, показывала знаками, чтобы он уходил. Она убегала от него, а потом возвращалась, знаками веля ему делать так же, — и он тоже сперва убегал, но затем возвращался. Тогда, рассердившись, она прикладывала к своему сердцу стрелу, показывая, что его могут умертвить. Он же, думая, что она хочет его убить, вставал на колени, ожидая удара; в ответ она лишь смотрела на него с нежностью: как, восклицала она, неужели и ты станешь жертвой моих жестоких хозяев! Увы! Этим глазам, коим так приятно созерцать красоту твою, суждено увидеть, как тебя разорвут на куски и сожрут без всякой пощады? Она плакала, и озадаченный принц ничего не понимал.
Однако ей удалось объяснить ему, что следом за нею идти нельзя; она за руку привела его к скале с глубокой расщелиной, спускавшейся прямо к морю; часто она оплакивала здесь свои невзгоды, а случалось, и спала, когда солнце палило слишком сильно; ловко и опрятно она украсила камни расщелины разноцветными покрывалами из крыльев бабочек, а на палки, сложенные крест-накрест, постелила тростник, и получилось ложе; в большие и глубокие раковины она вложила цветы, словно в вазы, и подливала воду, чтобы букеты подольше не увядали: а вокруг поставила еще множество безделушек либо из рыбьих костей и ракушек, либо из тростника и палок, простых, но таких изящных, что они многое говорили о хорошем вкусе и умении принцессы.
Изумленный принц решил было, что это и есть ее жилище. Не в силах выразить словами свое восхищение, он уже полагал, что лучше всю жизнь любоваться ею, нежели принять предназначенную ему по рождению корону.
Насильно посадив его, чтобы удержать здесь, пока сама принесет поесть, она освободила волосы от стягивавшего их шнурка и им привязала его за руку к ложу, а затем ушла; он умирал от желания последовать за ней, но побоялся вызвать ее недовольство; тут грустные мысли, от коих его отвлек было вид принцессы, вновь его охватили. «Где я? — спрашивал он себя. — В какие края меня забросила судьба? Мои корабли погибли, мои люди утонули, у меня ничего нет; и вместо обещанной короны я ищу пристанища на одинокой скале! Что же со мной будет? Кто живет в этих краях? Судя по той, что спасла меня, это должны быть боги; но страх, как бы я не последовал за ней, и этот грубый и варварский язык, такой странный в устах столь прекрасных, заставляют меня опасаться чего-то еще более зловещего, нежели все произошедшее!» Затем он со всем возможным тщанием воскрешал в уме несравненные прелести юной дикарки: его сердце воспламенялось, он с нетерпением ожидал ее возвращения, и ее отсутствие представлялось ему страшнейшим из зол.
Она вернулась так быстро, как могла; нежные чувства, пробужденные принцем, были столь новы для нее, что она и не думала их стыдиться; только все благодарила небо за его спасение из морской пучины, заклиная уберечь юношу от опасности вблизи людоедов. Она так быстро несла тяжелую поклажу, что по возвращении ей пришлось сбросить тяжелую тигриную шкуру. Она села, принц устроился у ее ног, обеспокоенный ее недомоганием; ему несомненно было хуже, чем ей; наконец, отдохнув, она показала ему принесенные ею яства, — четырех попугаев и шесть белочек, запеченных на солнце, клубнику, вишню, малину и другие фрукты; а еще — тарелки из кедра и сандала, ножи из камня, салфетки, очень мягкие и удобные, из больших листьев, раковину для питья и еще одну, наполненную вкусной водой.
Принц самыми разными жестами выражал благодарность, а она с нежной улыбкой давала ему понять, что ей очень приятно. Но настал час расставания, она показала, что уходит, и оба, вздыхая и скрывая слезы, украдкой принялись плакать. Вдруг принц громко вскрикнул и бросился к ее ногам, моля ее остаться: она ясно понимала, чего он желал, но оттолкнула его, приняв суровый вид; и он понял, что поневоле придется привыкнуть слушаться ее.
Сказать по правде, он провел ужасную ночь, да и принцесса — ничем не лучше. Вернувшись в пещеру к людоедам и людоедикам, глядя на ужасного людоедушку и думая о том, что это чудовище станет ее мужем, она вспоминала о красоте чужеземца, с которым только что рассталась, и ей хотелось броситься в морскую пучину. Притом она еще и очень боялась, как бы Сокрушилло и Истязелла, учуяв запах человечинки, не отправились прямиком к скале, чтобы сожрать принца.
Эти тревоги не дали ей глаз сомкнуть: на рассвете она помчалась к берегу, неся с собой попугаев, обезьян и дрофу, фрукты и молоко — и все самое лучшее. Принц так и не раздевался; борьба с морем измотала его, и он задремал только к утру.
— Что же это, — воскликнула она, будя его, — с тех пор как мы расстались, я только о вас и думаю, а вы, вы можете спать?
Принц слушал ее, ничего не понимая; но потом, в свою очередь, заговорил и он.
— Какая радость, милое дитя, — все повторял он, целуя ей руки, — какая радость вновь видеть вас! Мне кажется, с тех пор как вы ушли, прошла целая вечность.
Долго он так изливал свои чувства, совсем забыв, что она его не понимает, а когда вспомнил — грустно вздохнул и замолчал. Она воскликнула в ответ, что здесь, в расщелине, его могут найти Сокрушилло и Истязелла; что оставаться тут нельзя, и хотя она умрет с тоски, если он уйдет, — но уж лучше это, лишь бы его не съели; то есть она заклинает его бежать. Ее глаза наполнились слезами; она с мольбой протянула к нему руки; он ничего не понял и только в отчаянии бросился к ее ногам. Но она так часто указывала ему на дорогу, что он, сообразив, о чем речь, жестом ответил, что скорее умрет, нежели покинет ее. До глубины души тронутая его привязанностью к ней, она изящно преподнесла ему и золотую цепочку, и то бирюзовое сердечко, которое повесила ей на шею королева-мать. Однако восторг, испытанный от такого проявления благосклонности, не помешал ему прочесть надпись, выгравированную на камне:
Любима,
дочь короля
Счастливого острова
Его изумлению не было границ; он знал, что маленькую погибшую принцессу звали Любима; сомнений не оставалось — сердечко принадлежало ей; оставалось выяснить, была ли принцессой прекрасная дикарка или же ей просто досталось украшение, выброшенное морем. Он необычайно пристально вглядывался в Любиму; и чем больше смотрел, тем больше убеждался и по ее чертам, и по нежности душевных порывов, что дикарка — это его кузина.
Она с удивлением наблюдала за ним: вот он поднимает взор к небу, словно воздавая ему хвалу, вот глядит на нее со слезами на глазах, берет за руки и целует их в искреннем порыве; вот горячо благодарит за дар, только что ему поднесенный, но, вернув цепочку, дает понять, что предпочел бы один ее волосок; и хоть не без труда, а удалось ему его заполучить.
Так прошло четыре дня: с утра принцесса приносила еду и была с ним сколько могла; и время проходило как один миг, хотя они и не имели удовольствия беседовать друг с другом.
Однажды вечером, вернувшись поздно и ожидая ворчания жуткой Истязеллы, она была весьма удивлена, что ей обрадовались и пригласили к столу, заставленному фруктами; она попросила разрешения взять несколько штук. Сокрушилло сказал, что они все для нее; их собирал ее жених-людоед, и теперь пришло время осчастливить его: он желал, чтобы через три дня она стала его женой. Какие новости! Что могло быть ужаснее для прекрасной принцессы? Она думала, что умрет от страха и печали, но предпочла скрыть свои чувства и лишь попросила немного отсрочить свадьбу.
— И почему я до сих пор не съел тебя? — завопил в ответ разъяренный Сокрушилло.
Бедная принцесса с испугу упала в объятья Истязеллы и людоедушки, который очень ее любил и так умасливал Сокрушилло, что наконец все-таки утихомирил его.
Любима ни на миг не сомкнула глаз, с нетерпением дожидаясь наступления дня; на рассвете она уже была у скалы и, увидев принца, стала горько стенать и проливать потоки слез. Тот от удивления застыл на месте; за четыре дня его любовь к Любиме возросла сильнее, чем обычно бывает за четыре года. Как только ни старался он узнать, что с ней такое! Она же, видя его муки, не знала, как объяснить ему. Наконец уложила в прическу свои длинные волосы, надела на голову венок и, коснувшись руки Любима, знаками показала, что на его месте будет другой, — так он понял, какое несчастье ему угрожает — ее собираются выдать замуж.
Он едва не умер у ее ног. Оба не знали, где укрыться от беды, и плакали, протягивая друг к другу руки и тем показывая, что скорее умрут, чем расстанутся. Она пробыла с ним до вечера, но на обратном пути, идя в нежданно сгустившейся темноте по глухой лесной тропке, наступила на большую колючку, насквозь пронзившую ей ногу. К счастью для принцессы, оттуда было недалеко до пещеры; когда она добралась до нее, вся нога была в крови. Сокрушилло, Истязелла и людоедики кинулись ей на помощь и, вытащив колючку, растерли травами больное место, и она легла; но как бы ей ни было больно, больше всего тревожилась она за своего принца. «Увы, — говорила она себе, — завтра я не в силах буду прийти. Что же он подумает? Должно быть, что я не смогла воспротивиться своему замужеству. Но кто же теперь будет его кормить? Он пойдет искать меня — и пропадет; если послать к нему людоедушку — о том узнает Сокрушилло; в любом случае он погиб». Так, проливая горькие слезы, она уж было встала чуть свет и хотела выйти, да не смогла — ее рана еще не зажила; зато Истязелла, увидев, что она куда-то собралась, пригрозила, что, сделай та еще хоть шаг, она ее сожрет.
Между тем принца, напрасно прождавшего принцессу в назначенный час, охватили тревога и печаль; чем больше времени проходило, тем сильнее он беспокоился: любая пытка была бы ему милей треволнений, коими сейчас мучила его любовь. Ожидание — вот что убивало его; и чем дольше оно длилось, тем меньше оставалось надежд. Наконец он покинул пещеру, решив, что пусть уж погибнет, но возлюбленную принцессу отыщет.
И пошел он, сам не зная куда, а тут — глядь — тропинка ведет в лес; прошагав по ней час, он услышал какой-то шум и увидел пещеру, а из нее дым валит; решив, что сможет там что-нибудь разузнать, он вошел. И шагу не успел он ступить, как мгновенно оказался в лапищах Сокрушилло, который сожрал бы его, не услышь крики принца его прекрасная возлюбленная. Тут уж она забыла о страхе: побледнев и дрожа, как будто он сейчас ее саму съест, она упала в ноги Сокрушилло, заклиная его приберечь человечинку до дня свадьбы, ибо тоже хочет ее отведать. При этих словах Сокрушилло, поверив, что принцесса вознамерилась разделить его обычай, выказал такую радость, что отпустил принца, посадив его под замок в спальне людоедиков.
Любима попросила разрешения откармливать его, чтобы он не исхудал и аппетитно смотрелся на праздничном столе: людоед согласился. Она нанесла принцу всевозможных яств. Тот при виде ее обрадовался, позабыв о тоске; но стоило ему заметить рану у нее на ноге, как он снова встревожился. Они долго проплакали, и принца, который не мог есть, его ненаглядная кормила с руки, отрезая небольшие кусочки и подавая их ему с таким изяществом, что отказаться было уж никак невозможно.
Она велела людоедикам принести свежего мха, который покрыла ковром из птичьих перьев, и объяснила принцу, что это его постель. Тут ее кликнула Истязелла; на прощание она могла лишь протянуть принцу руку, и он поцеловал ее с неописуемой нежностью, она же взглядом выразила все чувства, какие к нему испытывала.
Сокрушилло, Истязелла и Любима спали в одном углу пещеры; людоедушка и его чудовищные братики и сестрички — в другом, где заперли и принца. А у людоедов есть обычай: на ночь и сам глава семьи, и его жена, и дети надевают на голову прекрасные золотые короны и в них спят[92]; это их единственная роскошь, зато уж такая, что без нее они бы удавились или повесились.
Когда все заснули, принцесса подумала, что, случись Истязелле и Сокрушилло ночью проголодаться (а это бывало почти всегда, когда у них появлялась человечина), они тут же позабудут о том, что ей обещали, и ее возлюбленный будет съеден; тут ее охватило столь мучительное беспокойство, что она едва не умерла от страха. Поразмыслив, она встала, накинула тигриную шкуру и ощупью прошла к людоедикам; там сняла с одного малыша корону и тихонько надела на голову принцу, который не узнал ее в темноте и почел за благо притвориться спящим; затем принцесса вернулась в свою кроватку.
Едва она улеглась, как проголодавшийся Сокрушилло, у которого при одной мысли о принце текли слюнки, тоже встал и пошел туда, где спали его детки. Сослепу пошарив по кроваткам, он слопал как цыпленка того, на ком не было короны. Бедная принцесса обмирала от ужаса, слыша, как хрустят кости несчастного; а уж какого страху натерпелся принц, лежавший рядом с людоедиками, догадаться нетрудно.
Наступление дня положило конец мучениям принцессы, и она поспешила к принцу; столько тут было жестов — и опасения, и жажды защитить его от смертоносных клыков чудовищ, и нежной привязанности. Хотел было и он последовать ее примеру, как вдруг некстати вошедшая людоедка увидела окровавленные стены пещеры и хватилась самого маленького. Она дико завопила; Сокрушилло, поняв, что натворил, шепнул ей, что ошибся с голодухи, полагая, что ест человечину. Истязелла прикинулась понимающей — ведь Сокрушилло был крутого нрава и, не улыбнись она ему по-хорошему, мог и саму ее съесть.
Но увы! Сколько терзаний испытывала несчастная принцесса! Она все время думала, как спасти принца. Он же все размышлял, как столь пленительная девушка живет в таком ужасном месте, и не мог решиться бежать, оставив ее здесь; ему легче было бы умереть, чем с нею расстаться. Пока же им оставалось лишь вместе плакать и, каждому на своем языке, клясться в верности и вечной любви. Она не преминула показать ему и свою колыбельку, и пеленки, в которых ее нашла Истязелла; тут принц, узнав герб и девиз короля Счастливого острова, возрадовался так бурно, что ей стало понятно: он узнал нечто важное. Она сгорала от любопытства; но как бы он объяснил ей, чья она дочь и чья кузина? Когда все улеглись, принцесса, столь же встревоженная, как и прошлой ночью, осторожно сняла корону с маленького людоеда и надела ее на своего возлюбленного; таг же, из почтения к ней и не желая вызвать ее неудовольствие, не посмел воспротивиться этому.
Не прими принцесса из самых лучших намерений такую предосторожность — не быть бы принцу живым. Нежданно пробудившись, жестокая Истязелла вспомнила, какой лакомый кусочек этот прекрасный принц и какой аппетитный; не желая отдавать его Сокрушилло, она почла за лучшее опередить его. Тихонько проскользнув к людоедикам, она осторожно ощупала головы, ища короны (и голову принца тоже), после чего в два счета проглотила одну из своих дочек. Слышавшие это Любим и его возлюбленная дрожали от страха, но Исгязелла после этакой вылазки повалилась и захрапела, так что до утра опасность миновала.
— О Небо, — говорила принцесса, — спаси нас! Научи, как преодолеть нам бедствия наши.
Принц то молился столь же пылко, то отчаянно желал в схватке одолеть этих чудовищ, — но как? Они огромны как великаны; их шкуру пробьет разве что пистолетный выстрел. Поразмыслив так, он решил, что спастись из этого ужасного места можно лишь хитростью.
Едва рассвело, как Истязелла обнаружила косточки своей дочки и завопила что было сил. Сокрушилло пришел в такое же отчаяние, и вот они принялись гоняться за принцем и принцессой, чтобы безжалостно растерзать их; те спрятались в темном уголке; но они по-прежнему были всецело во власти пожирателей человечины, так что грозная опасность подстерегала их повсюду.
Любима ломала себе голову, как выбраться из ловушки, когда вдруг вспомнила о волшебной палочке из слоновой кости, которой творила чудеса Истязелла. «Если уж она, такая глупая, — думала принцесса, — делает эдакие чудеса, почему бы не попробовать и мне?» Проскользнув в пещеру, в которой обычно спала Истязелла, она нашла палочку, спрятанную в каменной щели, и, взмахнув ею, воскликнула:
— Во имя царственной феи Друзио, я желаю говорить на языке моего возлюбленного.
Она бы загадала много других желаний, но вошел Сокрушилло. Умолкнув, принцесса снова спрятала палочку и потихоньку вернулась к принцу.
— Прекрасный чужеземец, — сказала она ему, — ваши мучения заботят меня гораздо больше моих собственных.
Услышав это, принц был изумлен и смущен.
— Я понимаю то, что вы говорите, прекрасная принцесса, — ответил он, — ибо вы изъясняетесь на моем языке, и теперь я могу уповать, что и вы поймете: я больше страдаю из-за вас, нежели из-за себя, ибо вы мне дороже жизни, света и всего, что есть в природе.
— Не столь красиво скажу я, но так же честно. Я чувствую, что отдала бы все, чем владею, и свою пещеру на морском берегу, и всех своих барашков и ягнят, только бы видеть вас.
Принц, от всего сердца возблагодарив ее, стал молить рассказать ему, кто за столь короткое время научил ее всем выражениям и тонкостям языка, до сих пор ей не известного. Она же поведала ему о могуществе волшебной палочки, а он ей — об ее происхождении и их родстве. Принцесса пришла в совершеннейший восторг, а будучи весьма умной от природы, выражалась так складно и изящно, что привязанность принца возросла многократно. Нельзя было терять времени: пришла пора сбежать от злобных чудовищ и поискать защиты для невинного чувства. Они поклялись любить друг друга вечно и, как только смогут, соединить свои судьбы. Теперь же, сказала принцесса, надо дождаться, пока заснут Сокрушилло и Истязелла — тогда-то она и приведет их большого верблюда, на котором влюбленные отправятся, куда поведет их Небо.
Принц едва сдержал радость. Хотя впереди и подстерегали опасности, однако чарующие картины будущего отчасти затмевали печальное настоящее.
Наконец настала желанная ночь; принцесса отсыпала муки и своими белыми ручками вылепила пирог, в который вложила боб, затем, взяв волшебную палочку, сказала:
— О боб, маленький боб, во имя царственной феи Друзио, обрети дар речи до тех пор, пока не испечешься.
И положила пирог в теплую золу. Принц с нетерпением ждал ее в отвратительном углу, где спали людоедики.
— Уедем же отсюда, — шепнула она ему, — верблюда я привязала в лесу.
— Да ведут нас любовь и судьба, — тихо ответил юный принц, — идем же, моя Любима, на поиски счастливого и спокойного пристанища.
Светила луна, у принцессы в руках была палочка-выручалочка из слоновой кости. Они сели на верблюда и поехали куда глаза глядят.
Но Истязеллу мучили грустные мысли, и она все ворочалась, не в силах заснуть; вытянув руку, чтобы пощупать, легла ли принцесса в свою маленькую кроватку, и, не найдя ее, она вскричала громовым голосом:
— Да здесь ли ты, девчонка?
— Я здесь, у огня, — ответил боб.
— Спать не пора? — спросила Истязелла.
— Сейчас иду, — промолвил боб, — спокойной ночи[93].
Истязелла умолкла, чтоб не будить Сокрушилло; но через два часа она снова ощупала ложе Любимы и закричала:
— Как, негодница! Ты опять не спишь?
— Я греюсь, — ответил боб.
— Да чтоб тебя поджарило как следует в самом пекле, — проворчала людоедка.
— Там я и есть, — отозвался боб, — места жарче, чем здесь, не сыскать нигде.
И всякий раз, как она его спрашивала, боб отвечал очень находчиво. Но вот под утро Истязелла снова окликнула принцессу, а боб уже испекся и ничего не ответил. Тогда, встревожившись, она вскочила и, осмотревшись и не найдя ни принцессы, ни принца, ни палочки, издала такой вопль, что эхо пошло по лесам и долинам:
— Просыпайся, Сокрушилло, крепыш мой ненаглядный! Твою Истязеллу обманули — наша человечина сбежала.
Продрав единственный глаз, Сокрушилло прыгает по пещере, точно лев; он рычит, ревет, вопит, он от злобы весь кипит.
— А ну-ка в путь, — говорит он, — мои сапоги, ах вы мои семимильные[94], уж я мигом догоню и схвачу беглецов.
Он надевает сапоги, а в них каждый шаг равен семи милям. Увы! Как быстро нужно бежать, дабы уйти от такого преследователя! Не станем удивляться, что они двигались медленнее его, ведь прекрасная принцесса знала еще далеко не все, что может волшебная палочка, и вспоминала о ней только в крайней опасности.
Они преспокойно ехали, наслаждаясь беседою и не слыша погони, как вдруг принцесса заметила ужасного Сокрушилло.
— Принц, — воскликнула она, — мы пропали! Это жуткое чудовище настигает нас подобно буре!
— Что нам делать? — спросил принц. — Ах! Будь я один, я бы рискнул своей жизнью; но ведь опасности подвергается и ваша, моя драгоценная госпожа.
— Нам не на что надеяться, кроме волшебной палочки, — ответила Любима со слезами на глазах, — или придется готовиться к смерти. Во имя царственной феи Друзио, я желаю, чтобы наш верблюд превратился в пруд, принц — в лодку, а я в старую лодочницу, которая ею правит.
В тот же миг появились пруд, лодка и лодочница, и Сокрушилло как раз добежал до берега. Он закричал:
— Эй, старая! Не проходили ли мимо верблюд, юноша и девица?
Лодочница, плывшая в лодке по пруду, опустила очки на нос и знаками показала Сокрушилло, что те, кого он ищет, ушли лугом. Людоед поверил ей и повернул налево. Тогда принцесса трижды взмахнула палочкой, коснувшись ею пруда и лодки, — и вот они с принцем снова юны и прекрасны, как были; взгромоздились они на верблюда и повернули направо.
Поспешая в надежде встретить того, кто подсказал бы им путь к Счастливому острову, они питались фруктами и родниковой водой и спали под деревьями, рискуя стать добычей диких зверей. Однако у принцессы для защиты были лук и стрелы. Что им опасности, коль скоро они вырвались из пещеры и были вместе. С тех пор, как они стали понимать друг друга, из их уст так и сыпались самые изысканные комплименты; любовь — мастерица придавать красноречия. Но им не нужна была даже помощь Амура — столькими добродетелями наделила их природа.
Принцу не терпелось поскорее добраться и до своего отца, и до ее — ведь только с их согласия она обещала стать его женой. И хотите — верьте, хотите — нет, но, живя вместе с нею наедине в лесах, он держал себя столь почтительно и благонравно, что мог бы послужить образцом союза любви с добродетелью.
Сокрушилло же, обыскав все окрестные горы, леса и поля, вернулся в пещеру, к нетерпеливо ждавшей его Истязелле с людоедиками. Он притащил пятерых или шестерых человек, которых угораздило подвернуться ему под руку.
— А тех беглецов, ворюг, человечину эту, — вскричала Истязелла, — ты что же, сам съел, не оставив мне ни ручки, ни ножки?
— Не иначе как они улетели, — ответил Сокрушилло, — потому что мне встретилась только старушка, плывшая по пруду в лодке, хотя я, словно волк, рыскал повсюду.
— Что она сказала тебе? — жадно спросила Истязелла.
— Что они повернули налево, — сказал Сокрушилло.
— Клянусь своей головой, — воскликнула она, — тебя провели за нос! Это они и были. Беги назад, догоняй их, никакой им пощады!
Сокрушилло начистил семимильные сапоги и, словно обезумев, бросился на поиски; наши юные влюбленные заметили его, как раз когда выезжали из леса, в котором провели ночь.
— Моя Любима, — сказал принц, — вот наш враг, и я готов храбро сразиться с ним, вы же скорее бегите отсюда!
— Да как же, — вскричала она в ответ, — как же мне покинуть вас, о жестокосердный! Неужто вы сомневаетесь в моих чувствах? Но не будем терять ни минуты, и пусть поможет нам волшебная палочка. Во имя царственной феи Друзио, я желаю, — продолжила она, — чтобы принц превратился в портрет, верблюд в столб, а я в карлика.
Ее желание исполнилось, и карлик принялся вовсю трубить в рог. Быстро подбежавший Сокрушилло крикнул ему:
— Эй, хилый уродец, не видал ли ты здесь красивых кавалера с девицей на верблюде?
— Я вам поведаю неложно, — сказал карлик, — коли и впрямь ищете вы юношу прекрасного собой, даму дивной красы и их скакуна, то я их видел давеча: они проезжали здесь веселые и счастливые. Сей юный воитель стяжал все похвалы и награды на всех поединках и турнирах, иже бысть устроены в честь Мерлюзины[95], чей портрет, весьма близкий к оригиналу, вы изволите здесь лицезреть. Несметное множество рыцарей и доблестных знатных ратников преломило здесь копья, источило доспехи, шеломы и щиты. Суровая то была сеча. А наградой стала великолепная золотая пряжка, украшенная жемчугом и брильянтами. Перед тем как тронуться в путь, неизвестная дама обратилась ко мне с такой речью: «Карлик, мой добрый друг, я буду краткой: прошу тебя об услуге во имя твоей нежной подруги». — «Я не откажу вам, отвечал я ей, коли в моих силах исполнить ваше пожелание». — «Буде вдруг ты увидишь великана, ростом выше всех иных, у коего лишь один глаз посередь лба, моли его со всей возможной учтивостью отбыть с миром и не преследовать нас». На сем тронула она поводья своего скакуна, и пустились они в путь.
— В какую сторону? — спросил Сокрушилло.
— Через тот зеленый луг к опушке леса, — ответил карлик.
— Если ты соврал, жалкий пачкун, — проворчал людоед, — я проглочу и тебя, и твой столб, и портрет твоей Мерлюзки в придачу.
Карлик ответил:
— Никогда не был я ни злобным, ни криводушным, и лжи уста мои не ведают. Нет такого смертного, что мог бы укорить меня в бесчестном поступке. Но поспешите, если желаете расправиться с ними до захода солнца.
Людоед скрылся из виду; карлик принял свое настоящее обличье и коснулся палочкой портрета и столба, расколдовав и их.
Какая радость для влюбленных!
— Никогда я еще так не волновался, дорогая Любима, — смеялся принц, — и чем больше я за вас тревожусь, тем сильней моя нежность.
— А вот я вовсе и не испугалась, — сказала она в ответ, — ведь Сокрушилло картин не ест, разве что сожрал бы меня; да ведь я бы с радостью пожертвовала своей жизнью ради спасения вашей, вот только вид у меня был совсем уж неаппетитный.
Сокрушилло же, не отыскав ни принца, ни его возлюбленной, вернулся в пещеру, устав как собака.
— Как! Снова без них?! — вскричала Истязелла, вырывая свои взъерошенные лохмы. — Не подходи ко мне, или я тебя задушу.
— Да нету их нигде, — ответил он, — я встретил лишь карлика со столбом и картиной.
— Клянусь своей головой, — продолжала она, — это же они и были! Дура же я, что доверила тебе нашу месть, ну что ж, придется самой итить: теперь я надену сапоги да быстрее твоего побегу[96].
Она надела семимильные сапоги и пустилась в путь. Как теперь принцу с принцессой спастись от этих чудовищ? Истязелла все ближе, на плечах у нее пестрая змеиная кожа, а в руке тяжелая палица, взглядом рыщет повсюду, а влюбленные в страхе наблюдают за ней, спрятавшись в лесной чащобе.
— Теперь нам не спастись, — сказала со слезами Любима, — один ее вид леденит мне кровь; она сообразительнее Сокрушилло. В один присест она нас съест — вот и весь суд[97].
— Амур, о Амур, не покидай нас, — вскричал тогда принц, — есть ли в твоем королевстве сердца более нежные, чувства более пылкие? Ах! Моя дорогая Любима, — продолжил он, беря ее за руки и страстно целуя их, — неужто вам суждена столь страшная погибель?
— О нет, — ответила она, — будем храбры и стойки: давай же, палочка, делай свое дело. Во имя царственной феи Друзио, я желаю, чтобы верблюд стал ящиком, мой дорогой принц прекрасным Апельсиновым деревом, а я полетаю вокруг него в образе Пчелы.
Она, как и прежде, коснулась всех троих волшебной палочкой, и превращение совершилось как раз вовремя, чтобы Истязелла, подошедшая совсем близко, ничего не заметила.
Страшная злыдня запыхалась и присела отдохнуть под Апельсиновым деревом. Тут уж принцесса-Пчела не могла отказать себе в удовольствии всю ее искусать; как бы толста ни была ее шкура, жало проходило сквозь нее, и людоедка орала благим матом, катаясь по траве, барахтаясь, точно бык или молодой лев, который отбивается от мошек — ведь эта Пчела поистине стоила целой сотни. Принц-дерево умирал от страха, как бы пчела не попалась и не погибла. Наконец Истязелла ушла, изжаленная до крови, и принцесса собралась было вернуть им первоначальный облик, как вдруг, на беду, проходившие тем лесом путники увидели палочку, подобрали и унесли с собой. Вот уж досадное препятствие. Принц и принцесса не потеряли дара речи, но небольшим же это было теперь подспорьем! Принц сетовал во весь голос. Любиме от того становилось еще горше. Он то и дело восклицал:
Как близок был тот миг, когда вознагражденье
Сулило верное любви служенье;
Всем сердцем я награды вожделел.
Амур, чудес ты столько совершил,
И от твоих никто не спасся стрел,
О, лишь бы ты любовь мою хранил,
Пусть будет мне любимая верна;
И несмотря на превращенье
И наши с нею злоключенья,
Пускай ее любовь останется сильна.
— О, горе мне, — продолжил он, — я зажат в древесной коре; теперь я Апельсиновое дерево, и если вы решите меня оставить, моя дорогая маленькая Пчелка, я не смогу пойти за вами! Но, — добавил он, — зачем вам покидать меня? На моих цветах вы найдете приятную росу и нектар слаще меда: вы сможете питаться ими. Мои листья послужат вам постелью, на которой вам не нужно будет опасаться коварных пауков.
Как только Апельсиновое дерево грустно умолкало, Пчела отвечала ему:
О принц, забудьте страх и верьте: вас
Не в силах сердце разлюбить;
И пусть волнует вас сейчас
Лишь мысль, что вы его сумели покорить.
— Не опасайтесь, — прибавляла она, — что я когда-нибудь вас покину; ни лилии, ни жасмин, ни розы, ни даже цветы с самых восхитительных клумб не заставят меня нарушить верность: я без устали буду кружить над вами, ибо Апельсиновое дерево так же мило Пчеле, как и принц Любим принцессе Любиме.
Она и вправду устроилась в самом большом цветке с такими удобствами, как будто во дворце; и их союз, как и прежде, был исполнен неподдельной нежности — ведь она неистощима у влюбленных душ.
В лесу, где росло апельсиновое дерево, имела обыкновение гулять одна принцесса. Она жила в великолепных чертогах, была юна, красива и умна, и звали ее Линда. Замуж ей совсем не хотелось — она опасалась, что выберет кого-нибудь в мужья, а он возьмет да и разлюбит ее. Но на свои несметные богатства построила она роскошный замок, куда приглашала дам и почтенных старцев, предпочитая философов ухажерам, так что молодым кавалерам к ней путь был заказан.
Стояла такая жара, что день она провела в покоях, а в лес пошла с фрейлинами только под вечер. Аромат апельсинов поразил ее. Принцесса пришла в восхищение от сего чуда, ею доселе не виданного. Вся ее большая свита окружила дерево, но никому было невдомек, как оно может расти в этих краях. Даже маленького цветочка не позволила сорвать с него Линда и приказала перенести дерево в свой сад, куда за ним последовала верная пчела. Принцесса же присела под кроной и, очарованная восхитительным благоуханием, хотела было сама сорвать несколько лепестков; тогда бдительная Пчела вылетела из убежища в густой листве и, сердито зажужжав, так больно ужалила ее, что та едва не лишилась чувств. Линда поостереглась обрывать цветы с дерева и вернулась в покои совсем разболевшись.
Принц же, наконец оставшись наедине с Любимой, попенял ей:
— За что вы, дорогая Пчелка, ополчились против юной Линды? Зачем ужалили ее так сильно?
— И вы еще спрашиваете? — ответила она. — Вы с нежностью обязаны взирать лишь на меня; взываю к деликатности вашей, а своего упускать не хочу!
— Но ведь цветы все равно опадают, — возразил он. — Что вам с того, коль они украсят волосы или декольте другой принцессы?
— Как это, что мне с того! — не на шутку рассердилась пчелка. — Знаю, неблагодарный, что она занимает вас больше, нежели я! Уж наверное — куда против обходительной, богато одетой и знатной особы несчастной принцессе в тигриной шкуре, воспитанной дикими чудовищами с грубыми манерами и не столь красивой.
Тут она заплакала по-пчелиному, уронив несколько слезинок на цветы влюбленного Апельсинового дерева; принц, тоже опечаленный, подумал, что сейчас умрет с горя, и такая его охватила досада, что все цветы пожелтели, а несколько веточек засохло.
— Увы мне, прекрасная Пчелка, — вскричал он. — Что сделал я такого, чтобы навлечь ваш гнев? Ах! Вы, без сомнения, хотите меня покинуть: вы уже устали от столь злополучного создания!
Ночь прошла в упреках, но на рассвете их примирил услужливый зефир, слышавший эти взаимные излияния: лучшего им и желать было нечего.
Тем временем Линда, сгоравшая от желания заполучить букет флёрдоранжа, спозаранку пошла в свой цветник. Но стоило ей лишь протянуть руку, как ревнивая Пчела жалила ее так больно, что принцесса едва удерживалась на ногах. Она вернулась в спальню в весьма дурном расположении духа. «Не понимаю, — сказала она себе, — что это за дерево такое, даже маленький бутончик с него не сорвешь — и то мошки закусают». Одна из ее спутниц, весьма сообразительная и веселая девушка, ответила ей со смехом:
— А вы, сударыня, оденьтесь амазонкою и храбро отправьтесь в поход за прелестным флёрдоранжем, как Ясон — за Золотым руном[98].
Эта мысль позабавила Линду, и она приказала сделать себе шлем с перьями, легкую кирасу и латные перчатки, после чего под звуки труб, литавр, флейт и гобоев спустилась в сад в сопровождении всех дам, облаченных так же и возглашавших, что амазонки выступают в поход на мошек. Линда весьма грациозно вынула меч и, срубив самую красивую ветку, вскричала:
— Итак, ужасные пчелы, где же вы? К бою — и посмотрим, достанет ли у вас храбрости защитить то, что вы любите?
Но что стало с Линдой и ее свитой, когда они услышали, как искалеченный ствол издал сперва жалобное «Увы», затем громкий вздох, а из отрубленной ветки полилась кровь.
— О, Небо, — вскричала она, — что я наделала? Такого еще не бывало!
Она приставила окровавленную ветвь к дереву, чтобы та приросла обратно, но тщетно. Тут охватил ее невыносимый ужас.
Бедная маленькая Пчелка, в отчаянии от такой беды, уж хотела было, дабы отомстить за принца, стремглав вылетев из листвы, броситься на острие рокового меча; но ради его исцеления предпочла остаться в живых и взмолилась, чтобы он отпустил ее слетать в Аравию за целебным бальзамом. И после того, как они нежно и трогательно распрощались, она отправилась в края благословенные, повинуясь лишь чутью; но если точнее — ведомая самим Амуром, который мчится стремительней всех насекомых: вот путешествие и вышло недолгим. Она принесла бальзам на крыльях и кончиках лапок и излечила своего принца; и поистине неизвестно, что было для него целительнее — снадобье или удовольствие видеть, как старается ради него принцесса-Пчела. Она каждый день смазывала его рану, ведь отрезанная ветвь была одним из его пальцев; если б с ним все обходились так, как Линда, — он бы остался без рук и ног. О, как мучительно Пчелка страдала за принца! Теперь она упрекала себя, что слишком пылко охраняла его цветы, никому не давая их сорвать.
Линда, в ужасе от увиденного, лишилась и аппетита, и сна. Наконец она придумала послать за феями, чтобы получить объяснение столь необыкновенному происшествию; поспешно снарядив посланников, она снабдила их роскошными подарками, чтобы задобрить фей.
Одной из первых пожаловала к ней королева Друзио. Она была самой сведущей в искусстве волшебства. Осмотрев ветвь и само дерево, понюхав цветы и почувствовав удививший ее человеческий запах, фея принялась читать все известные ей заклинания и наконец перешла к таким необоримым, что Апельсиновое дерево вдруг исчезло, и на его месте все увидели самого красивого и стройного принца на свете. Линда так и застыла на месте; вместе с восхищением ее охватило и еще некое особенное чувство, заставившее ее забыть о своем былом равнодушии, как вдруг юный принц, верный своей милой Пчелке, бросился к ногам феи Друзио.
— Могущественная королева, — сказал он, — я навеки твой должник; вернув мне человеческое обличье, ты возвратила меня к жизни; но, коли хочешь, чтобы я был тебе обязан покоем и счастием всей жизни моей, большим, чем солнечный свет, верни мне мою принцессу.
Сказав так, он взял в руки Пчелку, с которой не сводил глаз.
— Будешь доволен, — ответила великодушная фея. Она вновь стала колдовать, и принцесса Любима явилась, да еще столь красивой, что все дамы до единой ахнули от зависти.
Линда не знала, плакать ли ей или радоваться столь необыкновенным событиям, а особенно — превращению Пчелки. Но в конце концов разум взял верх над чувством, тем паче что оно еще только зарождалось: она обласкала Любиму, а Друзио попросила ее рассказать о своих приключениях. Та была слишком обязана фее, чтобы пренебрегать таким ее пожеланием. Изящество и приятность ее речей привлекли всеобщее внимание; когда же она сказала Друзио, что совершила столько чудес силой ее имени и волшебной палочки, все в зале вскрикнули от радости и стали просить фею завершить доброе дело счастливым концом.
Друзио, в свою очередь, слушала все это с необычайным удовольствием, она крепко обняла принцессу.
— Коль скоро уж я помогла вам, не зная вас, — посудите сами, прекрасная Любима, как много хочу я сделать теперь, когда мне все известно. Я подруга вашего отца-короля и вашей матери-королевы. Немедля в мою воздушную колесницу — мы отправляемся на Счастливый остров, где вы оба встретите прием, какого заслуживаете.
Линда упросила их остаться в ее владениях еще на денек и щедро одарила; принцесса Любима сменила тигриную шкуру на наряды несравненной красоты. Радость наших прелестных влюбленных немыслимо даже вообразить; для этого надо пережить те же страдания, побывать у людоедов и вытерпеть столько же превращений. Наконец Друзио перенеслась с ними по воздуху на Счастливый остров. Король и королева встретили их как самых желанных гостей — ведь они не чаяли больше их увидеть. Красота и благонравие Любимы могли сравниться разве только с ее умом, и она всех привела в восхищение; а уж дорогая матушка любила ее без памяти. И немалые достоинства принца Любима обворожили всех так же, как и его красота. Они поженились, а свадьбу сыграли такую, что пышней отродясь не бывало; на празднество явились грации в праздничных нарядах, а уж амурам и приглашения никакого не нужно — слетелись сами, и, согласно их повелению, первенца Любимы и Любима назвали Верный-в-любви.
И многие почести украсили потом это славное имя; а уж титулов прибавилось к нему столько, что под ними и не разглядеть благонравного дитяти, родившегося от столь прелестного брака. Случись вам поглазеть на такого — тоже счастливы станете; да только уж присматривайтесь получше, а то кабы не обознаться.
* * *
В лесу наедине с любимым всякий час
Благоразумие принцесса соблюдала
И слушала всегда рассудка глас —
Так верная любовь наградой деве стала.
Красавицы, коль в плен хотите сердце взять,
Вредят услады иногда,
Ведь в неге может пыл любовный угасать.
Коль и сурова, и горда,
Сумеет дама страсть навеки удержать.
Пер. М. Н. Морозовой
Мышка-Добрушка[99]

А по соседству с королем-Радостью жил совсем другой король, заклятый враг земных утех и наслаждений, нравом кровожадный и воинственный. Ходил он вечно хмурый, носил длинную бороду, злобно на всех поглядывал, прятал свое костлявое тело под черными одеждами, а на голове торчали грязные нечесаные космы. Благоволил он к тем, кто рубил сплеча, не раздумывая, и приказывал казнить первого встречного. Преступников вешал собственными руками, упиваясь чужими страданиями. А уж если матушка нежно любила свою доченьку или сыночка — он тут как тут: требовал дитя доставить во дворец и прямо на ее глазах выкручивал малютке руки или сворачивал шею. И назывался этот край Страною Плача.
Прослышав о безмятежном счастье короля-Радости, злой король затаил черную зависть, задумал собрать несметное войско и отправить соперника на тот свет или на худой конец изувечить. Разослал гонцов по всему королевству, созывая вооруженный народ на битву. Страх овладел людьми, никто не посмел ему перечить, и пошла гулять по дворам людская молва: «Не видать пощады тому, на кого он обрушит свою ненависть!»
Когда все было готово, повел он войско прямо в страну короля-Радости. Тот, услышав плохие вести, начал спешные приготовления к войне, а королева, ни жива ни мертва от страха, молвила ему сквозь слезы:
— Ваше Величество, надо захватить с собой все ценное добро и бежать далеко-далеко, куда глаза глядят.
Ответил на это король:
— Нет, сударыня, не по мне такой позор. Я исполнен отваги. Лучше умереть, чем прослыть последним трусом.
Созвал он верных всадников, нежно простился с королевой и умчался на быстроногом коне.
Только король скрылся из виду, воздела она руки к небу и запричитала горестно:
— Что ж теперь будет! Я ношу под сердцем дитя. Вот убьют короля на войне — и овдовею я, стану затворницей, а злой король сживет меня со свету.
Не спит, не ест королева от тяжких дум. А король исправно шлет ей весточку каждый божий день. Но вот однажды утром, вглядываясь в даль с высокой башни, заприметила она гонца, скакавшего во весь опор, и окликнула его:
— Эй, гонец, постой! Какую весть несешь?
— Король мертв, — воскликнул тот, — войско разбито, злодей у ворот!
Бедная королева упала в обморок. Ее отнесли в покои, и зарыдали тут все придворные дамы — кто по отцу, кто по сыну, и принялись рвать свои кудри от безутешного горя, и на всем белом свете не было зрелища печальней.
Вдруг всеобщий траур нарушили истошные вопли:
— Убивают! Грабят! На помощь!
То злой король с жестокими вассалами крушили все, что попадалось под руку. Ворвался злодей в королевский дворец и, как был в доспехах, поднялся в покои королевы. Увидела она его, и такой страх овладел ею, что с головой зарылась в одеяло. Окликнул он ее раз, окликнул другой, но затаилась королева, боясь и слово вымолвить. Рассвирепел король не на шутку, да и говорит:
— Никак, вздумала ты смеяться надо мной? Не сносить тебе головы!
С этими словами отдернул он одеяло, сорвал с королевы чепец, а когда рассыпались по плечам ее роскошные длинные кудри, накрутил их трижды на руку, взвалил королеву к себе на спину, словно мешок с зерном, и понес прочь. Только вскочил он с ношей на вороного коня, как взмолилась королева о пощаде, но злодей, усмехнувшись, лишь сурово промолвил:
— Поплачь-ка еще, да погромче: твои слезы меня забавляют.
Отвез он ее в свою страну и поклялся повесить, да сообщили ему досадную новость: королева носит во чреве дитя.
Узнав об этом, король решил, что если родится дочь, он выдаст ее замуж за своего сына, а чтобы не прогадать, послал за феей, жившей неподалеку. Он оказал ей самый почтительный прием, развлекал и угощал, а затем проводил в башню, где на самом верху в тесной каморке томилась бедная королева. Она лежала на старенькой подстилке и проливала слезы денно и нощно.
Взглянула фея на пленницу и расчувствовалась. Она поклонилась ей как положено, обняла и прошептала украдкой:
— Не унывайте, сударыня, вашим злоключениям придет конец. Я помогу вам.
Утешили королеву такие речи, воспрянула она духом, рассыпалась перед феей в благодарностях и взмолилась, чтобы та позаботилась о несчастной принцессе, которой не суждено будет иметь несметных богатств. Так вели они беседу, пока злой король не вмешался грубо:
— Довольно пустых любезностей! Я вас привел сюда, чтоб вы сказали мне, кто в чреве у этой невольницы, сын или дочь.
— Родится дочь, — ответила фея, — и будет она самой прекрасной и благовоспитанной на свете.
Затем фея пожелала будущей принцессе всяческого добра и почестей.
— Если дочь не родится такой красивой и умной, — сказал злой король, — я повешу ее на шее у ее матери, а мать повешу на дереве, и ничто меня не остановит.
С этими словами он удалился с феей, оставив королеву одну в слезах и в горестных раздумьях: «Увы! Что же делать мне, несчастной? Мою прекрасную малютку он отдаст в лапы своего безобразного сына! А если дочь родится уродливой, то грозит повесить нас обеих! Две крайности на выбор. Как поступить? А не упрятать ли ее в укромном месте, где злодей ее не отыщет?»
Подходила крошке-принцессе пора на свет появиться, и беспокойство королевы росло день ото дня, да ведь и пожаловаться некому, и утешиться нечем. Тюремщик приносил ей лишь три вареные горошинки да корочку черного хлеба. Исхудала она, стала тоньше тростинки, взглянуть не на что — кожа да кости.
И вот однажды вечером, сидя за прялкой (злой король был очень жаден и заставлял ее работать день и ночь), она заметала, как из дырочки в полу выскочила хорошенькая крохотная мышка. Королева тотчас обратилась к ней:
— Эх, милая! Что ты здесь ищешь? У меня на весь день только три горошинки. Уходи поскорее, иначе умрешь с голоду.
Серенькая красавица юркнула туда-сюда, затем принялась танцевать, выделывать пируэты, словно проворная обезьянка, и так это понравилось королеве, что она отдала мышке последнюю горошину, припасенную на ужин, сказав при этом:
— На, милочка, ешь, прими мой скромный дар — это все, что у меня есть.
Но стоило ей лишь бросить мышке горошину, как вдруг на столе появились великолепная дымящаяся куропатка и два горшочка варенья.
— Поистине, за добро добром и платят, — воскликнула тогда королева.
Она поела совсем чуть-чуть, голод успел притупить ее аппетит. Затем бросила мышке драже, а та сгрызла его, да и принялась скакать пуще прежнего.
На следующий день, рано утром, тюремщик принес королеве три горошины, разложив их на большом блюде, словно в насмешку. Мышка тихонько подбежала и съела все горошки вместе с корочкой хлеба. Когда королева захотела откушать, то ничего не нашла и сильно рассердилась на мышку.
— Вот проказница, — негодовала она, — если так пойдет и дальше, я умру с голоду!
И только хотела накрыть пустое блюдо, как вдруг на нем появились всякие яства. Обрадовавшись, она принялась было кушать, но тут ей привиделось, как злой король убивает ее дитя, и она вышла из-за стола вся в слезах. От безысходности обратила она мольбы к Небесам:
— О боги, неужели нельзя спастись?
Тут опустила она голову и увидела, что мышка вертит в лапках длинные соломинки. Взяла их королева и стала что-то быстро плести. «Если мне хватит соломинок, — подумала она, — я сплету крытую корзинку, положу туда дочку и отдам через окно доброму прохожему — пусть смилостивится и о ней позаботится».
И она смело взялась за работу, благо соломинок было предостаточно, ведь мышка-плясунья всё таскала и таскала их. Когда подходило время еды, королева отдавала мышке три горошины, а взамен получала всякие аппетитные лакомства. Удивлению ее не было границ, — все-то гадала-рядила, кто же ей присылает такие изысканные кушанья.
Однажды королева стояла у окошка и примеривалась — хватит ли сплетенной веревочки, чтобы спустить короб на землю. Вдруг внизу она заметала старушку с клюкой.
— Я знаю, о чем вы горюете, сударыня, — обратилась к ней та, — позволь те же мне сослужить вам добрую службу.
— Ах, дорогая, — ответила королева, — я с удовольствием приму вашу помощь и отблагодарю. Проходите мимо башни по вечерам — я изловчусь и спущу вам своё бедное дитя, вы его выкормите, и я постараюсь хорошо заплатить вам, как только снова обрету утраченные богатства.
— Мне не нужны богатства, — молвила старушка, — но я люблю всякие лакомства, а больше всего упитанных пухленьких мышат. Если у вас в каморке бегают мышки, поймайте их и бросьте мне, и тогда я окружу вашу прелестную кроху самыми нежными заботами.
Услышав такие речи, королева заплакала, а старушка спросила о причинах такой печали.
— Грустно мне оттого, — ответила королева, — что в моей каморке живет только одна мышка, да такая миленькая и прехорошенькая, что я не в силах отдать ее вам на съедение.
— Как, — гневно воскликнула старуха, — неужели воришка-грызунья вам дороже ребенка, что у вас родится? Коли так, сударыня, вы недостойны моей жалости; пускай мышь вам и служит, ну а я найду себе других, мне нет до вас дела, прощайте. — И старуха пошла прочь, недовольно бурча себе под нос.
Вечером мышка опять прибежала плясать перед королевой и угощать ее вкусными блюдами. Но та сидела, грустно потупив очи, а по щекам ее текли тихие слезы.
Ночью у королевы родилась дочь удивительной красоты. При рождении, не по-детски сообразительная, она не кричала, а улыбалась и смеялась и все тянула к королеве-матушке крохотные ручонки. Та от души обнимала и целовала свое дитя, но печаль не покидала ее. «Бедная крошечка, — думала она, — дорогая доченька! Попади ты только в руки злодею-королю, — ведь он погубит тебя!» И, запеленав ее и положив в короб, она начертала записку: Сие несчастное дитя зовут Прелестой. Решив еще раз полюбоваться ею напоследок, она заглянула в короб и увидела, что дочь стала краше прежнего. Пленница поцеловала ее и залилась горькими слезами: что еще ей было делать?
Вдруг прибежала мышка и юркнула прямо в корзинку к Прелесте.
— Ах ты, мелкая зверушка, — воскликнула королева, — дорого же ты мне обходишься! Я спасла тебе жизнь, пожертвовав моей дорогой Прелестою! Другая прихлопнула бы тебя и отдала на съедение старой обжоре. А я вот не смогла так поступить!
А мышка возьми да и скажи человеческим голосом:
— Не горюйте, сударыня, я вам еще пригожусь.
Как ни испугалась королева, услышав мышиную речь, а стало ей еще страшнее, когда мышь выросла, мордочка ее превратилась в лицо, а вместо лапок появились руки и ноги. Собравшись с духом, присмотрелась королева и узнала ту самую фею, что приходила со злым королем и была с ней так приветлива.
— Я лишь хотела испытать вас, — промолвила фея, — о, у вас нежное и доброе сердце. Мы, феи, хоть и владеем несметными сокровищами, но радость находим не в богатстве, а в нежной дружбе. Не скрою, это редкая удача.
— Неужели вы, прекрасная госпожа, столь богатая и могущественная, с трудом находите друзей? — удивилась королева.
— Да, — ответила фея, — нас любят из корысти, посему наша душа молчит в ответ на жадность и людское притворство. Но вы полюбили меня бескорыстно, сначала в образе мышки; я решила испытать вас по-настоящему и превратилась в старуху. Это я говорила с вами у башни, но вы и там остались мне верны.
С этими словами она обняла королеву, затем три раза чмокнула малыш-ку-принцессу в румяные щечки и молвила:
— Велю, чтобы красота твоя не увядала никогда, да будешь ты утешением для матери, станешь богаче отца, проживешь сто лет без болезней, морщин и немощной старости.
Обрадованная королева поклонилась фее и отдала ей Прелесту, чтобы та позаботилась о ней как о собственной дочери.
Фея с поклоном приняла принцессу из рук королевы, затем положила малютку в короб и спустила вниз на свитой веревочке. Ей пришлось немного задержаться в каморке, чтобы снова превратиться в мышку, и когда она сама слезла вниз, то ребенка и след простыл. Она проворно вскарабкалась наверх и в ужасе проговорила:
— Все пропало — принцессу похитила моя соперница Раскалина! Это жестокая фея, она люто ненавидит меня. К несчастью, колдовство ее изощренно, чары могущественны, и я не знаю, как вырвать Прелесту из ее цепких когтей.
Королева, узнав о печальной пропаже, чуть не умерла с горя. Зарыдала она в голос и взмолилась, чтобы добрая фея попыталась вернуть малютку любой ценой.
А тем временем тюремщик, зайдя в каморку, увидел, что королева разрешилась от бремени, и сообщил об этом королю. Тот примчался немедля, чтобы потребовать ребенка. Но королева рассказала ему, что приходила незнакомая фея и силой отобрала у нее дочь. Рассерчал король до безумия, затопал ногами, погрыз все ногти от бессилия:
— Предупреждал я тебя, негодницу, что будешь висеть на дереве, — знать, пора исполнить обещанное.
Потащил он бедную королеву в лес, взобрался с ней на высокое дерево, вот-вот повесит. А в это время фея сделалась невидимой, подкралась к стволу и толкнула лиходея с такой невиданной силой, что тот сорвался вниз, ударился оземь и вышиб четыре зуба. Пока ему вставляли новые, фея посадила королеву в свою волшебную колесницу, и унеслись они к прекрасному замку. А там она окружила ее заботой да вниманием, и для полного счастия не хватало лишь принцессы Прелесты; мышка же всюду искала место, куда злая Раскалина заточила принцессу, но каждый раз возвращалась ни с чем.
Время шло, и вместе с ним высыхали горькие слезы королевы, стихал ее безутешный плач. Пятнадцать лет минуло с той поры. И вот прошел слух, будто сын злого короля сватается к своей птичнице, а прекрасное создание наотрез отказывается выходить за него замуж, — то-то все удивлялись, отчего это птичница не пожелала стать королевой. Впрочем, свадебное одеяние было уже сшито, и гости прибывали за сотни лье со всей округи. Мышка тотчас отправилась взглянуть на птичницу хоть одним глазком. Проскользнула она в курятник и увидела босую девушку в грубом холщовом платье и в грязном чепце на голове; а рядом, на голой земле, валялись парчовые одежды, драгоценные камни, жемчуга, шелковые ленты и кружева. По ним грязными лапками прохаживались индюки, громко кулдыкая и роняя помет на дорогие ткани. Птичница сидела на большом камне, а сын злого короля, горбатый, хромоногий и кривой, угрожал ей:
— Если вы отвергнете мое сердце, я вас убью!
Она же, не удостоив его взглядом, гордо молвила:
— Не пойду я за вас, больно уж вы безобразны, да и душа ваша точь-в-точь как у жестокого отца. Лучше уж мне остаться со своими индюшками, они-то мне любы-дороги, а ваших речей хвастливых и слушать не хочу больше.
Залюбовалась мышка птичницей, красивой как ясное солнышко. И едва лишь сын злодея-короля удалился восвояси, фея обернулась старенькой пастушкой и говорит ей:
— Милая ты моя, какие у тебя ухоженные индюшки.
Молодая птичница, ласково посмотрев на нее, кротко ответила:
— Принуждают меня бросить любимых птиц ради ненавистного трона, — присоветуйте, что же мне делать?
— Доченька, — молвила фея, — да ведь корона — прекрасная вещь; верно, не верите вы, что брачный венец принесет вам власть и богатство.
— Нет-нет, я это понимаю, — подхватила девушка, — поэтому и отказываюсь покориться судьбе. Ведь мне совсем ничего не известно — ни кто я от роду, ни где мои батюшка с матушкой. Нет у меня ни близких, ни родных.
— У вас есть красота и добродетель, дитя мое, — сказала мудрая фея, — а они стоят сотни королевств. Прошу, расскажите мне, кто же вас тут оставил, разлучив с родителями и с друзьями верными.
— Это фея по имени Раскалина, она била и мучила меня. Однажды, не стерпев побоев, я убежала и очутилась в темном лесу. В ту пору мимо проходил сын злого короля, он и спросил у меня, не хочу ли я стать птичницей на скотном дворе; делать нечего, я охотно согласилась ухаживать за индюками и курами. С тех пор он частенько захаживает сюда, разговоры заводит и в глаза заглядывает, делая вид, что интересуется птицами. Увы! Вопреки моему желанию любовь его становилась все сильнее и докучливей, и теперь не знаю я, куда от него скрыться.
Слушая рассказ птичницы, фея призадумалась; поразила ее смутная догадка, что перед ней сама Прелеста. Не удержалась она и спросила:
— Как же вас звать, добрая девушка?
— Зовут меня, сударыня, Прелестою.
У феи больше не осталось сомнений. Она бросилась обнимать и целовать принцессу, а потом и говорит:
— Прелеста, я знаю вас давно и очень рада, что вы умны и благовоспитанны. Вот только выглядите как замарашка. Взгляните, как будут вам к лицу эти восхитительные наряды, — наденьте же их и станете еще прекрасней! Отныне только их вам следует носить, так они вам идут.
Весьма послушная Прелеста, сбросив грязный чепец, встряхнула весело своими локонами, отчего те рассыпались, окутав ее словно покрывалом; чудесные золотые кудри, ниспадая до самой земли, так и переливались на солнце. Затем, набрав в нежные ладони воды из родника, что бил неподалеку от курятника, она умылась; тут лицо ее стало чистым и засияло, словно восточный жемчуг, а щеки и усга расцвели алыми розами. Дыхание ее источало едва уловимый аромат тимьяна, стан был тонким как тростинка, а кожа казалась белее зимнего снега, свежее лилии в летний полдень.
Едва облачилась она в красивые платья и украсила себя драгоценностями, как фея, пораженная сим чудесным преображением, воскликнула:
— До чего же вы милы, Прелеста! Интересно, кто вы на самом деле?
— Признаться, — молвила принцесса, — мне всегда казалось, что во мне течет королевская кровь.
— Вам бы это было приятно?
— Да, матушка, — ответила Прелеста, почтительно склоняясь в реверансе, — и притом несказанно.
— Хорошо, — сказала фея, — довольно на сегодня, а завтра я поведаю вам кое-что еще.
И она спешно помчалась в свой прекрасный замок, где королева плела шелковое кружево, сидя за прялкой. Мышка крикнула ей с порога:
— Ваше Величество, готовы ль вы поспорить на прялку и веретено, что я вам принесла лучшие вести, какие вы только слышали?
— Увы, — вздохнула королева, — с тех пор, как умер король-Радость и пропала моя Прелеста, любые новости для меня не дороже простой булавки.
— Полно, не печальтесь, — сказала фея. — Принцесса в добром здравии, я только что от нее. Она так прелестна и ведет себя совсем по-королевски, будто сидит на троне.
И фея рассказала ей всю историю от начала до конца. Королева расплакалась — от радости, что дочь ее так красива, и от печали, что та стала птичницей.
— Да разве могли мы с почившим королем, восседая на троне и пируя, вообразить, что наше дитя будет жить рядом с индюками!
— А все жестокая Раскалина, — подхватила фея, — прознав о моей любви к вам, она решила досадить мне и обрекла принцессу на страдания. Но я сделаю все, чтобы вызволить ее оттуда, иначе грош мне цена.
— Не станем дожидаться, пока сын злого короля попросит ее руки, — молвила королева, — немедленно привезем ее сюда!
Тем временем сын злого короля, уязвленный Прелестою, сел под деревом и давай рыдать в голос, да так пронзительно, словно волки выли на луну. Услышал его отец громкие стоны, подошел к окошку и кричит:
— Ты чего это надрываешься как помешанный?
— Это всё птичница, — ответил тот, — не мил я ей, невзлюбила она меня.
— Как не мил? — вскричал злой король. — Или полюбит, или умрет. — Кликнул он стражу и говорит: — Немедля ко мне ее, уж я ее проучу, ишь, упрямица!
Ворвалась стража в курятник, а там Прелеста в убранстве из белого атласа, вышитого золотом, усыпанного драгоценными рубинами и шелковыми лентами. На всем белом свете не было девушки прекрасней. Остановились стражники как вкопанные, от изумления речи лишившись, ибо увидели они настоящую принцессу. А она промолвила учтиво:
— Скажите мне, любезные, кого вы здесь ищете?
— Госпожа, — ответили они, — мы пришли за горемычной птичницей по прозванию Прелеста.
— Увы, это я, что вам надобно?
Схватила ее стража, связала ей ноги и руки толстыми веревками, чтобы не вздумала убежать, и такой отнесли ее к злому королю и его сыну. Увидел злодей, как принцесса прекрасна, и дрогнуло его сердце. Не будь он самым жестоким и кровожадным, — сжалился бы над нею. Говорит он:
— Ах так, плутовка, лягушачье отродье! Значит, не мил тебе мой сын? Да ты не стоишь и мизинца его, он в сто раз краше тебя. Обещай живо, что полюбишь его, или умрешь под пытками.
Принцесса, дрожа как осиновый лист, упала на колени и взмолилась:
— Ваше Величество, не велите пытать, погибну я от невыносимых страданий. Дайте мне пару дней на раздумье, а потом делайте со мной все, что пожелаете.
Сын короля, страшно обиженный, требовал отдать ее палачам. Но, поразмыслив, решили все же заточить ее в темницу, куда не доходил даже тоненький лучик солнца.
А в это время добрая фея с королевой прилетели на колеснице. Узнали они обо всем, тут мать горестно запричитала, мол, бедная моя несчастная дочь, лучше бы ей умереть, чем выйти за уродливого сына короля-злодея. Успокоила ее фея:
— Не падайте духом, я отомщу за вас. Ах, как обоих сейчас замучаю…
Король-злодей уж ко сну отходил, когда фея обернулась мышкой и притаилась в изголовье кровати. Стоило ему задремать, как она подбежала и больно укусила его за ухо. Не понравилось это королю, перевернулся он на другой бок, а мышка цап его за другое ухо.
— Караул! Режут, — истошно завопил тут король. Позвал он на помощь, прибежали слуги и видят: оба королевских уха так сильно искусаны, что кровь с них течет ручьями. Все бросились на поиски мыши, а та тем временем искусала уши злодейского сына. Так же завопил и тот, показав слугам свои в кровь расцарапанные уши, а те наложили на них примочки.
Мышка же все не унималась: снова вернулась она в покои задремавшего короля и набросилась теперь на королевский нос. Хотел было король схватить ее руками, а тут мышь больно укусила его за палец.
— Пощадите, — закричал тот, — погибаю!
Тут мышь юркнула ему прямо в открытый рот и принялась грызть все что ни попадя: язык, губы, щеки. Слуги, вбежавшие на крик, застали короля онемевшим от ужаса: только языком или устами шевельнет — адская боль. Жестами лишь объяснил, что во всем виновата мышь. Бросились слуги искать и под ковриком, и под подушкой, обыскали каждый уголок — а ее уже и след простыл: серая плутовка прошмыгнула в спальню к сыну и выгрызла у него единственный глаз. Тот вскочил и, завопив как оглашенный, схватился за шпагу, но сослепу кинулся в покои отца, который в исступлении метался туда-сюда, тряся своим мечом, и клялся всех заколоть, если мышь не поймают.
Увидев, что сын так раскис, король выругал его на чем свет стоит; тот же, изгрызенными ушами не разобрав отцовского голоса, в ярости кинулся на него со шпагой наперевес. Король-отец первым всадил ему острие по самую рукоятку, сын не остался в долгу, упали оба на землю, лежат, истекают кровью. Тут подданные, давно их ненавидевшие и служившие только из страха, разом осмелели, связали их веревками, оттащили к реке и сбросили в воду, приговаривая, что туда им и дорога.
И вот уж нет на свете ни короля-злодея, ни его сына. Тогда кликнула добрая фея королеву, и пошли они в темницу, где за семью замками томилась Прелеста. Трижды прикоснулась фея волшебной палочкой к вратам — тотчас отворились и они, и все остальные затворы. Наконец за последней дверью увидели они бедную принцессу, сидела она понурая, в глазах тоска и печаль. Бросилась к ней королева, обняла.
— Душа моя, — говорит, — это я, королева-Радость, матушка твоя.
И поведала пленнице все, что с ней приключилось. Боже мой! Как услышала Прелеста добрые вести, от несказанной радости едва чувств не лишилась. Кинулась в ноги королеве, целовала ей руки, орошая их счастливыми слезами, обнимала и нежно благодарила фею за ее подарки, за сундуки, полные несметных сокровищ, бесценных украшений, золота и алмазов, невиданных браслетов, жемчужных ожерелий, и за портрет короля-Радости, украшенный драгоценностями. Сказала тут фея:
— Хватит нежничать — пора объявить о смене власти в государстве! Поспешим в парадный зал, созовем народ и произнесем речь.
И прошествовала впереди всех, напустив важный и серьезный вид и гордо ступая в платье со шлейфом в десять аршин. За ней — королева в наряде из синего бархата, расшитого золотом, с длинным-предлинным шлейфом. Эти торжественные облачения они взяли с собой из замка. Короны сияли на них как два солнца. А за обеими дамами, скромно потупив очи, шла ослепительная Прелеста. Все три дамы отвешивали поклоны — и простые, и церемонные — всякому, кто встречался на пути, а толпа шла следом, ибо люди желали знать, кто эти благородные дамы. Когда зал наполнился, добрая фея объявила подданным короля-злодея, что пришла пора представить им новую владычицу, дочь короля-Радости; и пусть живет народ в ее королевстве долго и счастливо. Она же найдет новой королеве столь же благородного супруга, и да принесет будущий принц в эти края праздник, а тоску и уныние прогонит прочь.
— Пусть, пусть будет так, — закричали в толпе, — а то сколько ж нам жить в печали и в бедности.
Грянули тут сотни веселых инструментов, подданные взялись за руки и давай водить хороводы вокруг феи, королевы и ее дочери и вовсю петь радостные песни: «Пусть, пусть так будет, это ясно, мы согласны».
Вот с каким ликованием приняли благородных дам. Устроили пир, ели и пили, а потом и спать улеглись, дабы проснуться бодрыми. А утром, едва принцесса пробудилась, фея представила самого прекрасного на свете принца: в поисках мужа, достойного Прелесты, она облетела на волшебной колеснице все тридевятые королевства. Добротой и благородством он не уступал невесте. Взглянули они друг на друга, да и влюбились без памяти. А королева все не могла нарадоваться. Приготовили восхитительное угощение и чудесные наряды, да и сыграли пышную свадьбу под всеобщее ликование.
* * *
Принцесса эта испытала
Удар, что послан был судьбой,
Она в темнице горевала,
Удел безрадостный оплакивая свой.
Она б навеки потеряла
Едва родившуюся дочь,
Да только фея обещала
Страдалице в беде помочь.
Явила ей свои щедроты
Наидобрейшая из фей
И в благодарность за ее заботу
Путь к счастью указала ей.
Все это сказкой вы сочтете,
Лишь призванной
слегка читателя развлечь,
Однако и мораль вы в сказке той
найдете.
Вам будет благодарен тот,
В ком вы участье проявили,
Кому в беде вы удружили,
Он долг с лихвою вам вернет.
Пер. Я. А. Ушениной (проза), Е. Ю. Шибановой (стихи)
ТОМ ТРЕТИЙ
Сен-Клу[101]. Начало

— Оставьте меня здесь; быть может, какой-нибудь сильван или дриада[104] соблаговолят удостоить меня своим обществом.
Каждый осудил ее лень; между тем все так спешили поближе увидеть то прекрасное, что предстало их взору, что любопытство взяло верх над желанием составить ей компанию.
— Поскольку ваша предполагаемая беседа с хозяевами леса может и не состояться, — сказал ей господин Сен-П…, — оставляю вам эти «Сказки», которые с приятностью развлекут вас.
— Хорошо бы это были не те, которые я же и написала, — отвечала госпожа Д…, — тогда я хоть могла бы насладиться прелестью новизны; однако же оставьте меня здесь и не беспокойтесь, я найду, чем заняться.
Она уверяла так настойчиво, что очаровательное общество наконец удалилось; затем, обойдя все, что нашлось интересного в округе, все вернулись в тенистую аллею, где ждала их госпожа Д…
— Ах! Как много вы потеряли! — воскликнула, приближаясь к ней, графиня Ф… — Сколько прекрасного мы только что видели!
— Не менее прекрасно и то, что только что случилось здесь со мною, — отвечала та. — Так вот: с любопытством оглядевшись вокруг, я вдруг увидела неподалеку от меня юную нимфу[105], чьи глаза лучились радостью и умом, а манеры были изящны и учтивы, что немало порадовало и удивило меня. Легкое ее платье позволяло заметить, как хорошо она сложена; роскошные косы перехвачены лентой на уровне пояса; отрадно было смотреть на ее правильные черты; я уже собиралась заговорить с нею, как вдруг она перебила меня и произнесла следующие строки:
Здесь августейший Принц живет в уединенье,
Блистателен великолепный двор,
Прекрасен и дворец, и сад на загляденье,
Здесь есть чему пленить наш взор.
Не удивительно ль все, что мы тут находим,
И не способно ль поражать,
И впрямь, не следует ли ждать,
Что здесь, в тиши и на природе,
Век возродится золотой?
Царит где сладостный покой,
Туда Печали не заходят,
Услады, Игры, Смехи верховодят,
Сады и рощицы для радостей цветут,
Здесь все — невинность, все — очарованье,
Морозы не страшны, зим не бывает тут.
Светила днéвного сиянье
Ни облако не заслонит,
Ни непогода не затмит,
И царство Флоры[106] не затронет увяданье.
Как зелень трав и рощ здесь зренье услаждает!
Как разноцветье все лужайки украшает!
Привольно как в лесах пичужкам щебетать!
Взгляните, вот холмы, трав ароматных полны,
Стадам и пастырям раздолье тут гулять.
По зелени лугов ручья струятся волны,
Стремится зыбь ручья до неба доплескать.
Здесь с шумом вглубь ложбин сбегают водопады,
Тенистая тропа ведет в края услады.
Муравчаты луга и дивные леса,
Прозрачны, благостны и тихи небеса,
Учтивы пастухи, пастушки — загляденье,
И всякий, кто тут был, хвалить не устает
Прелестные края, обитель наслажденья,
Где, не иначе, сонм богов живет.
Монаршей волею хранимы
Сии прелестные места,
Где ангельская доброта
С величием неразделимы.
И все же этих мест услады и забавы
Равняться недостойны с той,
Чьей августейшей ради славы
Природа здешняя увенчана красой.
— Нимфе Сен-Клу недолго пришлось говорить, а мне слушать, — продолжала госпожа Д…, — ибо я почувствовала, что она встревожилась, заслышав шум, — а это приближались вы. «Прощайте, — сказала она мне, — я думала, что вы здесь одна; но, раз сюда идут ваши спутники, я навещу вас в другой раз». Сказав так, она исчезла, и, признаюсь вам, меня это не огорчило: мне уже становилось не по себе от такого приключения.
— До чего же вы счастливая, — воскликнула маркиза де…, — у вас такие приятные знакомства: то музы, то феи! Вам скучать не приходится, и, знай я столько сказок, сколько вы, считала бы себя преважной госпожой.
— Это такие сокровища, — отвечала госпожа Д…, — обладая которыми нередко испытывают недостаток в вещах поистине нужных и полезных; все мои добрые друзья-феи до сих пор были не слишком щедры на благодеяния; уверяю вас, я решилась относиться к ним с тем же небрежением, с каким они относятся ко мне.
— Ах, сударыня! — сказала графиня Ф…, прерывая ее, — я прошу вас смилостивиться над ними, ведь вы должны еще рассказать нам о каких-нибудь их приключениях; здесь как раз самое подходящее место для этого, и вас еще никогда не слушали с таким вниманием, с каким будут слушать сегодня.
— Кажется, — сказала госпожа Д…, — я отчасти догадываюсь, к чему вы клоните. Вот тетрадь, которую я готова вам прочесть; дабы сделать рассказ приятнее, я добавила к нему испанскую новеллу, весьма правдивую и известную мне из первых рук.
Пер. М. А. Гистер
Дон Габриэль Понсе де Леон[107]
(Испанская новелла)[108]
Начало

Добродетель и достоинства их матери снискали ей всеобщее уважение. Вдруг в одном из имений ее застигла болезнь, столь стремительная и жестокая, что насилу достало времени послать за золовкой, чтобы поручить дочерей ее заботам.
— Я доверяю вам самое дорогое на свете, и дороже еще ничего не бывало, — сказала умирающая, — однако, милая сестрица, обещайте мне, что подле вас дочери мои найдут все то, что теряют теперь в моем лице: любите Исидору и Мелани ради любви ко мне и ради них самих; они щедро одарены природой, сумейте же развить эти дары. Я думала не упустить ничего в их воспитании, но, увы, приходится нам разлучиться.
Тут речь ее прервали слезы и рыдания сих милых девиц; обе они, стоя на коленях у постели, держали мать за руки и, исходя слезами, покрывали эти руки поцелуями с такой любовью и почтением, что, казалось, их уже невозможно с нею разлучить.
— Как, милые дети мои! — сказала им мать. — Вы, кажется, хотите меня разжалобить, заставить сожалеть об этой жизни, которую мне, волею Провидения, приходится покинуть? Не надрывайте мне сердце, а лучше приободрите! Сестра моя, — продолжала она, обращаясь к донье Хуане, — умоляю вас, не выводите их в свет слишком рано — ведь он так полон искушений, так опасен, что необходимо много ума и здравого смысла, чтобы, узнав его как следует, оградить себя от его соблазнов.
Донья Хуана была старой девой, суровее всех дуэний[110] Испании вместе взятых; ей отрадно было слышать последнюю волю своей невестки, и потому, оставив без ответа все нежные речи умирающей, она воскликнула:
— Уверяю вас, что ваши дочери и на солнце без разрешения не глянут, я за ними так присмотрю — никто даже не узнает, что они на белом свете живут, и, раз уж вы мне их поручаете, буду с ними в тысячу раз строже, чем вы сами!
Слабость, овладевшая больной, помешала ей ответить и поумерить пыл Хуаны, а ее дочери были слишком подавлены горем, чтобы вникнуть в речи своей тетки: они и сами едва не умерли вместе с матерью.
Отдав покойной последний долг, донья Хуана отвезла девиц в другой сельский дом неподалеку от Компостелы[111], принадлежавший их отцу, который в это время командовал испанским полком во Фландрии. Узнав о кончине жены и о том, как та распорядилась дочерьми, он очень горевал об утрате и, казалось, вовсе не был доволен решением покойной супруги, — ведь, зная характер своей сестры, ее суровый, упрямый и подозрительный нрав, он предвидел, сколь чувствительной для дочерей будет разница между матушкиным обращением и теткиными порядками.
Но, поскольку сам он находился очень далеко, а дочери его были молоды и красивы, он рассудил, что в монастыре им уж совсем не место, и решился оставить их на попечении доньи Хуаны. Брат их находился в Кадисе[112], когда дошла до него весть о смерти матери; он примчался на почтовых, дабы смешать свои слезы со слезами сестер. Я уже говорила, что был он человеком весьма достойным, красивым, статным, и его присутствие несколько скрасило девицам горечь утраты, ведь все они были очень близки и дружны между собой. Едва оставшись с братом наедине, они сразу рассказали ему, что у доньи Хуаны весьма скверный характер, она вечно всем недовольна, никогда нигде не бывает, никого не хочет видеть и постоянно ворчит.
— Конечно, — сказал дон Луис, — донья Хуана обладает многими достоинствами и добродетелями, однако в их число не входят ни общительность, ни приветливый нрав, а поскольку она к тому же не молода, не красива и никому никогда не внушала нежных чувств, то и не может терпеть ни малейшей вольности. Не удивлюсь, если однажды она начнет ревновать к солнечному свету, озаряющему ваши лица, — ибо она уже заявила мне, что лишь изредка будет позволять вам выходить из дому и, если уж без этого никак нельзя обойтись, примет все меры предосторожности, дабы никто не смог вас увидеть.
— Уверяю вас, братец, — сказала Исидора, — тут она может чудить вволю, я нисколько ей не воспротивлюсь; свет, которого она так опасается, ничем не прельщает мое сердце. Лишь бы она обращалась со мною поласковей, вот я и буду довольна.
— Что до меня, — добавила Мелани, — я ей не помеха, я еще ничего не видела в свете такого, что заставило бы меня жалеть, что я в нем вовсе и не бываю.
Дон Луис подбадривал их, как мог, заказал им приятных книг для развлечения и, пробью месяц, наконец оставил их, чтобы вернуться в Кадис, куда призывали его дела и удовольствия.
Там у него было несколько друзей, уже заскучавших по нему и желавших его возвращения, но с особенным нетерпением ожидали его дон Габриэль Понсе де Леон[113] и граф де Агиляр, его кузен. Каждый день они посылали проведать о нем, так что он всего час как приехал, а они уже явились. Первые мгновения их беседы были печальны, ибо дон Луис рассказал о смерти своей матери; затем, заговорив о сестрах, он расписал, в какой суровости держит их донья Хуана, как они скучают и сколь досадно, что тетка так обращается с созданиями столь обворожительными. Искренность человека благородного в его речах звучала сильнее, нежели скромность брата; потому и сделанный им портрет девиц оказался как нельзя более лестным.
Понсе де Леон не пожелал обнаружить перед доном Луисом то внимание, с каким он вслушивался в его речь, и тут же заговорил о другом.
— Меня удивляет, — сказал он, — что вы до сих пор не спросили о прелестной Люсиль.
— Вы, конечно, понимаете, что это не от безразличия, — отвечал дон Луис, — мои чувства к ней слишком живы и постоянны, чтобы вдруг измениться, однако я полагал, что должен сначала рассказать о моей семье, раз вы о ней спрашиваете.
— Люсиль потеряла брата в одном весьма прискорбном происшествии, — промолвил граф Агиляр, — она отправилась в Севилью, чтобы получить наследство, и, полагаю, нескоро вернется в Кадис.
— Раз ее здесь нет, то и я долго не задержусь: завтра мне надо отправляться в путь.
— Вот удивительная спешка! — удивился Понсе де Леон. — Но подумайте же, вы и нам кое-что должны и, хотя долг ваш перед нею намного важнее, все же несправедливо отдавать все одной, ничего не оставляя другим.
— Ваши права занимают весьма важное место в моем сердце, — отвечал дон Луис с улыбкой, — но вы ведь знаете, что чувства к возлюбленной весьма отличаются от тех, какие питают к друзьям, так что одни не могут мешать другим.
— Да, — сказал граф де Агиляр, тоже посмеиваясь, — вот как вы нас любите: завтра же покинете и отправитесь за Люсиль; поистине, наши права в вашем сердце слишком ограниченны, ее же — слишком пространны. Разве нельзя, не обижая эту красавицу, дождаться ее возвращения здесь?
— Нет, сеньор, — отвечал дон Луис, — ибо это ее огорчило бы, а уж если она огорчится, я умру. Но, поскольку дружба рассудительнее любви и подразумевает больше свободы, — стало быть, вас я смогу покинуть, не обидев, и уверен, что по моем возвращении вы не измените ваших чувств ко мне.
— Ах! Как же я счастлив, — воскликнул Понсе де Леон, — что пользуюсь полной свободой и могу держать себя с красавицами так, как мотыльки, порхающие над цветочной клумбой: ведь они подлетают к каждому бутону, но ни на одном не задерживаются.
Дон Луис при этих словах лишь вздохнул, то ли сожалея, что владеет своими чувствами не так хорошо, как друг его, то ли желая уже находиться у ног особы, смутившей его покой.
Они расстались после множества уверений в дружбе: дон Луис, следуя своему решению, отправился в Севилью, а Понсе де Леон остался в Кадисе с графом де Агиляром — они проживали вместе и ничего не скрывали друг от друга. Понсе де Леон сделался задумчив, мало говорил, отвечал невпопад, так что кузен и узнать его не мог. Несколько раз граф порывался расспросить его, но, рассудив, что кузен, быть может, связан каким-то обязательством, которое хочет сохранить в тайне, соблюдал с ним все, что предписывает скромность. Однако ж, не оставляя попыток проведать об истинном положении дел, он приказал тому из своих людей, что был половчей, повсюду следовать за доном Габриэлем де Леоном и, елико возможно, сообщать ему, что тот делает и как живет.
Избрав такой путь, Агиляр был уверен, что узнает все важное о кузене. Он нарочно притворялся занятым и уходил, чтобы предоставить тому полную свободу. Но к вечеру его лакей мог сообщить лишь, что дон Габриэль то прогуливался в весьма уединенном саду, спускавшемся к морю, то сидел весь день запершись в кабинете и, определенно, не говорил ни с кем. Такое поведение удивило графа, и, прождав три недели в надежде, что кузену надоест молчание, он наконец сам его нарушил, сказав, что с некоторых пор не на шутку обеспокоен кое-чем необычным в его манерах, и если меланхолия, повергнувшая друга в такое состояние, не имеет причин, то следует опасаться серьезной болезни и постараться предупредить ее. А коли дело в ухудшении благосостояния, то он рад будет поделиться своим имуществом, которым его друг может располагать как своим собственным; и наконец, в случае иной беды, нет причин ее таить от того, чье сердце открыто для дона Габриэля и в чьей скромности он неоднократно мог убедиться.
Понсе де Леон отвечал на это лишь тяжким вздохом, и граф, глядя на него с беспримерным вниманием, продолжал:
— Что могло бы так тревожить вас? Вы — один из самых совершенных людей на свете, притом рода столь блистательного, что одно ваше имя внушает почтение, ваш отец располагает огромным состоянием и уже одарил вас достаточной частью его. Уж не влюблены ли вы? Быть может, вами пренебрегают?
— Ах, дорогой кузен, — отвечал дон Габриэль, — до чего же вы настойчивы, — разве нельзя просто любить меня, не задавая вопросов? Впрочем, — продолжал он, помолчав немного, — дурно плачу я за вашу доброту, а ведь ничто так не обязывает к откровенности, как только что вами сказанное и живейшим образом меня тронувшее. И, если что и мешало мне поведать вам мой секрет, то лишь стремление сохранить ваше уважение. Увы! Сможете ли вы впредь принимать меня всерьез, расскажи я вам о моих чудачествах? Да, я влюблен, признаюсь, и моя страсть тем опаснее, что я даже не знаю еще, достойна ли особа, возмутившая мой покой, тех страданий, что я ради нее испытываю. Это в Исидору я влюблен, в сестру дона Луиса, которую я еще никогда не видел, а быть может, и не увижу, — столь ревниво ее тетка охраняет ее от самого солнца, держа ее в деревне и не давая никакой воли.
Граф де Агиляр выслушал своего кузена в крайнем удивлении.
— Если бы вы видели Исидору, — сказал он, — о которой говорят столько хорошего, — меня не удивило бы, что вы влюбились; однако чрезвычайно странно, что, прожив так долго в Мадриде, попутешествовав по Италии, Франции и Фландрии, повидав стольких прекрасных девиц и не испытав к ним ни малейшей симпатии, вы вдруг сдались без боя, даже не узнав ничего о красоте, уме и нраве вашей избранницы.
— В этом мой стыд, — отозвался Понсе де Леон, — за это я сам на себя зол и по этой причине не осмеливался поведать вам мою тайну, и, в довершение всех бед, я не знаю иного выхода, как только бороться с моей страстью.
— Ах, дорогой мой родич, стоит ли так поступать, — отвечал граф, — ведь, видно, пробил ваш час. Долго вы бунтовали против любви и считали себя непобедимым, вот Амур и решил вас покарать, внушив нежность к той, кого вы еще не видали.
— Помилосердствуйте, не шутите так, — сказал Понсе де Леон, — мне сейчас, как никогда, не до смеха, и, если вы не хотите воспринимать дело всерьез, я предпочел бы об этом вовсе не говорить.
На это граф де Агиляр сказал ему нечто, немало того порадовавшее: Исидора — не испанская инфанта, не королева, — а потому, если он посватается, ему, судя по всему, не будет отказа.
— Я тоже так думаю, — отвечал дон Габриэль, — однако еще одна фантазия смущает мой разум, и с нею бороться не легче, чем с моей страстью: если мое внимание не будет ей в радость, если она не полюбит меня прежде, чем узнает, то я не буду счастлив и обладая ею, поневоле думая, будто всему причиною ее покорность родным да мои титулы и богатства; нет, я жажду ее нежности — никогда не быть мне счастливым без этого.
— Все, что занимает теперь ваше сердце и ваш разум, — сказал ему Агиляр, — представляется мне весьма странным; мне жаль и вас, и себя, ибо тяжко видеть вашу скорбь и не иметь возможности ее облегчить; и вот единственное, что я могу вам сказать и всегда повторю: я весь к вашим услугам; если вы знаете средство, как достичь желаемого и я могу быть вам в этом полезен, располагайте мною.
Тут дон Габриэль крепко обнял своего кузена и в ответ промолвил:
— Не забудьте же, ведь вы только что дали мне слово; быть может, уже совсем скоро я подвергну вас испытанию.
Час был такой поздний, что они наконец расстались. Понсе де Леон уже не чувствовал себя столь несчастным, ведь он нашел наперсника, а граф был рад наконец узнать, что мучит его кузена, и теперь мог помочь ему достигнуть цели или же противиться страсти, в зависимости от того, как повернется дело. После этого первого признания дон Габриэль больше не стеснялся говорить с графом о своих чувствах, он искал его общества, как ищут лекарства от боли, и радовался, не встречая в друге стремления противоречить, весьма огорчительного для влюбленных — ведь ничто так не разочаровывает, когда сердце пылает живой страстью, как отповедь холодного рассудка.
Понсе де Леон подождал некоторое время, в надежде, что его разум, быть может, возобладает над смятением сердца, но, поняв, что здравый смысл, напротив, ослаб в сражениях, уже выпавших на его долю, и мечты об Исидоре не то что не оставляют его хоть ненадолго в покое, но продолжают истязать несчастного, он решился наконец поехать к возлюбленной и повидать ее. Лишь только рассвело, он вошел в комнату графа де Агиляра и сказал:
— В путь, дорогой кузен, пора нам ехать в Галисию.
— Понимаю вас, — отвечал граф, — дело в Исидоре. Но что же вы придумали, чтобы достичь желаемого?
— Я представляю дело так, — сказал дон Габриэль, — приехав, мы подожжем дом[114] и проникнем в ее комнату, воспользовавшись тем беспорядком, какой обычно сопутствует подобного рода происшествиям. Мы спасем ее: я вынесу ее на руках! Боже мой, — продолжал он, — понимаете ли вы, что за счастье ожидает меня в этот дивный момент! Как вознагражден я буду за все печали, которые владеют мною нынче!
— Поистине, дон Габриэль, — ответил на это граф, — неразумно с вашей стороны начинать с такого предосудительного дела, как пожар в доме лучшего друга! Подумайте же, что, спалив дворец дона Луиса, самый прекрасный во всей провинции, вы сыграете с нашим приятелем самую злую шутку, какую только можно придумать; рассудите, что и сама ваша дорогая Исидора, быть может, задохнется в дыму, прежде чем вы доберетесь до ее комнаты, и может случиться так, что вы оба погибнете; возможен ли исход плачевнее?!
— Я рассчитывал, — промолвил дон Габриэль, — попросить затем эту часть имения в приданое Исидоре и тем самым обойтись без ущерба дону Луису; но вы так горячо противитесь моему плану, что я от него отказываюсь, надеясь, что вы придумаете лучший, только бы нам не пришлось откладывать путешествие!
— Вот что я полагаю, — сказал граф, — мы доберемся на почтовых до окрестностей их усадьбы, одевшись пилигримами, чтобы нас не могли узнать; никто не удивится, если на дороге, ведущей в Компостелу, подобного рода люди остановятся в почтенном доме и даже пробудут там несколько часов.
— Несколько часов! — воскликнул дон Габриэль. — Несколько часов! Как же я сумею вызвать ответную любовь в столь короткий срок?
— Я придумал замечательную вещь, — отвечал граф, смеясь, — надо устроить так, чтобы вас там похоронили; если вас сочтут мертвым, никто не поторопит вас убираться.
Однако Понсе де Леон, казалось, принял шутку без обычного своего легкомыслия.
— Я знаю, — сказал он горько, — вы только и можете что насмехаться; уж я лучше помолчу.
Тут граф почувствовал, хотя и запоздало, что иной раз не нужно поддаваться искушению пошутить, и, поразмыслив о том, что лучше пожертвовать острым словцом ради друга, нежели другом ради острого словца, попросил кузена простить ему эту насмешку.
— Возвращаясь же к предмету, который так занимает вас, — сдается мне, что одному из нас следует притвориться раненым, тогда, быть может, старая тетушка, более милосердная к пилигримам, нежели ко всем прочим, оставит нас при себе.
Дон Габриэль горячо похвалил эту мысль; не мешкая, отдал он необходимые распоряжения касательно платьев пилигримов, и два дня спустя оба отправились в путь. А надо заметить, что граф де Агиляр ни красотой лица, ни благородством осанки не уступал Понсе де Леону, будучи так же высок, статен, хорош собой, и к тому же оба были наделены живым умом и учтивостью, столь присущей испанцам. Дон Габриэль пел так обворожительно, что лучшие певцы умолкали перед ним; граф непревзойденно играл на арфе и на гитаре; скакать верхом и танцевать они оба научились во Франции, знали несколько языков не хуже своего родного, — словом, кавалеров более совершенных было не найти.
И вот, вышеописанными мною, явились они к дому доньи Хуаны: волосы убраны под широкую шляпу, обшитую раковинами, посох, фляга из выдолбленной тыквы, плащ и все остальное, что необходимо для паломничества[115]. Лакея они оставили в ближайшем городе Сьюдад-Родриго[116], а поскольку явиться в именье друзья собирались к вечеру, чтобы их легче приняли на ночлег, то они и углубились в лес, все тропинки в котором выводили к усадьбе. Наперерез дорожкам бежали ручьи; благодаря их свежести трава в этих местах всегда оставалась зеленой, а вековые деревья таили в обширных кронах множество птиц и тенью густых ветвей оберегали путников от палящего солнца.
— Что за обитель! — воскликнул Понсе де Леон, обращаясь к графу. — Что за обитель, дорогой кузен! Как был бы я счастлив, если бы мог, как поется в песне Клелии,
В уединении с Иридой милой жить
И в мире более ничем не дорожить[117].
Однако сия сладостная фантазия может завести меня слишком далеко, если я не вспомню, что покуда моей страсти не на что надеяться, а в дальнейшем все может обернуться еще хуже.
— Не стоит отчаиваться, быть может, фортуна будет к вам благосклонна, — отвечал ему граф, — а кабы не взбрела вам эта блажь — добиться любви, не открывая, кто вы, — одно ваше имя конечно же устранило бы самые большие препятствия, и в скором времени вы достигли бы счастья.
— Как быть? — сказал Понсе де Леон. — Иначе я не могу, эти сомнения мучили бы меня до конца дней; я должен понравиться Исидоре прежде, чем она узнает, кто я.
Графу де Агиляру до смерти хотелось рассмеяться, однако он поостерегся. И так, продолжая прогулку, они дошли до небольшого павильона, который, судя по всему, принадлежал усадьбе: им заканчивался парк со стороны леса. Украшением его был большой позолоченный балкон, который донья Хуана приказала огородить решеткой, поскольку туда часто выходили ее племянницы; притом решеткой с такими частыми прутьями, что сквозь них ничего нельзя было увидеть.
Повсюду уже царила тишина, наши пилигримы приблизились бесшумно, расположились под открытыми окнами и услышали беседу нескольких особ, хотя слов было не различить. Когда окончился разговор, одна из дам громко произнесла:
— Сколько еще приятного можно было бы сказать на эту тему, если б мы не оставили в одиночестве мою тетушку, — а ведь она так любит романсы[118], что негоже лишать ее удовольствия и обсуждать их без нее.
Тут они, не мешкая, поднялись и уже собирались удалиться, когда дон Габриэль шепнул графу:
— Пропою несколько нежных жалоб влюбленного, — быть может, мой голос поможет нам свести знакомство.
— Вы забыли, — отозвался граф, — что один из нас должен изображать раненого, а ваша манера жаловаться и молить о помощи может показаться несколько странной.
— Это так, — сказал дон Габриэль, — и все же красивым напевом мне легче разжечь любопытство, нежели стонами; однако, — продолжал он, — придется следовать нашему первоначальному замыслу, ведь если мы не преуспеем — причиною тому, кажется, буду я.
— Необходимо все предусмотреть, — сказал граф, — раненым прикинусь я, а вы будьте Орфеем[119]; начинайте петь, быть может, наши дела пойдут лучше, чем мы смеем надеяться.
Понсе де Леон выбрал самый трогательный мотив и самые нежные слова из всех, какие только помнил; голос его звучал все громче, и казалось, что даже эхо не решается отозваться, боясь прервать его, — все погрузилось в зачарованную тишину, соловьи заслушались, зефиры затаили дыхание. Сам граф де Агиляр уже едва узнавал голос своего кузена, так прекрасно он звучал.
Пропев этот чудесный мотив, он спел и следующий, на который сочинил такие стихи:
Чтоб сердце полонить,
Любви мгновения хватает,
Но как же всяк из нас страдает,
Когда пытается сей пламень угасить!
— Я понимаю, кому адресована эта песня, — сказал граф, перебивая его, — уверен, что вам пришлось выдержать не один бой со своей страстью, такой неистовой и необычной.
Дон Габриэль отвечал:
— Мой разум, как вам известно, до сих пор был мне не слишком полезен в этом деле.
— Как знать, — прибавил граф, — быть может, увидев ту, кого любите, вы тем легче исцелитесь.
— Ах! Я не льщу себя такой надеждой, — сказал дон Габриэль, — да и увижу ли я ее? Я надеялся, что песни мне помогут, и, однако же, никого не видно, никого не слышно.
— Придется вам начать снова и петь без устали.
— Как! — воскликнул Понсе де Леон. — Вы хотите, чтобы я пел всю ночь?
— Раз вы влюблены как соловей, — отвечал на это граф, — так и пойте столько же, сколько он.
Понсе де Леон тут же спел такой куплет:
Не защищен приют ничей
От всех терзаний, что любовь
нам посылает,
И сердце гордеца сгорает
От жара, что зажег в нем
дивных взор очей.
Исидора, Мелани и бывшая при них благородная девица по имени Роза уже спустились в сад и тихим шагом шли к усадьбе, как вдруг услышали этот голос, показавшийся им таким чудесным, что они тут же со всех ног побежали обратно к павильону, поднялись в комнату и приблизились к окнам с поспешностью, не оставившей Понсе де Леону и графу сомнений, что девицы хотят их послушать.
Легко догадаться, что наш влюбленный ничего не упустил, чтобы очаровать этих дам, но время от времени повторял своему кузену:
— Признаюсь, мне было бы весьма жаль моих стараний, окажись вдруг, что Исидоры здесь нет.
Он говорил шепотом; и каково же было их удивление, когда вдруг наверху начался маленький концерт. Исидора играла на арфе, Мелани на гитаре, а Роза на виоле[120]. В комнате зажгли множество ярких свечей. Дон Габриэль едва не умер от радости, льстя себя надеждой, что вся эта симфония с иллюминацией отчасти затеяна ради него; но слышать ему показалось мало, нужно было непременно найти способ увидеть. Тут сослужила ему службу его легкость: он забрался на дерево и сумел без труда увидеть дам, державших инструменты. Впрочем, он был слишком далеко, а жалюзи слишком густы, чтобы иметь удовольствие различить их черты.
Девицы играли мало: им больше нравилось слушать очаровавший их прекрасный голос, чем собственную игру. Они все еще внимали пению, когда граф де Агиляр принялся громко стонать.
— Как больно, брат мой, — говорил он, — рана моя ноет все сильнее, и, если придется провести здесь ночь, завтра я умру.
— Увы, — отвечал дон Габриэль, — что же нам делать? Придется пойти в этот дворец и попросить помощи.
Они нарочно говорили громко, чтобы их услышали.
— Это, должно быть, странники, — сказала Исидора, — сейчас ополчение направляется в Туй, и на них, наверное, напали какие-нибудь солдаты.
— Ах, сестрица, — воскликнула Мелани, — не следует отказывать в милосердии людям, которых могут убить нынче же ночью под нашим окном; надобно заговорить с ними и объяснить, что им делать.
Тут Исидора громко произнесла:
— Вы должны постараться выбраться из этого леса, здесь вас подстерегает много опасностей.
Понсе де Леон поспешил ответить ей:
— Мы возвращаемся из Сантьяго, сударыня, на нас напали грабители и ранили моего брата мечом в бок. Еще так недавно он мог идти самостоятельно, но вот силы оставили его; я уложил его под этими деревьями и не знаю, что делать такой темной ночью.
— Нам очень жаль вас, — отвечала Исидора, — за нами дело не станет, вас примут здесь и дадут вашему брату время поправиться.
— Да воздастся вам за это на небесах, — отозвался граф, — скажите же, сударыня, к кому нам обратиться?
— Подойдите ко дворцу и спросите капеллана, — объяснила Мелани, — ему приказано давать приют пилигримам, а мы пошлем вам помощь сразу, как сможем; только не рассказывайте никому, что говорили с нами, однако если вы знаете какие-нибудь романсы, не забудьте их: здесь их очень любят.
Закончив разговор, барышни закрыли окна, погасили свечи и побежали в комнату к донье Хуане, чтобы проведать, как пойдут дела у пилигримов. Вскоре явился капеллан и доложил, что двое молодых людей, одного из которых грабители ранили мечом по дороге из Сантьяго, просят приюта; он добавил, что никогда еще не видел таких красавцев и к тому же, судя по внешности, из благородных семей.
— Они испанцы?
— Нет, сударыня, фламандцы.
— Какая удача! — воскликнула она. — Быть может, они встречали там моего брата и расскажут мне что-нибудь о нем — я так за него волнуюсь; а если бы они знали еще и романсы, то я была бы рада им вдвойне.
— Они утверждают, что знают замечательные романсы, — отвечал капеллан.
Она приказала немедленно позвать их.
— Но, сударыня, — сказал привратник, — раненый вряд ли долго продержится, его надо бы уложить в постель.
— Что ж, будем милосердны, — согласилась донья Хуана, — пусть им отведут комнату во дворце, а мы принесем им поесть. — И то сказать, это было одним из излюбленных благодеяний Хуаны.
Капеллан, который уже понял, что пилигримы сумели снискать расположение, пошел за ними и провел их в весьма красивые апартаменты, те самые, которые обычно занимал, приезжая в эти края, дон Луис. Он приказал приготовить им добрый ужин и рассказал, что донья Хуана и ее племянницы прониклись таким состраданием, что сами придут подавать им и прислуживать.
Когда он ушел, граф Агиляр сказал:
— Ну что же, дорогой брат, — ибо так нам придется называть друг друга, — вот мы и в неприступном замке, куда вы уже совсем было отчаялись проникнуть; разве такое счастливое начало не благое предзнаменование для вашего плана?
— Ах, милый граф, — отвечал Понсе де Леон, — я пока не осмеливаюсь делать столь лестные предположения, ибо сам убеждаюсь, что любви не бывает без волнений и подозрений.
— Вы и в веселии сердечном ищете мучений; подумайте только, что может быть лучше тех прелестных созданий, что будут сегодня с нами за ужином; одна будет нарезать, другая наливать. Не кажется ли вам, что мы подобны Амадису[121] или по меньшей мере Дон-Кихоту[122], что мы в заколдованном замке и изгоняем оттуда фей, стерегущих его уже два или три столетия, и принцессы приходят поцеловать нам руку и снять с нас доспехи.
— Вам бы все веселиться, — возразил дон Габриэль, — сразу видно, что вы никого не любите!
— Я люблю вас, — отозвался граф, — достаточно мне и этого. Да, кстати! Я совсем не рад, что назвался раненым; мне придется казаться печальным, а главное, ничего не есть — а ведь я, между прочим, умираю с голода! Не лучше ли было бы сыграть эту роль вам, которому довольно будет одного присутствия Исидоры!
— Будь это возможно, — сказал с улыбкой дон Габриэль, — имей мы способ сказать, что все перепутали, и на самом деле раненый — это я, — я с радостью согласился бы избавить вас от затруднительного положения, в котором вы оказались. Однако сделанного не воротишь, постарайтесь же не испортить дела и предпринимайте все необходимое, чтобы все поверили, будто вы очень плохи.
— Очень плох?! — воскликнул граф. — Ну уж нет, прошу избавить меня от этого, сойдемся на том, что я легко ранен мечом и побуду в постели.
Договорив, он и в самом деле немедленно улегся в постель, которую ему как раз приготовили; тут же послышался шум, и наши путники поняли, что идут дамы. Действительно, вошла донья Хуана с салфеткой, за ней Исидора несла на блюде позолоченную миску с бульоном, а Мелани на другом блюде — два свежих яйца.
— Это для раненого паломника, — сказала Хуана, приблизившись к постели графа, — пусть он выберет: бульон или яйца.
— Сударыня, — отвечал он, — я благодарю вас за милосердие, которое вы оказываете бедному чужеземцу. Я выпил бы, с вашего позволения, бульона и съел бы яйца с хлебом. Я, пожалуй, даже мог бы съесть немного мяса, ведь я потерял много крови и, если не наберусь сил, мне не поправиться.
— Не дай бог, — сказала донья Хуана, — я не позволю несчастному, так тяжело раненному мечом, съесть так много. У вас разыграется жар, и он убьет вас. Проглотите один желток, белок оставьте да выпейте стаканчик отвара из трав.
Услышав такое, граф задрожал с головы до ног, а Понсе де Леон, почтительно отошедший в угол, не смог сдержать смеха и засмеялся украдкой, чтобы его не услышали.
Донью Хуану так поразила красота графа Агиляра и его манера говорить, что она уже и не думала расспрашивать его о своем брате. Ей было приятно ощутить в душе своей порывы нежности[123], которые она приписывала исключительно состраданию к несчастному раненому, оказавшемуся вдали от дома. И вот, вместо того чтобы заглушить в себе эту нарождающуюся нежность, она думала с тайной горделивостью: «До чего же я добра! До чего милосердна! Да кто бы еще совершил столько благодеяний?» Взяв его за руку, она пощупала пульс, принесла свечу, чтобы разглядеть несчастного умирающего, и, увидев в глазах его ослепивший ее пламень, а на щеках — чудный румянец, порешила, что всему виной жуткая лихорадка, и не на шутку забеспокоилась.
— Я в отчаянии, что вы выпили яйцо, — сказала она ему. — Вам бы вовсе ничего есть не следовало. Я буду ухаживать за вами по своей методе, никто на свете не разбирается в этом лучше меня. Послушайте, — обратилась она к своим племянницам и всем присутствующим, — заявляю вам, что тот, кто даст ему поесть без моего соизволения, пожалеет об этом, — раны требуют строжайшей диеты.
— Ах, сударыня, — печально отвечал граф, — я с ума сойду, не привык я к манерам благородных господ, да ведь и характер у них так противоположен моему: от чего они выздоравливают, то меня в могилу сведет.
— Но я хотя бы попробую, — сказала Хуана, — чтобы уж знать на будущее.
После этого разговора она подсела к графу, все еще держа его за руку, чтобы не упустить ни одного из приступов его мнимой лихорадки, и вдруг, обернувшись, заметила ретировавшегося в уголок Понсе де Леона.
— Приблизьтесь же, — промолвила она, — не стоит бояться дам, для которых оказать гостеприимство — самое большое счастие!
Дон Габриэль, приблизившись, поклонился с такими учтивостью и изяществом, что немало удивил и донью Хуану, и ее племянниц.
— Вы братья? — спросила донья Хуана.
— Да, сударыня, — отвечал он, — брата зовут дон Эстеве, а меня дон Габриэль.
— Фламандцы?
— Мы из Брюсселя, — сказал он, — сыновья учителя музыки, сочинителя и рассказчика романсов и песен.
— Романсов! — воскликнула она. — Романсов — то есть сказок?
— Да, сударыня, — отвечал он, — волшебных сказок, старых и новых.
— Ах, — вскричала Хуана, — я сегодня же должна услышать хоть одну, иначе мне не заснуть; но, кстати сказать, не встречали ли вы при правителе Нидерландов дона Феликса Сармьенто?
— Я имел такую честь, сударыня, — отвечал дон Габриэль, — он командовал испанской терцией[124], это человек весьма учтивый, он живет как важный господин. Когда отец решился отпустить нас из дому, дон Феликс просил его послать нас в Андалусию к его сестре и дочерям.
— А зачем? — горячо поинтересовалась донья Хуана.
— Он сказал, сударыня, — продолжал дон Габриэль, — что жена его умерла недавно, а дочери проживают в одном из загородных имений, правда, не знаю, в каком; там нам предстоит обучать их пению, игре на инструментах, танцам.
— Вот уж, право, чудо! — сказала Хуана, взглянув на племянниц. — До чего же мир тесен! Знаете ли вы, что я его сестра, а его дочери пред вами? Вы только ошиблись провинцией: мы ведь в Галисии, а вы говорите, Андалусия.
— Сударыня, — ничуть не смутился дон Габриэль, — ошибки подобного рода простительны иностранцам. Мы очень рады, что оказались в краю, где не все нам чужие.
— Но как же, — спросила она, — попали вы в Сантьяго?
— Нас привела сюда набожность, а заодно и желание попутешествовать задешево.
— И как это ваш отец, не пускавший вас даже к моему брату, решился отправить вас в такую даль?
— Ах, сударыня! — воскликнул дон Габриэль, несколько смешавшись от такого вопроса. — Наш отец — человек достойнейший, он не мог бы воспрепятствовать столь благому делу!
Во время этой беседы граф, которого я иногда буду называть дон Эстеве, не произносил ни слова, так как донья Хуана запретила ему говорить, и всякий раз, стоило ему лишь открыть рот, тотчас прикладывала руку к его губам; подобная манера немало пугала его, и он был в отчаянии, что не предоставил роль больного своему кузену.
Для Понсе де Леона принесли ужин; из почтения он собирался есть в передней, но донья Хуана приказала ему остаться в комнате, а племянницам — подавать ему, сама же продолжала щупать пульс дона Эстеве — он казался ей неровным; впрочем, приди ей в голову проверить пульс у дона Габриэля, она нашла бы его не в лучшем состоянии.
Он уже успел создать себе прелестный образ Исидоры, однако нашел ее настолько же прекраснее, чем свое о ней представление, насколько солнце ярче звезд. Как ни старался он сдерживать себя и не отдаваться в полную меру удовольствию полюбоваться ею, — все же иной раз, не в силах удержаться, подолгу задерживал на ней взор, столь страстный, что донья Хуана, временами поглядывавшая на него, заметила это и сказала:
— Позвольте же узнать, отчего вы так часто смотрите на мою племянницу?
— Сударыня, — отвечал он, не смущаясь, — я немного физиономист, всегда был страстно увлечен астрологией и осмелюсь сказать, что если в чем и преуспел, так это в гороскопах[125].
— Боже мой, — сказала Исидора, — с какой радостью я побеседовала бы с вами — мне всегда хотелось, чтобы кто-нибудь предсказал мне судьбу.
— Ах, сударыня! — воскликнул дон Габриэль, уже едва владевший собою. — Такая особа, как вы, имеет все основания на самые радужные надежды!
— Как, — вскричала донья Хуана, — вы, стало быть, читаете на лице ее какие-то счастливые предзнаменования?
— Я читаю на нем все, что только бывает на свете самого прекрасного! — отвечал он. — Никогда я не видел ничего подобного, я удивлен и потрясен, я, можно сказать, просто в восхищении!
— Вот, в самом деле, наука, в которой нет ни грубости, ни жестокости, — сказала Хуана. — Мне надо будет тоже с вами поговорить, я хочу знать все о моей счастливой судьбе.
Между тем графу сделалось дурно от голода, жары и скуки, ведь старуха не давала ему есть и приказала так укутать его, что он просто задыхался; кроме того, ее столь близкое присутствие доставляло ему крайнее неудовольствие. Чтобы отделаться от нее, он попросил разрешения хоть ненадолго встать.
— Согласна, — сказала она, — но только с условием: пусть ваш брат проследит, чтобы вам не давали ужинать.
Дон Габриэль с радостью согласился — ведь, хотя уход Исидоры опечалил его столь же, сколь графа — уход доньи Мелани, хлопотливая тетушка уже так надоела им обоим, что они сами попросили дам удалиться — разумеется, со всей учтивостью, какую предполагала взятая ими на себя роль пилигримов.
Оставшись наедине с капелланом, они при помощи разумных доводов объяснили ему, что больному необходимо поесть, иначе — смерть; рассудительный капеллан, к тому же сам оставшийся без ужина, подсел к ним третьим. За столом граф вознаградил себя за все, что претерпел в кровати, а дон Габриэль, которому кусок в горло не лез в присутствии Исидоры, с радостью последовал примеру своего кузена, так что все было съедено быстро и до последней крошки.
Когда они остались вдвоем, дон Габриэль спросил графа, видел ли он кого-нибудь, кто мог бы сравниться с Исидорой.
— Она и впрямь чудно хороша, — отвечал граф, — однако Мелани обладает в моих глазах столь неисчерпаемыми сокровищами прелести и очарования, у нее такая стройная талия, столь живой румянец, жемчужные зубки, блестящие черные волосы, такая веселость во всем ее существе, что все это трогает меня не меньше, чем нежная томность Исидоры[126].
— Я рад, — сказал дон Габриэль, — что вы остались равнодушны к ее несравненной красоте.
— Я этого не говорил, — отвечал граф, — напротив, я признаю, что она само совершенство; однако мне приятно, что достоинства ее сестры тронули меня более — ибо не хотите же вы, чтобы я стал вашим соперником?
— Да не допустит Бог! — воскликнул дон Габриэль. — Кажется, я предпочел бы смерть.
— Кстати сказать, — продолжал граф, — вы тут, кажется, сделались большим докой в астрологии, порадейте же за меня перед Мелани.
— Мне порадеть за вас? — засмеялся дон Габриэль. — Вы, стало быть, хотите влюбиться в нее?
— Я не желаю этого, — сказал граф, — и все же, на всякий случай, замолвите за меня словечко.
— Если можете сохранить свободу, храните ее! — посоветовал дон Габриэль.
— Ага! А что еще прикажете мне делать здесь?! — отозвался граф весьма забавным гневным тоном. — Неужели меня не ждет никакой награды за все, что придется претерпеть с доньей Хуаной? А уж будьте уверены, — прибавил он, — что она готовит моему терпению серьезные испытания — чего стоит один только ее интерес к моему здоровью.
Было уже так поздно, что они окончили беседу. Каждому отвели по спальне, которые разделяла лишь одна большая зала. Они спали мало и проснулись на заре, как и полагается начинающим влюбленным.
Исидора и Мелани, проводив тетушку в ее спальню, отправились к себе и улеглись вместе. Они хотели немного поболтать перед сном, однако так и не проронили ни слова, а лишь ворочались с боку на бок, поскольку были скорее взволнованы, чем утомлены.
— Почему вы не спите, милая сестрица? Уж не больны ли вы? — спросила наконец Исидора.
— А вы-то сами? — отвечала Мелани. — Вам что мешает заснуть? — Исидора глубоко вздохнула, лишь кратко ответив: «Не знаю», — и обе снова умолкли.
Однако прошло немного времени, и Мелани услышала, как сестра ее снова вздохнула.
— Ах! Что же это? — сказала она, обнимая ее. — Вы скрываете, отчего грустите — неужели вы мне так мало доверяете?
— Сама не знаю, со мной такое впервые в жизни, — отвечала ей сестра, — но эти слезы по такой недостойной причине, что нельзя проливать их без стыда!
— Вы меня пугаете! — сказала Мелани растроганно. — И хоть я и не понимаю вас, однако уверена, что ваша печаль не может быть без причины. Расскажите же мне все, не оставляя в волнении, в которое уже и так меня повергли.
— Клянусь вам, сестрица, — я вовсе не обманула вас, сказав, что сама не знаю, что со мною. Но, раз уж вы хотите знать все, признаюсь, что, пока я была в комнате у наших гостей-странников, меня так волновал этот раненый, он показался мне таким любезным, невзирая на свое безобразное одеяние, что я, сама того не желая, думала: «Коль скоро он держит себя столь достойно в его незавидном положении, — как же выглядел бы он, если бы оказался человеком благородным и роскошно одетым?» Я все льстила себя надеждой, что он, быть может, высокого рода и вынужден скрывать это, как вдруг, на мою беду, брат его рассказал тетушке о них обоих: они музыканты, милая моя Мелани! Нож в сердце был бы лучше этакого известия! Но я-то, я ведь питаю склонность к человеку низкого происхождения — я, которая раньше ни к кому не испытывала ни малейшей слабости!
— Ах, сестрица! — воскликнула Мелани. — Минута, о которой вы рассказываете, и для меня оказалась столь же роковой. Дон Габриэль уже успел очаровать меня красотой своего голоса — что же сталось со мною, когда за этой смехотворной одеждой пилигрима я заметила благородную осанку, правильные черты и столь приятный нрав, какой и у людей самого высокого происхождения редко встретить!
— Как бы они ни были милы, — произнесла Исидора, — да не допустят небеса, чтобы мы смотрели на них иначе, чем на музыкантов; думаю, нам следует поторопить их отъезд.
— Неужто вы хотите, чтобы этот несчастный раненый умер? — сказала Мелани.
— Нет, — отвечала та, — я хочу, чтобы он поскорее выздоровел и ушел отсюда. Я нахожу, что лучше всего держаться подальше от тех, кто может навлечь на нас беду.
— Увы, я согласна, — отозвалась Мелани, — и последую за вами в этом намерении.
Так они беседовали, пока наконец не заметили, что светает, и тогда постарались поспать хоть немного.
Донья Хуана провела несколько злых часов, ее мучил страх, как бы пилигриму не стало еще хуже, чем было, когда она его оставила; он явился слишком поздно, чтобы можно было сразу же послать за хирургом, сделавшим бы ему перевязку, но теперь она отправила нарочного в Сьюдад-Реаль[127] за двумя самыми умелыми и, как только те явились, повела их к графу.
Граф оставался в постели и очень досадовал на это принуждение; при нем был Понсе де Леон, когда вошла донья Хуана, а за ней еще двое мужчин. Наши странники сначала подумали, что это слуги, но тут тетушка сказала графу, что надлежит быть готовым ко всему, — быть может, придется сделать надрезы, — но ему нечего опасаться, ибо она предоставляет его заботам лучших мастеров в Европе.
Пока она говорила, один хирург торопливо щипал корпию, а другой раскладывал на столе ланцеты, бритвы, ножницы, бистури и пять или шесть скляночек с мазями. Невозможно без смеха вообразить, в каком замешательстве оказался граф и какая злость его охватила; он делал дону Габриэлю страшные глаза, давая понять, что все вот-вот будет раскрыто. Дон Габриэль, и сам испытывавший не меньшую растерянность, все-таки отважился сказать донье Хуане:
— Сударыня, мы никогда не отправляемся странствовать без небольшого запаса симпатического пороха[128], который обладает чудесными целительными свойствами. Вчера я посыпал им рану моего брата, и у меня есть основания полагать, что скоро он будет совсем здоров.
Хирурги, услышав это и почуяв, что придется им остаться ни с чем, ополчились против столь гибельного средства; они говорили даже, что тут не обошлось без колдовства, и святая Инквизиция[129] не потерпит, чтобы от этого выздоравливали. Услышав страшное слово «инквизиция», донья Хуана едва не пустилась наутек, но граф успокоил ее, сказав, что порох составлен из обычных лекарственных трав, и, стоит ей только пожелать, он раскроет секрет снадобья.
— По меньшей мере, — отвечала она, — позвольте хирургам осмотреть вашу рану: они не причинят вам вреда.
— В этом я не уверен, — сказал ей граф шепотом и так доверительно, что она зарделась от радости. — Вы же видите, сударыня, что это за люди.
Она сдалась и так щедро заплатила лекарям, что те удалились весьма довольные.
Поскольку ей не хотелось слишком скоро расставаться с графом де Агиляром, она искала предлога, чтобы задержаться подле него, и обратилась к Понсе де Леону:
— Вы говорили, что знаете романсы, — доставьте же мне несказанное удовольствие, рассказав какой-нибудь, ведь я так их люблю!
— Повинуюсь вам, — отвечал он почтительно. И начал:
Пер. М. А. Гистер
Барашек[130]

А короля донимали зловредные соседи, которым надоело жить с ним в мире, и начали они с ним войну, да такую жестокую, что быть бы ему побитым, если бы не умел он защищаться. Собрал он огромную рать и отправился воевать. Три принцессы с гувернером остались во дворце, где каждый день получали от короля добрые вести: то он город возьмет, то битву выиграет. И вот разбил он врагов, выгнал их из своего королевства и наконец воротился во дворец, к своей малютке Чудо-Грёзе, которую так любил. Три принцессы заказали, каждая, по парчовому платью: одна — зеленое, другая — голубое, а третья — белое. Каменья были платьям под стать: к зеленому — изумруды, к голубому — бирюза, а к белому — алмазы. Представ пред королем в таких уборах, они пропели ему стихи о его ратных подвигах, которые только что сочинили:
В венце блистательных побед
Мы рады лицезреть вас, государь-родитель!
Устроим празднества, каких не видел свет,
Чтоб вам пришлись они по вкусу, повелитель.
Потешим, в знак любви дочерней непритворной,
Мы вас заботами и песнею задорной.
Увидев, как они красивы и веселы, король их нежно расцеловал, а пуще всех обласкал Чудо-Грёзу.
Накрыли роскошный стол, и он с тремя дочерьми сел пировать; но, имея обыкновение во всем видеть тайный смысл, спрашивает старшую:
— А скажите-ка мне, почему на вас зеленое платье?
— Государь, — отвечала она, — услышав о ваших подвигах, я решила, что зеленый цвет будет обозначать мою радость и надежду на ваше возвращение.
— Превосходно! — воскликнул король. — А вы, доченька, почему надели голубое?
— Государь, — отвечала принцесса, — это чтобы показать, что за вас ежедневно возносились молитвы богам и что видеть вас для меня все равно что лицезреть разверстые небеса и прекраснейшие светила.
— Надо же, — произнес король, — вы говорите как настоящий оракул. А вы, Чудо-Грёза, почему в белом?
— Государь, — отвечала она, — потому, что этот цвет подходит мне больше других.
— Как, — сказал король, изрядно раздосадованный, — и только-то всего?
— Я просто стремилась вам понравиться, — отвечала принцесса, — чего иного могла я желать?
Любивший ее король нашел, что она достойно выпуталась, и заявил, что ее милая выходка ему понравилась, а ее речь даже не лишена искусства излагать мысль не вдруг, а с расстановкою.
— Ну вот, — сказал он, — я недурно поужинал и не хочу ложиться так рано; расскажите же мне, что вам снилось накануне моего возвращения.
Старшей снилось, что он привез ей платье, на котором золото и каменья сияли краше солнца. Второй — будто он привез ей вместе с платьем еще и золотую пряжу, чтобы напрясть ему на рубашки. Младшая же сказала, что ей приснился день свадьбы средней сестры, и король, держа в руках золотой кувшин, вдруг промолвил: «Подойдите, Чудо-Грёза, я полью вам на руки».
Разгневанный ее словами, король нахмурил брови и скорчил страшнейшую гримасу, так что все поняли, как он зол; потом, не говоря ни слова, удалился в свои покои и лег спать. Но сон дочери не шел у него из головы. «Эта маленькая негодница, — говорил он себе, — хочет меня унизить, — за слугу, что ли, своего меня держит! Не удивляюсь я теперь, что она надела платье из белой парчи; нет, вовсе она не думала мне в нем понравиться; послушать ее, так я недостоин, чтобы она обо мне беспокоилась. Ну нет, не бывать этому — я ее коварным замыслам свершиться не дам!»
Он встал в страшном гневе и, хоть еще и не рассвело, послал за гвардейским капитаном.
— Вы слышали, — сказал он ему, — какой сон приснился Чудо-Грёзе; ясно как день, что она злоумышляет против меня. Приказываю вам немедля отвести ее в лес и зарубить. Если обманете — сами умрете страшной смертью. А в доказательство принесите мне ее сердце и язык.
Гвардейский капитан очень удивился, услышав столь бесчеловечный приказ. Ни словом не переча и боясь, как бы король не разозлился еще пуще и не поручил такого дела кому-нибудь другому, он ответил ему, что зарубит принцессу и принесет королю ее сердце и язык, и тотчас отправился в ее опочивальню. Ему не сразу решились открыть, ведь было еще очень рано; однако он сказал Чудо-Грёзе, что ее требует король. Та проворно встала и оделась. Карлица-мавританка по имени Патипата несла шлейф ее платья, а следом скакали неразлучные с нею обезьянка Скребушон и пудель Тантен. Гвардейский капитан велел Чудо-Грёзе спуститься, сказав, что король вышел в сад подышать прохладой; сам же притворился, что ищет его, но нигде не может найти.
— Несомненно, — сказал он, — король решил погулять в лесу.
Он отворил калитку и повел ее в чащу. Уже начинало светать. Принцесса взглянула на провожатого — тот был в слезах и от печали не мог слова вымолвить.
— Что с вами? — спросила она. — Сдается мне, вы чем-то сильно расстроены.
— Ох, сударыня! — воскликнул он. — Да как же мне не грустить-то, ведь ужаснее приказа сроду и не бывало! Король велел мне зарубить вас на этом самом месте и принести ему ваше сердце и язык. Если я не сделаю этого, он меня казнит.
Бедная принцесса испугалась, побледнела и тихо заплакала: казалось, агнца привели на заклание. Но ее прекрасные глаза разглядывали капитана без злости.
— Решитесь ли вы убить меня, — сказала она ему, — меня, никогда не делавшую вам зла и говорившую о вас королю лишь хорошее? Добро бы я заслуживала этого от моего отца — тогда я безропотно снесла бы столь суровую кару. Но увы! Я всегда так почитала и любила его, что сей гнев не может быть справедлив.
— Прекрасная принцесса, — отвечал ей гвардейский капитан, — вам нет нужды опасаться, что я сотворю такое варварское дело; но пусть даже и приму я смерть, коей угрожал мне король, это вас не спасет. Надобно придумать что-нибудь, дабы я мог явиться к нему с уверениями, что вы мертвы.
— Какое же нам найти средство, — сказала Чудо-Грёза, — ведь, не принеси вы ему моих языка и сердца, он вам не поверит?
Тут Патипата (которая все слышала, а про нее-то глубоко опечаленные принцесса с капитаном и вовсе позабыли) смело приблизилась и бросилась в ноги Чудо-Грёзе.
— Сударыня, — вскричала она, — вот моя жизнь, возьмите ее — я же буду счастлива умереть за такую прекрасную госпожу.
— Ах, вот уж ни за что, милая моя Патипата, — ответила принцесса, целуя ее, — и столь трогательное свидетельство дружбы делает твою жизнь для меня столь же дорогой, как и моя собственная.
Тут приблизилась и Скребушон.
— Как мудро вы поступаете, — заговорила она, — любя столь верную рабыню, какова Патипата. Она может оказаться вам полезнее, чем я. Зато я с радостью отдам вам свой язык вместе с сердцем и буду счастлива увековечить мое имя в империи мартышек.
— Ах, моя миленькая Скребушон, — ответила Чудо-Грёза, — что такое говоришь ты: отнять у тебя жизнь — да об этом страшно подумать.
— Не будь я добрый песик, — не выдержал тут и Тантен, — если допущу, чтобы кто-то другой отдал жизнь за мою хозяйку. Это я должен умереть, или пусть не умрет никто.
Тут между Патипатой, Скребушон и Тантеном разгорелся ожесточенный спор, даже и до брани дошло. Наконец Скребушон, которая была попроворнее других, вскарабкалась на верхушку дерева, бросилась вниз и насмерть убилась. Жаль было принцессе свою верную обезьянку, — но, раз уж она все равно умерла, согласилась Чудо-Грёза, чтобы гвардейский капитан вырезал у нее язык; однако язычок был так мал, не больше кулачка, что они с великим прискорбием поняли: этим короля не обмануть.
— Увы! Милая моя обезьянка! Напрасно ты погибла, — сказала принцесса, — не сохранить мою жизнь ценой твоей смерти.
— Зато мне достанется эта честь! — перебила тут мавританка; тотчас она схватила нож, которым вырезали язык Скребушон, и вонзила его себе в грудь. Гвардейский капитан хотел было взять ее язык, но он был такой черный, что король сразу догадался бы обо всем.
— Ну разве же я не бездольна? — сказала принцесса, плача. — Теряю все, что люблю, а от горькой судьбы спасения все нет.
— Ах, не сделали вы по-моему, — промолвил тут Тантен, — а ведь тогда вам пришлось бы сожалеть только обо мне, а мне выпала бы честь быть единственным предметом сожаления.
Чудо-Грёза, рыдая, поцеловала песика. С горькими слезами убежала она в густую чащу, а когда вернулась, ее провожатого там не было — вокруг лежали только трупы мавританки, обезьянки и собачки. Прежде чем уйти, она схоронила их в яме, которую случайно нашла под деревом, а на коре написала такие слова:
Здесь смертный погребен, и не один, а трое.
На этом месте все почили, как герои.
Они, не трепеща, чтоб жизнь спасти мою,
Решились, как один, враз погубить свою.
Пора было наконец подумать и о том, как спастись самой. Находиться в этом лесу, так близко к замку ее отца, где первый встречный мог заметить и узнать ее, а львы или волки — запросто съесть как цыпленка, было совсем небезопасно, и она пустилась в путь куда глаза глядят. Лес был такой огромный, а солнце так пекло, что она умирала от жары, страха и усталости и непрестанно озиралась по сторонам, но чаще не было конца. Она то и дело вздрагивала, ибо ей казалось, что за нею гонится король, чтобы убить ее. Так она горевала и сетовала, что и рассказать нельзя.
Брела она и брела, сама не зная куда, а колючки рвали ее красивое платье и царапали белую кожу. Наконец она услышала, как блеет барашек.
— Здесь конечно же ходят пастухи со своими стадами. Они могут отвести меня в какую-нибудь хижину, где я смогу скрыться, одевшись крестьянкой. Увы, — продолжала она, — отнюдь не всегда счастливы властители и принцы. Кто бы во всем королевстве поверил, что я беглянка и мой родной отец, без всякой причины, желает моей смерти, а мне приходится переодеваться, чтобы ее избежать?!
Пока она так размышляла, блеяние слышалось все ближе, но с каким же удивлением увидела она вдруг на просторной поляне, окруженной рощами, огромного белоснежного барана с позолоченными рогами, с цветочной гирляндой на шее и нитями из небывало крупных жемчужин на копытах. На груди у него висело несколько алмазных ожерелий, а лежал он на померанцевых цветах. Над ним был натянут шатер из золотой парчи, защищавший от докучных солнечных лучей. Вокруг расселись около сотни нарядных барашков, и никто из них даже и не думал щипать травку: один угощался кофе, шербетом, мороженым и лимонадом, а другой — клубникой, сливками и вареньями; иные играли в бассет, иные в ланскенет[131]; на некоторых были золотые ожерелья, украшенные галантными вензелями, в ушах — серьги, и все были увиты цветами и лентами. Чудо-Грёза так дивилась, что и шелохнуться не могла. Она искала глазами пастуха столь необычайного стада, как вдруг самый красивый баран подошел к ней, приплясывая да припрыгивая.
— Сюда, божественная принцесса, — молвил он, — не стоит бояться столь нежных и мирных животных, каковы мы.
— Вот чудо! — воскликнула она и попятилась. — Говорящие бараны!
— Ах, сударыня, — возразил он, — ваша обезьянка и собачка говорили так чудесно, однако ж это вас не удивляло?
— Их наделила даром речи одна фея, — ответила Чудо-Грёза, — потому это и не казалось столь уж необычным.
— Кто знает — может, и с нами случилось нечто в этом роде. — Тут баран улыбнулся на свой бараний манер. — Но что же, милая принцесса, привело сюда вас?
— Тысяча бедствий, господин Баран, — молвила она, — я, несчастнейшее создание на свете, ищу убежища от гнева собственного отца.
— Что ж, сударыня, — произнес баран, — идемте со мной — я предоставлю вам убежище, о котором будете знать только вы одна и где вы будете совершенной хозяйкою.
— Я не смогу следовать за вами, — вздохнула Чудо-Грёза, — я умираю от усталости.
Златорогий Баран приказал подать его карету. В мгновение ока прискакали шесть коз, запряженных в такую громадную тыкву, что в ней вполне удобно было бы усесться вдвоем, притом высушенную и внутри обтянутую кожей и бархатом. Принцесса вошла в столь необычный экипаж, не переставая удивляться; господин Баран последовал за нею туда же, и козы что есть духу помчались к пещере, вход в которую был завален огромным камнем. Златорогий баран коснулся его копытом, и камень тотчас же упал; тогда барашек сказал принцессе, чтоб входила без опаски. Ей же эта пещера внушала настоящий ужас и, не окажись она в столь плачевном положении, ни за что бы туда не спустилась; но в такой крайности, как теперь, впору было, пожалуй, броситься и в колодец.
И вот она бестрепетно пошла вслед за бараном, спускаясь за ним так глубоко, так глубоко, что, казалось ей, они дошли до самой земли антиподов[132]. А еще боялась принцесса, не ведет ли он ее в царство мертвых. Наконец они оказались в просторной долине, покрытой множеством всевозможных цветов; их аромат превосходил все благовонья, какие ей до тех пор случалось обонять; полноводная река померанцевой воды омывала ту долину; источники испанского вина, розалиды, гипократова глинтвейна[133] и тысячи других напитков струились то водопадами, то очаровательными журчащими ручейками. Кругом тут росли необычайные деревья, образовывавшие целые аллеи; с ветвей их свешивались куропатки, нашпигованные и прожаренные лучше, чем у Гербуа[134]. Были и настоящие улицы, с висевшими на деревьях жареными дроздами и рябчиками, индейками, курами, фазанами и овсянками, а в укромных закоулках дождем сыпались с неба раковые шейки, наваристые бульоны, гусиная печенка, телячье рагу, белые кровяные колбаски, пироги, паштеты, фруктовые мармелады и разные варенья, а также луидоры, экю, жемчуга и алмазы. Этот редкостный, да к тому же весьма полезный дождь привлек бы нашу честную компанию, будь огромный баран более расположен к непринужденному общению, однако все хроники, в которых о сем говорится, уверяют, что держался он сурово как римский сенатор.
Когда Чудо-Грёза явилась в сих дивных краях, стояло прекраснейшее из времен года, и потому перед ней не открылось иного дворца, кроме длинной череды апельсиновых деревьев, жасминов, жимолости да маленьких мускатных роз, чьи ветви сплетались, образуя кабинеты, залы и спальни с мебелью из золотой и серебряной сетки, огромными зеркалами[135], люстрами и восхитительными картинами.
Господин Баран сказал принцессе, что она госпожа этих мест. Вот уже несколько лет приходится ему оплакивать свою участь, но теперь лишь в ее власти помочь ему забыть все беды.
— Вы так щедры, очаровательный барашек, — отвечала ему принцесса, — и все здесь кажется мне столь необыкновенным, что я не знаю, что и думать об этом.
Не успела она произнести эти слова, как перед ней явился сонм прелестнейших нимф. Они принесли ей фрукты в янтарных корзинках, но стоило ей лишь попытаться приблизиться к ним, как те мгновенно отдалялись; она протянула руку, чтобы коснуться их, и, ничего не ощутив, догадалась, что это были призраки.
— Ах! — воскликнула она. — Но кто же это?
Она расплакалась, и король Баран (ибо так звали его), на мгновение покинувший было ее, тут же вернулся и, видя ее в слезах, едва не умер от огорчения у ее ног.
— Что с вами, прекрасная принцесса, — спросил он, — разве вас не привечают здесь с подобающим вам почтением?
— О да, — отвечала она, — я вовсе не жалуюсь, однако должна сознаться, что не привыкла жить среди призрачных теней и говорящих баранов. Все здесь меня пугает, и, хоть я и признательна, что вы привели меня сюда, но буду еще благодарнее вам, если вы отведете меня обратно на свет божий.
— Ничего не бойтесь, — промолвил Баран, — но соблаговолите наконец спокойно выслушать повесть о моих злоключениях.
Я был рожден для престола. От длинной череды королей, моих предков, мне досталось прекраснейшее королевство в мире. Подданные меня любили, для соседей я был предметом зависти и страха, и относились ко мне со справедливым почтением. Обо мне говорили, что еще ни один король не бывал столь достоин этого звания, и никто из видевших меня не оставался ко мне равнодушным. Я страстно любил охоту. Отдавшись охотничьему азарту, гнал я однажды оленя и отбился от свиты. Вдруг я увидел, как олень кидается в озеро. Я пришпорил коня, столь же храбро, сколь и неосторожно, но вдруг, вопреки ожиданиям, почувствовал не холод воды, а необыкновенный жар. Озеро разверзлось, и через дыру, из которой рвались жуткие всполохи, я провалился на самое дно бездны, где извивались ужасные языки пламени.
Я решил, что погиб, как вдруг услышал голос, сказавший: «Не меньше огня надобно, чтобы разжечь твое сердце, о неблагодарный!» — «Эй, кто тут жалуется на мою холодность?» — «Несчастное существо, — отвечал голос, — которое безнадежно обожает тебя». Тут же огонь погас, и я увидел фею, знакомую мне с младых ногтей, столь старую и безобразную, что я всегда боялся ее. Она шла, опираясь на юную рабыню непревзойденной красоты, всю в золотых цепях, что говорило о ее высоком происхождении. «Что за чудеса тут происходят, Чурбанна (так звали эту фею)? — спросил я. — Все это по вашему приказу?» — «Ну а по чьему же еще? — отвечала она. — Разве до сих пор ты не знал о моих чувствах? Да мне ли, о стыд, объясняться с тобою, будто утратил все могущество неотразимый огнь глаз моих? Подумай, как унижаюсь я, признаваясь тебе в моей слабости, — ведь хоть ты и великий король, а все ж меньше муравья перед такой феей, как я!»
«Что ж, постараюсь вам угодить, — сказал я нетерпеливо, — но чего вы, в конце концов, от меня хотите? Мою корону, мои города, мои сокровища?» — «Ха-ха, несчастный, — с презрением отвечала она, — да стоит мне пожелать, и мои поварята станут могущественнее тебя. Нет, я прошу только твоей любви; мои взоры тысячу раз молили тебя о ней, но ты не понимал — а вернее, не хотел понимать. Будь ты помолвлен, — продолжала она, — я спокойно примирилась бы с твоей любовью к другой. Но я слишком к тебе привязана, чтобы не заметить, сколь равнодушно твое сердце. Так что ж, тогда люби меня, — промолвила она, поджимая губки, чтобы они были покрасивее, и закатывая глаза, — мне так хочется быть твоей милой Чурбанной — и я прибавлю еще двадцать королевств к тому, которым ты владеешь, и еще сто башен, набитых золотом, и пятьсот — серебром; словом, все, чего ни пожелаешь, будет твоим».
«Госпожа Чурбанна, — сказал я ей, — не в этой же дыре, где я, того и гляди, поджарюсь, объясняться в любви к предмету столь достойному, как вы! Заклинаю вас всеми прелестями, придающими вам такую миловидность, отпустите меня на волю, а там уж мы вместе рассудим, чем могу я вас порадовать». «Ах ты, обманщик! — воскликнула она, — кабы ты любил меня, так не искал бы пути в свое королевство: в пещере, в лисьей норе, в лесу, в пустыне — всюду ты был бы счастлив. Не думай, что на простушку напал, и не надейся вернуться — ты останешься здесь и перво-наперво будешь пасти моих баранов — они умны и умеют вести беседу уж не хуже твоего».
Тут же, приблизившись к лужайке, на которой мы теперь находимся, она показала мне свое стадо. Но я даже не взглянул на него. Чудом из чудес показалась мне сопровождавшая ее прекрасная рабыня; мой взгляд меня выдал. Заметив это, жестокая Чурбанна бросилась на девицу и изо всей силы воткнула шило ей в глаз, так что прелестница тут же рассталась с жизнью. При столь гнусной сцене я бросился на Чурбанну и, обнажив меч, мигом принес бы ее в жертву столь драгоценной тени, если бы чары ее вдруг не сковали моих движений. Все мои усилия были тщетны, я упал наземь, я пытался убить себя, чтобы только не оставаться в том положении, в каком оказался, но тут Чурбанна сказала мне с насмешливой улыбкой:
«Узнай же, каково мое могущество: ты, кто был львом, теперь станешь бараном».
В тот же миг она коснулась меня волшебной палочкой, и я превратился в того, кто сейчас пред вами. Я не утратил ни дара речи, ни понимания всей плачевности моего нового состояния.
«Пять лет быть тебе бараном и полновластным хозяином сих прекрасных мест, — сказала она, — я же буду далеко и, не видя больше твоего прекрасного лица, стану вспоминать лишь о ненависти, которую ты от меня заслужил».
Она исчезла. Если что и могло смягчить мое несчастье, то как раз ее отсутствие. Говорящие бараны, жившие здесь, признали меня за своего короля; они рассказали мне, что из них, столь же несчастных, как я, когда-то не угодивших мстительной фее, она и составила свое стадо. Наказание это не для всех было одинаково долгим. Иным случалось обрести прежний облик и покинуть отару. Других же, настоящих соперников или врагов Чурбанны, она убивала — на сто лет или чуть меньше, — и затем они снова возвращались на белый свет. Юная рабыня, о которой я вам рассказывал, была как раз из таких. С тех пор я с удовольствием иногда встречал ее, совсем безмолвную; и как же больно мне было узнать, что она всего лишь тень. Но, увидев, что один из моих баранов тенью ходит за этим милым призраком, я понял, что это ее возлюбленный, а Чурбанна, не терпевшая нежностей, стремилась разлучить их.
Эта мысль заставила меня отдалиться от тени рабыни, и три года я ни к чему не испытывал влечения, кроме моей свободы.
Поэтому-то, кстати, я иной раз и углублялся в лес. Там я видел вас, прекрасная принцесса, — продолжал он, — то в тележке, которой вы сами правили ловчее, чем Солнце своей колесницей[136], то на охоте, верхом на коне, неукротимом для любого всадника, кроме вас, или бегавшей по поляне взапуски с другими принцессами и выигрывавшей приз, подобно новой Аталанте[137]. Ах, принцесса! Если бы в те времена, когда мое сердце втайне мечтало о вас, я осмелился заговорить с вами, — сколько всего я мог бы сказать! Но что для вас теперь признание несчастного барана?
Услышанное так взволновало Чудо-Грёзу, что она не нашла ответа, и все-таки была с ним столь учтива, что внушила ему некоторую надежду, сказав также, что меньше боится теней теперь, зная, что однажды они оживут.
— Увы, — прибавила принцесса, — если бы мою бедную Патипату, милую Скребушон и прелестного Тантена, пожертвовавших ради меня своей жизнью, постигла та же участь, мне бы не было здесь так грустно.
При всей плачевности своего положения, король Баран был в то же время наделен удивительным могуществом. Он призвал своего шталмейстера (то был баран весьма осанистый) и сказал ему:
— Найдите нам мавританку, обезьянку и пуделя, дабы их тени развеселили нашу принцессу.
И мига не прошло, как они явились пред нею, и, хотя и не могли приближаться так, чтобы дать до себя дотронуться, одно их присутствие уже было для принцессы несказанным утешением.
Королю Барану было не занимать и ума, и утонченности, и искусства приятной беседы, он так пылко любил Чудо-Грёзу, что и она прониклась к нему симпатией, а затем и полюбила его. Да может ли не понравиться прелестный барашек, столь нежный да ласковый, тем более если знать, что это король и что тяготеющие над ним чары когда-нибудь да рассеются. Итак, принцесса весело проводила время, дожидаясь счастливейшей развязки. Галантный баран был занят лишь ею: устраивал то празднества, то концерты, то охоту. Помогало ему в этом все его стадо, нашлось дело даже теням.
Однажды вечером, когда возвратились гонцы — а надо сказать, что король Баран аккуратно посылал их за самыми свежими новостями, — ему донесли, что старшая сестра Чудо-Грёзы собирается замуж за великого принца и великолепию предстоящей свадьбы не будет равных.
— Ах, — воскликнула принцесса, — как же я несчастна, что не увижу всей этой роскоши, а останусь тут под землей с тенями да баранами, когда моей сестре, нарядной как королева, все будут почести воздавать!
— На что вы жалуетесь, сударыня? — ответил ей король баранов. — Разве же я вам запрещал поехать на свадьбу? Отправляйтесь когда вам вздумается, только обещайте мне вернуться. Если вы не согласитесь, право, я умру у ваших ног, ибо моя страсть столь велика, что, если я вас потеряю, мне не жить.
Растроганная Чудо-Грёза пообещала барану, что ничто на свете не помешает ее возвращению. Он дал ей экипаж, подобающий особе столь благородной; принцесса оделась со всем возможным великолепием, не забыв ничего, что приумножило бы ее красоту, а затем уселась в перламутровую карету, запряженную гиппогрифами[138] буланой масти[139], недавно доставленными из Страны антиподов. Король Баран отправил с нею свиту из богато одетых и великолепно сложенных офицеров, которых собрали издалека, чтобы они охраняли принцессу.
Она явилась во дворец короля-отца как раз к началу свадебного пира. Стоило ей войти, как все были поражены блеском ее красоты и драгоценностей. Одни лишь похвалы и славословия раздавались вокруг, а король глядел на нее так внимательно и радостно, что она боялась, как бы он ее не узнал. Но ему, уверенному, что его дочь умерла, такое даже и в голову не пришло.
Однако она все же боялась, что ее схватят, и не осталась до конца церемонии. Принцесса ускользнула незаметно, оставив коралловый ларчик, украшенный изумрудами, надписанный алмазной вязью: «Драгоценности для новобрачной». Ларчик тут же открыли — чего там только не было! Король, сгоравший от нетерпения познакомиться с прекрасной гостьей, был в отчаянии, что больше ее не увидит. Он строго-настрого наказал: если вдруг она снова появится — закрыть за ней все двери и во что бы то ни стало задержать.
Как ни скоро вернулась принцесса, а показалось барану, что не было ее лет сто. Он ждал ее у ручья в самой гуще леса с богатейшими подарками, чтобы так отблагодарить за возвращение; принялся ласкать ее, потом улегся у ее ног, целуя ей руки и рассказывая, как волновался и тосковал. Страсть сделала его столь красноречивым, что принцесса была очарована.
Через некоторое время король выдавал замуж вторую дочь. Узнав об этом, Чудо-Грёза стала упрашивать барана отпустить ее и на этот праздник — ведь он был так важен для нее. Баран не мог скрыть своей скорби: он предчувствовал несчастье. Но не всегда в наших силах избежать беды, а поскольку просьба принцессы была превыше всего, не смог он ей отказать.
— Вы оставляете меня, сударыня, — сказал он ей, — в моей печали больше виновна моя злая судьбина, нежели вы. Я даю согласие, раз вам того хочется, но знайте: большей жертвы я не мог бы вам принести.
Она уверяла его, что не задержится дольше, чем в прошлый раз, и что разлука и для нее столь же чувствительна, и умоляла его не беспокоиться. Принцесса отправилась на свадьбу с той же свитой и так же явилась к началу церемонии. Ее встретили невольным возгласом восхищения. От нее и вправду глаз было не оторвать, все с трудом верили, что такой необыкновенной красотою наделена простая смертная.
Король пришел в восторг: он глаз от нее не мог отвести и приказал закрыть все двери, чтобы задержать ее. Церемония уже подходила к концу, и принцесса проворно поднялась, стараясь скрыться в толпе, но каково же было ее удивление и огорчение, когда все двери оказались заперты!
Однако король был с ней столь почтителен и ласков, что страхи ее рассеялись. Он умолял ее не лишать их так скоро удовольствия видеть ее, и пригласил разделить празднество со всеми приглашенными принцами и принцессами. Потом сам ввел принцессу в роскошную залу, где собрался весь двор, сам взял золотой тазик и кувшин с водой, чтобы полить на ее прекрасные руки. И тут уж Чудо-Грёза не совладала с собою.
Она бросилась ему в ноги и произнесла, обнимая его колени:
— Вот и сбылся мой сон, батюшка: вы поливаете мне на руки на свадьбе сестрицы — и, однако ж, ничего страшного с вами не случилось!
Королю тем легче было узнать ее, что уже не раз замечал он в ней необыкновенное сходство с Чудо-Грёзой.
— Ах, милая дочь! — воскликнул он в слезах, обнимая ее. — Сможете ли вы забыть о моей жестокости? А ведь я и вправду думал, что ваш сон предвещает мне утрату короны, и потому желал вашей смерти. Да ведь так оно теперь-то и вышло, — добавил он потом, — ибо корону свою я передаю вам. — С этими словами король снял с себя корону и надел ее ей на голову, воскликнув:
— Да здравствует Ее Величество Чудо-Грёза!
И все подхватили его возглас, а обе сестры молодой королевы бросились ей на шею, обнимая ее и целуя. Чудо-Грёза не помнила себя от радости, она и плакала и смеялась, обнимала одну сестру, говоря с другой, благодарила короля и не забыла спросить про гвардейского капитана, которому стольким была обязана; а узнав, что он уже умер, опечалилась несказанно.
Ее пригласили на пир, и за столом король спросил, каково приходилось ей с тех пор, как он отдал свой бесчеловечный приказ. Она тут же обо всем рассказала с неподражаемым изяществом, так что все внимательно слушали ее.
Но пока забывшая обо всем Чудо-Грёза веселилась с отцом и сестрами, час, когда ей надлежало вернуться, прошел, и влюбленный баран не помнил себя от волнения и скорби.
— Она не желает возвращаться, — восклицал он, — ибо ей стала отвратительна моя баранья морда! Ах, и несчастный же я любовник! Что станется со мной без Чудо-Грёзы? О Чурбанна, зловредная фея, жестоко мстишь ты за мое безразличие!
Сетованиям его не было конца, и, увидев, что ночь уже близко, а принцессы все нет, он сам помчался в город и, придя к вратам дворца, спросил о Чудо-Грёзе; но ее приключения были уже слишком известны, и потому его даже на порог не пустили. Жалобы и стенания барана тронули бы кого угодно, но только не суровых королевских стражников. Наконец, не в силах снести такое горе, он пал наземь и испустил дух.
Король, ничего не знавший об этой прискорбной трагедии, предложил дочери прокатиться по городу, освещенному множеством факелов, украшавших и окна домов, и большие площади. Но каково же было принцессе, едва выйдя из дворца, увидеть, что на мостовой бездыханным лежит милый ее барашек? Выскочив из кареты, она бросилась к нему, рыдая и оплакивая его от души, — тут и поняла Чудо-Грёза, что ее небрежность стоила жизни королю-Барану, и сама едва не умерла с горя.
Вот и приходится признать, что и самые высокородные господа, подобно всем смертным, столь же подвержены ударам судьбы и нередко самые страшные несчастья постигают их как раз в ту минуту, когда кажется им, что почти достигли они исполнения всех желаний.
* * *
Нередко лучший дар судьбы —
Причина наших тяжких бедствий.
Достоинства, предмет мольбы,
Нам не даются без последствий.
И наш король-Баран остался бы в живых,
Чурбанна бы ему с возлюбленной не мстила,
Когда б он не зажег страстей в ней роковых.
Его же доброта его и погубила.
Он участи такой отнюдь не заслужил,
Чурбанна с присными напрасно бы старалась.
Вражды он не таил, без лести он любил,
Давно подобных чувств в мужчинах
не встречалось.
Кого же смерть его теперь не удивит?
Лишь королю овец такое подобает!
На наших пастбищах кто ж нынче умирает,
Коль ярочка его заблудшая сбежит?..
Пер. М. А. Гистер
Дон Габриэль Понсе де Леон
Продолжение

Наконец она удалилась — пора было принарядиться. Хуана смотрелась во все зеркала, какие только у нее были, с таким вниманием, как, быть может, никогда прежде. Быстро переодевшись, она пошла к племянницам и застала их еще в кровати.
— До чего же вы ленивы! — сказала она. — А вот я уже была у пилигримов. Я услышала прекраснейший романс на свете и уже сотню раз обошла весь дом; прояви вы сострадание, так последовали бы моему примеру и глаза у вас были бы не такие заплывшие да заспанные — взгляните вон, как ясны мои, сна в них как не бывало.
Исидора и Мелани с трудом сдержали смех, ведь глазки у доньи Хуаны были такие маленькие и запавшие, что, если б не краснота, их, сказать по правде, и разглядеть-то было бы трудно.
Девицы отвечали, что у них болит голова и они не знали, что им следует посещать этих чужеземцев.
— Вот уж они вам и наскучили! — усмехнулась Хуана. — Конечно, они же не знатные сеньоры. А вот я, так напротив, люблю их за их бедность; и что же может быть трогательнее, чем оказаться вдали от дома, стать жертвой нападения, страдать от раны? Право, меня все это так задело за живое, что я решила восполнить весь ущерб, нанесенный им грабителями: я хочу, чтобы они остались здесь на некоторое время и обучили вас всему тому, ради чего мой брат и послал их сюда.
— Как, сударыня, — воскликнула Исидора, — вы собираетесь оставить в доме людей, которых не знаете и которые, быть может, ничего не смыслят в своем деле? Да мы с ними скорее забудем все, что прежде умели, чем научимся чему-нибудь новому!
— Вы противитесь всему, чего я ни пожелаю, дорогие мои племянницы! — в гневе отвечала донья Хуана. — Что ж, я не могу заставить вас учиться против воли, но тогда уж позвольте мне поучиться самой. Я-то с радостью займусь и пением, и гитарой; лет пятьдесят назад я очень недурно играла, немножко освежить умение — и я все вспомню, то-то вам будет приятно послушать!
Поскольку тетка была скуповата, Исидора сочла, что легко сможет отделаться от пилигримов, сперва описав ей смешную картину — когда в ее апартаментах эти паломники примутся играть на разных инструментах и петь в своих кожаных накидках, жутких широкополых шляпах, при раковинах и флягах из тыквы, — а потом намекнув, что учителей надо бы приодеть, прежде чем приниматься за уроки.
— Вы, конечно, были бы довольны, кабы они остались как есть, был бы только повод позубоскалить, — отвечала ей тетка, — но вот у вашего брата есть весьма подходящая одежда — отдам-ка я им ее.
— А что, коли мой брат не столь милосерден, как вы, сударыня? — сказала Мелани.
— Тем хуже для него, — резко возразила старуха, — мой долг — елико возможно заставить его попасть в рай, а для этого нет лучшего средства, как благотворить за его счет.
И она тут же вышла, оставив племянниц вдвоем.
— Ах, дорогая сестрица, — сказала Мелани, — наша тетушка сошла с ума, в ее-то лета брать уроки пения и танцев — что может быть сумасброднее? Несомненно, она полюбила одного из этих чужеземцев, — вот уж чудо, которому не перестанешь удивляться.
— Чего же вы хотите, сестрица, — печально отозвалась Исидора, — всему виной наше несчастие: будь мы менее затронуты в этой истории, все повернулось бы совсем иначе. Станем же мужаться: нам понадобится немало сил.
Пока они одевались, донья Хуана отправилась препираться с графом, которому хотелось встать и поесть чего-нибудь повнушительнее принесенного ею куриного отвара с травами, столь же освежающими, сколь и слабительными. От этого последнего слова граф едва не взбесился; он произнес, искоса взглянув на кузена:
— Да уж, если симпатический порох меня не вылечит, я рехнусь нынче же.
Донья Хуана, увидев его таким рассерженным, рассердилась и сама и пригрозила ему жестокой лихорадкой, о которой уже достаточно говорит блеск его глаз, добавив, что, видно, он твердо решил себя доконать; ее же совесть чиста — она предприняла все что нужно, а облегчится он или нет, это уж дело его.
По ее мрачному виду граф заметил, что она недовольна. Он сказал ей, что, напротив, никогда не хотел жить так, как теперь, когда она благоволит им интересоваться, и ставит отныне целью собственного бытия скромно засвидетельствовать ей свою признательность и повсюду рассказать о ее великодушии. Донья Хуана тут же утихомирилась и, дабы доказать, что не предложит ему ничего такого, чего бы не выпила сама, тут же у него на глазах проглотила бульон, послуживший причиной раздора. Она едва не умерла — действие отвара сказалось незамедлительно, и ей пришлось все бросить и бежать к себе.
— Ну что?! — воскликнул граф, едва она скрылась из виду. — Видали вы фурию, подобную этой, или же несчастье, равное моему? Если так будет продолжаться и дальше и если вы сами не сделаетесь предметом ее интереса, я не выдержу.
— Бедный мой кузен, — отвечал дон Габриэль, смеясь, — да ведь вы, кажется, сами однажды заметили, что интересуете ее куда больше, чем я; но, в конце концов, так ли уж повредила бы вам чашка куриного отвара, в котором, подумаешь, всего-то немножко слабительного?
— Да, — сказал ему граф, гневный, как все демоны ада, — объявляю вам, что, не будь здесь Мелани и не испытывай я столь сильного желания увидеть ее снова, — тогда, что бы вы ни говорили и ни совершали, я бросил бы вас тут одного с вашей затеей. Увы, — продолжал он, — я ведь не погрешил против истины, сказав, что в этом замке обитает фея; только я добавил было тогда, что мы ее отсюда изгнали, а между тем, за грехи мои, она все еще здесь.
— Ваши жалобы странны, — отозвался дон Габриэль, — будьте спокойны: я обещаю вам, что мой порох вылечит вас сегодня же и рана ваша так хорошо затянется, что и шрама видно не будет.
— Дай же вам Бог, — воскликнул граф, — так же умело залечить и мою сердечную рану! Ибо, повторяю вам: та, что была мне нанесена вчера вечером, глубока и нескоро закроется.
— Как же мне нравится, что вы так искренне признаете свое поражение! — воскликнул дон Габриэль. — Теперь вы на своем опыте узнаете, что я заслуживаю вашего снисхождения, как ни хочется вам иной раз мне в нем отказать.
Подошел час обеда; донья Хуана была еще не в силах прийти к пилигримам сама, но, поскольку страх, как бы ее дорогой больной не скушал лишнего, терзал ее еще сильнее принятого утром лекарства, она послала за племянницами и приказала им последить за порядком.
— Не выходите из его комнаты, — прибавила она, — пока его брат не выйдет из-за стола.
— Но, сударыня, — возразила Исидора, — мне кажется, ваш капеллан гораздо лучше подходит для подобных поручений. Позвольте, мы распорядимся.
— Как, — воскликнула донья Хуана, — вы по-прежнему противитесь моей воле! В вас нет ни милосердия к бедным, ни доброты к странникам, ни послушания вашей тетушке!
Она была в таком гневе, что племянницы, не желая слушать всего, что она собиралась еще сказать им, поскорее удалились.
Они остановились в галерее, выходившей прямо к комнате графа, и печально переглянулись.
— Кто сравнится в сумасбродстве с нашей тетушкой? — спросила Исидора. — Она настойчиво заставляет нас посещать тех, кого мы опасаемся больше всего на свете; будь они благородного происхождения, богаты и влюблены в нас, она предпочла бы спрятать нас на дне колодца.
— Однако, сестрица, — перебила ее Мелани, — если она и принуждает нас это делать, то не из желания подвергнуть опасности наше сердце. Уверена, она пришла бы в отчаяние, окажись мы на ее пути; она, видимо, полагает, что мы существуем лишь для того, чтобы исполнять ее прихоти. Она любит Эстеве, и никогда еще огонь не разгорался так быстро на горючем веществе, как разгорелся он в ее сердце. Тетя даже пожелала учиться пению и игре на гитаре — как тут не умереть со смеху, не будь у нас тысячи причин для печали?
— Все это так, — отозвалась Исидора, — но как же нам удержаться, чтобы не воздать по достоинству этим чужестранцам?
— Нужно постоянно помнить, — отвечала Мелани, — что они настолько ниже нас, что наши сердца не могут быть созданы друг для друга, и лучше умереть, чем иметь повод упрекать себя впредь.
Тут они ощутили в себе такую решимость противиться своим склонностям, что храбро вошли в комнату к пилигримам.
Граф лежал в постели и походил он не на бедного странника, а скорее на благородного сеньора. На нем было прекрасное белье — наши путники держали при себе много смен в небольшом сундучке. Поскольку музыканты всегда водят компанию с людьми из хорошего общества, белье на них обычно чистое, поэтому граф не счел нужным прятать свои кружева и дал выбиться на поверхность огненно-красной ленте, которой были обшиты ворот и манжеты его рубашки[140]. Дон Габриэль также снял плащ пилигрима, к тому же причесав свои красивые волосы, так что и он выглядел столь же привлекательно, как его кузен.
Хотя с Исидорой и ее сестрой и были их горничные, да еще капеллан, за которым они успели послать, все же девицы испытывали неловкость в комнате двоих мужчин, не доводившихся им близкими родственниками: в самом деле, для испанцев это вещь столь необычная, что лишь упрямица вроде их тетки могла не усмотреть тут явного затруднения.
Мелани с улыбкой сказала графу, что тетушка, озабоченная его выздоровлением, похоже, приказала уморить его голодом, и она пришла нарочно, чтобы не давать ему есть. Граф отвечал, глядя на нее с нежностью и почтением:
— Вашими устами донье Хуане нетрудно будет запретить мне есть; мне так приятно вас видеть, что я бы и вовсе не выздоравливал.
— А что до меня, — сказал дон Габриэль, обращаясь к Исидоре, — то, видя, как здесь сострадают больным, я и сам не прочь захворать.
— А вы чувствуете, что это вам грозит? — поспешила спросить Мелани.
— Да, сударыня, — отвечал он, — у меня постоянное волнение и боли в сердце.
— Вот уж неудача, — промолвила Исидора, — а мы-то надеялись, что услышим еще один из тех прекрасных напевов, что очаровали нас вчера вечером.
— Ах, сударыня, — воскликнул дон Габриэль, — у меня всегда хватит сил повиноваться вам, только извольте приказать!
— Однако, — продолжала она, — не удастся ли нам вскоре послушать и то, как дон Эстеве аккомпанирует вашему пению на своей арфе?
— Нынче же вечером, сударыня, — отвечал тот, — ведь моя рана затягивается так быстро, что я встану с легкостью.
— Однако уже время обеда, — заметила Мелани, — когда вы поедите, мы вас оставим.
— Как, сударыня! — перебил ее граф. — Весь остаток дня мы проведем без вас? Уверяю вас, что в таком случае мне нелегко будет нынче вечером держаться таким молодцом, как я обещал вам.
— Если только донья Хуана снова не отправит нас к вам, — сказала Исидора, — вряд ли мы сюда вернемся.
Дону Габриэлю принесли обед, но он был так поглощен счастьем видеть и слышать свою возлюбленную, что совершенно лишился аппетита. Донья Мелани уговаривала его поесть, а Исидора продолжала беседовать с графом. Наконец девицы решили, что мешают дону Габриэлю обедать, а графу встать, и, будучи не такими сторонницами поста, как их тетка, и сообразив, что больному надо бы дать время подкрепиться, поспешили уйти.
Между тем Хуана, которая ни о чем не забывала, прислала им одежду своего племянника; тот заказал ее для сельской местности, то есть по французской моде[141]. Они без труда надели все, что им прислали, и при этом смеялись от души.
— Хитёр был бы дон Луис, — говорили они, — угадай он только, что мы сейчас у него и щеголяем в его платьях.
Они еще немного побалагурили об этом, но затем дон Габриэль резко поменял тему:
— Заметили вы, с каким безразличием обращается со мною прекрасная Исидора? Меня едва лишь удостаивает ответом, а между тем я заметил, как два или три раза она задерживала взор на вас; а ведь я почел бы себя необычайно счастливым, взгляни она так на меня.
— Вот уж чистая фантазия, — отвечал граф, — правда-то в другом: донья Мелани испытывает к вам то же, что, по вашим же словам, Исидора ко мне. Она едва ли не чрезмерно расхваливает ваш голос, ее восхищает все, что вы ни скажете. Ах, дорогой кузен, боюсь, как бы вы не одержали здесь двух побед вместо одной!
— Я честнее, чем вы думаете, — отвечал дон Габриэль, — признаю, что она со мною весьма любезна, но Исидора легко вознаградит вас за это.
— Из всего этого я заключаю, — сказал граф, — что мы не нравимся ни той, ни другой. Я бы этому не удивлялся и не огорчался, — прибавил он тут же, — странно было бы добиться успеха в столь краткое время.
— Я очень боюсь, — сказал Понсе де Леон, — что, если вы до сих пор полны решимости выздороветь сегодня к вечеру, завтра нам придется уйти — ведь у нас уже не будет предлога остаться!
— Уверяю вас, — отвечал граф, — что не намерен дольше оставаться жертвой навязчивого милосердия доньи Хуаны; вообразите, что это вас она морит голодом, не дает сказать ни слова, готова предать в лапы этих палачей-хирургов и, в довершение всех бед, поит своим куриным отваром, — о, тогда бы вам, как и мне, было не до шуток.
— И вы еще говорите, что вас трогают прелести Мелани! — сказал Понсе де Леон, пристально глядя на графа. — Боже мой, до чего же слаба ваша страсть!
— Это милое создание нравилось бы мне бесконечно, если бы я только мог льстить себя надеждой на взаимность. Но признаю, что, как бы она ни была добра ко мне, я не в силах больше оставаться в постели. Ложитесь туда сами, кричите, стоните, жалуйтесь на боли в боку; я скажу, что у вас плеврит, и донья Хуана в своем милосердии заставит пускать вам кровь, пока вас не уморит.
Хоть дон Габриэль и был не на шутку раздосадован, он не мог не посмеяться подобной фантазии.
— Мне понадобятся все мои силы, чтобы выдержать холодность Исидоры, — сказал он.
— А я пообедаю, дабы не растерять моих, — отвечал граф.
Понсе де Леон составил ему компанию и поел как голодный путешественник, а не как страстный влюбленный.
Обе сестры явились в комнату доньи Хуаны, чтобы засвидетельствовать почтение и рассказать ей, что пилигримы здоровы. Их тетка тоже начала выздоравливать, хотя жестоко промучилась все утро. Коль скоро, так заявила Хуана, от симпатического пороха раненый и вправду может подняться так быстро, то она впредь будет только им одним и лечиться, непременно выведает его секрет и приготовит его и для себя, и для всех своих друзей.
— Однако, — сказала она, — возможно ли, чтобы этот бедняжка-раненый мог дойти нынче до моей комнаты?
— Я в этом не сомневаюсь, сударыня, — отвечала Мелани, — он выглядит замечательно и, если я не ошибаюсь, они готовят маленький концерт, чтобы поразвлечь вас.
— Как же я рада, — воскликнула Хуана, — что случай направил их в этот дворец! Нужно оказать им наилучший прием, чтобы они могли расхвалить его повсюду.
Ее племянницы отправились к себе и, пообедав, заперлись вместе.
— Расскажите же мне, что у вас нового, — спросила Мелани у Исидоры, — каково вам теперь, крепче вы или слабее?
— Я несчастнейшее создание на свете, — отвечала та, — мне столь же досадно, сколь и стыдно, что я не могу возненавидеть человека, нарушившего мой покой; вы заметили, что я мало говорила и много размышляла, — я проверяла свои чувства… Нет, не могу сказать.
Она умолкла. Мелани долго молча глядела на нее.
— Вам жаль меня, не правда ли? — продолжала наконец Исидора.
— Как бы я ни жалела вас, — отвечала Мелани, — себя мне еще жальче, ведь теперь я яснее чувствую, как велика моя беда, и думаю, что в вас больше мужества.
— Ах, сестрица, что может мужество, — воскликнула Исидора, — если с ним вступает в борьбу сердечная склонность?
— Однако, — прибавила Мелани, — не кажется ли вам, что эти чужеземцы были бы рады остаться здесь?
— Они так стеснены в средствах, — промолвила Исидора, — что сие было бы неудивительно.
— Не знаю, богаты они или бедны, — отозвалась Мелани, — но, судя по их наружности и уму, несомненно, можно было бы принять их скорее за принцев, чем за простых людей.
— Хватит бесплодных фантазий, бедная моя Мелани, — перебила ее Исидора, — это всего лишь музыканты, они сами нам так представились, не пожелав даже оставить нас в счастливом неведении, и меня восхищает их искренность.
— А я, напротив, не могу им в этом поверить, — отвечала Мелани. — Разве не случалось никому и до них скрывать свое происхождение?
— Нет, — возразила Исидора, — обычно себе приписывают более высокое происхождение, но не бывает, чтобы дворянин выдавал себя за простолюдина.
Почувствовав себя лучше, Хуана послала спросить, не желают ли пилигримы зайти к ней, ведь ей было бы так приятно их повидать, если только Эстеве достаточно окреп. Услышав это, и тот, и другой весьма обеспокоились.
— Боюсь я, — сказал дон Габриэль, — не собираются ли нас спровадить. Мне, пожалуй, уже захотелось слечь.
— О! С этим вы слишком долго тянули; идите же к ней и ничего не бойтесь. Непохоже, чтобы, нащупав у меня вчера неровный пульс, сегодня она пожелала выставить нас за дверь, и либо я не virtuoso[142], либо мы ей отнюдь не противны.
Итак, дон Габриэль, успокоившись, последовал за пришедшим слугой, а граф тихо и осторожно пошел за ним, из опасения, по его же объяснению, как бы рана снова не открылась. Стоило донье Хуане увидеть их, и она так развеселилась, что немало удивила всех своих дам. Она приказала гостям сесть подле нее, не желая слушать никаких доводов, к коим те прибегли, дабы избежать подобных вольностей, и попросила потешить ее песней. Граф и дон Габриэль не заставили себя уговаривать. Заметив в углу арфу, они спросили разрешения сыграть на ней, что им, разумеется, было с радостью позволено. По приказу тетки послали за племянницами, и, как только те явились, граф, желая расположить к себе сострадательную Хуану, запел:
О Небо, удали от нас свои угрозы,
Утешь нас, осуши скорее наши слезы,
Довольно нам страдать,
Довольно горевать.
В опасных сих краях кому достанет власти
Огородить нас от напасти?
Кто бедных странников избавит от воров —
Грозы окрестных всех лесов?
О Небо, удали от нас свои угрозы,
Утешь нас, осуши скорее наши слезы,
Довольно нам страдать,
Довольно горевать.
Донья Хуана была в несказанном восхищении, услышав, как замечательно поет молодой музыкант, а узнав, что он к тому же поэт, перебила его, воскликнув:
— Клянусь святым Иаковом, покровителем Испании[143], вам больше не надо опасаться воров, вы в хорошем доме и не скоро еще его покинете, а когда это и случится, мы дадим столь многочисленную стражу, что не вам — грабителям придется бояться!
Тут наши пилигримы принялись наперебой изъявлять ей свою почтительнейшую благодарность, она же упрашивала их продолжать концерт, что они и исполнили наилучшим образом.
Нетрудно догадаться, что дамы, столь благосклонные к пилигримам, слушали их с необычайным удовольствием; при этом все были несколько разочарованы, ибо их взоры и вздохи не находили желаемого отклика. Понсе де Леон глядел лишь на Исидору, та же непрестанно обращала свой взор к графу; граф не отрывал восторженных глаз от Мелани, она же только и думала, что о доне Габриэле. Хуана же тщетно расхваливала графа и досаждала ему так, что он не сказал ей ни единого ласкового слова.
Она, однако, льстила себя надеждами больше остальных, решив, что он не осмеливается слушать движений своего сердца лишь по причине чрезмерного почтения. Что же касается наших влюбленных, они на сей счет не обманывались и поэтому весьма опечалились, как только закончили петь. Донья Хуана спросила, не желают ли они поучить ее музыке и игре на разных инструментах.
— Быть может, — сказала она, — я и танцевать научусь, вот только вылечусь от подагры и воспаления седалищного нерва — оно терзает меня уже тридцатый год; но не думайте, что я отступлюсь, хоть бы и еще двадцать лет учиться понадобилось.
Они отвечали, что это слишком большая честь и они рады бы и всю жизнь провести у нее, но просят дозволения прежде написать отцу и испросить его разрешения. Она этому не противилась, а, напротив, хвалила их за это намерение.
Тут же она схватила гитару и взяла несколько аккордов своими сухими и тощими пальцами, дрожавшими всякий раз, когда она прикасалась к струне. Всем пришлось приложить немало усилий, чтобы не расхохотаться от души; однако граф, которого она сразу же избрала учителем, забывал всю свою веселость, стоило ему подумать о безразличии юной Мелани. Оба пилигрима, закончив концерт, поспешили удалиться, так как было уже довольно поздно, и дамы тоже разошлись по опочивальням.
Увидев сестру в глубокой печали, Исидора сказала:
— Не буду спрашивать, что с вами, милая моя Мелани, ибо сужу о состоянии вашего сердца по своему собственному: мы любим и, что еще горше, не находим благодарности и взаимности в чувствах этих чужеземцев.
— Между тем не следует думать, будто они к нам равнодушны, — отозвалась Мелани, — но судьба так беспримерно зла, что их или же наши сердца обознались, и мы не любим тех, кто любит нас, а любим тех, кто нас не любит.
— Ах, сестрица, — перебила Исидора, — как хорошо вы это сказали, что сердца наши обознались. До чего же дошло, Боже милостивый! И на кого ж нам гневаться за такую неудачу? Ведь это может нас излечить. Если бы их склонности соответствовали оказанному почтению, — что ж, тем больше битв выпало бы на нашу долю, теперь же мы можем сказать друг другу: «Довольно, довольно благоволить к неблагодарным!»
— Но почему вы называете их неблагодарными? — воскликнула Мелани. — Они достойны скорее сострадания, нежели порицания. Возможно даже, они так ведут себя из осмотрительности.
— Подобная осторожность кажется мне тут весьма неуместной, — заметила Исидора, — из осторожности можно не проявлять никакой склонности, но, уж коль скоро они решились ее выказать, зачем было делать это так, чтобы дела противоречили чувствам? Нет, нет, милая моя, тут нет ошибки: дон Эстеве любит вас, а я не противна дону Габриэлю; что же касается тетушки, то она — моя соперница: никогда еще я не видела, чтобы она так на кого-нибудь засматривалась, я даже боялась, как бы у нее не случилось судорог.
— Так что ж! — вскричала Мелани, поразмыслив. — Пускай обида сделает то, чего не смогла сделать гордость: раз эти чужестранцы не умеют любить нас как подобает, станем избегать их, не будем больше искать развлечений, от которых страдает наше сердце!
Исидора была согласна с нею. Увы, обе они преисполнились решимости, все дело стало лишь за силой.
Понсе де Леон и граф жаловались на превратности судьбы не меньше, чем девицы; они были счастливы, что привлекли внимание Исидоры и Мелани, но им вовсе не хотелось ни сделаться соперниками, ни изменить той, которая околдовала их.
— Хорошо же я вознагражден за любовь к Исидоре! Стоит мне взглянуть на нее, как она смотрит на вас, точно спрашивая, с чего это я позволяю себе подобные вольности.
— Так же ведет себя и Мелани, — отвечал граф, — мне еще не удалось добиться от нее ни ласкового слова, ни взгляда. Послушать ее — разница между вами и мною столь же велика, сколь между Фениксом и Вороном[144]. Вы сами видели, что донья Хуана, напротив, отдает явное предпочтение мне.
— Она на вашей стороне, — отвечал Понсе де Леон, — и с радостью бы вас утешила.
— Что лишь увеличивает мою скорбь, ведь сия напасть на меня одного, — отвечал граф, — мне придется отвечать на ее склонность, а это мало радует, особенно когда голова другой тревогой занята.
Прошло несколько дней, а Понсе де Леон и граф еще не отваживались открыть свои чувства Исидоре и Мелани.
— Я бы уже признался ей, — говорил кузену дон Габриэль, — но чего же мне ждать? Я слишком хорошо знаю, что не любим той, которую люблю.
— Я и сам не осмеливаюсь открыться, — отвечал граф, — ведь, не будь даже Мелани так равнодушна ко мне, — на что мне надеяться, с выпавшей мне ролью? На то ли рожден музыкант, чтобы быть любимым благородной девицей? Почему вы хотите по-прежнему оставаться инкогнито? Давайте для начала хотя бы расскажем им о нашем происхождении, быть может, тогда они взглянут на нас поблагосклоннее.
— Как! — перебил его Понсе де Леон. — В довершение наших бед, вы еще хотите, чтобы нас отвергли под настоящим именем?
— Вам, стало быть, ваше имя дороже вашего сердца, коль скоро о первом вы заботитесь больше, чем о втором? — резко возразил ему граф. — Но, в конце концов, я обещал во всем полагаться на вас, так придумайте же, как нам выйти из этой переделки?
— Я опасаюсь всего, и мало что внушает мне надежду, — отвечал ему дон Габриэль, — и, при всей неоценимой помощи вашей, все же я полжизни отдал бы, чтобы вас сейчас здесь не было.
— О, если бы это было угодно Небесам! — воскликнул граф. — Я был спокоен, я был доволен, я был бы рад ни в кого не влюбляться!
Последние слова он почти выкрикнул, тут же в ответ послышался какой-то шум, так что граф встревожился, не подслушивает ли кто у его спальни. Чтобы выяснить, в чем дело, он поднялся и, выглянув за дверь, с немалым удивлением увидел Хуану. Она приложила палец к губам, сделала знак следовать за ней и вышла в галерею.
По выражению ее лица без труда можно было догадаться, что она взволнована. Тут граф почувствовал, как бесконечно дорога ему Мелани, и встревожился, что тайна его стала известна Хуане. Возбуждение едва не заставило его во всем сознаться, однако он все же дождался, пока тетка заговорит первая.
— Вы влюблены, дон Эстеве, — сказала она наконец, — и меня вовсе не удивляет, что сердце ваше не вняло голосу рассудка, что вас не остановила разница между вами и предметом вашей любви; вы еще в том возрасте, когда честолюбие не порок. Но зачем же вы открылись вашему брату в том, что нужно бы скрывать от всех?
Донья Хуана не говорила бы так ласково, знай она, что предметом любви была ее племянница, поэтому граф начал сомневаться, так ли уж много она услышала, и, не желая сам способствовать своему разоблачению, лишь глубоко вздохнул.
— Мне слишком понятен ваш вздох, — смягчилась она, — я должна была бы разозлиться, если бы только могла гневаться на вас. Но, в конце концов, на что вы могли надеяться? Такая особа, как я, не может стать женой человека, уступающего ей происхождением.
Как ни старался граф напустить на себя солидный вид, вся серьезность соскочила с него, едва он понял, о чем идет речь.
— Сердечные чувства, — сказал он, — не всегда зависят от нас. Я понимаю, сударыня, на что обрекает меня злая судьбина: я умру — вот единственное известное мне лекарство.
— Как, вы не знаете другого? — подхватила она, глядя на него своими маленькими красными глазками. — Вот уж поистине жаль: все, что касается вас, слишком трогает меня, чтобы…
Она собиралась выразить ему свою благосклонность, но тут вошла Мелани. Заметив графа, беседующего с теткой, она хотела было удалиться, но Хуана позвала ее.
— Подите сюда, племянница, — промолвила она, — послушайте романс, обещанный мною в прошлый раз; я как раз начинала рассказывать… Я услышала его от одной старой рабыни-арабки — она знала великое множество басен знаменитого Лукмана[145], столь славного на Востоке, что его почитают за второго Эзопа[146]. Этот стиль, такой наивный и детский, нравится не всем: иные большие умы полагают, что сии сказки больше подобают кормилицам да нянькам, нежели утонченным господам. Тем не менее, я нахожу в этой простоте красоту и искусство и знаю людей с отменным вкусом, для которых они сделались любимым развлечением.
— Меня это не удивляет, сударыня, — произнес граф, — разум проявляется в разнообразии; смешон тот, кто не желает читать или слушать сказки; кто ищет в них серьезности, тот достоин осуждения, а кому нравится писать или рассказывать их напыщенно, тот лишает их присущей им живости. Что же до меня, я полагаю, что для отдыха от серьезных занятий нам самое время поразвлечься сказками.
— Мне кажется, — прибавила Мелани, еще не успевшая вставить ни слова, — что сказкам не пристало быть ни витиеватыми, ни затянутыми, им подобает побольше веселости, нежели серьезности, и еще немного морали; но главное, их следует преподносить как безделицу, которую предстоит оценить по достоинству лишь самому слушателю.
— Я расскажу вам один романс, из самых простых, — сказала Хуана, — а уж вы оценивайте его как вам заблагорассудится; впрочем, не могу не заметить, что сочинители подобных вещиц могут создавать и более важные творенья, пожелай они только взять на себя такой труд.
Пер. М. А. Гистер
Вострушка-Золянка[147]

— Мы высланы из королевства, я гол как сокол, а ведь предстоит и самим жить, и кормить наших бедняжек-дочерей. Придумайте же, как нам быть, ведь королевское мое ремесло — дело совсем нехитрое, а больше я ничего не умею.
Королева славилась своей мудростью: она попросила неделю на размышление. Когда отведенное время подошло к концу, она и молвила:
— Сир, не печальтесь, — сплетите сети и ловите ими птиц и рыб. А когда вервии порвутся, я совью новые. Дочери же наши — ужасные лентяйки, а считают себя светскими дамами и ух какие ходят важные. Нам бы отвести их куда-нибудь далеко-далеко, чтобы они никогда оттуда не вернулись, — ведь мы все равно не сможем купить им вдоволь нарядов.
Король заплакал было, что придется с дочерьми расставаться. Он был хорошим отцом, но во всем слушался королевы и поэтому с нею сразу согласился.
— Встаньте завтра рано утром, — промолвил он, — и уведите ваших дочерей куда вам угодно.
Пока они обсуждали этот план, принцесса Вострушка, самая младшая из сестер, подслушивала через замочную скважину; а поняв, что замыслили отец с матерью, со всех ног помчалась к большому гроту, где жила ее крестная — фея Мерлуза[148]. Она прихватила с собою два фунта масла, несколько яиц и немного молока и муки, чтобы испечь превосходный пирог и угодить фее[149]. Радостно бежала девушка, но, чем дольше длилось путешествие, тем больше ее одолевала усталость. Подошвы ее башмачков совсем износились, и Вострушка стерла в кровь свои крошечные ножки. Когда она совсем выбилась из сил, то села на траву и расплакалась.
А в это время мимо пробегал испанский красавец конь, оседланный и взнузданный; его попону украшало столько брильянтов, что на них можно было купить целых три города. Завидев принцессу, он остановился и принялся мирно пастись рядом с ней, а затем, подогнув передние ноги, казалось, присел в реверансе. Девушка тут же взяла его под уздцы:
— Милая лошадка, отвези меня, пожалуйста, к моей фее-крестной! Ты меня очень обяжешь, ведь я умираю от усталости. Выручи меня только, а я уж накормлю тебя вкусным овсом и прекрасным сеном и постелю тебе свежей соломы на ночь.
Конь опустился, подставив ей спину, и юная Вострушка запрыгнула в седло; скакун пошел так легко, что, казалось, полетел словно птица, а остановился прямо у входа в грот, будто знал к нему дорогу. Так оно и было — ведь это Мерлуза, догадавшись, что крестница хочет ее навестить, послала ей навстречу коня. Когда Вострушка вошла в пещеру, то трижды поклонилась фее и, поцеловав край ее платья, проговорила:
— Здравствуйте, крестная! Как ваше здоровье? Я принесла вам масла, молока, муки и яиц, чтобы, по обычаю наших краев, приготовить вам пирог.
— Добро пожаловать, Вострушка, — сказала фея. — Подойдите ко мне, я вас поцелую.
Она дважды расцеловала девушку, чему та несказанно обрадовалась, ведь другой такой феи, как Мерлуза, нигде было не сыскать.
— Вот что, дорогая моя крестница, — произнесла фея, — побудьте-ка моей горничной: распустите мне волосы и расчешите их.
Принцесса поспешила исполнить ее повеление.
— Я знаю, почему вы пришли, — проговорила Мерлуза, — вы услышали, что король и королева решили от вас избавиться, и хотите избежать сего несчастья. Вот, возьмите этот клубок — он из нервущейся нити. Завяжите узел на воротах вашего дома и несите клубок, разматывая его по дороге. Когда королева оставит вас одних, вы по нитке легко найдете обратный путь.
Принцесса поблагодарила крестную, а та наполнила ее котомку красивыми нарядами, расшитыми золотом и серебром. Фея поцеловала ее и помогла сесть на великолепного скакуна, который в мгновение ока донес девушку до домика Их Величеств. Вострушка сказала коню:
— Дружок, вы так красивы, так умны и мчитесь быстрее ветра. Спасибо за вашу помощь, возвращайтесь к своей госпоже.
Она тихонько вошла в дом, спрятала котомку под подушку и легла спать как ни в чем не бывало. На рассвете король разбудил жену:
— Скорее, сударыня, пора собираться в путь.
Королева тотчас поднялась, надела грубые башмаки, белую фуфайку, кофту да юбку и взяла с собой посох. Потом собрала всех дочерей: старшую — Флоранну, среднюю — Белладонну и младшую — Востроушку, которую все называли Вострушкой.
— Сегодня ночью я подумала, — сказала королева, — а не пора ли навестить мою сестру? Она нас щедро угостит, мы вдоволь наедимся и повеселимся.
Флоранна, которой до смерти надоело жить в глуши, ответила матери:
— Пойдемте же куда вам будет угодно, матушка, только бы не сидеть дома.
Белладонна и Вострушка согласились. Все четверо простились с королем и отправились в путь. Они забрели так далеко, что Вострушка очень боялась, как бы нить не кончилась, ведь пришлось проделать путь почти в тысячу лье. Она неотступно следовала за сестрами, ловко цепляя нить за кусты.
Когда королева решила, что ее дочери не смогут найти дорогу обратно, она завела их в дремучий лес и сказала:
— Поспите, мои маленькие овечки! А я пока побуду пастушкой, которая сторожит свое стадо от волков.
Принцессы улеглись на траву и уснули — все, кроме Вострушки: она лишь закрыла глаза, притворившись спящей. Королева ушла, думая, что никогда их больше не увидит.
«Будь у меня злое сердце, — подумала Вострушка, — я бы тотчас же ушла, бросив сестер, ведь они меня бьют и царапают до крови. Но, несмотря на их дурной нрав, я не хочу оставлять их здесь на верную гибель».
Она разбудила их и всё рассказала. Флоранна и Белладонна в слезах принялись умолять Вострушку взять их с собой, обещая, что отдадут ей своих самых красивых кукол, серебряный потешный домик, другие игрушки и все сладости.
— Я прекрасно знаю, что вы ничего этого не сделаете, — ответила Вострушка, — но оттого я не перестану быть вам доброй сестрой.
Она поднялась и пошла, следуя за нитью, а сестры — за ней, так что принцессы добрались до дома почти в одно время с королевой. Остановившись у дверей, они услышали голос короля:
— Сердце мое болит оттого, что я вижу вас одну.
— Что ж, — сказала королева, — ведь дочери нас слишком стесняли.
— Но если бы вы привели обратно мою Вострушку, — возразил король, — я бы не так печалился об остальных: они-то никого не любят.
Девушки постучали: тук-тук. Король спросил:
— Кто там?
Они ответили:
— Ваши дочери, Флоранна, Белладонна и Вострушка.
Королева задрожала.
— Не открывайте, — взмолилась она, — это, должно быть, злые духи, ведь наши дочери никак не могли вернуться.
Король, столь же малодушный, как и его супруга, крикнул им:
— Лжете, вы не мои дочери.
Но проворная Вострушка воскликнула:
— Папочка, я сейчас нагнусь, а вы посмотрите через кошачий лаз и, если я не Вострушка, высеките меня розгами.
Король так и поступил и, узнав младшую дочь, отворил дверь. Королева притворилась, что рада видеть детей; она сказала им, что забыла кое-что дома и потому вернулась, но потом, конечно, отправилась бы за ними в лес. Принцессы сделали вид, что поверили матери, и забрались на прелестный маленький чердак, служивший им спальней.
— Что ж, милые сестрицы, — промолвила Вострушка, — вы обещали мне куклу.
— А больше тебе ничего не надо, маленькая плутовка?! — отвечали те. — Это из-за тебя королю нет до нас дела.
Они схватили прялки и давай нещадно бить ее, а когда хорошенько поколотили, то легли спать. Вострушка же не могла уснуть: так болели ее ушибы и ссадины. Тут она и услышала, как королева говорит королю:
— Я заведу их еще дальше, на край света, уж оттуда они никогда не вернутся.
Когда Вострушка поняла, что замышляют ее родители, она тихонько поднялась и стала собираться в гости к своей крестной: зашла в курятник, поймала двух куриц и петуха, свернула им шеи, а потом взяла еще двух маленьких кроликов, которых королева откармливала капустой для угощения на особый случай. Положила принцесса гостинцы в корзину и отправилась в путь. Не успела она пройти и лье, дрожа от страха в ночном мраке, как послышались храп и ржание — примчался испанский конь; Вострушка же решила было, что пропала и сейчас ее схватят солдаты, но, увидев красавца скакуна, обрадовалась и забралась на него. Вскоре она достигла жилища своей крестной.
После подобающего приветствия Вострушка преподнесла фее куриц, петуха и кроликов и попросила ее помочь советом, ибо королева поклялась завести принцесс на край света. Мерлуза велела крестнице не расстраиваться и дала ей мешочек с золой:
— Несите его перед собою, встряхивая, и ступайте по золе, а когда захотите вернуться, пойдете обратно по своим следам. Но не приводите домой ваших злобных сестер: если меня не послушаетесь — я больше не захочу вас видеть.
Вострушка попрощалась с феей, взяв по ее повелению еще и шкатулку с тридцатью или сорока миллионами брильянтов, которую положила в карман. Конь уже ждал ее и, по обыкновению, как и прежде, довез девушку до дома. На рассвете королева позвала принцесс; когда те пришли, она им сказала:
— Королю что-то нездоровится. Сегодня ночью мне приснилось, что если набрать редких целебных трав и цветов тут неподалеку, они придадут Его Величеству сил. Давайте поспешим туда, не теряя ни минуты.
Флоранну и Белладонну, которые и подумать не могли, что мать снова захочет от них избавиться, эта новость расстроила. Однако нужно было отправляться в путь. Королева завела дочерей так далеко, как никто еще и заходить не смел; Вострушка же ни слова не промолвила, пока шла за сестрами, только весьма ловко посыпала золой тропу, так что следов не уничтожили ни ветер, ни дождь. Убедившись, что дочери крепко спят, королева оставила их и вернулась домой. На рассвете Вострушка поняла, что мать покинула их, и разбудила сестер.
— Вот мы и одни, — сказала она, — королева ушла.
Флоранна и Белладонна расплакались, принялись рвать на себе волосы и бить себя по лицу, восклицая:
— Боже, что же нам делать?
У Вострушки было золотое сердце: она и тут пожалела сестер.
— Знали бы вы, чем я рискую, — молвила она им, — моя крестная дала мне средство, чтобы найти дорогу обратно, а вот вам помогать запретила. Если я ее не послушаюсь, она больше не захочет меня видеть.
Белладонна с Флоранной бросились ей на шею; они принялись так нежно уговаривать Вострушку, что та не устояла и они опять вернулись все вместе.
Короля с королевой немало удивило возвращение дочерей. Их Величества просовещались всю ночь, и младшая принцесса, которую не зря звали Вострушкой, смекнула, что они опять что-то замышляют и на следующий день королева вновь примется за старое.
Она побежала будить сестер.
— Увы, мы погибли, — воскликнула она, — королева решила во что бы то ни стало завести нас в какую-нибудь глушь и бросить там. Из-за вас я прогневила крестную и теперь не смею снова просить ее о помощи.
Принцессы принялись сокрушаться и всё говорили друг другу:
— Как же нам быть?
Наконец Белладонна сказала:
— Хватит ныть-то, не такая умная эта старуха Мерлуза, чтоб от ее ума другим не поживиться. Нам нужно просто взять с собой гороха, мы рассыплем его по дороге и сможем найти путь обратно.
Флоранне эта мысль показалась восхитительной, и сестры набили полные карманы горошку. Вострушка же вместо гороха взяла с собой котомку, полную красивых платьев, и шкатулку с брильянтами. Когда королева позвала дочерей, те были уже готовы.
Она сказала:
— Сегодня ночью мне приснилось, что в одной стране, а в какой — я вам не скажу, вас ждут три принца, которые хотят на вас жениться. Я отправлюсь туда с вами: так мы проверим, правдив ли мой сон.
Королева пошла впереди, а дочери — за ней. Они беспечно разбрасывали горошины, уверенные, что смогут вернуться домой. На сей раз королева завела принцесс еще дальше, чем прежде, а когда совсем стемнело, вернулась к королю одна, очень усталая, но довольная, что ей больше не придется содержать такую большую семью.
Три принцессы проспали до одиннадцати часов утра. Вострушка первая заметила, что королевы нет с ними. Хотя она и была к этому готова, а все-таки расплакалась: надежды-то у нее было больше на прощение феи-крестной, чем на хитрость сестер. Она сказала им, вне себя от страха:
— Королева ушла, нужно скорее ее догнать.
— Замолчите, негодница, — ответила Флоранна, — мы легко найдем дорогу, когда нам вздумается, а вот вы, кумушка, напрасно торопитесь.
Вострушка не посмела ей возразить. Но когда они стали искать дорогу, то не нашли ни следов, ни тропинки: голуби, которых в той стране водилось великое множество, склевали весь горох. Сестры громко разрыдались. Когда они провели два дня без еды, Флоранна спросила Белладонну:
— Сестрица, не найдется ли у тебя чем-нибудь подкрепиться?
— Нет, — ответила та.
Старшая сестра спросила то же самое у Вострушки.
— У меня тоже ничего нет, — ответила девушка, — но, кажется, я нашла желудь.
— Эй! Отдайте его мне! — закричала одна сестра.
— Нет, мне, — перебила ее другая.
Каждой не терпелось его заполучить.
— Мы не наедимся втроем одним желудем, — сказала Вострушка. — Нужно его посадить, тогда из него вырастет деревце, а уж оно сослужит нам добрую службу.
Сестры согласились с ней, хотя в этих краях и деревьев-то не росло — кругом были лишь капуста да латук, ими принцессы и питались. Будь бедняжки хрупкого здоровья, они давно бы уже умерли: спали всегда под открытым небом, но каждым утром и вечером по очереди поливали желудь, приговаривая:
— Расти, расти, красавец желудь!
И желудь стал расти не по дням, а по часам. Когда дубок стал уже крепкий, Флоранне вздумалось влезть на него, но он еще не мог выдержать ее вес. Взобравшись чуть-чуть, принцесса почувствовала, как сгибается деревце под ее тяжестью, и тут же слезла с него; то же произошло и с Белладонной. А вот маленькая, хрупкая Вострушка залезла на самую вершину дубка, и сестры принялись ее расспрашивать:
— Ничего не видно, сестрица?
— Нет, ничего, — ответила Вострушка.
— Что ж, значит, дубок еще не вырос, — заключила Флоранна.
Так они продолжали его поливать и приговаривать:
— Расти, расти, красавец желудь!
Вострушка неизменно дважды в день забиралась на дубок. Однажды утром, пока она вглядывалась в даль, Белладонна промолвила Флоранне:
— Я нашла котомку, которую сестра от нас спрятала. Как по-твоему, что там может быть?
Флоранна ответила:
— Она мне сказала, что там старые кружева, которые она штопает.
— А я думаю, что там сладости, — добавила Белладонна: она была такой лакомкой, что непременно захотела открыть котомку. Там и вправду оказались все кружева короля и королевы, но под ними были спрятаны роскошные платья Вострушки и шкатулка с брильянтами.
— Ах вот как! Да другой такой проказницы и не сыщешь! — воскликнула средняя принцесса. — Заберем-ка мы эти сокровища себе, а вместо них наложим сюда камней.
Так они и сделали. Вострушка, вернувшись, ничего не заметила, ведь она не собиралась наряжаться в такой глуши, думая лишь о деревце, которое уже становилось прекраснейшим на свете дубом.
Как-то раз, когда Вострушка забралась на него и сестры, по обыкновению, спросили, не видно ли ей что-нибудь, она воскликнула:
— Там вдали большой превосходный дворец, такой прекрасный, что я и описать не могу: стены изумрудные и рубиновые, а крыша из брильянтов, и на ней полно золотых колокольчиков да флюгеры вращаются по ветру.
— Обманщица! — ответили ей сестры. — Такого великолепия вовсе не бывает на свете.
— Поверьте мне, я не лгу, — возразила Вострушка, — посмотрите сами, а то он слепит мне глаза.
Флоранна забралась на дерево. Увидав дворец, она стала его расхваливать, да так, что никак не могла умолкнуть. Белладонну обуяло любопытство, и она, тоже взглянув на дворец, пришла в восхищение.
— Нужно непременно пойти в этот дворец, — решили принцессы, — быть может, там мы и найдем красивых принцев, которые почтут за счастье взять нас в жены.
Весь вечер они обсуждали свой замысел и наконец улеглись спать на травку. Но когда старшие сестры заметили, что Вострушка крепко уснула, Флоранна шепнула Белладонне:
— Вот как мы поступим, сестрица: нарядимся-ка в роскошные платья Вострушки.
— Вы правы, — согласилась Белладонна. Они встали, завили себе в локоны волосы, напудрились, приклеили мушки[150] и надели прекрасные платья, расшитые золотом и серебром и украшенные брильянтами. Такого великолепия еще свет не видывал.
Вострушка не знала, что злые сестры обокрали ее. Проснувшись, она взяла свою котомку, собираясь одеться, но, к ее огорчению, там были одни камни. Тут она заметила, что ее сестры расфуфырились и сияют, как солнце. Девушка заплакала и стала им пенять на их предательство, а они только смеялись и издевались над нею.
— Неужто достанет у вас смелости, — спросила она, — явиться со мной во дворец, не позволив мне нарядиться и прихорошиться?
— Нам и самим не хватает вещей, — ответила Флоранна, — а тебе мы надаем тумаков, если будешь нам докучать.
— Но ведь платья, которые вы надели, — мои, моя крестная подарила их мне, а не вам!
— Если не замолчишь, — сказали они, — мы тебя убьем и закопаем здесь. Никто и не узнает.
Бедная Вострушка и не думала им досаждать. Она медленно поплелась за сестрами, ведь теперь ее могли принять разве что за их служанку.
Чем ближе принцессы подходили к дворцу, тем великолепнее он им казался.
— Ха! — радовались Флоранна и Белладонна. — Мы прекрасно повеселимся и вкусно поедим за королевским столом, а Вострушка будет посудомойкой, ведь она выглядит как замарашка. Если у нас спросят, кто она, не станем называть ее нашей сестрой, скажем, что это деревенская пастушка.
Вострушку, наделенную умом и красотой, охватило отчаяние от такого грубого обращения. Принцессы были уже у врат дворца. Вот они постучали. Тотчас же им отворила безобразная старуха: у нее был только один огромный глаз посреди лба, размером превосходивший пять или шесть обычных, плоский нос, темная кожа и отвратительный рот, внушавший неподдельный ужас, а ростом она была в пятнадцать футов и в обхвате тридцать.
— О несчастные! Что вас сюда привело? — сказала она. — Неужто вы не знаете, что это дворец людоеда, которому вас и на завтрак-то едва ли хватит? Но я добрее мужа: заходите, фазу всех я не съем, еще пару дней поживете на свете.
Услышав такое, принцессы пустились в бегство, надеясь спастись, но один шаг людоедки был как их пятьдесят шажочков. Она догнала девушек, схватив одну за волосы, а двух других за загривок, отнесла под мышкой во дворец и бросила всех трех в погреб, кишащий жабами и ужами и усыпанный костями тех, кого людоеды уже сожрали.
Старуха захотела сразу же сгрызть Вострушку и пошла за уксусом, солью и маслом, чтобы приготовить из нее салат. Но тут она услышала шаги людоеда. Кожа у принцесс была такой белой и нежной, что великанша решила съесть их сама и быстренько спрятала их под большую бадью, в которой была дыра — сквозь нее им было все видно.
Людоед был в шесть раз выше жены, от его раскатистого голоса дрожал весь дворец, а его кашель грохотал как гром. У него был только один огромный жуткий глаз, волосы торчком, а в руках полено — это была его трость. Великан принес корзину с крышкой, откуда он достал пятнадцать младенцев, выкраденных им по дороге, и проглотил их, точно пятнадцать яиц. Увидев это, три принцессы задрожали под бадьей; не смея плакать в голос, они только перешептывались:
— Он ведь съест нас живьем, как же нам сбежать?
Людоед сказал жене:
— А ведь чую я, чую человечинку[151], отдай ее мне.
— Вечно тебе мерещится, — отвечала старуха, — это твои овцы пасутся неподалеку.
— Нет, человечий запах я ни с чем не спутаю. Сейчас обыщу весь замок.
— Ну, и не найдешь ничего.
— А вот ежели найду человека, которого ты от меня спрятала, — отрублю тебе голову и буду ее подбрасывать точно мяч.
Испугавшись угрозы, старуха ответила:
— Не сердись, мой милый людоед, я скажу тебе правду. Сегодня сюда приходили три молодые девицы, и я их поймала, но было бы жаль их съесть — они мастерицы на все руки. Я уже немолода, и мне нужен отдых. Наш прекрасный дворец в запустении, хлеб не пропекается, суп тебе невкусный, я — некрасивая, потому что вкалываю тут как проклятая, не щадя себя. Пусть они будут моими служанками. Умоляю тебя, не трогай их пока: проглотить всегда успеешь, если уж очень есть захочешь.
Людоед нехотя пообещал не съедать принцесс сразу, хотя и проворчал:
— Дай мне хоть двух.
— Нет, они тебе не достанутся.
— Ну тогда хоть самую маленькую.
— Нет, ни одной не дам.
Попререкались они еще, и наконец великан пообещал не трогать девушек. Людоедка же думала про себя: «Когда он отправится на охоту, я их съем, а ему скажу, что они сбежали».
Людоед, выйдя из погреба, велел жене привести пленниц. Бедняжки были до смерти напуганы, и людоедка принялась их успокаивать. Великан же спросил, что они умеют делать. Принцессы ответили, что могут подметать, великолепно прядут и шьют, а еще готовят вкуснейшее рагу — такое, что пальчики оближешь, — и такие лакомые булки, пирожные и пироги, каких не пекут и за сотню лье в округе. Людоед любил вкусно поесть.
— Что ж, пусть наши маленькие мастерицы принимаются за работу. А вот скажи, например, ты, — обратился он к Вострушке, — когда растапливаешь печь, как проверишь, разогрелась она или нет?
— Монсиньор, — ответила она, — я бросаю туда кусочек масла и пробую его языком.
— Хорошо, затопи печку.
Печь была размером с целую конюшню, ведь людоед с женой съедали больше хлеба, чем два войска. Принцесса развела в топке ужасающий огонь, который вспыхнул как пожар. Меж тем людоед, в ожидании вкусного свежего хлеба, умял сто ягнят и сто молочных поросят. Флоранна и Белладонна замешивали тесто. Людоед-великан прогремел:
— Что ж, разогрелась ли печь?
— Монсиньор, — ответила Вострушка, — уже вот-вот.
И она бросила в топку тысячу фунтов масла, сказав:
— Нужно попробовать его языком, но я слишком мала и не дотянусь.
— Зато я дотянусь. — И людоед, нагнувшись, полез прямо в печь, да так глубоко, что не смог выбраться и сгорел дотла. Старуха взглянула в печь и застыла от удивления: ее глазам предстала гора пепла — всё, что осталось от мужа.
Флоранна и Белладонна увидели, как она удручена, и принялись ее всячески утешать — ведь они боялись, как бы людоедка, проголодавшись, не забыла о своем горе и не приготовила из них салат, как собиралась прежде. Сестры успокаивали ее:
— Не падайте духом, сударыня, вы обязательно найдете какого-нибудь короля или маркиза, который будет счастлив назвать вас своей женой.
Она слабо улыбнулась, показав огромные зубы, больше дюйма длиной. Вострушка, заметив, что старуха пришла в хорошее настроение, сказала:
— Пожелай вы только сменить эти ужасные медвежьи шкуры на модные платья, уж мы бы вас восхитительно причесали, и вы бы засияли как звезда.
— Что ж, пусть будет по-твоему, но тогда уж знай — если найдутся дамы красивее меня, я порублю тебя на маленькие кусочки, как мясо на фарш.
Тут принцессы сняли с людоедки чепец и принялись расчесывать и завивать ей волосы. Пока сестры забавляли ее болтовней, Вострушка взяла топор и сзади так сильно ударила им великаншу, что у той голова слетела с плеч.
Такого ликования еще не видел свет. Сестры забрались на крышу дворца и принялись весело звонить в золотые колокольчики, обошли все залы, изукрашенные жемчугом и брильянтами и обставленные такой роскошной мебелью, что принцессы не помнили себя от радости. Они хохотали и пели — ведь теперь у них всего было вдоволь: пшеницы, цукатов, фруктов и кукол. Флоранна и Белладонна развалились на постелях из парчи и бархата, приговаривая:
— Да ведь мы стали богаче, чем был наш отец, пока его не изгнали из королевства. Нам осталось только выйти замуж, но сюда никто не приедет — наверняка этот дворец считают логовом людоедов, а об их гибели никто не знает. Отправимся-ка мы в ближайший город и выйдем там в свет в красивых платьях. Так мы быстро найдем богатых купцов, которые будут счастливы жениться на принцессах.
Они нарядились и сказали Вострушке, что идут прогуляться, а ей велели оставаться дома и заняться пока уборкой и стиркой, чтобы к их возвращению в доме всё сияло чистотой, а иначе-де они ее поколотят. Бедняжка с тяжелым сердцем осталась одна-одинешенька во дворце и, роняя слезы, без устали подметала, чистила и мыла.
— О, несчастная, — причитала она, — не послушалась я крестной, и вот на мою долю выпадают одни беды. Сестры украли мои роскошные платья и сами в них наряжаются. Если бы не я, людоед и его жена сейчас были бы живы и здоровы. Какая мне польза от того, что я их на тот свет отправила? Не лучше ли было бы, если б они меня съели, чем жить так?
И она заплакала горькими слезами. Вскоре вернулись ее сестры; они принесли португальские апельсины[152], цукаты и сахар и наперебой затараторили:
— Ах, какой был роскошный бал! Столько народу! Там танцевал сам принц, а нас так и окружили всеобщим вниманием. А ну-ка разуй нас и почисть от грязи — твое-то ремесло такое!
Вострушке оставалось только подчиниться, а если и вырывалось у нее хоть одно жалобное слово, сестры тут же набрасывались на нее и избивали до полусмерти.
На следующий день они снова отправились на бал, а вернувшись, всячески расписывали его чудесное великолепие. Однажды вечером, когда Вострушка сидела у очага на куче золы, предаваясь тоске-печали, ей пришло в голову ощупать трещины в камине, и она нашла ключик, такой старый и ржавый, что измучилась его оттирать; отчистив же его до блеска, увидела, что он из чистого золота. Тут решила Вострушка, что золотым ключиком должен отпираться какой-нибудь красивый сундучок; обегала она весь дворец и давай вставлять ключик во все замочные скважины и наконец наткнулась на великолепный сундук, к которому ключик-то и подошел. Она открыла его и обнаружила там роскошные наряды, брильянты, кружева, белье и ленты. Ни словом не обмолвившись о такой находке, она с нетерпением ждала, пока сестры уедут на следующее утро; а стоило им скрыться из виду, как Вострушка нарядилась так, что своей красотой затмила солнце.
В этом великолепном наряде она отправилась на бал, где танцевали ее сестры. Хотя на ней и не было маски, она так похорошела, что они ее не узнали. Стоило Вострушке только появиться на балу, как поднялся восхищенный и завистливый шепот. Ее непрестанно приглашали на танец, и она превзошла всех дам и умением танцевать, и красотой. Тут хозяйка бала, подойдя к ней и присев в глубоком реверансе, спросила имя столь удивительной особы, чтоб навсегда его запомнить. Та учтиво ответила, что ее зовут Золянка. Все кавалеры тотчас забыли о своих дамах ради Золянки, и не было ни одного поэта, который бы не сочинил стихов в ее честь. Никогда еще имя столь скромное не производило такого громкого фурора столь стремительно. Все неустанно восхваляли Золянку и глаз с нее не сводили.
Флоранна и Белладонна, до этого тоже пользовавшиеся шумным успехом, теперь умирали с досады, что такой прием оказан этой незнакомке. Но Вострушка с неподражаемым изяществом справлялась со всеобщим вниманием: весь ее облик словно говорил о том, что она создана повелевать. Флоранна и Белладонна привыкли, что у их сестры лицо вечно выпачкано в печной саже, а сама она грязней щенка; поэтому, забыв, как она красива от природы, не узнали ее; им оставалось лишь преклоняться перед Золянкой наравне со всеми.
Вострушка же, видя, что бал вот-вот закончится, поспешно ушла, возвратилась домой и проворно переоделась в лохмотья. А сестры, вернувшись, рассказали ей:
— Ах! Вострушка, какую мы видели очаровательную юную принцессу, — не то что ты, обезьянья рожица. Кожа у нее белая, как снег, румянец алее роз, зубы словно из жемчужин, а губы из коралла. Ее платье, расшитое золотом и бриллиантами, весит больше тысячи фунтов. Как она прекрасна! Как мила!
Вострушка тихо прошептала:
— Такой я и была, такой я и была.
— Что ты там бормочешь? — говорили они.
Вострушка отвечала еще тише:
— Такой я и была.
Эта игра продолжалась еще долго. Не проходило и дня, чтобы Вострушка не показывалась в новом наряде, ведь сундук был волшебный: чем больше платьев она из него брала, тем больше их там появлялось, да таких модных, что остальные дамы принялись шить себе наряды такого же фасона.
Однажды вечером Вострушку так увлекли танцы, что она ушла позже обычного. Чтобы наверстать упущенное время и добраться до дома раньше сестер, она бежала изо всех сил и обронила туфельку из красного бархата, расшитую жемчугом. Остановилась она и хотела было отыскать ее на дороге, да тщетно — ночь была очень темной. Так и вернулась домой в одной туфельке.
На следующий день ехал на охоту старший королевский сын принц Милон[153], он и нашел туфельку Вострушки; приказал подобрать ее, стал внимательно разглядывать и все не мог налюбоваться крохотной очаровательной туфелькой — вертел-вертел ее в руках, целовал и гладил и наконец увез ее с собой. С этого дня он потерял аппетит, исхудал и переменился в лице: ходил грустный-прегрустный и весь пожелтел, как лимон. Король с королевой, в сыне души не чаявшие, во все концы посылали за лучшей дичью и цукатами, но это не помогало: и смотреть не хотел он на яства, и объяснить не желал, отчего так. Тогда повсюду отправили гонцов за докторами, даже в Париж и Монпелье[154]. Когда те явились, то осматривали принца три дня и три ночи, не смыкая глаз, и заключили, что он влюблен и непременно умрет, если не дать ему от его болезни лекарства.
Королева, до безумия любившая сына, заливалась слезами, потому что не могла найти избранницу сына и сыграть свадьбу. Самых прекрасных красавиц приводила она в покои Милона, а тот даже не удостаивал их взглядом. Наконец она сказала ему:
— Мой дорогой сын, ты хочешь, чтобы мы умерли с горя, ибо ты влюблен, но скрываешь от нас свои чувства. Скажи нам, кого ты избрал, и мы вас поженим, даже если она простая пастушка.
Принц, осмелев от таких обещаний, вытащил из-под подушки туфельку и показал ее королеве:
— Вот, сударыня, в чем причина моей болезни. Я нашел эту прелестную крошечную туфельку, когда ехал на охоту. Я женюсь только на той, кому она подойдет.
— Хорошо, мой сын, — промолвила королева, — не печалься, мы прикажем найти прекрасную незнакомку.
Королева рассказала обо всем королю. Тот был очень удивлен, но немедля велел глашатаям объявить под бой барабанов и звуки труб, что все девицы и дамы должны примерить туфельку, и та, которой она придется впору, станет женой принца. Услышав эту новость, все дамы бросились омывать свои ножки целебными водами и натирать их кремами и мазями. Одни соскабливали кожу со ступней, чтобы сделать их красивее. Другие голодали или срезали огрубевшую кожу с ног, чтобы сделать их меньше. Они толпами являлись во дворец примерить туфельку, но ни одна не смогла ее надеть, и чем больше их понапрасну приходило, тем в большее отчаяние впадал принц.
В один из этих дней Флоранна и Белладонна необычайно пышно нарядились.
— Куда вы так разоделись? — спросила Вострушка.
— Мы едем в город, — ответили они, — где живут король и королева, чтобы примерить туфельку, которую нашел принц. Он женится на той, кому она придется впору, так что одна из нас станет королевой.
— А как же я, — воскликнула Вострушка, — разве вы не возьмете меня с собою?
— Экая ты, право, дурища, — расхохотались сестры, — иди поливай капусту, это все, на что ты годишься.
Вострушка тотчас решила надеть лучший наряд и отправиться попытать счастья наравне с остальными: ведь она знала, что ей-то есть на что надеяться, однако же как ей было найти туда дорогу — ведь бал, на котором она так блистала, проходил не в столице королевства. Все же принцесса облачилась в платье из синего шелка, расшитое звездами и брильянтами; на голове у нее сияло солнце, а на спине — луна, и такой свет струился от ее одежд, что на нее невозможно было смотреть не мигая. Выйдя за порог, Вострушка с изумлением увидела испанского красавца скакуна, когда-то отвозившего ее к крестной. Она погладила его и сказала:
— Ты для меня дорогой гость, милая лошадка, я многим обязана крестной Мерлузе.
Конь пригнул передние копыта, и Вострушка села на него, точно нимфа. Его гриву украшало множество золотых колокольчиков и лент, а попоне и узде не было цены. Вострушка в сотню раз превосходила красотой Елену Прекрасную[155].
Испанский скакун пустился вскачь, и его колокольцы так и зазвенели: динь-динь-динь. Флоранна и Белладонна, заслышав звон, обернулись и увидели наездницу. Каково же было их удивление, когда они узнали в ней Вострушку-Золянку! А их-то роскошные наряды сверху донизу забрызгала дорожная грязь.
— Сестрица, — воскликнула Флоранна, обращаясь к Белладонне, — я вас уверяю, что это Вострушка-Золянка.
Тут охнула и Белладонна, а Вострушка проскакала мимо, и ее конь так обдал их грязью, что лица будто покрылись масками. Вострушка рассмеялась и крикнула:
— Эй, ваши высочества, Золушка[156] презирает вас так, как вы того заслуживаете.
Затем она промчалась стрелой и исчезла из виду.
Белладонна и Флоранна переглянулись:
— Привиделось нам, что ли? Кто мог дать платье и коня Вострушке? Что за чудеса — вот и ей улыбнулась удача; чего доброго, и туфелька подойдет, а мы только зря проходим в город?
Пока они терзались отчаянием, Вострушка добралась до дворца. Увидев ее, все подумали, что это какая-нибудь королева: стражники отдали ей честь, тут же забили барабаны, зазвучали трубы и открылись все двери, и те, кто встречал ее на балу, поспешали оказаться впереди нее, чтобы сказать:
— Дорогу, дорогу прекрасной Золянке, новому чуду света!
С такой свитой она вошла в опочивальню умирающего принца. Он взглянул на нее и был очарован; очень надеялся, что туфелька подойдет гостье. А Вострушка тут же ее и надела, да показала и вторую, которую нарочно захватила с собой. Тогда все вскричали:
— Да здравствует принцесса Милона, наша будущая королева!
Принц поднялся с постели и осыпал поцелуями ее руки. Милон показался ей красивым и остроумным и наговорил множество любезностей. Королю и королеве сообщили радостную весть, и они поспешили к сыну. Королева заключила Вострушку в объятия, называя ее своей дочерью, своей крошкой, королевной. Она не поскупилась на богатые подарки, как и щедрый король. Тут прогремел пушечный залп, заиграли скрипки и волынки, и все принялись танцевать и веселиться.
Король, королева и принц уговаривали Золянку выйти замуж.
— Нет, — ответила она, — сперва позвольте мне кое-что рассказать вам.
И Вострушка кратко поведала им о себе. Узнав, что она родилась принцессой, все слушавшие возликовали и чуть не умерли от радости; когда же она назвала имена своих отца-короля и матери-королевы, тут стало ясно, что нынешние властители этих мест отвоевали их королевство, — так они и сказали Золянке. Она поклялась, что свадьбе не быть до тех пор, пока владения ее отца не отдадут ему обратно. Тогда король с королевой пообещали так и сделать — ведь у них самих королевств было больше сотни, так что отдать одно ничего им не стоило.
Тем временем до дворца добрались Белладонна и Флоранна. Они тут же услышали новость, что туфелька пришлась Золянке впору; не зная, что делать и что сказать, они хотели было уйти, не повидавшись с нею. Но она, узнав, что сестры здесь, позвала их к себе и, вместо того чтобы рассердиться и подвергнуть их заслуженному наказанию, подошла к Флоранне и Белладонне, нежно обняла их и представила королеве со словами:
— Сударыня, вот мои милые сестры, прошу вас любить их.
Флоранна и Белладонна застыли от удивления, не в силах слова молвить — так их поразила доброта Вострушки. Она же пообещала вернуть их в родное королевство, которое принц отдаст их семье. Тут они бросились на колени перед Вострушкой, плача от счастья.
Такой пышной свадьбы еще не видел свет. Вострушка написала своей крестной письмо, а отвезти его вместе с щедрыми дарами вызвался испанский красавец конь. Она просила фею разыскать короля и королеву, рассказать им о счастье, выпавшем на их долю, и передать, что они могут вернуться в свое королевство.
Фея Мерлуза как нельзя лучше выполнила это поручение. Родители Вострушки возвратились в свои владения, а ее сестры стали королевами, как и она сама.
* * *
Коль благороден ты и жаждешь мщенья,
Вострушкино припомни поведенье.
Неблагодарному желая отомстить,
Ты расточай ему благодеянья:
Они ж ему и станут наказаньем —
Больнее можно ль уязвить?
Как скверно жадным сестрам было,
Казался горше им удел,
Когда Вострушка им благотворила,
Чем если б людоед их съел.
Сему примеру подражай послушно:
И помни: благородный человек
Мудрее не придумает вовек,
Чем так отмстить великодушно.
Пер. М. А. Гистер
Дон Габриэль Понсе де Леон
Продолжение

— Вот видите, — говорила она, — моя сказка не хуже той, что рассказал дон Габриэль.
— Ах, сударыня, — отвечал граф, — с вашей ничто не сравнится.
Он продолжал бы и дальше расточать похвалы, столь приятные рассказчице, если бы последнюю не известили о том, что архиепископ Компостельский прибыл и уже находится в ее покоях.
Она поспешила навстречу прелату, Мелани хотела последовать за ней, но граф, не умея подавить свой порыв, попытался удержать ее.
— Вы сочтете меня наглецом, сударыня, — сказал он, — но ведь я лишь хочу признаться в моей почтительной страсти к вам; да, Мелани, я люблю вас. — Тут он немного помолчал, а затем продолжал: — Вы краснеете от этих смелых слов, но не судите о моем сердце, которое я отдаю вам, по скудости моего состояния; я убежден, что моя фортуна впредь совершит ради меня чудеса, если только вы сами будете добры ко мне!
— Довольно бесплодных фантазий, дон Эстеве, — отвечала девица, презрительно глядя на него, — лучшим следствием вашей дерзости будет, если я сохраню ее в тайне и стану смотреть на вас как на безумца.
Граф был как громом поражен. Он едва не попенял ей, что с доном Габриэлем она не была бы столь жестока, однако победил досаду и отошел в сторону.
Он еще мерил галерею большими шагами, размышляя о своем приключении, когда дон Габриэль, тревожившийся о том, чего же хотела донья Хуана от его друга, пришел туда за ним, и печальное лицо графа не на шутку обеспокоило его.
— Расскажите же, что нас ждет! — сказал он.
— Что ждет вас, мне неизвестно, — с горечью отвечал ему граф, — но моя участь меня вовсе не радует. Мелани говорила со мной тоном, полным презрения; она ополчается на мое безвестное происхождение, но ведь на самом деле она просто сравнивает меня с вами, и притом не в мою пользу.
— Увы, дорогой кузен, — отвечал Понсе де Леон, — да разве лучше обстоят мои дела? Исидора также взирает на меня с невыносимым презрением, а между тем мне не избежать признания, пусть даже оно добавит новых горестей к тем, что я и так терплю.
— Вы не так несчастны, как я, — сказал граф, — ведь единственный источник ваших забот — это Исидора, мне же еще и приходится встречать притворной и смехотворной взаимностью страсть старой Хуаны и жертвовать ей временем, которое я бы использовал с большим толком. Только что она дала мне понять, что я ей не противен, и сама уверена, что я ее обожаю, — да вообразимо ли подобное сумасбродство? Если Мелани и впредь будет презирать меня, не думаю, что смогу терпеть внимание ее тетушки.
Он все еще говорил, но Понсе де Леон ничего не отвечал.
— Что это с вами, — спросил граф, — вы так мечтательны!
— Я сочинял куплеты на мотив, который так нравится Исидоре, — отвечал тот, — когда я закончу, вы скажете мне, понравилось ли вам.
— Не советую вам заботиться о моем суждении, — сказал граф, — у меня сейчас на уме совсем не то и сердце не на месте.
Они собирались покинуть галерею, как вдруг их окликнула главная дуэнья Хуаны, пришедшая позвать их спеть архиепископу Компостельскому; однако, слишком хорошо знакомые с ним, чтобы отважиться явиться, они сказались простуженными и пожаловались на жестокую головную боль; а опасаясь уговоров, через парк прошли в комнату, выходившую окнами на лес.
Это убежище о многом напомнило нашим пилигримам; один жалел о выпавших на его долю бедах и треволнениях, другой сокрушался, что нашел такой слабый отклик в сердце той, которая могла бы составить счастье его жизни. Глядя в темный лес, оба печалились, что лучше было оставаться там, нежели оказаться под той роковой звездой, какая ныне светит их любви.
— Что же может быть нелепее? — вопрошал дон Габриэль. — Исидора благосклонно взирает на вас, Мелани охотно принимала бы мои воздыхания; я направляю их не ей, а вам безразлична та, которая любит вас.
— А что, если нам поменяться! — сказал граф. — Тогда наше счастье все еще зависит от нас.
— Ха! Вот так предложение! — воскликнул дон Габриэль. — Да сами-то вы верите, что такое возможно?
— Да, определенно, — отвечал граф, — и страстно хотел бы этого, да вот сердце мое так мало думает о своих интересах, что не спешит исполнять мои желания.
Прошло еще немного времени, и вот, наконец услышав, как мимо проехал архиепископ, возвращавшийся в Компостелу, они спустились в парк и пошли по аллее; тут они заметили Исидору и Мелани — те слишком заскучали в комнате Хуаны и теперь не прочь были прогуляться.
— Войдем в эту зеленую беседку, — сказал кузену Понсе де Леон, — я спою песню, которая нравится Исидоре, и тогда она, быть может, подойдет к нам.
Он не ошибся; однако Мелани, чья досада на графа еще не прошла, попросила сестру остановиться неподалеку от беседки, объяснив причину. Девицы проскользнули между деревьями, но не совсем бесшумно, так что дон Габриэль, внимательно за ними следивший, поспешил начать и пропел такие слова:
К чему противиться Любви?
Доспехи сбросьте, Исидора,
Тот пламень, что кипит в крови,
И вам познать придется скоро.
Божок Амур всех победил,
Сопротивленье бесполезно,
Не ждите, чтоб он вас пленил,
Ступайте сами в плен любезный.
Ведь будет вам, увы, больней,
Коль вас за небреженье страстью
Шалун Амур на склоне дней
Своею покарает властью!
Не в силах нежность задушить,
Вседневно мучась и страдая,
Вам до конца придется жить
И жалуясь, и причитая:
«Увы, дитя, царь всем богам,
Надежду вновь во мне затепли!
Верни огонь моим очам
Иль сделай так, чтоб все ослепли!»
Дон Габриэль собирался продолжать, как вдруг подобно фурии примчалась донья Хуана. Разволновавшись из-за головной боли ее дорогого паломника, она, не успел архиепископ усесться в карету, обегала все аллеи в парке, зная, что он отправился туда. Услышав голос дона Габриэля, она спряталась в кустах и с удивлением уловила в первом же куплете имя своей племянницы; поняв же, что дальше речь о старости, уже не сомневалась, что в песне поется о ней, и влетела в беседку в вышеописанном мною виде.
— Ах, вот оно как! — воскликнула она. — Вы, стало быть, платите за мой добрый прием насмешливыми песенками, дон Габриэль, да еще и даете прекрасные советы моей племяннице. Чудесно же вы со мною обращаетесь!
Трудно описать изумление обоих влюбленных; редко гнев так нежданно настигал адресата. Тут-то почувствовали они, что могут утратить, если им прикажут удалиться. Граф принялся извиняться за дона Габриэля, но вдруг Мелани и Исидора, не в силах более сдерживать волнение, явились и вмешались.
— Как, сударыня! — сказали они тетке. — Разве вы не помните, что мы с сестрицей недавно сочинили эту песенку в вашем присутствии, и это так позабавило вас, что вы пожелали, чтобы я придумала еще несколько куплетов? Теперь же я научила им дона Габриэля, и раз уж они вас раздосадовали, придется нам вступиться за певца.
Обе прелестные девицы и в самом деле слагали песни, однако эта была не из их числа; между тем их убедительный тон успокоил донью Хуану: несказанно обрадовавшись, что насмехались не над ней, она тут же смягчилась.
— Мне жаль, — улыбнулась она Понсе де Леону, — что я излила на вас мой гнев — но поймите же и меня: что может быть обиднее?
Дон Габриэль, весьма учтиво раскланявшись, прибавил, повернувшись к Исидоре:
— Как же я обязан вам, сударыня! Вы оправдали меня: продолжай донья Хуана подозревать меня в черной неблагодарности, я умер бы с горя!
Затем он сказал вполголоса, только ей одной:
— Да, сударыня, я умер бы с горя, если бы мне пришлось оказаться вдали от вас!
Исидора отвечала ему одним лишь взглядом, в котором не было неприязни.
Оставшись наедине, они с кузеном обнялись, и граф сказал:
— Признаем очевидное: старушка нас порядком напугала.
— Я до сих пор в себя не могу прийти, — отвечал дон Габриэль, — и если еще когда-нибудь буду слагать песни, то хотел бы…
— Но, кстати, — перебил его граф, — что за странный прием вы избрали? Вместо того, чтобы выразить Исидоре вашу страсть, вы рассказываете ей про безумства ее тетушки!
— О! Там дальше шло и объяснение, — воскликнул дон Габриэль, — я просто не успел его спеть.
— Поверьте мне, — рассмеялся граф, — объяснитесь лучше в прозе.
— Так вы, стало быть, думаете, — отвечал дон Габриэль, — будто я сам не рад, что спел эти куплеты? Уверяю вас, Исидора снисходительнее к поэтам, чем к другим; она взглянула на меня с добротой, какой прежде я от нее не видал.
— Будь такой же и Мелани, я бы день и ночь сочинял стихи, — сказал граф.
В самом деле, на следующий день, когда он пропел довольно нежные строфы, Мелани попросила его записать их ей в альбом. Граф задумался на мгновенье и вместо этого начертал следующее:
Поверьте, очень скверно
Такой жестокой быть
К тому, кто рад служить
Вам преданно и верно.
Прочтя эти строки, она с презрением стерла их платком. Графа это весьма болезненно задело, однако он не показал виду, произнеся лить:
— Вот примерное наказание за мой маленький подлог, сударыня; соблаговолите же отдать мне альбом, и я напишу в нем то, о чем вы просили.
Она дала ему альбом, и он записал в нем, на мотив менуэта[157], которому недавно научил ее:
Презренье ваше беспредельно,
И в гроб оно меня сведет.
Увы, страдаю я смертельно,
Да только смерть ко мне нейдет.
Казалось, эти строки еще сильнее разгневали ее, и она сказала дону Габриэлю:
— Ваш брат обращается со мною с такой фамильярностью, будто мы ровня.
— Мне слишком хорошо известно, кто вы и кто я, — возразил граф, — однако, сударыня, в ваших глазах все, чего бы я ни сделал — преступление, и этим вы заставляете меня со всей остротой почувствовать, какое несчастье и грех — родиться в безвестности.
Исидора, слышавшая все это, позлорадствовала над его горем.
— Моя сестрица слишком горда и сурова, — утешила она графа.
— Увы, сударыня! — отозвался дон Габриэль. — Разве вы более снисходительны?
Вопрос заставил ее смутиться: задавший его был ей не столь любезен, чтобы удостоить его ласковым ответом. Так эти четверо, которые могли составить счастье друг друга, по странной прихоти своей жестокой звезды сделались друг другу мучителями.
Между тем донья Хуана была всецело занята своей бредовой страстью к графу. Она позвала его в свой кабинет и, после короткой преамбулы, продолжения которой он ждал не без страха, сказала:
— Дон Эстеве, вы кажетесь мне человеком весьма галантным; хоть я и решилась никогда не подчинять себя тяжкому бремени брачных уз, теперь я думаю, что могу без страха изменить этому решению. Мой отец, который был губернатором Лимы, располагал внушительным состоянием; и то, что досталось мне в наследство, по большей части находится не в Испании, а в Мексике[158]. Пожелай вы только уехать туда со мною, и я разделю с вами все мое богатство; здесь я не смогу жить спокойно, став вашей женой, а там ваше происхождение никому не известно, и мы будем счастливы. Подумайте над этим предложением, и, если вы согласны, нам уже надобно собираться в путь: галеоны скоро отходят.
Это нелепое предложение весьма удивило графа, однако, рассудив, что отказ слишком обидит Хуану и лучше просто оттянуть дело, он ответил:
— Сударыня, я не в силах выразить, как признателен вам за доброту; однако я никогда не был неблагодарным и потому, чтобы стать достойным вас, начну с рассказа о своей судьбе.
Некая молодая вдова, весьма богатая и достойная, прониклась ко мне горячим дружеским чувством, часто принимала в своем доме и предложила мне жениться на ней. Я был несказанно рад такой партии; мой отец также обрадовался; вскоре подписали брачный контракт. Наконец наступил день нашего бракосочетания; я поехал за нею вместе со всей моей семьей, и свадьбу сыграли в загородном имении близ Антверпена. Но не прошло и недели, как явился ее первый муж, которого уже десять лет считали погибшим. Моя — а вернее, его жена, сделала вид, что не узнает его. Скандал был столь громок, а моя обида — столь велика, что я оставил отца заниматься процессом, а сам отправился в Сантьяго вместе с братом. Умоляю вас, сударыня, — продолжал он, — позвольте мне дождаться, чтобы дело уладилось, прежде чем ехать в Мексику.
— Так будет правильно, — весьма взволнованно отвечала донья Хуана, — успех этого дела беспокоит меня, и уверяю вас, знай я, что вы женаты, — вовремя задушила бы мое нежное чувство к вам; ведь раз вы любили эту женщину, то всегда будете сожалеть о ней!
— Ах, сударыня! Рядом с вами я легко утешусь, — сказал граф, целуя ее руку, — но, сами видите, сначала нужно расторгнуть мой брак.
Милая старушка с ним согласилась, хотя и зашла уже так далеко в своей нежности, что ее не смутила бы и полигамия.
Дон Габриэль ожидал своего кузена в крайней тревоге: он все еще боялся, как бы, по несчастному стечению обстоятельств, донья Хуана не выгнала их, если б заговор раскрыли. Однако он успокоился, услышав, как граф мечтательно и потихоньку, чтоб его не услышали, мурлычет куплет, сочиненный им про донью Хуану:
Ирида любит красоваться
И хочет в старости казаться
Моложе, чем сама Весна.
Все точно как в «Метаморфозах»[159]:
Весна цветет, она вся в розах;
Цветет Ирида — вся в прыщах она.
— Я уже стал волноваться, — крикнул ему Понсе де Леон, — но вы так веселы, что, кажется, опасения были напрасны.
— И в самом деле, — отвечал граф, — мне есть чему радоваться, и вы с этим согласитесь, узнав, что я приглашаю вас на мою свадьбу.
— На вашу свадьбу? — перебил его крайне встревоженный Понсе де Леон. — Как, с Исидорой?!
— Нет, — с улыбкой возразил граф, — у меня не столь дурной вкус, чтобы избрать молодую и красивую девицу; итак, сообщаю вам, что мое бракосочетание состоится в Мексике, в великом городе Лима, с любезнейшей и очаровательнейшей доньей Хуаной.
— Давно ли у вас это сумасбродство? — спросил дон Габриэль.
— Никакого сумасбродства, — ответил граф, — все весьма серьезно; правда, нашему браку препятствует одно обстоятельство: у меня, видите ли, есть жена в Брюсселе.
Понсе де Леон от души расхохотался, не мог сдержать смеха и сам граф. Затем, отставив шутки, он рассказал обо всем кузену, и дон Габриэль признался ему, что немало опасается исхода этой интриги.
Было уже так поздно, что Понсе де Леон и граф де Агиляр не захотели расходиться по своим спальням, а улеглись вместе. Граф еще не спал, когда дверь вдруг тихонько отворилась. Немало удивленный, тем более что обычно он не оставлял ключ в двери, он изумился еще сильнее, когда в комнату вошли мужчина и женщина. Он толкнул кузена и, приложив палец к губам, сделал ему знак смотреть внимательно. Луна светила так ярко, что было видно все происходящее в комнате.
Сначала они решили, что это донья Хуана невидимкой прокралась к графу; однако зачем тогда было приводить с собой мужчину, да к тому же стоять в углу? Дон Габриэль, вспомнив, как однажды Исидора удостоила его ласковым взглядом, льстил себя надеждой, что это она, раскаявшись в своем безразличии, пришла поговорить с ним. Однако для такой разумной особы, как Исидора, было бы слишком странно явиться в столь поздний час, да к тому же и в комнату графа. Тут дон Габриэль испугался, подумав — а не к его ли кузену, в самом деле, шла Исидора, ведь она всегда была так с ним любезна.
Вот какие мысли занимали их, когда дама вдруг произнесла вполголоса:
— А ведь я очень робею вашей тетушки, дон Луис! Как-то посмотрит она на меня, после всего, на что я ради вас решилась?
— Ничего не опасайтесь, прекрасная Люсиль, — отвечал ей дон Луис, — донья Хуана весьма учтива, а мои сестры готовы на все, чтобы вам угодить. Однако будить их еще рано, потому я и привел вас в мою спальню, чтобы вы провели здесь остаток ночи, а я пока приму меры, дабы никто не узнал, что мы здесь.
— В самом деле, — сказала она, — гневу моих родных не будет предела, а полученное мною богатое наследство придало мне в их глазах больше важности, чем прежде. Увы, дон Луис! Как же нам заставить их смягчиться?
— Я буду любить вас больше всего на свете, дорогая Люсиль, — отвечал он, — и я надеюсь, они поймут, что лишь непобедимая страсть заставила меня вас похитить; но ведь, в конце концов, род мой достаточно благороден… — Он не успел закончить фразу, так как граф, уже четверть часа сдерживавший одолевавший его кашель, наконец не выдержал. От этого звука напуганная Люсиль бросилась бы вон из комнаты, если бы дон Луис, входя, не озаботился запереть дверь. Он быстро подошел к кровати и немало удивился, найдя на стульях одежду, которую, уезжая, оставил в гардеробе. Он не мог понять, кто осмелился на такое — взять и надеть все это, а было ясно, что это тот самый, кто только что кашлянул в его кровати.
Он уже собирался откинуть полог, но сказал Люсиль:
— Не знаю, как быть; возможно, этот человек спит, и он нас не слышал; не исключено ведь, что он и глух.
— Если он и спит, и будь он даже глух, — отвечала Люсиль, — уж наверное, не следует нам быть при нем в этой комнате, если только, бесконечной божьей милостью, он к тому же не слеп?
Тут Понсе де Леон и его кузен, громко засмеявшись, сами откинули полог.
— Дон Луис, — заговорили оба, — дорогой дон Луис, здесь ваши лучшие друзья, и знайте, что мы нуждаемся в вашей скромности не меньше, чем вы в нашей. — Услышав знакомые голоса, дон Луис крайне удивился, тем более что он уже успел оплакать их гибель.
С тех пор, как они уехали из Кадиса, взяв лишь одного лакея, никто больше о них ничего не слыхал, а поскольку в том краю свирепствовала шайка разбойников, никому не дававшая проходу, все и решили, что оба друга попались им в лапы и были убиты. Потому-то дону Луису легче было представить себе их тени, явившиеся с того света, нежели самих своих друзей, полных жизни и сил, у доньи Хуаны — строжайшей из девиц, которая, стало быть, удерживала в плену тех, кто оказался в ее власти.
Люсиль дрожала, а дон Луис молча размышлял о столь необычайном происшествии.
— Подойдите же, дорогой друг, — продолжал граф, — нам столько всего надо вам рассказать.
Дон Луис раскрыл им объятия.
— Как выразить мою радость и удивление? — воскликнул он. — Ваш тайный отъезд из Кадиса крайне обеспокоил меня, и я счастлив, что мрачные слухи оказались ложными. Но найти вас здесь, в моей комнате, где я полагал быть наедине с доньей Люсиль! Встретить вас у моей нелюдимой тетушки! Что же все это значит? Не замешаны ли тут мои сестры? Расскажите мне все не таясь.
— Да, дон Луис, — сказал ему дон Габриэль, — ваши сестры тут замешаны, ибо меня так задел за живое ваш рассказ о достоинствах старшей, и такой прекрасной мне ее описывали, что я утратил покой и только лишь и мечтал повидать ее. Я поговорил бы об этом с вами, да вы спешно уехали в Севилью. Мне даже казалось, что исполнить задуманное мною невозможно, ведь я уже знал, как сурова донья Хуана с племянницами, и, наверное, не решился бы на такое приключение, не сжалься надо мною кузен, — ведь это он придумал маскарад, благодаря которому мы были здесь благосклонно приняты.
Граф рассказал другу и о своей страсти к Мелани, и о предложении Хуаны уехать с нею в Индию[160].
Дон Луис с радостью слушал. Для его сестер было бы несказанной удачей найти столь завидные партии; ему были известны личные достоинства друзей, их благородное происхождение, их богатство. Он обнял их и расцеловал, просияв от такой нежданной встречи.
— Однако же, — промолвил он, — я предвижу некоторые сложности, которые нам должно помочь уладить время. Вы говорите, что сердца моих сестер клонятся не туда, куда вам хотелось бы, ну, а сердце моей тетушки, конечно, будет весьма разгневано, когда тот, кого она желала видеть своим мужем, окажется ее племянником. Родитель дона Габриэля, быть может, приготовил для него другую партию, мой же отец в чужих краях, а родственники Люсиль, конечно, будут меня преследовать, так что нам с нею, скорее всего, придется уехать в Португалию.
— Вы огорчаете нас, — отвечал дон Габриэль, — ваши предчувствия указывают на препятствия, которых не заметила наша любовь. И все же, несмотря ни на что, мы решились держаться до последнего и скорее умрем, чем отступимся от предмета нашей страсти.
Люсиль не пожелала приблизиться к графу и Понсе де Леону; ей, хотя и знакомой с ними, казалось неловко видеть их в постели. Она оставалась там же, где уселась в начале разговора. Дон Габриэль заметил, как дон Луис беспокоится о том, что она так дурно провела эту ночь, поэтому он посоветовал другу отвести ее в его спальню, которую от комнаты графа отделяла только одна зала. Дон Луис предложил эти апартаменты очаровательной особе, чему Люсиль весьма обрадовалась; она тут же бросилась на кровать, даже не раздеваясь. Дон Луис прикрыл за ней дверь и вернулся к друзьям: у него ведь был свой ключ, благодаря чему он и вошел туда так просто среди ночи.
Они договорились, что раскроют сестрам секрет переодевания в пилигримов и попросят их сделать некоторое усилие над своими привязанностями, так, чтобы их склонности оказались сообразны склонностям дона Габриэля и графа, а те, как только девицы согласятся на это, напишут своим отцам и испросят их согласия на брак. Было решено держать все в тайне от доньи Хуаны, пока дело не решится.
Трое друзей обсуждали свой план до восьми часов утра. Затем дон Луис, пожелавший проведать Люсиль, тихонько зашел к ней; не решившись ее разбудить, он так же тихо прошел в апартаменты Хуаны, немало удивив совсем не ждавших его служанок; но больше всех удивилась сама тетушка. Попросив разрешения поговорить с нею, он рассказал, как хорошо его два года принимали в семье Люсиль, которая в то время была небогатой, так что любил он ее только за добродетель и многие иные прекрасные качества. Сама Люсиль считала, что их будущий брак — дело решенное. И вот брат этой прелестной особы был убит, а она сделалась одной из самых богатых наследниц в Андалусии. Тогда ее дед передумал выдавать ее замуж за дона Луиса и велел ей переехать из Кадиса в Севилью; там он держал ее при себе, собираясь выдать замуж за сына одного из своих друзей. Не выдержав подобного бесчестия, — ведь, отнимая возлюбленную, ему наносили оскорбление, — дон Луис, сговорившись с Люсиль, похитил ее; теперь же он просит тетушку ласково принять у себя его избранницу и быть с нею такой же доброй, какой она всегда была с ним.
Донья Хуана не знала, на чью сторону встать; она очень боялась скандалов и была уверена, что родственники Люсиль поднимут шум, узнав, что та принята в ее доме. Правда, именье это принадлежало не ей и, стало быть, не на ней лежала ответственность за все, что там происходило. С другой стороны, она не могла бы оставить при себе музыкантов, так, чтобы дон Луис ничего не узнал, а тогда он наверняка осудил бы столь странное решение и — как знать? — мог раскрыть ее замысел уехать в Индию с тем, в кого она была влюблена. Наконец, ей пришла в голову удачная мысль.
— Дорогой мой племянник, — сказала она дону Луису, — спроси вы моего мнения прежде, чем исполнить вашу затею, я бы все сделала, чтобы вас от этого удержать. Каких бы радостей и выгод ни сулил желаемый вами брак, последствия его могут оказаться пагубны: пока с вами враждует семья Люсиль, можно опасаться чего угодно. Вот как надо поступить: у меня есть дом в окрестностях Севильи, я отправлюсь туда вместе с вашими сестрами и постараюсь успокоить всех, кто гневается на вас, а вы пока побудете здесь. Как только мы уедем, вам с Люсиль непременно следует обвенчаться — тогда не будет смысла вас преследовать, а мы всегда сумеем вам помочь.
Дон Луис мог лишь горячо одобрить тетушкино решение, рассудив, что это единственная возможность убедить Люсиль сделать его счастливым безотлагательно — иначе как же она сможет оставаться в имении наедине со столь любезным молодым человеком, не будучи его женой? Тогда как, пребывая подле доньи Хуаны, Люсиль пришлось бы ждать окончательного решения своих родных. Дон Луис сказал тетке, что ему очень нравится ее план, и направился в комнату к сестрам, уже умиравшим от нетерпения повидаться с ним.
После взаимных дружеских излияний дон Луис рассказал им о своей страсти к Люсиль и о ее похищении; тут они перебили его, объявив, что дело это крайне беспокоит и пугает их, так как может иметь самые жуткие последствия. Он же признался им, что на скорую смерть злейшего из его врагов не смеет даже надеяться, ибо тот еще вовсе не стар, хоть он и дедушка его возлюбленной.
— Как только оденемся, пойдем повидаться с нею, — сказали они, — и, будьте уверены, мы сделаем все, чтобы угодить ей.
— Вы даже не успеете побыть с нею, — отвечал дон Луис, — донья Хуана собирается безотлагательно отправиться в Андалусию, боясь, как бы ей не устроили скандал, да к тому же считает, что там ей будет легче помочь мне.
Сестры с этим согласились, и дон Луис продолжал.
— Донья Хуана, — сказал он, — говорила мне о двух пилигримах, которые, возвращаясь из Сантьяго, были ранены вблизи этого дома; она сказала, что приютила их у себя и что они достаточно искусные музыканты, чтобы учить вас гармонии. Не будь они так молоды и хороши собою, я одобрял бы их пребывание рядом с вами; разумеется, вам надобно учиться пению и игре на разных инструментах, но нужно найти женщин, способных вас обучать, а не держать в доме чужеземцев, которые, не зная испанских обычаев, могут позволить себе такую вольность, что нам придется раскаяться в нашем гостеприимстве.
Говоря так, он разглядывал лица сестер и, заметив, что те залились краской, легко догадался о причине.
— Вы говорили все это донье Хуане? — спросила Исидора.
— Не преминул, — отвечал дон Луис, — и мне показалось, что ей не хотелось отсылать их; но я весьма твердо настоял на своем и сказал, что этим займусь. Она же, побоявшись, что я обойдусь с ними дурно, обещала позаботиться об этом сама.
— Стало быть, они скоро уедут? — печально спросила Мелани.
— И, надеюсь, нынче же, — сказал дон Луис.
— А чем, по-вашему, опасно, если они и задержались бы здесь? — промолвила Исидора. — Дурного же вы, должно быть, мнения о нас, если считаете возможным, чтобы люди столь низкого происхождения могли оказать на нас какое-нибудь пагубное влияние.
— Дело вовсе не в вас, сестрица, — отозвался он, — я опасаюсь лишь молвы, которая судит вкривь да вкось, но чьи суждения, тем не менее, окончательны и непоправимы. Надеюсь, что вы со мной согласитесь.
Исидора и Мелани, очень расстроенные, пытались утаить от брата причину своей печали.
— Я никогда не видел вас в такой меланхолии, дорогие сестры, — сказал он, — вы сожалеете об этих чужестранцах?
— Нас огорчают ваши подозрения, — отвечала Исидора, — они оскорбительны.
— Скажите лучше, что вас огорчает несоответствие их чувств вашим, и признайтесь, между прочим, что эти чужеземцы вам не противны.
— Право, — воскликнула Мелани, — вы, кажется, решились довести нас до крайности.
Их гнев немало обрадовал дона Луиса.
— Помиримся, — сказал он, нежно обнимая сестер, — и, чтобы не осталось никаких секретов и недомолвок, открою вам, что это ради вас они стали пилигримами: дон Габриэль Понсе де Леон принадлежит к одному из самых знаменитых родов, какие есть у нас в Европе. Дон Мануэль Понсе де Леон, герцог Аркоса, ведущий родословную от королей Херики[161], был его предком, его же предками были короли Леона. Это он защитил невинно оклеветанную королеву Гранады, которую ее муж, король Чико, хотел предать казни[162]. Алонсо де Агиляр также защищал ее; ни рождением, ни заслугами он не уступал никому из славных андалусских сеньоров[163]. От него ведет свой род Эстеве, граф де Агиляр, живущий у вас под видом музыканта. Его внушительное богатство вполне под стать прочим его блестящим достоинствам. Во всем мире нет у меня друзей ближе, чем эти двое, и никто так не достоин дружеской привязанности. Они любят вас и хотят на вас жениться. Судите же сами, дорогие сестрицы, как я рад, что могу надеяться на такой прекрасный союз; они сделают вас такими счастливыми, как я всегда мечтал.
Тут он умолк. Но вместо ответа сестры лишь переглянулись, а затем взглянули на него, как бы желая понять, правду ли он сказал им теперь.
— Вы сомневаетесь в моей искренности, — сказал дон Луис, — и та хитрость, которую я себе только что позволил, дает вам повод к тому. Однако же, будьте уверены, никогда в жизни я еще не говорил с вами более серьезно, чем теперь. Мы с моими друзьями всю эту ночь провели вместе, они рассказали мне о своей страсти к вам, о вашем обхождении с ними, обо всех чудачествах доньи Хуаны.
— Ах, дорогой брат, — воскликнула Исидора, — теперь я прекрасно понимаю, что все это не шутка. В самом деле, трудно себе представить, чтобы люди столь безупречные, учтивые, умные, наделенные такими прекрасными качествами, были теми, за кого себя выдавали; мне не раз приходило в голову, что что-то кроется за этим паломничеством, цели коего я не могла себе вообразить.
— Однако, — перебила Мелани, — милый братец, если вы так дружны с доном Габриэлем, он наверняка сообщил вам, которой из нас отдает предпочтение?
— Да, сестрица, — отвечал дон Луис, — он признался, что избрал Исидору, а граф Агиляр — вас.
Услышав это, обе красавицы побледнели; сердца их уже сделали свой выбор, и каждая думала, что уже не сможет измениться. Дон Луис некоторое время молча смотрел на них; ему не составило труда угадать то, о чем он уже знал. Однако он решил ни в чем не признаваться, дабы не дать сестрам повода сетовать на нескромность своих поклонников.
— Мне кажется, что вы испытываете к ним некую неприязнь, милые мои, — сказал он. — Умоляю вас, прислушайтесь к голосу рассудка; Фортуна благоволит вам, постарайтесь же полюбить тех, кто любит вас. Я советую вам это не только как брат, но и как друг, и прошу вас объясниться с ними дружелюбно, чтобы они могли сделать все необходимые приготовления и испросить согласия своих близких на то, чего они больше всего на свете желают; тогда вы станете такими счастливыми, что трудно и вообразить.
— Вы так откровенно говорили с нами, братец, — сказала Исидора, — что мы не можем более таить от вас наш секрет: мы любим, но любим не тех, которые любят нас; дон Габриэль нравится Мелани, мне любезен граф — можем ли мы изменить свои чувства? Ах, будь мы в них вольны, мы остались бы равнодушными.
— Я надеюсь, — перебил дон Луис, — что ваше предубеждение не столь сильно и что ваши склонности сами же вы и направите в иное русло, коль скоро это так выгодно для вас. Прощайте, я должен вас оставить. Поразмыслите обо всем, а я вернусь к Люсиль и буду ждать вас в ее комнате.
Как только дон Луис вышел, сестры заплакали.
— Что же может быть несуразнее? — воскликнула Исидора. — То, что должно было бы радовать, печалит меня сверх меры. Я узнаю, что мнимый музыкант — сеньор благороднейшего происхождения, и это счастливое превращение переполнило бы меня счастьем, не узнай я в ту же минуту, что он не любит меня, а мечтает только о вас.
— Я так же сетую на судьбу, как и вы, — отвечала Мелани, — хоть мои чувства к дону Габриэлю и заставляли меня краснеть, я все же могла надеяться, что хотя бы признательность, хотя бы тщеславие от того, что он сумел завоевать такое сердце, как мое, смогут привязать его ко мне, пробудив желание нравиться и угождать мне. Теперь же, когда я знаю, кто он, на что мне надеяться? Он достоин вас, он вас любит, вы тоже полюбите его, сестрица, вы его полюбите!
Исидора молча уронила голову на руку, а другой отерла несколько слезинок, которых не смогла сдержать. Наконец, подняв голову, она взглянула на сестру:
— Хотите, я уступлю вам того, кто стал предметом ваших мечтаний и вашей зависти, а для меня ничего не значит? Я даю вам самое сильное доказательство моей нежности, на какое только способна добрая сестра. Я стану монахиней, и тогда дону Габриэлю придется отдать должное вашим достоинствам, а меня он навсегда забудет.
— Да не допустит Бог, — вскричала Мелани, — чтобы я приняла от вас такое доказательство дружбы, милая сестрица! Мне очень скоро пришлось бы последовать за вами в это прибежище, которое вы избираете лишь ради меня; да и окажись я столь неблагодарной, чтобы принять вашу жертву, разве простит мне это дон Габриэль?
— Он не узнает, почему я удалилась в монастырь, — отвечала Исидора.
— Пусть даже и так, — но разве это означает, что он отдаст мне свое сердце? — сказала Мелани. — Нет, милая моя Исидора, я уверена, что сердце может любить, лишь будучи застигнуто врасплох; он уже видел меня, говорил со мною, он знает все обо мне, ничто ему не ново. Я потеряю вас, ничего не приобретя.
— Однако, — отозвалась Исидора, — если вы верно утверждаете, что все решают первые минуты знакомства, тогда мы никогда не полюбим тех, кто любит нас, а все будем любить тех, кто нас не любит.
— Я надеюсь, что будет иначе, — перебила Мелани, — превращение, столь благоприятное для музыкантов, быть может, настроит наши сердца на желаемый ими лад, а поскольку мы всегда до сих пор старательно скрывали свои чувства, я все же надеюсь, что теперь наша любовь тронет их.
— Увы! Как вы заблуждаетесь, думая, что они еще не разгадали наш секрет! — сказала Исидора. — Наши глаза выдали то, что мы пытались скрыть, а язык взоров часто внятнее любого другого.
Мелани собиралась ответить, но тут пришли сказать им, чтобы поскорее одевались и что донья Хуана хочет пойти вместе с ними к Люсиль, чтобы предложить ей все, чем они могли бы ее порадовать. Девицы предпочли ничего не добавлять к своей природной красоте, лишь небрежно заплели волосы, украсив их нарциссами и жасмином; в платьях из легкой белой материи они блистали, подобно Авроре[164]; так обыкновенно облачаются в Испании благородные девицы, когда носят траур, и даже надетая поверх черная мантилья не в силах скрыть тонкости их талий. Величественность их осанки была несравненной — лишь глаза затуманились от недавно пролитых слез, и потому взоры казались не столь ослепительными.
Они явились к тетушке, а та немедленно отправилась к Люсиль, которая была еще в кровати, утомленная долгой дорогой и бессонной ночью — ведь она почти не спала с тех пор, как покинула Севилью. На лице ее вместе с радостью отражалась и тревога; впрочем, такая меланхоличность нисколько ей не вредила. Она была молода, стройна, наделена живым умом и весьма учтива, как и подобает благородной девице.
Донья Хуана проявила к ней явное дружелюбие; она сказала Люсиль, что, если та войдет в ее семью, ее будут так нежно любить, что ей не придется жалеть о содеянном ради дона Луиса. Исидора и Мелани уверяли ее в том же, ласково и мило, что красноречиво говорило о дружбе, которую обе питали к брату. Люсиль же всячески выказывала им, как рада оказаться здесь и как приятен ей их радушный прием.
Тут донья Хуана сменила тему беседы.
— Среди всех достоинств, так украшающих вас, — молвила она, — мой племянник назвал одно, которое мне очень по вкусу.
— А, понимаю вас, сударыня, — отвечала Люсиль с ласковой улыбкой, — он конечно же сказал вам, что я великая рассказчица романсов.
— И верно, — сказала Хуана, — а я, признаюсь, страсть какая до них охотница, словно дитя четырех лет от роду. Я бы, не мешкая, попросила вас рассказать мне что-нибудь, да вы ведь, наверное, устали с дороги.
Люсиль весьма учтиво ответила, что и впрямь притомилась, но ей все же хочется, не откладывая, засвидетельствовать госпоже почтение. Она задумалась на мгновение и начала:
Пер. М. А. Гистер
Фортуната[165]

— Ваша матушка принесла мне в приданое две скамеечки и соломенный тюфяк, — сказал он детям. — Теперь они ваши, как и моя курица, гвоздики в горшке и то серебряное кольцо, что я получил от одной знатной дамы, как-то остановившейся в моей бедной хижине. Уезжая, она промолвила: «Добрый человек, примите от меня эти подарки, не забывайте хорошо поливать гвоздики и бережно храните кольцо. Ваша дочь будет несравненной красавицей; назовите ее Фортунатой и отдайте ей кольцо и гвоздики, дабы утешить ее в бедности». Посему, — продолжил крестьянин, — эти две вещи перейдут к тебе, моя Фортуната, а остальное унаследует твой брат.
Дети землепашца, казалось, были довольны его решением, и он почил со спокойной душой. Сын и дочь оплакали его и поделили скудное имущество, как им завещал отец, без тяжб. Фортуната думала, что брат любит ее, но, когда она захотела сесть на одну из скамеек, он гневно сказал:
— Оставь себе свои гвоздики и кольцо, а мои скамейки трогать не смей, я люблю, чтоб в моем доме был порядок.
Фортуната, кроткая душа, беззвучно заплакала стоя. А Бурдюк (так звали ее брата) развалился на скамье, словно на троне.
Когда наступил обеденный час, Бурдюк съел превосходное свежее яйцо, которое снесла единственная курица, а сестре бросил скорлупу.
— Держи, — сказал он ей, — мне больше нечего тебе предложить. Если тебя не устраивает скорлупа, иди налови себе лягушек, они водятся на ближайшем болоте.
Фортуната ничего не ответила. Да и что ей было возразить? Она лишь подняла глаза к небу и, вновь заплакав, удалилась к себе. Войдя в спальню, она почувствовала, что тесная комнатка наполнена чудесным благоуханием. Ни капли не сомневаясь, что так пахнут ее гвоздики, Фортуната наклонилась к цветам и промолвила:
— Прекрасные гвоздики, ваше многоцветье несказанно радует мой взор, нежным ароматом вы придаете силы моему страдающему сердцу, не бойтесь, что я оставлю вас без воды, что сорву вас жестокой рукой. Я буду заботиться о вас, ибо вы моя единственная отрада.
Произнеся такие слова, Фортуната проверила, не нужно ли полить цветы — почва показалась ей очень сухой. Девушка схватила кувшин и при свете луны поспешила к ручью, протекавшему довольно далеко от хижины.
Она устала от быстрой ходьбы и хотела было отдохнуть на берегу, но не успела и присесть, как увидела, что ей навстречу идет дама, а величественность ее вида дополняла многочисленная свита: шесть фрейлин несли полы ее мантии, а две другие поддерживали незнакомку под руки, перед нею же шествовали стражники, одетые в роскошный малиновый бархат, расшитый жемчугами. Они несли обитое золотым сукном кресло, в которое она опустилась, и после этого над ним тотчас натянули легкий навес. Тут же накрыли стол, разложив на нем золотые приборы и расставив бокалы из хрусталя. Даме подали великолепный ужин на берегу ручья, чье нежное журчание гармонично вплеталось в хор голосов, певший такие слова:
Здесь веточки в лесах колышутся Зефиром[166],
Здесь Флора[167] блещет на брегах,
В тени, в смарагдовых листах,
Тут птички песенки поют всем миром.
Прислушайтесь, их песнь не ложна.
Коль сердцу хочется любить,
Найдется и предмет, способный вас пленить,
Ему с почетом сдаться можно!
Фортуната притаилась в зарослях у ручья, не смея пошевелиться, пораженная происходящим у нее на глазах. Вдруг величественная королева обратилась к своему пажу:
— Я, кажется, вижу пастушку за тем кустарником, пусть она подойдет.
Фортуната тотчас приблизилась и, преодолев природную застенчивость, склонилась перед королевой в глубоком реверансе, да так грациозно, что все кругом были весьма удивлены. Девушка поцеловала подол королевского платья и поднялась, скромно потупив взор. Щеки ее залил пунцовый румянец, подчеркнувший белизну кожи, манеры Фортунаты свидетельствовали о тех непосредственности и кротости, что придают неповторимое очарование юным особам.
— Что вы здесь делаете одна, прелестное дитя? — спросила королева. — Неужели вы совсем не боитесь грабителей?
— Ах, госпожа, — откликнулась Фортуната. — У меня ничего нет, кроме холщового платья, что им взять с такой нищей пастушки?
— Так вы не богаты? — улыбнулась королева.
— Я очень бедна, — сказала Фортуната, — всё, что мне досталось в наследство от отца, — это лишь горшок с гвоздиками и серебряное кольцо.
— Однако у вас есть доброе сердце, — промолвила королева. — Вы бы отдали его, если бы кто-нибудь захотел его взять?
— Я не понимаю, что означает отдать сердце, госпожа, — ответила девушка. — Я слышала только, что без сердца невозможно жить и, если оно ранено, это приведет к неминуемой смерти. Однако, невзирая на бедность, я не сетую на жизнь.
— Вам всегда придется беречь свое сердце, прелестное дитя. Но скажите мне, — продолжала королева, — хорошо ли вы поужинали?
— Нет, госпожа, — призналась Фортуната, — мой брат ничего мне не оставил.
Королева распорядилась, чтобы Фортунате принесли прибор, посадили ее за стол и подали самые лучшие яства. Юная пастушка была так изумлена и очарована добротой королевы, что не смогла проглотить ни кусочка.
— Интересно, что вы делали у ручья в столь поздний час? — спросила королева.
— Я пришла за водой для своих гвоздик, госпожа, — ответила Фортуната. — А вот и мой кувшин.
С этими словами она наклонилась, чтобы поднять кувшин, стоявший у ее ног, и показать его королеве, но с большим удивлением заметила, что он сделался золотым, украшен крупными алмазами и до краев наполнен восхитительно благоухающей водой. Фортуната не решалась взять его. Она боялась, что это не ее кувшин.
— Я вам его дарю, Фортуната, — промолвила королева. — Ступайте, полейте из него цветы, о которых вы так заботитесь, и помните, что Лесная королева хочет быть вашим другом.
Услышав эти слова, пастушка бросилась к ее ногам.
— Покорнейше благодарю вас, госпожа, за оказанную мне честь, — взволнованно сказала она. — Простите мою дерзость, но не соблаговолите ли вы подождать здесь немного: я хочу отдать вам половину моего наследства — горшок с гвоздиками, ему не найти хозяйки лучше вас.
— Хорошо, Фортуната, — ответила королева, нежно коснувшись щеки девушки, — я согласна остаться здесь до вашего возвращения.
Фортуната взяла золотой кувшин и поспешила домой, но, пока ее не было, Бурдюк зашел в комнатку сестры, забрал горшок с гвоздиками, а на его место положил большой кочан капусты. Фортунату при виде злополучной капусты охватило такое отчаяние, что ноги у нее совсем подкосились; она никак не могла решить, возвращаться ли ей к ручью. Наконец она все-таки вернулась к королеве и упала перед ней на колени.
— Госпожа, — дрожащим голосом сказала она, — Бурдюк похитил мой горшок с гвоздиками, теперь у меня ничего нет, кроме этого кольца. Молю вас, примите его в знак моей благодарности.
— Если я возьму ваше кольцо, прекрасная пастушка, — промолвила королева, — у вас не останется ничего, не так ли?
— Ах, госпожа! — пылко воскликнула Фортуната. — Мне хватит и вашего доброго расположения.
Королева взяла у Фортунаты кольцо и надела его на палец. Затем она села в украшенную изумрудами коралловую карету, запряженную шестью белоснежными лошадьми, которые красотой превосходили даже коней, влекущих солнечную колесницу[168]. Фортуната смотрела ей вслед, пока экипаж не растворился в прихотливых узорах листвы. Она вернулась домой к Бурдюку, переполненная впечатлениями, и, войдя к себе, первым делом выбросила в окно кочан капусты. Тут она с удивлением услышала, как кто-то закричал:
— Ах, я погиб!
Она не придала значения этому жалобному возгласу, ведь капустные кочаны обычно не умеют разговаривать. Едва рассвело, Фортуната, тревожившаяся о горшке с гвоздиками, отправилась на его поиски. Первым, что она нашла, был тот самый злополучный кочан; она пнула его со словами:
— Что тебе здесь надо и как ты посмел занять место моих любимых гвоздик?
— Если бы меня туда не принесли, — ответил кочан, — я бы и не вздумал никогда явиться к вам.
Фортуната вздрогнула от неожиданности и испуга, а кочан тем временем продолжил:
— Будьте так добры — отнесите меня к моим собратьям, а гвоздики ваши, не стану скрывать, спрятаны в тюфяке у Бурдюка.
Фортуната, в отчаянии, не могла придумать, как ей вернуть цветы. Но все-таки любезно водрузила кочан капусты на место. Затем поймала любимую курицу брата и сказала ей:
— Гадкая птица, ты заплатишь за все мучения, что мне приходится терпеть от Бурдюка.
— Погоди, пастушка! — взмолилась курица. — Не убивай меня! Ведь я — от природы болтунья и сейчас поведаю тебе о вещах необычайных. Ты думаешь, что ты — дочь землепашца, который тебя вырастил, но это не так. Нет, прекрасная Фортуната, он не был твоим отцом. У твоей настоящей матери — королевы — уже было шесть дочерей, когда она вновь понесла. Муж и свекор пригрозили заколоть ее, если она не подарит им наследника — как будто от нее зависело родить именно мальчика. Они заточили королеву в замок, приставив к ней стражников, а точнее говоря, палачей, которым приказали убить ее, если вновь родится девочка. Из-за нависшей над ней угрозы несчастная не могла ни есть, ни спать. У нее была сестра, фея, и королева написала ей о своих справедливых опасениях. Фея тоже ждала ребенка и точно знала, что у нее появится мальчик. Разрешившись от бремени, она вручила теплым ветрам корзину, где надежно спрятала сына, и приказала им отнести маленького принца в спальню королевы, а там уже заменить им девочку, которая родится у ее подруги. Однако эта предосторожность оказалась бесполезной: так и не дождавшись весточки от сестры, королева воспользовалась добрым расположением одного из стражников; он сжалился над ней и помог сбежать по веревочной лестнице.
Вскоре ты появилась на свет, и королева, охваченная глубокой печалью, принялась искать, где тебя укрыть. Она набрела на этот домишко, едва живая от боли и усталости. Я была женой землепашца, — продолжала курица, — и славной кормилицей. Королева отдала тебя мне и поделилась своим горем, которое так сильно ее измучило, что она умерла, не успев оставить распоряжений о твоей дальнейшей судьбе. Я всегда была болтуньей и не удержалась, чтобы не рассказать о случившемся. И вот однажды, когда к нам пожаловала прекрасная дама, я поведала ей обо всем, что мне стало известно. Тогда она дотронулась до меня волшебной палочкой, и я превратилась в курицу, лишившись дара речи. Печаль моя была безгранична, а муж, которого в то время не оказалось дома, так ни о чем и не узнал до самой смерти: вернувшись, он обыскал всю округу и решил наконец, что я утонула или меня съели дикие звери. Вскоре та дама, которая причинила мне столько горя, пришла сюда снова. Она и велела моему мужу назвать тебя Фортуна-той и подарила ему серебряное кольцо и горшок с гвоздиками. Но пока она была здесь, явились двадцать пять стражников короля, твоего отца; они искали тебя, и недоброй была их цель. Тогда незнакомка произнесла что-то непонятное, и они обернулись зелеными кочанами капусты; одного из них ты вчера выкинула в окно. До сего времени я ни разу не слышала, чтобы они разговаривали, да и сама не могла вымолвить ни слова. Ума не приложу, почему к нам вернулся дар речи.
Чудеса, о которых поведала курица, не только невероятно изумили, но и растрогали принцессу, и она проговорила:
— Как мне жаль, моя бедная кормилица, что вы превратились в курицу. Я бы очень хотела, чтобы вам вернулся ваш прежний облик. Но не отчаивайтесь: я чувствую, что за всем, о чем вы мне рассказали, непременно последуют перемены. А пока мне необходимо найти гвоздики, которые я безмерно люблю.
Бурдюк отправился в лес, не подозревая о том, что Фортуната догадается обыскать его тюфяк. Она уж было несказанно обрадовалась, что брат ушел и теперь ничто ей не помешает, как вдруг дорогу ей преградило полчище огромных крыс, готовых к атаке. Они выстроились перед пресловутым тюфяком, прикрыв фланги скамейками; резерв состоял сплошь из жирных мышей, полных решимости сражаться до последнего, подобно амазонкам. Фортуната застыла от неожиданности, не осмеливаясь приблизиться, а крысы уже бросались на нее и кусали до крови.
— Нет! — воскликнула она. — Мои гвоздики, мои милые гвоздики, неужели вам суждено оставаться в столь отвратительной компании?
Она уже было совсем отчаялась, но внезапно ей пришла в голову мысль, что благоухающая вода в золотом кувшине, возможно, обладает волшебными свойствами. Фортуната сбегала за ней и пролила несколько капель на мышиное воинство — в тот же миг все твари разбежались по своим норам, а принцесса поспешила забрать гвоздики, которые почти завяли — их ведь давно не поливали, — и сразу напоила их водой из золотого кувшина. Она с удовольствием вдохнула разлившийся вокруг аромат и вдруг услышала нежный голос, доносившийся прямо из листьев, который сказал ей:
— Несравненная Фортуната, наконец наступил долгожданный и счастливый момент, и я могу открыть вам свои чувства. Знайте же, сила вашей красоты столь велика, что может покорить даже цветы.
Принцесса, уже пережившая говорящих курицу, кочан капусты и даже цветы и повидавшая крысиную армию, такого потрясения не вынесла: задрожав, она упала без чувств. В это время вернулся Бурдюк, утомленный работой и зноем. Когда он понял, что Фортуната искала в его комнате свои гвоздики и нашла их, то выкинул ее за дверь и так там и оставил. От земли исходила приятная прохлада; почувствовав это, лежащая девушка тотчас открыла свои прекрасные глаза и увидела рядом с собой Лесную королеву, все такую же восхитительную и величественную.
— Вам не повезло с братом, — промолвила она, — я видела, как жестоко он поступил, бросив вас здесь. Хотите, я отомщу ему за это?
— Нет, госпожа, — отвечала девушка, — я не способна таить злобу, и даже его дурной нрав не заставит меня изменить себе.
— Сдается мне, однако, — продолжала королева, — что этот грубый землепашец вовсе вам не брат. Что вы на это скажете?
— Отчего же ему им не быть, если он им был столько лет, госпожа, — скромно ответила пастушка, — и я должна этому верить.
— Как! — воскликнула королева. — Разве вы не слышали, что родились принцессой?
— Мне об это рассказали совсем недавно, — призналась Фортуната. — Но разве посмею я хвалиться тем, чему нет никаких доказательств?
— Ах, милое дитя, — произнесла королева, — вот за это я вас и люблю! Теперь я точно знаю, что даже сомнительное воспитание не подавило благородства вашей натуры. Вы действительно принцесса, но не в моей власти было оградить вас от невзгод, выпавших вам на долю…
Речь ее была прервана появлением юноши, прекрасного, словно ясный день. На нем был длинный, расшитый золотом камзол зеленого шелка, с крупными изумрудами, рубинами и алмазами вместо пуговиц; голову незнакомца украшал венок из гвоздик, а на плечи ниспадали длинные волосы. Увидев королеву, он тотчас опустился на одно колено и почтительно ее приветствовал.
— Ах, сын мой! Мой дорогой Цвет-Гвоздики, — обратилась королева к юноше, — благодаря прекрасной Фортунате роковое заклятие больше не властно над вами. Как я счастлива видеть вас!
Она крепко сжала его в объятиях и, обернувшись к пастушке, произнесла:
— Милая Фортуната, я знаю, о чем рассказала вам курица; но вам неизвестно, что Зефиры, которым я наказала подменить вас моим сыном, оставили его в цветнике. Пока они искали вашу матушку — мою сестру, одна фея — давняя моя врагиня, посвященная во все самые сокровенные тайны, — дождалась наконец своего часа, о коем мечтала с того дня, как мой сын появился на свет, и в мгновение ока превратила его в гвоздику. Никакие мои познания не смогли предотвратить несчастья. Пребывая в глубокой печали, я приложила всё свое мастерство, чтобы найти выход. Самым верным мне показалось отнести принца Цвет-Гвоздики туда, где росли вы, ибо я предвидела, что, когда вы польете цветы волшебной водой из моего золотого кувшина, к нему вернется речь, он полюбит вас и ничто более не помешает вашему счастью. Не забывайте и о серебряном кольце — я должна была получить его из ваших рук как знак, что заклятье вскоре ослабеет, несмотря на полчища крыс и мышей, которых выставит наша противница, чтобы не дать вам и близко подойти к гвоздикам. Итак, моя дорогая Фортуната, если мой сын женится на вас, надев вам на палец это кольцо, счастью вашему не будет ни конца ни края: решайте же теперь, нравится ли вам принц настолько, чтобы выйти за него замуж.
— Госпожа, — ответила Фортуната, краснея, — вы слишком добры ко мне. Я знаю, что вы моя тетушка, что благодаря Вашему волшебству стражники, коих послали меня убить, превратились в капустные кочаны, а моя кормилица — в курицу, и что, предлагая мне союз с принцем Цвет-Гвоздики, вы оказываете мне великую честь, на которую я едва ли смею надеяться. Позвольте мне, однако, высказать свои сомнения. Я совсем не знаю его, но впервые в жизни мною овладевает предчувствие, что я буду несчастлива, если принц меня не полюбит.
— Отбросьте прочь сомнения, прекрасная принцесса, — обратился к ней принц, — вот уже долгое время я питаю к вам те чувства, надежду на которые вы только что изволили выразить, и если бы я мог говорить, вы бы каждый день только и слышали что о моей всепоглощающей страсти. Но я всего лишь несчастный принц, который вам безразличен.
И он обратился к ней с такими стихами:
Пока еще я был в обличии цветка,
Как часто вы меня ласкали,
Своей заботой окружали,
Вас радовал живой оттенок лепестка.
Я источал благоуханье,
Лишь вам стараясь угодить;
Коль вам случалось уходить,
Губительному усыханью
Нетрудно было доказать,
Что для меня смертельно расставанье
С той, что смогла меня очаровать.
И, снисходя к моим страданьям,
Своей прелестною рукой
Кропили вы меня чистейшею водой,
И ваши нежные уста — ах, обожанье! —
Прелестный поцелуй дарили мне,
Которым счастлив я бывал вполне.
И как же мог не пожелать я
В такой благословенный миг,
Чтобы, освобожденный от заклятья,
Пред вами принцем я возник!
И вот сбылось мое желанье,
И мне людской вернули лик,
Но вы не та, хоть я-то полон обожанья!
Ах, много ли мне счастья в том,
Что перестал я быть цветком?
Казалось, принцессе польстила любезность, с коей принц к ней обратился, и она от души похвалила его экспромт. Хоть она и не привыкла слушать стихи, но отозвалась о них как сведущая особа. Королева, более не желавшая мириться с тем, что Фортуната одета как пастушка, коснулась ее волшебной палочкой и пожелала, чтобы на ней оказался самый роскошный наряд на свете. В тот же миг белая холстина сменилась серебряной парчой, расшитой карбункулами; вот уже темные волосы девушки собраны в высокую прическу, с которой ниспадает золотая газовая вуаль, и в них сверкают тысячи бриллиантов, а ослепительную белизну лица оживляет столь яркий румянец, что его сияние совсем сразило принца.
— Ах, Фортуната! Как вы прекрасны, как очаровательны! — воскликнул он и вздохнул. — Неужто вы всегда будете равнодушны к моим страданиям?
— Нет, сын мой, — сказала королева, — ваша кузина внемлет нашим мольбам.
Когда королева произносила эти слова, мимо проходил Бурдюк, возвращавшийся на поля. Увидев Фортунату, прекрасную, как богиня, он подумал, что грезит. Она же ласково подозвала его и попросила королеву сжалиться над ним.
— Но почему?! После того, как он обошелся с вами столь дурно! — удивилась та.
— Ах, госпожа! — ответила принцесса. — Я неспособна на месть.
Тогда королева обняла ее, похвалив за великодушие и благородство.
— Чтобы доставить вам радость, — добавила она, — я сделаю неблагодарного Бурдюка богатым.
С этими словами фея превратила хижину во дворец с роскошной мебелью, доверху набитый серебром. Только скамеечки остались как были, и соломенный тюфяк тоже, дабы деревенщина помнил, кем был прежде. Но нрав его Лесная королева смягчила, наделив Бурдюка учтивостью и благородством облика.
Только тогда Бурдюк впервые ощутил признательность и поспешил выразить безграничную благодарность королеве и принцессе за их милости.
Вслед за тем по мановению волшебной палочки капустные кочаны и курица вновь обратились в людей. Одного принца Цвет-Гвоздики ничего не радовало: он лишь горестно вздыхал и молил принцессу принять его предложение, так что она наконец согласилась. Незавидной была до сей поры доля Фортунаты, — но всё, что было прежде мило ее сердцу, затмилось любовью к юному принцу. Лесная королева, несказанно обрадованная этим счастливым союзом, сделала всё возможное, чтобы устроить самую пышную свадьбу на свете. Празднества продолжались несколько лет, а счастье нежно любящих супругов оказалось длиною в целую жизнь.
* * *
Была и фея не нужна,
Чтоб стало ясно, несомненно,
Кем Фортуната рождена.
Ведь добродетелью она
Блистала отродясь отменной;
Кровь добрая всегда видна
В том, кто достоинства исполнен,
Тот благороден, кто хорош.
А ты, что чванством переполнен, —
Ты лишь гордынею живешь!
Урок мой навсегда запомни:
Ты хвалишь свой старинный род,
Кичишься именем нескромно,
Но пурпур чести не дает,
Кто добр и честен, хоть безвестен,
На дворянина тот похож;
Твой блеск и гонор неуместен:
Ты за мужлана лишь сойдешь.
Пер. О. Л. Берсеневой (проза), М. А. Гистер (стихи)
Дон Габриэль Понсе де Леон. Окончание

— Ваша утонченная душа проявляется во всем, — сказали они ей, — и даже легкую сказочку, саму по себе никчемную, вы бесконечно обогащаете.
— В самом деле, — подхватил дон Луис, — бывают такие блистательные умы, которые выводят все из тьмы на свет и превращают даже ничтожнейшую безделку в драгоценность.
Люсиль выдерживала все эти хвалебные речи столь же учтиво, сколь и скромно; но тут пришли доложить Хуане, что завтрак подан, и она предложила племяннику поесть вместе с пилигримами и выказать им радушие.
Как только дамы вышли из-за стола, дон Луис и пилигримы явились к ним, но Хуана, взяв Люсиль под руку, повела ее в свой кабинет. Там, снова обласкав девицу, она сказала ей, что по договоренности с племянником отправляется в одно из своих имений в окрестностях Севильи, что покидает ее с большим сожалением, однако после того, на что Люсиль решилась ради дона Луиса, ей остается лишь довершить свое счастье браком, и тогда честь ее не пострадает; в обществе же любимого супруга скуки одиночества не замечают. Люсиль невольно покраснела, услышав о столь скорой свадьбе. Она учтиво ответила донье Хуане, что впредь почтет за счастье во всем следовать ее указаниям, добавив, что отъезд Хуаны печалит ее, но, понимая, что той так будет спокойнее, она не смеет ее отговаривать. Тут вошли Исидора и Мелани — обе были весьма ласковы с Люсиль. И они о ней, и она о них уже слышали столько хорошего, что познакомиться и подружиться было для них одно и то же; они также дали ей понять, как грустно им уезжать.
— Мне весьма прискорбно, — сказала им Люсиль, — вносить в вашу жизнь столько треволнений; это из-за меня вы покидаете свой дом, а ведь мне так отрадно было бы с вами. Я никогда бы не отважилась оставить Севилью, если бы не надеялась на ваше общество, и вот теперь вы уезжаете без меня.
Эти нежные слова напомнили обеим сестрам о грозившей им жестокой разлуке с Понсе де Леоном и графом; подумав, как горько будет их вовсе не видеть, они вздохнули, и несколько слезинок скатилось по их щекам. Люсиль, растроганная таким знаком дружбы, кинулась им на шею и, крепко обнимая их, смешала свои вздохи с их вздохами и свои слезы с их слезами.
Пока они плачут да печалятся, дон Луис утешает Понсе де Леона и графа де Агиляра, рассказывая им об их же собственных делах. Они узнают, наконец, что Исидора любит не того, кто любит ее, и Мелани находится в подобном же заблуждении. Им остается надеяться, что время, настойчивость и здравый смысл произведут благоприятные изменения в сердцах их возлюбленных. Однако вскоре им грозит разлука. Ах! Как мучительно расставаться с пред-мегом любви, не будучи любимым! Дон Луис, понимая, в каком жестоком положении оказались его друзья, пытался их утешить:
— Не печальтесь, дорогие мои, я надеюсь, что мои сестры поймут, в чем их истинное благо, и хочу сегодня же предоставить вам возможность поговорить с ними, так как сдается мне, что донья Хуана уедет отсюда очень скоро.
— Мы очень надеемся на вашу помощь, — отвечали они, — судите же о нашей признательности по тому, как безмерно мы будем вам обязаны, ведь наше высшее благо в том, чтобы нас любили эти милые создания!
Донья Хуана тревожилась не столько о предстоящей поездке, сколько о том, как бы взять с собой своего дорогого музыканта, при этом ухитрившись не вызвать ничьих злых шуток. Она с нетерпением ждала, когда будет наконец расторгнут тот пресловутый брак, о котором ей рассказывал граф для отвода глаз, и когда она сможет заключить с ним свой собственный. После долгих размышлений нежная страсть наконец восторжествовала в ней над всеми доводами разума и долга. Он послала за графом, вошла с ним в свой, кабинет и, едва стало можно поговорить начистоту, сказала:
— Дон Эстеве, я покидаю этот дом, чтобы ехать в Андалусию, хотите ли вы последовать туда за мною?
— Я последую за вами всюду, сударыня, — воскликнул он, — я так счастлив, что вы мне это позволяете!
Он и вправду был счастлив отправиться в эту поездку с Мелани, а донья Хуана в ответ наговорила ему множество приятнейших слов. Он же, в надежде сопровождать в путешествии свою возлюбленную, так обрадовался, что не остался в долгу, тоже не скупясь на любезности, коими была очарована слушательница.
Так обстояли дела, когда под вечер донья Хуана отправилась в павильон. Рядом с гостиной, чьи окна выходили в парк, имелся небольшой кабинет, ключ от которого она носила при себе. Там было много книг и бумаг, и она хотела отобрать некоторые, чтобы взять с собой. Она заходила туда очень редко, потому-то дону Луису с сестрами не пришло в голову поостеречься — не подумав, что она может находиться поблизости, они явились туда же переговорить с Понсе де Леоном и графом де Агиляром. Дон Луис оставил сестер внизу.
— Пойду позову моих друзей, — сказал он им. — Если вы любите меня, если вы любите себя самих, сумейте распорядиться своим сердцем, не пренебрегайте такой прекрасной партией.
Донья Хуана, услышав этот разговор, достала ключ и заперлась в кабинете изнутри.
Как только ее племянницы вошли, Исидора сказала, взглянув в сторону леса:
— Вот, дорогая сестрица, место, роковое для нашего покоя, где мы впервые услышали этих любезных пилигримов. Могли ли мы подумать, что они взялись за эту роль, дабы увидеть нас?
— Ах, сестрица, — перебила ее Мелани, — уж как бы я была рада, когда б не запутались в выборе наши, да и их сердца тоже! Но что же мы скажем им? Признаемся ли в наших чувствах?
— Как решиться на такое, дорогая Мелани? — воскликнула Исидора. — Не довольно ли нам будет лишь услышать их признания? Не нарушаем ли мы и без того свой долг и не пятнаем ли честь, соглашаясь на подобное свидание? А наш брат, который привел нас на такое приключение, столь для нас новое, — не новичок ли он сам в правилах благопристойности?
— До того, как мы пришли сюда, — возразила ей Мелани, — ваши теперешние размышления были бы весьма уместны; но, знаете ли, сестрица, сейчас меня больше всего пугает, как бы наших чувств не раскрыла донья Хуана.
— У нее будут все основания злиться, — отвечала Исидора, — она ведь питает столь нежные чувства к графу, что даже заказала себе зеленый наряд, расшитый золотом, чтобы поразить нас им в первый же день[169].
— Это невозможно, — сказала Мелани, — вы слишком преувеличиваете ее чудачество, чтобы в такое можно было поверить.
— А я возражу вам, что это правда, — отвечала Исидора, — заметьте: ведь большинство дам не желают подбирать себе наряд сообразно возрасту, они надеются обмануть всех, надев розовую ленту; а по мне, так они обманывают только самих себя.
— Как! Я увижу мою старую тетушку зеленой как цикада? — рассмеялась Мелани.
— Да, сестрица, — отвечала Исидора, — вот увидите, она превратится в цикаду, чтобы понравиться своему дорогому музыканту.
Мелани собиралась ответить, но тут вошел он сам, вместе с Понсе де Леоном; они раскланялись и были в таком смущении, что, казалось, каждый о многом раздумывал про себя, не решаясь высказать свои чувства вслух. Наконец Исидора заговорила:
— Если мы не встретили вас так, как подобает вашему рождению и достоинству, — сказала она, — то виной тому вы сами, ведь скрыться под покровом тайны было вашей затеей.
— Ах, сударыня, — отвечал Понсе де Леон, — мы просим не о почестях; вы знаете о нашей страсти и наших намерениях, соблаговолите принять и одобрить их, и мы будем совершенно счастливы. Вам не нужно сомневаться, что лишь ваши достоинства, поразившие нас в самое сердце, причиною тому, что мы приехали сюда из Кадиса и, зная о чрезмерно строгом обычае доньи Хуаны, явились под таким странным нарядом — лишь сильнейшая страсть могла побудить нас решиться на подобное; но, раз уж мы сделали это, еще не видя вас, чего только мы не сможем теперь!
— Да, сударыня, — подхватил граф, тоже решившись заговорить, — да, прекрасная Мелани, эта страсть заставляет меня пойти на все, лишь бы вы были благосклонны ко мне, лишь бы все упования и воздыхания, которые я вам посвящаю, хотя бы отчасти были вам приятны. Когда сочувствие к дону Габриэлю побудило меня последовать за ним, я видел в любви опасный подводный камень, не зная, удастся ли мне избежать ее. Положение, в котором я его лицезрел, заставляло меня избегать даже самых легких увлечений, и я уже клялся не связывать себя до конца дней моих. О, боже! Не надолго хватило моей решимости: стойло мне увидеть вас, как мое зачарованное сердце сдалось без боя, кажется, оно было создано лишь для того, чтобы любить вас.
— Вы не без оснований боялись любить, сударь, — отвечала Мелани, — и мне это тоже пусть послужит уроком, чтобы остерегаться уз любви.
— Да, сударыня, — отвечал он, — скорбь дона Габриэля была столь жестока, что я уже сотню раз готов был отречься от дружбы с ним. Увы! Вы слишком преуспели, чтобы оправдать его в моих глазах. Узнав вас, я понял, что наступает роковой час, когда приходится сдаться. Но зачем же я называю этот час роковым? Пожелай вы только, сударыня, — и он станет счастливейшим в моей жизни.
Молчание и замешательство Мелани повергли графа в водоворот мыслей столь безрадостных, что он не отважился вновь заговорить. Она прочла его мысли в его взгляде.
— Сударь, — сказала она, — признание, коего вы желаете, не вполне от меня зависит, мне непросто его сделать — вам известно о моем долге перед семьей и перед самой собою.
Столь задушевный разговор не мог продолжаться при всех. Понсе де Леон хотел побеседовать с Исидорой наедине, и они вместе вышли на возвышение, украшенное несколькими изразцовыми колоннами, а Мелани присела у двери кабинета, где заперлась донья Хуана. Граф устроился у ног ее, так что, как бы тихо ни говорили они, Хуана легко могла их слышать.
Боже праведный, какие жестокие четверть часа для бедняжки! Она вдруг узнала, что музыкант, что дон Эстеве, что ее поклонник — на самом деле ни то, ни другое, ни третье, а высокородный сеньор, влюбленный в ее племянницу, на которой мечтает жениться, и что он готов на все, дабы тронуть сердце возлюбленной, — он так клялся, вздыхал, обещал, что Мелани, казалось, не осталась к этому безразличной; и что, наконец, она, Хуана, была кругом одурачена, ибо сам граф смеялся над ее призрачными планами вступить с ним в брак. Под конец, в довершение всех бед, он пропел Мелани свои стихи на мотив одной пассакальи[170], которая нравилась ей:
Уединясь в своих покоях,
Где ей не могут помешать,
Взывая к небесам с тоскою,
Хуана любит так вздыхать:
Моих морщин переплетенье,
Моих седин печальный вид
Иным внушает уваженье,
Но нежности уж не внушит.
Словом, все в этой беседе убеждало Хуану в том, что она несчастнейшее существо. Трудно представить себе, как она это выдержала; после она признавалась, что на нее напала невыразимая слабость и лишь отсутствие сил помешало ей отворить дверь и громогласно появиться там, где она могла бы наделать тревоги.
Исидора и Мелани с удовольствием слушали своих поклонников, уверявших, что будут верны им до гроба. Они поняли, что их возлюбленные не изменят своего решения: один отдал сердце Исидоре, а другой — Мелани, и первоначальному выбору они останутся верны. Тогда, поразмыслив об их достоинствах и о тех радостях, какие им сулит союз с этими господами, они решили, что следует не отказываться, а лучше принять подобающим образом чувства, которые питали к ним эти кавалеры.
Радость обоих не поддается описанию: им дали надежду, коей они не решались льстить себя прежде. Однако их не покидало опасение, как бы Исидора, избравшая графа, и Мелани, полюбившая дона Габриэля, не изменили своим пристрастиям. Горько было расставаться с возлюбленными: им ведь еще не выпадало таких отрадных минут, чья новизна лишь увеличивала радость. Эти прелестные девицы, поразившие их до глубины души, могли гордиться столь славным завоеванием; между тем первое впечатление все еще было слишком сильно, чтобы вдруг изменить их желания; сами они полагали, что для полной уверенности в своих чувствах понадобится некоторое время.
Понсе де Леон и его кузен отправились за доном Луисом, в комнату Люсиль, а Исидора с сестрой вернулись в свои апартаменты. Тем временем донья Хуана, которая успела немного оправиться от потрясения и горя, вернулась во дворец и заперлась у себя, чтобы написать графу де Агиляру следующее письмо:
Ваше благородное происхождение защищает вас от справедливых упреков, которые я Вам посылаю: вы притворились раненым, Вы явились под вымышленным именем; я приняла Вас не только в своем доме, я приняла Вас в сердце своем. Увы! Я одаривала Вас гостеприимством, в то время, как Вы замышляли мою погибель. У меня две племянницы, столь же юные, сколь и невинные, — Вы и Ваш родственник воспользовались свободой видеть их, чтобы завладеть их сердцем и затем обойтись с ними так же, как вы обошлись со мною. Не думайте, что я окажусь столь малодушна, чтобы забыть Вашу неблагодарность, — воспоминание о ней и мою обиду я унесу с собой в могилу. И на что только я ни готова была решиться ради Вас, которого в своем неведении считала настолько ниже себя? Мое доброе сердце заслуживало величайшей благодарности от Вашего, но, вместо того, чтобы оценить это, Вы стали петь про меня насмешливые песенки. Я была бы в отчаянии, что со мной обошлись столь возмутительно, если бы Фортуна не предоставила мне возможность отомстить не медля. Да, сеньор, месть станет мне утешением, я отниму у вас тех, кого вы любите: впредь строгий монастырь будет отвечать предо мною за их поведение, а если они вступят с вами в брак, я лишу их наследства.
Когда письмо было закончено, а самой Хуане, несколько часов спустя, удалось немного успокоиться и превозмочь боль, она позвала своего мажордома и сказала ему, что желает выехать в полночь; приказав подать ее экипаж со стороны парка, она добавила, что возьмет с собой очень немногих, и велела держать все в тайне, а затем сказала племяннику:
— Право, не теряйте ни дня, поскорее обвенчайтесь с Люсиль; ведь можно опасаться, что ее родные, в свою очередь, явятся похитить ее у вас, а раз вы ее так любите, да и брак с ней, кстати сказать, так выгоден для вас, не дайте помешать вам; лучше нынче же ночью отправляйтесь в Компостелу, дабы испросить разрешения жениться на ней.
Такой совет слишком отвечал планам влюбленного дона Луиса, чтобы тот стал противиться; он сказал, что тотчас же отправится, поговорив с Люсиль.
Таким вот образом ловкая Хуана сумела отделаться от племянника, на которого была почти так же разгневана, как и на пилигримов, — ведь теперь она знала, что он с ними дружен. Тем временем она проявила необычайную сообразительность и, чтобы те не обеспокоились ее отъездом, всячески старалась казаться веселой и довольной и даже предлагала им весь вечер петь испанские стихи, которые только что сложила на мотив одной очень милой сарабанды[171]. Они весьма хорошо передают состояние ее души, вот их перевод:
О гордость, слава, честь, суровость,
осторожность,
Вернитесь же ко мне, вернитесь,
коль возможно —
Иль не желаете меня вы защитить?
Неблагодарный мной пренебрегает,
А я его решилась полюбить.
Ах, сердца моего он слушать не желает,
Я чувствую: мою любовь он презирает,
Мне смел другую предпочесть,
А сердце все к нему любовию пылает:
Живет там нежность, а не месть.
О гордость, слава, честь, суровость,
осторожность,
Вернитесь же ко мне, вернитесь,
коль возможно.
Вся эта милая компания, не догадываясь, что могло вдохновить на подобную песню, пела ее, изо всех сил стараясь потешить Хуану. Граф де Агиляр, имевший особые причины угождать ей, подсел к ней и сказал нежно:
— О чем это вы думаете, сударыня? Почему сочиняете такие печальные стихи? Уж не встала ли на вашем пути какая-нибудь соперница, которая осмеливается оспаривать у вас некое сердце?
— Нет, — отвечала она с притворной улыбкой, — все, что вы только что слышали, не имеет ко мне никакого отношения, я сочинила это просто так, по прихоти.
Исидора, Мелани и Понсе де Леон не могли проникнуть в эту тайну, но про себя каждый думал: «Неужто милейшая тетушка догадывается? Только этого и не хватало, после всего, что произошло сегодня!» Затем они нашли предлог и прыснули со смеху. А между тем Хуана знала об их интриге куда больше, чем они могли предполагать; ей были ясны все их взгляды, все их жесты. Трудно вообразить, какое усилие ей пришлось сделать над собой, чтобы не выдать себя ни единым словом. Наконец в девять часов она сказала, что уже поздно, и все удалились, пожелав ей доброго вечера.
Ровно в полночь она вошла в комнату своих племянниц, приказала им подняться и уже не расставалась с ними. Они молча переглянулись: обеих весьма удивлял столь быстрый и таинственный отъезд, они не видели ни брата, ни своих верных поклонников и вышли в парк, даже не попрощавшись с Люсиль. Это показалось им странным и опечалило их.
Все произошло в тишине, так что влюбленные пилигримы не могли ничего заподозрить, покуда в десять часов утра в спальню к графу не явился капеллан и не передал ему письмо от доньи Хуаны, что немало удивило его. Но еще больше изумился он, узнав его содержание. Он передал листок дону Габриэлю и спросил капеллана, отправились ли уже дамы в дорогу. Тот отвечал утвердительно, затем дал им еще некоторые пояснения и удалился.
— Нас предали, — вскричал граф, — но кто? Но как? Мы не открывали нашего секрета никому, кто мог бы его выдать, дон Луис слишком честен, Люсиль слишком скромна; возможно ли, чтобы эту злую шутку сыграли с нами Исидора и Мелани?
— В это трудно поверить, — возразил дон Габриэль. — Донья Хуана, уезжая, была на них разгневана, сами видите, что она угрожает им монастырем, хочет лишить их наследства. Если бы они рассказали ей о нашей страсти и были согласны на отъезд, она не стала бы так злиться на них.
— Это означает, что нас наверняка подслушали, — отвечал граф, — ведь она знает, кто мы, знает и эти злополучные куплеты, которым всего-то два дня.
Пока граф говорил, дон Габриэль пребывал в глубокой задумчивости. Потом задумался и граф и наконец воскликнул:
— Не сомневаюсь, что нас подслушали в гостиной в парке! Я припоминаю, что, когда беседовал с Мелани у двери кабинета, мне несколько раз послышался какой-то шорох, даже тихие вздохи, но и в голову не могло прийти, что кто-то мог запереться там внутри. Боже мой! — продолжал он. — Если это была Хуана, в чем я теперь не сомневаюсь, не понимаю, как она не выскочила и не задушила меня!
— То, что она сделала, — отозвался дон Габриэль, — еще хуже смерти; поверьте мне, она достаточно отомщена. Она отняла у нас то, что было нам дороже света дневного: я не увижу Исидору, а вам не видать Мелани. Увы! Эта милая свобода видеть их, говорить с ними, прогуливаться с ними, разом отнята у нас. Нам будет противостоять гневная донья Хуана: настроенная против нас, она будет мешать всем нашим намерениям, она восстановит против нас своего брата. Возможно даже, что ее племянницы, чье чувство еще не окрепло, изменятся по ее принуждению или же из сочувствия к ней. Я предвижу много бед и горестей, — прибавил он, — и умираю от скорби и гнева, даже не зная, на что решиться.
Глубокая тишина последовала за этими печальными размышлениями; оба юноши застыли точно скорбные статуи. Однако это оцепенение продлилось недолго; их вывел из него капеллан, который вошел в комнату весьма испуганный и сообщил:
— Дворец окружен вооруженными людьми, требующими впустить их. Все, что я могу сделать, это как следует запереть ворота и двери, но они грозятся выломать их топорами и уже приступают к этому делу, так что мы не сможем им помешать.
Дон Габриэль и граф были застигнуты врасплох и поначалу не знали, что предпринять.
— Сбережем Люсиль для дона Луиса, — воскликнул граф, — это лучшее, чем мы можем ему послужить!
— Но как, — возразил дон Габриэль, — или вы полагаете, что мы сможем выдержать осаду и сразиться с небольшой армией?
— Нет, — отвечал граф, — я полагаю, что нам следует сесть на коней и увезти Люсиль; мы выйдем через парк, кажется, с той стороны еще спокойно, доедем до Туйа, переберемся через реку Минстрио, а когда окажемся в Валентин[172], нам уже нечего будет опасаться, ведь она принадлежит королю Португальскому.
— Меня беспокоит, — сказал капеллан, — что оставшиеся здесь лошади ни на что не годятся, а дело слишком спешно, чтобы посылать за другими.
— Больше придумать нечего, — вскричал дон Габриэль, — в дорогу, скорее!
Они собирались пойти к Люсиль, чтобы рассказать ей, что происходит, но тут вошла она сама.
— Ах, сеньор, — обратилась она к графу, который первым поднялся ей навстречу, — я погибла, если вы не поможете мне спастись. Здесь мой отец и тот, кого он предназначил мне в супруги, — я узнала их обоих, поднявшись на донжон. С ними значительный отряд из родных и друзей. О, я несчастная! — продолжала она, плача. — Я виной всему этому шуму в моей семье и всем бедам дона Луиса! Ведь подумайте, каково будет ему, когда, вернувшись, он узрит венцом всех трудов своих меня в руках соперника?
— Прекрасная Люсиль, — сказал ей граф, — будьте уверены, мы защитим вас с не меньшим рвением, чем сам дон Луис, будь он сейчас здесь. Мы решили увезти вас отсюда сейчас же, не откладывая.
С этими словами они спустились; Люсиль накинула мантилью. Дон Габриэль вскочил на коня и посадил ее позади себя. Графу достался мул, на котором обычно ездил капеллан. Они беспрепятственно прошли через парк и двинулись так быстро, как только могли. Но далеко ли уедешь на старом коне да на муле? А посылать в Сьюдад-Родриго за слугой, ожидавшим их там с конями с тех самых пор, как Хуана приняла их под свой кров, было некогда.
Дон Фернан де Ла Вега, уязвленный и влюбленный, поднял на поиски Люсиль и отца, и многих своих родичей. Как только они прибыли, он начал опасаться, как бы дон Луис и Люсиль не скрылись через какой-нибудь черный ход, и нанял крестьян следить; те расположились у парковых ворот, притворившись, что работают поблизости; едва увидев Люсиль и обоих всадников, они не медля предупредили дона Фернана. А это был юноша легкомысленный, не храброго десятка, грубый и способный на низость. Он был уверен, что если набросится на дона Луиса, не имея численного превосходства, то вряд ли добьется успеха, и потому взял с собой одного из кузенов и двоих слуг; у всех были хорошие кони. Они знали дорогу, по которой поехала Люсиль, и, не долго думая, пустились другим путем в густой лес, успев там спрятаться и подготовиться, чтобы не упустить свою цель.
И вот, спрятавшись в кустах, они, как последние трусы, принялись безжалостно стрелять в дона Габриэля и его кузена. Дона Габриэля ранили в колено, у графа была сломана рука. Его мул, испугавшись выстрелов, отчаянно поскакал куда глаза глядят; граф, не имея сил удержать его, хотел было спрыгнуть, но нога застряла в стремени. Он упал и уже не мог высвободиться, голова его билась о землю. Никогда еще он не бывал в столь плачевном положении. Его испуганный мул метался туда-сюда. Наконец подпруга лопнула, и граф остался лежать у края дороги, купаясь в собственной крови.
Дон Луис же поспешно возвращался из Компостелы, получив от архиепископа разрешение на брак. Его нежное сердце мечтало о скором счастье, и он уже мнил себя счастливейшим из смертных. Ах! Можно ли надеяться на радости жизни? Как часто они бегут от нас, когда нам уже кажется, что мы ими обладаем! Так случилось и в этот раз. Дон Луис увидел у дороги полумертвого человека, кровь струилась по лицу несчастного, так что его было не узнать. Но, как ни торопился дон Луис, он не стал возлагать заботу о раненом на своего подручного-дворянина и на сопровождавшего слугу, а подъехал к нему сам. О боже! Что за встреча верных друзей! Он спешился и бросился к графу, обнял его и не мог сдержать слез. И, пока слуга ходил за водой к ручью, протекавшему неподалеку, дон Луис и сопровождавший его дворянин осматривали раны графа.
Наконец тот вздохнул, открыл глаза и узнал дона Луиса.
— Зачем вы здесь? — спросил он так тихо, что его с трудом можно было расслышать. — Бегите за Люсиль, ее увозят в этот ближний лес, где ранили дона Габриэля.
Услышав столь ужасную новость, дон Луис едва не умер. Что делать? Двое друзей мертвы или умирают, а горячо любимая невеста во власти злейших врагов! Думал он недолго, решившись умереть или вернуть возлюбленную. Оставив подручного с графом, а слугу послав за подмогой, он сказал другу:
— Я еду спасать Люсиль и дона Габриэля и постараюсь отомстить за вас; мы скоро увидимся вновь.
Он вскочил на коня, сердце его сжималось в неописуемых муках. Хотя слабость и помешала графу рассказать о подробностях похищения, дон Луис сам прекрасно понимал, кто украл его счастье. Он во весь опор поскакал в лес, откуда доносились громкие крики; ему показалось даже, что он различает голос своей дорогой Люсиль. И в самом деле, она всячески сопротивлялась дону Фернану, который пытался схватить ее и посадить на своего коня, и его слугам, помогавшим ему в этом.
Дон Габриэль уже отнял жизнь у двоих убийц, та же участь ждала бы и остальных, если бы они отважились напасть, но они спрятались за деревьями и выстрелили в него из укрытия. Он упал. Люсиль, лишившись защитника, бросилась бежать, но дон Фернан де Ла Вега удержал ее и стремился увезти силой.
Увидев это, дон Луис, подобно молодому льву, у которого охотник отнимает его добычу, обнажил меч и бросился на малодушных противников; победа над ними была слишком легкой, чтобы принести ему славу. Ну и резня! Четверо убитых по одну сторону, по другую же — дон Габриэль без признаков жизни.
Дон Луис и Люсиль бросились к нему. Вся сцена была столь же печальна, как незадолго до этого с графом де Агиляром. Снова дон Луис не знал, на что решиться: бросить друга было бы верхом малодушия, но оставаться здесь с Люсиль значило рисковать еще раз потерять ее. Из глубокой задумчивости его вывел шум — это подъехал его подручный. Дон Луис велел ему поскорее скакать за помощью, чтобы отвезти дона Габриэля к одному из своих друзей, чей дом находился поблизости. Люсиль же он убедил получше спрятаться в лесной чаще.
Чего только ни опасался он, после такой страшной беды, постигшей обоих его друзей! Он боялся, что его роковая звезда окажется властна и над его возлюбленной, что какая-нибудь змея или иная ядовитая тварь ужалит ее там, где он оставил ее одну. Ах! Как скорбела его душа, как ему было тревожно! Любовь, жестокая любовь! Ты — причина самых тяжких бед!
Хотя дон Габриэль и казался мертвым, дон Луис все же не терял надежды, что тот вернется к жизни. Он вместе с Люсиль последовал за раненым в дом своего друга, где сила лекарств привела того в чувства; раны его осмотрели и нашли, что они не опасны. Итак, дон Луис оставил его на руках честного и достойного человека и, зная, что и граф в весьма надежном месте, поручил заботиться о них своему подручному, а сам, вместе с двумя сыновьями своего друга, молодыми людьми весьма храбрыми и достойными, вскочил в седло, простившись с дорогим Понсе де Леоном и пообещав ему, что Исидора не достанется никому другому.
У него даже не было времени как следует поблагодарить друга за то, что тот великодушно сохранил для него Люсиль. Еще до полуночи он уехал с нею, и, прибыв вместе в Португалию, они там обвенчались.
А между тем дед этой красавицы в сопровождении нескольких друзей вошел в имение Феликса Сармьенто, где стал преспокойно дожидаться, когда дон Фернан де Ла Вега привезет Люсиль. Ночь уже наступила, а их все не было. Старики, забеспокоившись, послали за доном Фернаном; тут явились сообщить о несчастье, постигшем преследователей. Это весьма огорчило деда Люсиль и родных де Ла Вега; но, поскольку все это были старцы, не способные решить дело силой, они, едва успев оправиться от потрясения и согласившись с просьбами окружавших их молодых людей, уже думали только о возвращении в Севилью да о процессе против дона Луиса, который уже успели начать.
Разгневанная донья Хуана пустилась по дороге на Малагу, не сказав племянницам, куда они едут. Она отвезла их прямо в женский монастырь иеронимиток[173], где они были воспитаны. Поговорив с глазу на глаз с аббатисой, она заперлась с девицами и сказала им:
— Я не хотела говорить вам раньше, в чем вы провинились передо мной, но знайте, что мне все известно. Я умираю от горя и обиды, ведь вы посмели принимать у себя переодетых молодых сеньоров, которые теперь ославят вас на весь мир. В наказание за такое возмутительное поведение вы останетесь здесь и выйдете отсюда только по приказу вашего отца.
— Сударыня, — отвечала Исидора с достоинством, вовсе не умалявшим того почтения, какое подобает тетке от племянницы, — нам не в чем себя обвинять и, если вам известно, как все происходило, то вы знаете, что мы узнали имена этих сеньоров лишь в тот самый день, по завершении коего ночью пустились с вами в дорогу. Мог ли быть сговор между ними и нами, если, как вы сами помните, сударыня, их присутствие в доме вызывало у нас неудовольствие? Они и вправду говорили нам о своих чувствах, но ничуть не задев нас этим, — напротив, сказанное ими было нам весьма лестно и, если бы вы к нам действительно благоволили, то не стали бы упускать такой благоприятный случай устроить наше счастье.
Не имея разумного ответа, донья Хуана осыпала племянниц бранью; ее сумасбродная страсть к графу не угасла в разлуке, а лишь разгорелась с новой силой; она уже почти не имела надежды заполучить его в мужья, и это приводило ее в бешенство. Исидора и Мелани, поступая в монастырь, полагали, что будут пользоваться там свободой, приличествующей их достоинству; однако, лишь только двери за ними сомкнулись, им объявили, что они не будут ни с кем видеться, никому не смогут писать, и их не будут упускать из виду ни на миг. Донья Хуана наговорила аббатисе, что их хотели похитить люди весьма низкого происхождения, а они якобы готовы были на такой брак, и потому за ними надо тайно следить.
Именно благодаря этой предосторожности ухищрения старухи не увенчались успехом. Аббатиса выбрала из всех своих монахинь ту, что была самой родовитой, и приблизила ее к прекрасным пленницам. Первой во всем монастыре считалась донья Ифигения[174] де Агиляр: она общалась в миру только со своей родней, а описанные доньей Хуаной низкородные отверженцы не могли иметь ничего общего с благородным семейством.
Донья Ифигения была девица умная и ласковая. Она нашла в новых пансионерках столько достоинства, что, видя их в крайней меланхолии, всячески старалась утешить; но вскоре ей и самой понадобилось утешение: она получила письмо, продиктованное ее братом графом де Агиляром, который сообщал ей, где находится, и, ничего не рассказывая о причине драки, довольствовался лишь тем, что поручал себя ее молитвам, так как был опасно ранен и тяжко страдал; не в лучшем состоянии, нежели он сам, пребывал и дон Габриэль Понсе де Леон.
Исидора заметила на лице Ифигении необычайную бледность и спросила, что с ней. Ифигения сказала, что очень расстроена, и протянула ей письмо; читая, Исидора вдруг громко вскрикнула и упала в кресло. Подбежала Мелани. Исидора не могла говорить и вместо ответа протянула сестре письмо графа. Мелани была расстроена не меньше сестры.
Ифигения до тех пор еще не успела сказать им, к какому дому принадлежала: скромность не позволяла ей гордиться превосходством, не подобающим монахине, поэтому она никогда не говорила с девицами ни о графе, ни о доне Габриэле. Однако чувствительность, которую девицы проявили теперь, далеко превышала ту, какой обыкновенно одаривают новую подругу. Ифигения видела, что они плачут горше, чем она сама, а знакомство их было еще таким недавним, что ей невозможно было приписать эту скорбь дружеской нежности; она лишь удивленно смотрела на них и молчала. Наконец Исидора, отчасти догадываясь о ходе мыслей приятельницы, сказала:
— Не удивляйтесь, сударыня, видя нас в таком состоянии; нас любят, и, признаемся вам, и нам вовсе не безразличны граф де Агиляр и дон Габриэль Понсе де Леон — это из-за них мы здесь; но, о боже, как нам ни тяжко — мы с легкостью вынесли бы все, кабы не эта жестокая новость!
— Как! Мой дорогой брат и мой кузен любят вас! — воскликнула Ифигения, обнимая сестер. — Вот что! Вы желаете им добра, вы горюете о них, а я не знала этого прежде! Как же я зла на себя самое! Простите ли вы мне, что я за вами шпионила? Да, несомненно, — продолжала она, помолчав немного, — вы простите меня, ради тех стараний, которые я буду прилагать впредь, чтобы сделать вам приятное. Мое сердце не стало ждать, пока станет известно, к какому роду вы принадлежите, оно уже и без того привязалось к вам.
— Сударыня, — отвечала Мелани, — тайное предчувствие вдохнуло в сердце нежность, которая подобает вам, ради графа де Агиляра и дона Габриэля. Но что же нам делать, чтобы облегчить их страдания?
— Надо написать им, — сказала Ифигения, — я отправлю наши письма с нарочным; ваша тетушка напрасно требовала, чтобы вас держали как узниц, уверяю вас, что здесь ее ослушаются.
Обрадованные Исидора и Мелани горячо поблагодарили Ифигению и, не мешкая, сели писать. Вот что сообщила Исидора дону Габриэлю:
Вы будете столь же поражены, узнав, что я нахожусь у иеронимиток в Малаге, сколь была поражена я, узнав о Вашей ране. Что же могло случиться с момента нашего расставания? А само расставание — разве не было и без того достаточно мучительным, чтобы за ним последовали еще и новые горести? Если Вы меня любите, позаботьтесь о Вашем здоровье, которое, знайте, весьма тревожит меня. Приезжайте сюда так скоро, как только сможете, и будьте уверены, что до тех пор воспоминание о Вас будет мне верным другом.
Мелани же писала графу де Агиляру:
Вы далеко, Вы в опасности — сколько горестей разом, сеньор! Когда бы излечить Вашу боль было возможно, попросту разделив ее с Вами, — увы! Как бы я была Вам полезна! Я в страшной тоске и тревоге, и не знать мне покоя до тех пор, пока я не увижу Вас.
Они написали также и брату. Ифигения, сложив все письма в один пакет, передала его надежному человеку.
Нетрудно судить о радости графа, когда он получил эту весточку, столь же драгоценную, сколь и неожиданную; она способствовала его скорому выздоровлению более, чем все лекарства вместе взятые. Дон Габриэль находился с ним в одной комнате: едва почувствовав, что сможет выдержать переезд на носилках, он тут же приказал перенести себя туда. Добрые слова, присланные Исидорой, переполнили его радостью. Граф и дон Габриэль попросили подручного дона Луиса написать дамам обо всем, что происходило с отъезда доньи Хуаны. Граф был еще слаб и смог приписать Мелани лишь следующие несколько строк:
Вы скоро увидите меня у Ваших ног, самым нежным и самым почтительным из всех влюбленных.
Понсе де Леон писал Исидоре:
Мы собирались следовать за вами, когда столько неприятных обстоятельств сошлось, чтобы остановить нас. Однако, сударыня, что же может быть отраднее, чем получить письмо, писанное Вашей рукою? С каким восторгом читал я это свидетельство Вашей доброты! Вы узнаете об этом лишь тогда, когда я смогу наконец сам сказать Вам о моей страсти, а она столь сильна, что и на краю могилы я жалел бы лишь о Вас. Поистине, Вы значите для меня все, и я, сударыня, был бы счастлив значить хоть что-то для Вас.
Посыльный спешил изо всех сил, чтобы не оставлять Ифигению и обеих милых сестер в долгой тревоге о здоровье этих кавалеров. Письма показались девицам такими нежными и трогательными, что они твердо решили воздать должное своим поклонникам, полюбив тех, кто любит их, и сделать все, чтобы ускорить свадьбу. С этой решимостью они отправили послание дону Луису — тот ждал лишь их согласия, чтобы сообщить Феликсу Сармьенто, что дон Габриэль и граф желают жениться на его сестрах; теперь дело было лишь в окончательном решении обоих влюбленных. Однако пока дон Луис писал к ним, они сами опередили его и сообщили, что, хотя донья Хуана и лишила сестер наследства, это не станет препятствием браку, ведь они достаточно любят Исидору и Мелани, чтобы жениться на них единственно ради них самих. Дон Габриэль написал своему отцу, находившемуся в Мадриде, о своих чувствах к Исидоре; тот же, ничего не желая сыну так горячо, как любезной и добродетельной невесты, попросил своего брата, графа Леонского, который был в то время в Кадисе, заняться всеми необходимыми приготовлениями.
Дон Феликс Сармьенто был весьма польщен той завидной партией, которую дон Луис предлагал ему для сестер. Он поспешил в Малагу, чтобы разделаться со всеми затруднениями; процесс дона Луиса не позволял ему приехать прямо в Андалусию[175].
Между тем донья Хуана, в тоске и печали, питалась собственным ядом в одном из своих сельских имений, куда к ней и приехал ее брат, чтобы пригласить на свадьбу дочерей. Гром небесный поразил бы ее меньше; она высказала ему все, что только подсказывало ей бешенство, дабы расстроить эти браки, но тщетно: дон Феликс уже знал обо всем, так что ни ее гнев, ни упреки, ни угрозы не произвели желаемого действия. Как только старуха поняла, что дело непоправимо, она отправилась в Севилью и отдала все свое состояние деду Люсиль и отцу дона Фернана, чтобы те не переставали преследовать ее семью.
Но все это ничего не значило для людей столь замечательных и достойных: добившись всего, о чем так давно мечтали, они были вознаграждены за все убытки. И вот немного дней спустя свадьбу дона Габриэля с Исидорой и графа с Мелани сыграли с несравненной роскошью; все четверо были так счастливы, как только могут быть счастливы люди столь совершенные, любящие друг друга истинной любовью.
Что же касается доньи Хуаны, то ее сумасбродное подношение разорило бы ее, если бы дон Феликс, к счастью, не сумел умиротворить деда Люсиль. Простив дону Луису похищение, тот отдал внучке, помимо приданого, еще и имущество доньи Хуаны. А поскольку это имущество снова вернулось в семейство Сармьенто, все оказались столь великодушными, что вернули его Хуане, которая удалилась в монастырь кармелиток в Севилье[176], где и жила до конца дней.
Пер. М. А. Гистер
Сен-Клу. Окончание

— Скорее же, — сказала графиня Ф…, — я пойду с радостью, но пусть мне пообещают, что, как только мы выйдем из-за стола, чтение тетради будет продолжено, ибо все услышанное и то, что еще остается прочесть, убеждает меня, как много мы потеряем, если не узнаем этой истории.
Все присутствующие согласились с графиней.
— Раз вам так хочется, — сказала госпожа Д…, — начнем со сказки про Побрякушку; за ней последуют и другие, а сопровождаются они испанской новеллой, которая, быть может, придется вам по душе.
Пер. М. А. Гистер
ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ
Побрякушка[177]

Однажды сидела она одна у очага и печалилась и вдруг увидела, как по дымоходу спускается к ней маленькая старушка с три вершка величиной. Скакала она верхом на тростниковой метелке, голову венчала ветвь боярышника, одежда сшита из мушиных крылышек, а вместо туфель — скорлупки грецкого ореха. Полетала она под потолком и, трижды облетев комнату, остановилась перед королевой да промолвила:
— Давно уже вы на меня наговариваете, за все ваши беды корите; я, по-вашему, виновница, если что у вас не ладится; вы даже полагаете, сударыня, что это из-за меня нет у вас детей. Я пришла объявить, что у вас родится инфанта, но знайте, что многих слез она вам будет стоить!
— Ах, благороднейшая Мишура, — воскликнула королева, — не откажите мне в сострадании и помощи, я же клянусь сделать для вас все, что в моих силах, лишь бы обещанная вами принцесса стала для меня не горем, а утешением!
— Судьба сильнее меня, — отвечала фея, — я только-то и могу вам дать, в доказательство моей дружбы, что вот эту цветущую веточку белого боярышника: прикрепите ее на голову вашей дочке, как только она родится, это защитит ее от многих напастей. — Она дала королеве ветку боярышника и исчезла в мгновение ока.
А королева осталась в грусти и раздумьях. «Зачем же я так хотела дочь, — думала она, — если ей суждено стоить мне многих слез и вздохов? Не лучше ли вовсе не иметь детей?» Рядом был король, которого она нежно любила, и это отчасти рассеяло ее печали. Она забеременела и, пока вынашивала, все наказывала своим приближенным, едва принцесса появится на свет, не мешкая прицепить ей на голову цветок боярышника, — она хранила его в золотой шкатулке, покрытой бриллиантами, как самую драгоценную на свете и самую милую ей вещь.
Наконец королева произвела на свет прелестнейшее в мире создание. Малышке поскорее привязали цветок на голову, и в тот же миг — о чудо! — девочка превратилась в маленькую мартышку и принялась бегать, прыгать, скакать по всей комнате. Увидев такое превращение, дамы завопили от ужаса, а королева, напуганная больше всех, едва не умерла от отчаяния. Она кричала, чтобы скорей сняли букет, болтавшийся на ухе у новорожденной. Немалых трудов стоило изловить обезьянку; роковые цветы сняли, но тщетно: она была уже обезьяной, самой настоящей, и не хотела ни сосать грудь, ни сидеть у нянек на руках: орехи да каштаны — вот и все, чего ей было надо.
— О, жестокая Мишура! — горестно восклицала королева. — Что я тебе сделала, чтобы поступать со мною столь бесчеловечно? Что со мной будет? Какой позор! Все мои подданные решат, что я породила чудовище, а каково же будет королю иметь подобного отпрыска?!
Она плакала и умоляла дам дать ей совет.
— Государыня, — сказала тогда старшая из придворных дам, — королю следует сказать, что принцесса скончалась, а обезьянку посадить в коробку и бросить в море, ведь, оставь вы этакую зверушку при себе, — как знать, что может случиться.
Нелегко было королеве решиться на это; но когда объявили, что к ней идет король, она так перепугалась и разволновалась, что без дальнейших рассуждений приказала своей статс-даме делать с мартышкой все, что ей заблагорассудится.
Обезьянку посадили в коробку и отдали камердинеру, чтобы тот бросил ее в море. И вот принцесса на пороге погибели. Человек же, которому ее доверили, счел коробку слишком красивой, чтобы ее выбрасывать. Он уселся на берегу, вынул обезьянку и уже собирался ее убить, — он ведь не знал, что это была его маленькая государыня, — но, лишь занеся руку, услышал стук да гром, и это заставило его обернуться. Тут он увидел открытый экипаж, запряженный шестеркой единорогов: карета блистала золотом и каменьями, впереди катили несколько орудий; внутри на парчовых подушках восседала некая королева в короне и мантии, а рядом — ее четырехлетний сын.
Камердинер узнал эту королеву: то была сестра его госпожи. Она приехала разделить с нею радость, но, едва узнав, что маленькая принцесса умерла, в большой печали отправилась восвояси и теперь сидела в глубокой задумчивости, как вдруг ее сын закричал:
— Хочу обезьянку! Дайте мне обезьянку!
Тут королева и увидела самую миленькую мартышку, какие только бывают на свете. Камердинер пустился было бежать, его остановили, денег дали изрядно, и королева, которой обезьянка показалась хорошенькой и славненькой, назвала ее Побрякушкой. Так, несмотря на злую судьбу, малышка попала к собственной тетке.
Когда королева вернулась в свое государство, маленький принц уговорил ее отдать ему Побрякушку; он хотел с ней играть и приказал нарядить ее как принцессу. Ей каждый день шили новые платья и учили ходить на задних лапках. В целом свете было не сыскать обезьянки краше и милее: мордочка черна как смоль, белая бородка, рыжие бачки, ручонки не больше крылышек бабочки, а глазенки блестели таким умом, что никто и не удивлялся ее сообразительности.
Принц нежно любил ее, все время гладил, и она никогда не кусала его, а стоило лишь ему заплакать — тут же и она заливалась слезами. Прожив у королевы уже четыре года, она однажды вдруг удивила всех, залепетав как дитя, которое хочет что-то сказать; но как же все были поражены, когда она заговорила нежным тоненьким голосочком, да так разборчиво, что все слова были понятны. Чудеса, да и только! Побрякушка разговаривает, да как! Побрякушка рассуждает! Королеве захотелось поразвлечься, и обезьянку отвели к ней, — к большому неудовольствию принца, который даже всплакнул, и в утешение ему принесли собачек, кошек, птичек, белок и даже привели конька по имени Звонкопыт, умевшего танцевать сарабанду, — но все это ничего не значило по сравнению с одним только словечком Побрякушки.
А той у королевы было не по себе — не то что у принца. Приходилось, подобно сивилле[178], отвечать на сотню ученых вопросов, иной раз оказывавшихся ей не по зубам. Когда ко двору прибывал посол или еще какой иностранец, ее облачали в платья из бархата или атласа, с корсажем и крахмальным воротником, если же двор бывал в трауре, она надевала длинную накидку и черный креп, и все это ее утомляло; она уже не могла есть что захочет — за ее рационом следил доктор, а ей все это совсем не нравилось, ведь она была своенравна, как и подобало обезьянке, что уродилась принцессой.
Королева пригласила к ней разных учителей, придавших ее живому уму настоящий блеск; она прекрасно играла на клавесине, изготовленном нарочно для нее в большой перламутровой раковине, — вот ведь диво-то дивное! Отовсюду, и особенно из Италии, съезжались художники писать ее портреты, и слава ее разнеслась по всем концам земли: ведь никто еще не встречал говорящей обезьянки.
Принц, такой прекрасный, каким рисуют Амура, очаровательный и умный, и сам был настоящей диковинкой. Он часто заходил к Побрякушке, чтобы поиграть с нею; они забавлялись вместе, и иной раз их беседы из шутливых и игривых становились серьезными и нравственными. Сердце Побрякушки, в отличие от всего остального, не изменилось: и оно всецело, даже чрезмерно было занято принцем. Несчастная не знала, что делать. Она ночи напролет просиживала на оконных ставнях или у очага, не желая укладываться в свою чистенькую и мягонькую корзинку, выложенную ватными тюфяками и нежными перинками. До ее фрейлины (а у нее и впрямь была фрейлина) нередко доносились вздохи и горькие жалобы; становясь все умнее, она делалась и все печальней, и всякий раз, видя себя в зеркале, хотела его разбить; вот потому-то о ней часто говорили: «Обезьяна обезьяной и останется, Побрякушка никогда не избавится от зловредных качеств, присущих ее роду-племени».
Принц, повзрослев, полюбил охоту, балы, комедии, оружие и книги; об обезьянке он уже почти не вспоминал. А у бедняжки все было иначе: в двенадцать лет она любила его больше, чем в шесть. Иной раз она упрекала его за забывчивость, он же дарил ей райское яблочко или горсточку засахаренных каштанов и считал, что кругом перед ней оправдался.
Наконец молва о Побрякушке дошла до Обезьяньего королевства. Король Макак захотел жениться на ней и отправил пышнейшее посольство к королеве — попросить руки своей избранницы. Объяснить суть дела ее первому министру не составило труда, однако пришлось прибегнуть к помощи попугаев и сорок, попросту именуемых трещотками, — они и впрямь трещали так, что даже кортеж из соек, следовавший за экипажем, похоже, не мог их перетараторить, чем был весьма раздосадован.
Возглавлял посольство огромный павиан Ширлимырль. Он ехал в карете, на которой была изображена вся история любви короля Макака и обезьянки Мартыны, знаменитой в обезьяньем царстве. Она встретила страшную смерть в когтях дикой кошки, непривычной к ее проказам. Итак, на карете изображались радости, которые вкушали в браке Макак и Мартына, а также живая и искренняя скорбь короля, оплакивавшего утраченную супругу. Экипаж (который почетно называли придворным) везли шесть белых кроликов лучшей породы. Следом ехала еще одна расписная карета из соломы, а в ней — мартышки, предназначенные в свиту Побрякушке; надо было видеть их пышные наряды — сразу ясно, что собрались на свадьбу. Остальной кортеж составляли спаниели, левретки, сиамские кошки, крысы из Московии, лисицы: одни везли повозки, другие тащили багаж. Впереди всех Ширлимырль, важный, как римский диктатор, и мудрый, как Катон[179], восседал на молодом зайце, скакавшем иноходью лучше английского жеребца.
Королева и не ведала ничего о таком великолепном посольстве, пока оно не подошло к самому дворцу. Хохот народа и гвардии заставил ее высунуться в окно, и тут она увидела самую необычайную кавалькаду, какую только могла вообразить. В это время Ширлимырль с большой обезьяньей свитой как раз приблизился к карете мартышек, подал лапу дородной обезьяне по имени Гиббонья и помог ей выйти, после чего выпустил маленького попугайчика, служившего ему переводчиком, и дождался, пока эта прекрасная птица явится перед королевой и попросит аудиенции от его имени.
Плавно поднявшись в небо, попугай подлетел к окну, у которого стояла королева, и сказал ей мелодичнейшим голосом:
— Сударыня, господин граф Ширлимырль, посол достославного Макака, короля обезьян, просит у Вашего Величества аудиенции, чтобы поговорить о весьма важном деле.
— Милый мой попугайчик, — сказала королева, лаская его, — для начала скушайте гренок и попейте, а затем, прошу вас, передайте графу Ширлимырлю, что он желанный гость в моей стране, равно как и все, кто его сопровождает. Если путешествие из Обезьянии в здешние края не слишком его утомило, он может сразу же явиться в залу аудиенций, где я буду ждать его на троне, и весь двор тоже.
Услышав это, попугай дважды шаркнул ножкой, выбил дробь, пропел что-то в знак радости, а затем полетел обратно, уселся на плече посла Ширлимырля и передал ему благоприятный ответ, который только что получил. Ширлимырль очень обрадовался. Он обратился к одному из офицеров королевы через сороку Трещотку, нанятую переводчицей, и спросил, не предоставят ли ему какую-нибудь комнату, чтобы отдохнуть с дороги. Ему отвели гостиную, выложенную расписным и позолоченным мрамором, одну из самых чистых во дворце. Он вошел туда с частью свиты; обезьяны же, от природы прекрасные ищейки, тотчас обнаружили укромный уголок, где хранилось множество горшочков варенья. И вот мои лакомки угощаются: у одного в лапах хрустальная чаша с абрикосами, у другого — бутылка сиропа, у того мармелады, у сего марципаны[180]. Гордый народец из кортежа, которому от этой трапезы не досталось ни крошки, ни зернышка, был весьма раздосадован, и поэтому одна сойка, болтушка, каких мало, явилась к королеве в зал аудиенций и, почтительно приблизившись, произнесла:
— Сударыня, я слишком предана Вашему Величеству, чтобы участвовать во всем этом расхищении. Какой урон вашим сладчайшим вареньям! Один только граф Ширлимырль съел уже три склянки и пожирал четвертую, без малейшего почтения к Вашему Королевскому Величеству, когда я, содрогаясь от возмущения, полетела сообщить вам об этом.
— Благодарю, дружочек мой сойка, — сказала королева с улыбкой, — однако же не беспокойтесь уж так о моих вареньях, — я жертвую ими ради счастья Побрякушки, которую люблю всем сердцем. — Сойка, несколько пристыженная тем, что наябедничала, молча удалилась.
Через несколько минут явился посол со свитой, одетый не по моде, ибо с тех пор, как вернулся знаменитый Фаготен[181], в свое время столь ярко блиставший в свете, обезьяны так и не имели достойных образцов. На нем была остроконечная шляпа с пучком зеленых перьев, перевязь из синей бумаги с папильотками и большие штаны с рюшами, а в лапе тросточка. Попугай, считавшийся хорошим поэтом, сочинил весьма серьезную речь. Он приблизился к подножию трона королевы, обратился к Побрякушке и произнес:
Всю силу ваших глаз вы сможете понять,
Узнав, как наш Макак изволит горевать.
Мартышки, кошки все, все птицы в нашей свите
Поведать рады вам, коль слушать захотите,
О скорби короля, когда его жена
Погибла, хищницей проклятой сражена.
Сударыня, сравнить ее могу лишь с вами.
Когда Мартыны дни пресéклися когтями,
Макак поклялся ей до гроба верным быть
И к ней одной всю жизнь, скорбя,
любовь хранить.
Но ваши прелести, сударыня, однако
Забыть былую страсть заставили Макака.
О вас лишь грезит он. Когда бы знали вы,
Как бедный наш король измучился, увы,
К нему, конечно, вы явили б состраданье
И взяли б на себя часть от его терзанья.
Он, прежде тучный, он, кто бодростью блистал,
Стал меланхоликом и страшно отощал.
Вседневная тоска монарха пожирает —
Он от любови к вам, сударыня, сгорает!
Орешков он всегда отведать был не прочь,
Теперь же и до них он больше не охоч.
Он гибнет; лишь у вас в руках его спасенье,
Избавьте ж поскорей монарха от томленья!
Как наш прекрасен край,
не скажешь в двух словах.
Блаженство встретит вас на наших берегах.
Отменный урожай дарует нам природа,
Есть фиги, виноград в любое время года.
Не успел Попугай окончить речь, как королева взглянула на Побрякушку, а та была в таком замешательстве, что и словами не выразишь; королева же, прежде чем дать ответ, хотела знать, что обо всем этом думает ее обезьянка. Попугаю было велено передать господину послу, что Ее Величество благосклонно относится к притязаниям его государя и будет благоприятствовать ему во всем, поелику это от нее зависит. Когда аудиенция закончилась, королева удалилась, и Побрякушка последовала за ней в ее кабинет.
— Милая моя мартышка, — молвила королева, — признаюсь, что буду грустить по тебе, когда ты уедешь, но Макаку отказывать нельзя, я ведь еще не забыла, как отец его в большой войне против меня выставил двести тысяч воинов. Они загрызли столько наших подданных, что нам пришлось заключить весьма унизительный мир.
— Из этого следует, сударыня, — отвечала с нетерпением Побрякушка, — что вы решились принести меня в жертву этому ужасному чудовищу, дабы избежать его гнева. Но я умоляю Ваше Величество хотя бы дать мне несколько дней, чтобы принять окончательное решение.
— Это разумно, — отвечала королева, — однако, если хочешь знать мое мнение, соглашайся поскорее. Подумай об уготованных тебе почестях, взгляни, какое роскошное посольство за тобой прислали; уверена, что никогда Макак не делал для Мартыны того, что делает для тебя.
— Уж не знаю, что он там делал для Мартыны, — презрительно отвечала малышка Побрякушка, — однако те чувства, какие он мне изливает, весьма мало меня трогают.
Она немедленно встала и, грациозно поклонившись королеве, отправилась искать принца, чтобы поделиться своим горем. Тот, едва только увидев ее, воскликнул:
— Ну что, миленькая Побрякушка, когда мы будем танцевать на твоей свадьбе?
— Не знаю, сударь, — отвечала та печально, — но только положение мое теперь столь плачевно, что я больше не могу таить от вас мою тайну и, чего бы это ни стоило моей скромности, должна признаться: вы единственный, кого я хотела бы видеть моим супругом.
— Супругом, — расхохотался принц, — супругом, милая моя обезьянка? Что ж, я весьма польщен; надеюсь, однако, что ты простишь меня, если я откажусь от такой чести, ведь, в конце концов, ни по росту, ни по характеру, ни по манерам мы совсем не подходим друг другу.
— Тут я с вами соглашусь, — отвечала она, — а особенно непохожи друг на друга наши сердца. Я давно заметила, что вы неблагодарны, и очень неразумно с моей стороны любить принца, так мало заслуживающего любви.
— Но, Побрякушка, подумай же, каково мне будет видеть, как моя жена висит на вершине сикомора, зацепившись за ветку кончиком хвоста. Право же, обратим все это в шутку, к чести для нас обоих. Выходи за Макака да пришли мне, в знак нашей доброй дружбы, первого своего детеныша.
— Ваше счастье, сударь, — произнесла Побрякушка, — что разум во мне не обезьяний: любая другая уже выцарапала бы вам глаза, прокусила нос да пообрывала бы уши, я же призываю вас хорошенько поразмыслить, ибо однажды вам придется задуматься о вашем недостойном поведении.
Тут пришла ее фрейлина и сказала, что посол Ширлимырль явился к ней с роскошными дарами.
Там был и наряд из паутины, расшитой блестящими стеклышками, и расчески в яичной скорлупке, и крупная черешневая ягода, служившая подушечкой для булавок, и белье, все обшитое бумажными кружевами, а еще — корзинка с раковинами, очень тщательно подобранными: из одних были сделаны серьги, из других — гребни, и все это блестело, словно брильянты. Но лучше всего были двенадцать ящиков с вареньями и маленький стеклянный ларчик; внутрь положили орешек и оливку, а ключик потеряли — лишнее, хоть и легкое, огорчение для Побрякушки.
Посол проревел ей (ибо таков язык, на котором говорят в Обезьянии), что его монарх воспылал к ее прелестям такой страстью, какой не питал еще ни к одной мартышке, а посему приказал выстроить для нее дворец на самой верхушке огромной елки и шлет ей эти подарки, и даже диковинные варенья, в знак своей необычайной привязанности, ибо ничего лучшего король, государь его, не придумал, дабы засвидетельствовать свою дружбу.
— Однако, сударыня, — добавил он, — главное доказательство его нежности к вам, — и оно конечно же не оставит вас равнодушной, — это его портрет; он нарочно изволил заказать его, дабы доставить вам удовольствие его лицезреть! — И с этими словами посол развернул портрет, где король обезьян был изображен восседающим на чурбане и поедающим яблоко.
Побрякушка отвернулась, чтобы не смотреть на эту противную рожу, и троекратным рявканьем сообщила послу Ширлимырлю, что весьма обязана его господину за оказанное ей внимание, но еще не успела решить для себя, согласна ли быть его супругой.
Между тем королева решила не навлекать на себя гнева обезьян и, полагая, что не нужно особых церемоний, чтобы отправить Побрякушку туда, куда ей хотелось, приказала готовить отъезд. Когда та узнала об этом, сердце ее наполнилось отчаянием. С одной стороны, презрение принца, с другой — безразличие королевы, но особенно тот супруг, какого ей предлагали, — все это заставило ее решиться бежать. Это было не так уж сложно: с тех пор, как она начала разговаривать, ее перестали привязывать, позволив ходить где вздумается, и она залезала в свою комнату через окно столь же часто, как и через дверь.
Итак, она поскорей отправилась в путь, прыгая с дерева на дерево, с ветки на ветку, и так до самого берега реки. Горе ее было так велико, что, решившись ее переплыть, она не соразмерила сил своих; ничего толком не рассчитав, она бросилась в воду и тут же пошла ко дну, однако не лишилась чувств, и поэтому, сразу заметив чудесный грот, весь изукрашенный ракушками, поспешила войти. Ее встретил почтенный старец с бородой до пояса: он возлежал на камышах и гладиолусах, в венке из маков и диких лилий и облокачивался на скалу — из нее-то и вытекало несколько родников, подпитывавших реку.
— Ага, — сказал старец, протягивая ей руку. — И что же привело тебя сюда, малютка Побрякушка?
— Сударь, — отвечала она, — я несчастная мартышка, я бегу от ужасной обезьяны, которую прочат мне в супруги.
— Я знаю о тебе больше, чем ты думаешь, — промолвил мудрый старец. — Да, Макак и вправду внушает тебе ужас и отвращение. Зато ты любишь одного юного принца, а тому до тебя и дела нет.
— Ах, сударь, — воскликнула Побрякушка, тяжко вздохнув, — не будем об этом говорить, воспоминание о нем умножает мою скорбь.
— Он не вечно будет противиться любви, — продолжал хозяин рыб, — мне известно, что судьба предназначила его прекраснейшей принцессе во вселенной.
— О я несчастная, — проговорила Побрякушка, — стало быть, не бывать ему моим!
Добрый старик улыбнулся и сказал ей:
— Не печалься, милая Побрякушка: время — учитель чудный[182]. Смотри только не потеряй стеклянный ларчик, присланный тебе Макаком, а то ты его невзначай сунула в карман. Больше я ничего не скажу. Вот черепаха, у нее хороший ход, садись же на нее верхом, и она отвезет тебя туда, куда тебе надлежит попасть.
— Я так вам признательна, — отвечала она, — что мне бы непременно хотелось узнать ваше имя.
— Меня зовут Бирока, отец Бирокии, реки, как видишь, весьма большой и знаменитой.
Побрякушка доверчиво уселась верхом на черепаху, и показалось ей, что плыли они долго-долго, пока не добрались наконец до берега. Взнуздана была черепаха так элегантно, что краше не найти: и седло английское, и вся остальная сбруя; по бокам висели даже маленькие седельные пистолеты, а раковые панцири служили им кобурой.
Побрякушка ехала, во всем полагаясь на мудрость Бироки, но вдруг услышала ужасный шум. Увы! Увы! То посол Ширлимырль со всеми его ширлимырлями возвращались в Обезьянию, опечаленные ее побегом. Одна из обезьян забралась на верхушку дерева, чтобы набрать орехов и покормить мартышат, и, озираясь по сторонам, тут же разглядела Побрякушку на несчастной черепахе, которая ползла по суше очень медленно. Тут обезьяна закричала так громко, что все сбежались и начали на своем языке выспрашивать, что происходит. Та рассказала. Немедленно спустили попугаев, сорок и галок, те слетали на разведку, и тогда посол, мартышки и вся остальная свита накинулись на Побрякушку и схватили ее.
Бедная Побрякушка! Вот уж беда так беда, столь редкая, что не позавидуешь! Ее тут же посадили в главную карету, которую сразу окружили самые бдительные обезьяны-стражники, да еще несколько лисиц, а на самый верх вскочил петух, чтобы сторожить день и ночь. Черепаху тоже вела на поводке одна из обезьян: ведь это был для них зверь доселе не виданный. Таким порядком вся кавалькада продолжала странствие, к большому недовольству Побрякушки, всю компанию которой составляла донья Гиббонья, весьма сварливая и суровая.
Три дня прошло без приключений, но затем проводники сбились с пути, и вот общество прибыло в город большой и роскошный, где они, однако, никогда не бывали; завидев прекрасный сад с открытой калиткой, обезьяны, подобно солдатам в завоеванной местности, набросились на все и опустошили. Один грыз орехи, другой обжирался черешнями, третий обрывал сливы; каждой мартышке тут нашлось чем поживиться.
А надо вам сказать, что город этот был столицей того королевства, где Побрякушка появилась на свет, и правила там еще ее матушка, которая с того горестного мига, когда ее дочка превратилась в мартышку по вине злосчастного цветка боярышника, не хотела видеть в своей стране ни мартышек, ни шимпанзе, ни макак, словом, ничего, что напоминало бы ей о скорбном и роковом происшествии. Поэтому на обезьян здесь смотрели как на возмутителей общественного спокойствия, — и как же удивился народ, увидев карточную карету, тележку из раскрашенной соломы и всю остальную небывалую кавалькаду, самую удивительную, какая только появлялась с тех пор, как сказки сказываются и феи на свете живут!
Новость быстро прилетела во дворец. Потрясенная королева решила, что все та же миленькая обезьянка покушается на ее власть. Она немедленно собрала совет и приказала вынести всем нарушителям приговор за оскорбление величества. Чтобы этот случай не прошел незамеченным, а надолго запомнился суровыми мерами и примерным наказанием, в сад послали гвардию с приказом схватить всех обезьян. Тут на деревья набросили огромные сети, и охота закончилась быстро; хотя послу и подобает почтение, в отношении Ширлимырля сие правило было грубо нарушено: его без всяких церемоний бросили на дно погреба, в большую пустую бочку, где он и все его сотоварищи содержались как пленники, вместе с дамами-мартышками и фрейлинами-мартышатами; да и самой Побрякушке тоже пришлось разделить их компанию.
А она-то тайком радовалась переполоху: ведь когда беды превышают меру, на них уже не обращаешь внимания и самую смерть можно почесть за благо. Таково было положение Побрякушки: в сердце образ принца, который презрел ее, а разум содрогается при мысли о противном короле Макаке, чьей женой она вот-вот должна была стать.
Не забудем, что одежды ее были так прелестны, а манеры столь необычны, что схватившие сочли ее великим чудом: но поистине потрясла она всех, когда заговорила, — ведь слух о несравненной Побрякушке дошел и до сих краев. Королева, нашедшая ее и ничего не знавшая о превращении племянницы, часто писала сестре о своей чудесной обезьянке и звала ее приехать посмотреть на диковинного зверька. Однако несчастная королева-мать об этом и слышать не хотела.
Наконец гвардейцы, восхищенные находкой, отнесли Побрякушку в большую галерею. Там ей устроили маленький трон, на который она уселась скорее как государыня, чем как обезьянка-пленница, и когда королева пришла взглянуть на нее, то была так потрясена и милым личиком обезьянки, и ее обильными любезностями, что в ней помимо воли проснулась природная склонность к инфанте.
Она взяла ее на руки. Маленькое создание, движимое чувствами, каких ей до сих пор не приходилось испытывать, бросилось ей на шею: тут обезьянка произнесла столько ласковых, нежных и разумных слов, что все вокруг не уставали восхищаться.
— Нет, сударыня! — восклицала она. — Не страх близкой смерти, коей вы, как мне стало известно, угрожаете несчастному обезьяньему роду, заставляет меня заискивать перед вами и стараться вам понравиться: смерть — не самое страшное, что может случиться со мною; чувства мои выше тех, что подобают моей природе, и для собственного спасения я не сделала бы ничего. Стало быть, я просто люблю вас, а спасение, — что мне до него? Оно полностью в руках ваших; мне же дороги вы сами, а не ваша корона.
Ну, а вы бы что ответили такой вот миленькой Побрякушке, столь почтительной и щедрой на комплименты? Королева, онемев, как рыба, только глаза таращила, думая, что ей это снится, но речь обезьянки все-таки глубоко ее тронула.
Она отнесла мартышку в свой кабинет и, оставшись с нею наедине, молвила:
— Ну же, не мешкая, расскажи мне о себе! Я уже чувствую, что ты станешь самой любимой из всех обитателей моего зверинца. Обещаю даже помиловать ради тебя всех схваченных с тобою обезьян.
— Ах, сударыня! — вскричала та. — За них я и не думаю просить. Злая судьба моя хотела, чтобы я родилась обезьянкой, и она же наделила меня рассудком, который будет причинять мне боль до самой моей смерти. И то сказать: каково же мне видеть себя в зеркале такой вот маленькой, безобразной и черной, с шерстистыми лапами, хвостом и зубами, всегда готовыми укусить, а ведь я наделена разумом, изысканным вкусом и тонкими чувствами!
— А скажи мне, любить ты умеешь? — спросила королева.
Вместо ответа Побрякушка вздохнула.
— Да признайся же, не влюблена ли ты в какую-нибудь обезьянку, кролика или белочку? — сказала королева. — А то, если сердце твое не занято, я найду тебе весьма подходящего карлика.
Побрякушка ничего не ответила, но сидела такая надутая, что королева прыснула со смеху.
— Ну, не сердись, — улыбнулась она, — и расскажи мне наконец, как ты научилась говорить?
— Об этом мне и самой не так много известно, — отвечала Побрякушка, — знаю лишь, что однажды ваша сестра-королева, только успев распрощаться с вами после рождения и смерти вашей дочки-принцессы, проезжала по берегу моря и увидала вашего лакея, который собирался меня утопить. По ее приказу меня вырвали у него из рук. А речь и разум обрела я чудом, и это немало всех удивило. Мне наняли учителей, обучивших меня многим языкам и игре на разных инструментах. Тут мне наконец открылась вся горечь моего положения и… Но что это?! — вскричала она, увидев, как вдруг побледнело и покрылось холодным потом лицо королевы. — Что с вами, сударыня? Отчего вы вдруг так странно изменились в лице?
— Умираю! О дорогая и слишком несчастная дочь! Вот, стало быть, как привелось мне снова увидеть вас!
Тут королева лишилась чувств. Напуганная Побрякушка побежала звать на помощь. Дамы поскорей принесли воды, распустили Ее Величеству шнуровку и уложили в постель. Там же с ней укрылась и Побрякушка: ведь она была такой маленькой, что ее никто и не заметил.
Когда королева очнулась от долгого обморока, в который поверг ее рассказ принцессы, то пожелала остаться наедине с дамами, знавшими роковую тайну рождения ее дочери, и все им рассказала, — но они, в полной растерянности, даже не знали, что бы тут посоветовать.
Она все-таки потребовала ответить: как поступить наиболее разумно при столь плачевных обстоятельствах. Одни предложили обезьянку удавить, другие — посадить в яму, третьи — снова отправить ее в море. Королева же лишь рыдала.
— Она так умна! — все повторяла она. — До чего же горько видеть ее в том плачевном состоянии, до какого низвел ее злополучный букет! Но, в конце концов, — продолжала она, — это моя дочь, и именно я навлекла на нее гнев зловредной Мишуры. Фея затаила злобу на меня — но справедливо ли, чтобы страдала она?
— Ах, сударыня, — воскликнула ее старая статс-дама, — надо спасать вашу честь! Что подумают в свете, объяви вы, что ваша инфанта — обезьяна?! С вашей-то красотой иметь таких детей — это против природы!
От подобных рассуждений королева пришла в ярость. Но другие дамы с не меньшим запалом твердили, что с уродцем надлежит покончить. В конце концов королева решила упрятать Побрякушку в какой-нибудь замок, где бы ее хорошо кормили и обихаживали до конца ее дней.
Та же, едва услышав, что королева хочет заточить ее в тюрьму, тотчас незаметно проползла по балдахину кровати и выскочила через окно в сад, а там, прыгая с ветки на ветку, сбежала в большой лес, оставив всех в досаде, что не сумели ее изловить.
Она провела ночь в дупле дуба, где долго размышляла о жестокой своей судьбе; больше всего ее печалило, что пришлось покинуть мать. И все же она предпочла добровольное изгнание и свободу неволе до конца дней.
Как только рассвело, она снова пустилась в путь, сама не зная куда, снова и снова задумываясь о странных превратностях своей жизни: «какая страшная разница между тем, что я есть, и чем должна быть!» — и слезы ручьями лились из маленьких глазок несчастной Побрякушки.
К полудню она уже много прошла, боясь, как бы королева не послала за ней погоню, или обезьяны, выбравшись из погреба, не увели бы ее силком к Макаку. Так и шла она куда глаза глядят, пока не попала в столь пустынное место, где не было ни домика, ни деревца, ни травки, ни ручейка; вот куда принесли ее ноги, но захотелось ей поесть — тут она и поняла, как неосторожно путешествовать в подобных краях, да было уже поздно.
Два дня и две ночи прошло, а ей все не удавалось поймать ни улитки, ни мушки. Ей стало страшно: так ведь и умереть можно; уже теряя зрение от слабости, она улеглась на землю и вдруг вспомнила про оливку и орешек, так и лежавшие в стеклянном ларчике. Тут и пришло ей в голову, что ими можно легонько подкрепиться. Обрадованная этим лучиком надежды, она взяла камень, расколола ларчик и разгрызла оливку.
Но не успела она откусить один кусочек, как из оливки рекой потекло ароматное масло, и стоило лишь одной его капле попасть ей на лапки, как они превратились в самые прекрасные в мире ручки. Вне себя от удивления, она собрала масло и вся им намазалась. О, чудо! Чудо! Побрякушка стала такой прекрасной, что во всей вселенной не сыскать равной. Она чувствовала, что у нее теперь большие глаза, маленький ротик, чудесно вылепленный носик, и просто умирала от желания посмотреться в зеркало. Наконец ей удалось найти самый большой осколок, оставшийся от стеклянного ларчика. Ах! То-то она обрадовалась, увидев свое отражение! Какой приятный сюрприз! Вместе с нею выросла и ее одежда, и она была теперь прекрасно причесана; волосы вились тысячей локонов, а личико стало свежим, как весенний цветок.
Оправившись от первого удивления, она почувствовала сильный голод, а умирать стало еще жальче.
— Как! — воскликнула она. — Мне, такой прекрасной, такой молодой, мне, родившейся принцессой, придется кончить жизнь в этих тоскливых местах! О жестокая Фортуна! Ты привела меня сюда, что же повелишь ты мне теперь? Или ты дала свершиться этому превращению, столь счастливому, сколь и неожиданному, лишь с тем, чтобы преумножить мои горести? А ты, достопочтенный поток Бирока, столь великодушно спасший мне жизнь, — неужто оставишь меня одну умирать в этой жуткой пустыне?
Напрасно инфанта призывала на помощь — никто не откликался на ее вопли. Наконец, отчаявшись найти другое пропитание, она расколола и орешек. Но каково же было ее удивление, когда, бросив скорлупку, она увидела, как оттуда выходят сотни тысяч архитекторов, художников, каменщиков, обойщиков, скульпторов и прочих ремесленников. Одни чертили план дворца, другие его строили, третьи обставляли; те красили покои, другие устраивали сады, все сияло золотом и отливало лазурью. Вот накрывают стол, который уже ломится от чудесных яств, тут же приезжают в каретах шестьдесят принцесс, одетых богаче королев, в сопровождении пажей. Все они учтиво приветствуют инфанту и зовут ее к столу. И вот Побрякушка, не заставляя себя долго упрашивать, шествует в залу, и там, усевшись величественно, истинно по-королевски, ест, точно изголодавшаяся нищенка.
Не успела она выйти из-за стола, как казначеи принесли пятнадцать тысяч сундуков, огромных, как бочки, доверху наполненных золотом и алмазами, и спросили ее соизволения заплатить зодчим и ремесленникам, построившим дворец. Она кивнула, но с тем условием, чтобы те построили ей также и город, женились тут и остались при ней. Все на то согласились, и в три четверти часа выстроили целый город, а был он впятеро больше Рима. Вот сколько чудес из одного орешка!
Принцесса рассудила, что надо бы послать роскошное посольство к королеве-матери да еще к молодому принцу-кузену, чтоб попенять ему. Сама же тем временем развлекалась, глядя на игру в кольцо[183], за которую назначала богатые награды, ездила в театр, на охоту и даже на рыбалку (для этого воды реки отвели в ее угодья). Слух о ее красоте облетел всю вселенную. Ко двору ее сходились короли со всех частей света, гиганты выше гор и пигмеи меньше крыс.
Случилось так, что однажды на большом празднике несколько рыцарей преломили копья, перессорились да передрались, и много было там раненых. Принцесса в гневе спустилась со своего балкона, чтобы лично дознаться о виновных, но каково же ей пришлось, когда со всех сняли доспехи, и в одном из раненых узнала она принца, своего кузена? Хоть и не мертв он был, но едва дышал; она же, и сама едва живая от неожиданности и горя, приказала перенести его в лучшие покои, ничего не жалея для его излечения; призвали врачей и шарлатанов из Шодрэ[184], хирургов, натирали мазями, поили бульонами и микстурами, принцесса сама делала перевязки да щипала корпию. Пролитые ею слезы служили лекарственным бальзамом для больного. А тот и вправду был плох: досталось ему с полдюжины ударов мечом, столько же копьем, да кроме того, давно инкогнито живя при дворе, он был так изранен прекрасными взорами Побрякушки, что вовек не излечиться. Судите же теперь о его чувствах, стоило ему лишь прочесть на лице этой прелестной принцессы, как больно ей видеть его в состоянии столь плачевном!
Не стану передавать, какими словами благодарил он ее за доброту, — исходили они из самого сердца, так что все дивились, как это человек, так тяжко недомогавший, проявил столько страсти. Не раз сказанное им заставляло принцессу краснеть. Она умоляла его замолчать, но он уже так далеко зашел в своей горячности, что прямо на глазах у нее приготовился перейти в мир иной. До тех пор она еще сдерживалась, но тут, видя его в агонии, потеряла самообладание, рвала на себе волосы, кричала и плакала; тогда уж поневоле все подумали, будто сердце ее завоевать нетрудно, раз уж так мало времени понадобилось, чтоб она прониклась столь сильной нежностью к чужестранцу. Ведь никто не знал в Побрякундии (такое имя дала она своему королевству), что принц этот был ее кузеном, коего любила она с самой ранней юности.
Принц же, некогда отправившись в путешествие, остановился при ее дворе и, не зная никого, кто мог бы представить его инфанте, счел за лучшее сделать ей пять-шесть геройских приношений в виде рук и ног, отрубленных им у всяких рыцарей на турнирах; однако ж среди них не нашлось таких сговорчивых, чтоб на это согласиться. Тут и началась страшная заваруха, где самый сильный бил самого слабого, — а самым слабым, как я уже сказала, и оказался принц.
И вот Побрякушка в отчаянии помчалась куда глаза глядят, без кареты и охраны, и наконец оказалась в лесной чаще. Там она упала без чувств под деревом, куда и явилась фея Мишура (а она не дремала и все искала случая для своего злого дела) и тотчас унесла принцессу на облаке чернее чернил, летевшем быстрее ветра. Принцесса же еще оставалась без чувств. Наконец она пришла в себя и страшно удивилась, что ее занесло так далеко от земли и так близко к полюсу. Облачный паркет не слишком тверд; она бегала туда-сюда, точно по мягким перьям, и вот наконец облако прорвалось, так что она с трудом удержалась, чтобы не упасть. Некому ей было пожаловаться: злая Мишура сделалась невидимой. Инфанта вспомнила, в каком положении пришлось ей оставить принца, и охватили ее самые горькие мысли, от коих только может страдать душа человеческая.
— Как?! — воскликнула она. — Неужто суждено мне пережить любимого, и мысль о близкой смерти страшна моему сердцу! Ах! Да соблаговоли солнце поджарить меня, — какую добрую службу оно бы мне сослужило; а как бы рада я была утонуть в радуге! Но увы! Весь зодиак глух к моим воплям, у Стрельца нет стрел, у Тельца — рогов, а у Льва — зубов. Быть может, Земля окажется сострадательнее и подставит мне вершину какой-нибудь скалы, чтобы убиться. О принц, дорогой кузен, жаль, что вас нет здесь, вы увидели бы самый трагический из прыжков влюбленной девицы, впавшей в отчаяние! — И с этими словами, помчавшись к краю облака, она бросилась вниз как яростно пущенная стрела.
Все, кто ее видел, решили, что это Луна падает с неба, а поскольку в те времена люди жили в невежестве, то поклонявшиеся Луне погрузились в великий траур, уверенные, что Солнце из зависти сыграло с нею такую злую шутку.
Как ни хотела инфанта умереть, а ничего у нее не вышло; упала она в стеклянную бутылку вроде тех, в каких феи выставляют на солнце свои настойки. Но какова же была эта бутылка! Выше самой высокой башни в мире. Хорошо хоть пустая, а то бы принцесса утонула в ней как мушка.
Шестеро великанов, которые стерегли бутыль, тут же узнали инфанту: ведь они жили при ее дворе и любили ее. Жестокая Мишура, ничего не делавшая понапрасну, перенесла их туда на летающих драконах, а драконы те стерегли бутылку, пока великаны спали. Инфанта же, сидя внутри, не единожды пожалела о своей обезьяньей шкуре. Жила она в бутылке как хамелеоны: питалась воздухом и росой[185].
Никто не знал о ее заточении, и молодой принц, оставшийся в живых, все звал и звал Побрякушку. По печальному облику всей прислуги он догадывался, что при дворе случилось несчастье, но природная скромность не позволяла ему расспрашивать о причинах скорби. Однако, уже почти поправившись, он стал так настойчиво искать принцессу, что от него уже не могли скрывать ее исчезновение. Видевшие, как она вбегает в лес, утверждали, что ее растерзали львы, другие говорили, что она в отчаянии наложила на себя руки, третьи — что она помешалась и блуждает по миру.
Последнее было не столь ужасно и давало хоть какую-то надежду, за которую он и ухватился. Оседлал он своего Звонкопыта, — а я забыла упомянуть, что конь этот был старшим сыном самого Буцефала[186] и одним из лучших скакунов, каких только видел наш век. Принц взнуздал его и пустил наугад, но тщетно он призывал инфанту — лишь эхо было ему ответом.
Наконец добрался он до берега огромной реки. Звонкопыт хотел пить и вошел в воду, а принц, как обычно, принялся кричать во весь голос:
— Побрякушка, прекрасная Побрякушка, где вы?
Вдруг он услышал голос, журчащий нежным ручейком. Голос сказал:
— Приблизься, и узнаешь.
Услышав это, принц, столь же бесстрашный, сколь и влюбленный, пришпорил Звонкопыта, поплыл и попал в водоворот, где вода затягивала вниз с необычайной быстротой. Он пошел на дно, не сомневаясь, что сейчас утонет; однако ж благополучно прибыл к добряку Бироке, как раз справлявшему свадьбу своей дочери с одним из величайших и богатейших потоков этой местности. Все водяные божества собрались в просторном гроте, тритоны и русалки играли приятную музыку, а речка Бирокия, в легких одеждах, танцевала оливет[187] с Сеной, Тамис, Евфратом и Гангом, которые, разумеется, съехались издалека, чтобы повеселиться вместе[188]. Звонкопыт, который был весьма хорошо воспитан, почтительно остановился у входа в грот, а принц, еще более обходительный, чем его конь, спросил, дозволено ли таким смертным, как он, появляться в обществе столь изысканном.
Бирока взял слово и учтивейше заявил, что этим он окажет им честь и доставит радость.
— Уже несколько дней поджидаю я вас, сударь, — продолжал он, — я на вашей стороне, и интересы инфанты для меня драгоценны. Вы должны спасти ее из того страшного места, в котором держит ее мстительная Мишура, заточившая ее в бутылку.
— Ах, что вы такое говорите?! — воскликнул принц. — Инфанта в бутылке?
— Да, — отвечал мудрый старец, — и там страдает сверх меры. Но предупреждаю вас, сударь, что непросто будет вам победить сторожащих ее великанов и драконов, если вы не последуете моим советам: доброго коня вам придется оставить здесь, а пересесть на крылатого дельфина, которого я давно для вас воспитал. — И он подозвал дельфина, оседланного и взнузданного, при этом так заправски выделывавшего вольты и курбеты[189], что сам Звонкопыт позавидовал.
Бирокия и ее подруги поспешили вооружить принца. На него надели сияющий панцирь из позолоченных чешуек карпа, а на голову вместо шлема — раковину огромной улитки, оперенную большим хвостом трески наподобие султана. Одна из наяд препоясала его угрем, на котором висел устрашающий меч из длинной рыбьей кости. Потом ему дали панцирь черепахи, из которого он сделал себе щит. В таком снаряжении любой пескарик принял бы его не иначе как за самого бога форелей, ибо надо признаться, что выглядел он довольно странно: среди смертных такого не часто встретишь.
Надежда вскоре увидеть любимую принцессу вернула ему веселое расположение духа, от коего он уже отвык, с тех пор как ее утратил; посему, отмечает наше правдивое повествование, он с аппетитом поел на пиру у Бироки и весьма пылко поблагодарил всю компанию, попрощался со Звонкопытом, а затем вскочил на летающего дельфина и пустился в дорогу.
К вечеру принц взлетел на такие высоты, что пришлось ему заехать отдохнуть в лунное царство-государство[190]. Редкостные чудеса, увиденные им там, могли бы его задержать, не спеши он поскорее спасти принцессу из бутылки, где она томилась уже несколько месяцев. Заря только еще занималась, когда он оказался среди великанов и драконов, — их злая фея подчинила себе могуществом волшебной палочки. Она была так уверена, что никому не под силу освободить принцессу, что полагалась лишь на эту страшную стражу, которая так мучила бедняжку.
А прелестная принцесса страдальчески глядела в небо и возносила ему горестные жалобы, как вдруг увидела крылатого дельфина и всадника, спешившего освободить ее. Ей все это показалось бы невероятным, не знай она на собственном опыте, что для некоторых чудеса в порядке вещей.
— Уж не чарами ли какой зловредной феи поднят в воздух этот рыцарь? — говорила она. — Ах, как мне жаль его! Не иначе какая-нибудь бутылка или кувшин станет ему тюрьмой, как и мне!
Пока принцесса рассуждала, великаны увидели у себя над головой спускавшегося принца и решили, что это воздушный змей.
— Лови! Лови! То-то позабавимся! — кричали они друг дружке. Но едва, нагнувшись, они принялись искать его к траве, как он обрушился на них и разил направо и налево, и наконец изрубил на куски, как карты из колоды, когда их разрезают надвое и бросают кружиться по ветру. Инфанта, обернувшись на шум сего великого сражения, узнала юного принца — то-то было счастье снова увидеть его живым-здоровым! Но как же беспокоилась она, видя его в такой опасности, среди набросившихся на него ужасных великанов и жутких драконов! Принцесса не смогла сдержать вопль ужаса — угроза, коей подвергалась жизнь принца, едва не стоила жизни и ей.
А между тем волшебный меч из рыбьей кости, которым Бирока вооружил нашего героя, разил без промаха, а легкокрылый дельфин, с необычайным проворством то взлетая, то снижаясь, тоже сослужил своему седоку чудесную службу, так что вскоре вся земля вокруг оказалась усеяна телами этих чудовищ.
Тут принц, увидев бутылку с запертой внутри принцессой, в нетерпении готов был разнести ее на куски, если бы не боялся поранить узницу. Тогда он решил спуститься к ней через бутылочное горлышко; достигнув же дна, упал на колени перед Побрякушкой и почтительно поцеловал ей руку.
— Сударь, — сказала она, — дабы сохранить ваше обо мне хорошее мнение, я нахожу разумным сейчас же объяснить вам, по какой причине я все это время так нежно интересовалась вашим здоровьем. Дело в том, что мы с вами в близком родстве: я — королевская дочь, ваша тетушка — моя мать; и я же — та самая Побрякушка, найденная вами в обезьяньем обличье на берегу моря, которая однажды имела слабость признаться вам в своей привязанности, но была вами отвергнута.
— Ах, сударыня, — как поверить в подобное чудо! Вы были обезьянкой, вы любили меня, я знал об этом, и мое сердце могло отринуть высшее из благ?
— Однако, полюби вы меня в те времена, — сейчас, когда дела обстоят так, как есть, я не одобрила бы вашего вкуса, — улыбнулась инфанта, — теперь же, сударь, я уже устала быть узницей и опасаюсь моей врагини. Поедемте к моей матери-королеве, расскажем ей обо всех чудесах, — они, конечно, не оставят ее равнодушной.
— Едемте, сударыня, едемте, — сказал влюбленный принц, усаживая принцессу впереди себя на крылатом дельфине, — едемте, и вернем ей в вашем лице прекраснейшую из принцесс, какие когда-либо жили на свете.
Крылатый дельфин тихонько поднялся в воздух и полетел прямо в столицу, где предавалась печали королева. Безмерно обеспокоенная побегом Побрякушки, она вспоминала все ласковые слова, какие та успела ей сказать, невольно думая, что отдала бы половину королевства, только бы снова увидеть ее, пусть даже обезьянкой.
Принц же, едва прибыв, тотчас переоделся старцем и добился у нее аудиенции.
— Сударыня, — сказал он ей, — я с самой ранней юности изучал некромантию, а стало быть, вы догадываетесь, что мне известно и о той ненависти, какую питает к вам Мишура, и об ужасных ее последствиях. Однако осушите слезы, сударыня: та Побрякушка, которую вы видели столь безобразной, стала теперь прекраснейшей принцессой на свете. Она вскоре предстанет перед вами, если только вы согласитесь простить вашей сестре-королеве ее ожесточенную войну с вами, и закрепить мир браком инфанты с вашим племянником-принцем.
— Я не могу льстить себя такой надеждой, — расплакалась тут королева, — мудрый старец, вы просто хотите смягчить мою скорбь; я утратила милую дочь, у меня нет больше мужа, сестра претендует на мое королевство, а сын ее столь же несправедлив, сколь и она. Они преследуют меня, мне никогда с ними не примириться.
— Судьба распоряжается иначе, — возразил он, — и я избран объявить вам об этом.
— Ах, — отвечала королева, — согласись я даже на этот брак, что мне с того? Злая Мишура так могущественна и хитра, что всегда сумеет этому воспротивиться.
— Не беспокойтесь, сударыня, — сказал старичок, — обещайте лишь, что этому столь долгожданному браку не станете противиться вы сами.
— Я все обещаю, лишь бы только увидеть милую доченьку.
От королевы принц побежал к ожидавшей его инфанте. Та удивилась, увидев его в столь необычном платье, и ему пришлось рассказать, что две великие королевы с давних пор спорили меж собою, отношения их были испорчены, но вот наконец ему удалось заставить тетушку согласиться на то, к чему он стремился и сам. Принцесса пришла в восторг и тут же отправилась во дворец. Она так походила на мать, что все так и шли за ней толпою, желая знать, кто же это.
Лишь увидела ее королева, сердце в ней так затрепетало, что говорить ничего и не понадобилось. Принцесса бросилась к ее ногам, она же приняла дочь в объятия. Долго они плакали, осушая друг другу слезы нежными поцелуями; потом же — можно представить, сколько всего высказали. Затем королева, заметив племянника, приняла его очень милостиво и повторила все, что пообещала некроманту. Долгой была бы еще ее речь, если б шум во дворе не заставил ее выглянуть в окно — и как же приятно она была удивлена, увидев там сестру-королеву. Принц и инфанта, выглянув вслед за нею, узнали и достопочтенного Бироку, да, кстати, и славного Звонкопыта. Тут все кругом закричали от радости и бросились обниматься. Сразу был заключен и знаменитый брак инфанты с принцем, невзирая на все происки Мишуры, чьи злобные чары оказались посрамлены.
* * *
От недруга и дар опасен иногда.
Иной вас окружит и ласками, и лестью
И будет убеждать, что вас любил всегда,
Чтобы потом верней лишь насладиться местью.
Случилось так с одной инфантой как-то раз.
Она, прелестница, о коей наш рассказ,
Могла, казалось бы, весь век жить в наслажденьях,
Но злая Мишура гнала и дочь, и мать:
Случилось роковое превращенье,
Пришлось инфанте вмиг
мартышкой скверной стать.
Но и такого превращенья мало,
Чтобы от пылкой страсти защитить:
Случилось ей, бедняжке, полюбить
И принца самого мартышка возжелала.
Таких же можно встретить и в наш век:
Иная так уж безобразна,
А избран ею вдруг прекрасный человек,
И хочет им она распоряжаться властно.
Но хорошо бы всякой повезло
Найти волшебника, чтоб,
движим состраданьем,
Всем злым колдуньям он назло
Дурнушку б наделил очарованьем.
Пер. М. А. Гистер
Дон Фернан Толедский[191]
(Испанская новелла)
Начало

Соседями их были два молодых сеньора, родственники и друзья меж собою; одного звали дон Хайме Касареаль, а другого дон Фернан[193] Толедский. Жили они вместе и так близко от графа Фуэнтеса, что тесная дружба вскоре связала их с Франсиско. Поскольку они часто бывали у него, то видели и его кузин; а увидеть их уже значило их полюбить. Девицы не оставили бы достоинства обоих без внимания, если бы не суровый надзор матери, которая противилась их привязанностям, угрожая, что, вздумай они только заговорить с доном Хайме или доном Фернаном, она до конца дней упрячет их в монастырь. Себе в помощь она призвала еще двух строгих надзирательниц; обе были ужаснее самого Аргуса[194]; однако это новое препятствие лишь подогрело страсть кавалеров, которых графиня так стремилась отвадить.
От графини не укрылось, что юноши каждый день оказывали ее дочерям все новые знаки внимания. Это приводило ее в страшное бешенство, а зная, что ее племянник, не в пример менее суровый, предоставлял своим друзьям множество невинных случаев повидать кузин, на балконе ли сквозь жалюзи или в саду, куда им случалось выйти подышать свежим воздухом, она из сил выбивалась, ворча без умолку, однако сладить с юными поклонниками никак не удавалось. И вот, чтобы решительно расстроить все их планы, она дождалась, когда граф Фуэнтес отправится в Эскуриал[195] ко двору, и вместе с дочерьми, в карете, закрытой наглухо, как гроб, и еще более безрадостной для этих юных созданий, чем гроб, отправилась в окрестности Кадиса, где у графа Фуэнтеса были изрядные земли.
Она оставила графу письмо, в котором просила его приехать и привезти племянника. Но граф, уже уставший от причуд жены, не слишком спешил, благословляя небеса за эту давно желанную разлуку, и жалел своих дочерей, которым столько страданий доставлял скверный нрав матери.
Узнав об отъезде возлюбленных, дон Хайме и дон Фернан едва не умерли от печали и принялись выдумывать всевозможные способы вернуть их в Мадрид; но дон Франсиско сказал им, что, если они воспользуются хоть одним из них, то, вне всякого сомнения, испортят все дело. Тогда, поняв безнадежность своих планов, они решились поехать в Кадис сами, дабы там изыскать способ повидать своих избранниц и поговорить с ними.
Они уговаривали дона Франсиско помочь им в этом, составив компанию, и он не смог отказать. Да к тому же и граф Фуэнтес, которому не хотелось покидать двор, был очень рад, что его племянник проведает графиню. Она тоже ему очень обрадовалась, еще не зная, что с ним пожаловали и дон Фернан с доном Хайме. Кавалеры видели барышень по вечерам, в зарешеченном окошке, выходившем на маленькую безлюдную улицу. Они жаловались друг другу на злую судьбу, клялись в вечной верности, льстя себя надеждами, столь приятными их чувствительным сердцам; и, хотя им было чего желать получше того, чем приходилось тешиться, — они все же были счастливы, что удается обмануть графиню. Но дуэньи, приставленные к барышням, слишком ревностно исполняли свой долг, чтобы дать юным поклонникам себя провести. Влюбленных застигли у решетки, и, как те ни умоляли, обещая за молчание все что угодно, старухи рассказали обо всем графине.
Услыхав об этом, разъяренная мать, не дождавшись рассвета, вскочила с постели и, снарядив карету, уселась в нее вместе с дочерьми и бранила их всю дорогу, пока добирались до почти неприступного замка в дне езды от Кадиса; там она с ними и затворилась. Легко вообразить, какой переполох вызвал у наших влюбленных этот столь внезапный отъезд; жалобные вздохи сменялись сетованиями, и, когда дон Франсиско отправился в Аспеньяс (так назывался замок графини), то привез кузинам письма и множество маленьких подарочков; зная истинные чувства друзей и будучи уверен, что те намерены жениться на барышнях, он уговорил сестер принять все это. Но стоило ему лишь вернуться из Аспеньяса, как дон Фернан и дон Хайме принялись уговаривать его снова отправиться туда же и под каким-нибудь предлогом вывезти кузин, дав им возможность повидать своих дорогих возлюбленных. Однако дело это казалось столь непростым, что дон Франсиско долго не мог решиться и довольствовался тем, что помогал влюбленным переписываться.
Он провел несколько дней у тетки и кузин, и вот, уже собираясь уезжать, услышал, как графиня обмолвилась, что если бы и захотела поехать в Кадис, так только чтобы взглянуть на недавно прибывшего туда посла короля Марокко[196]. Тут он и подумал, что, ловко воспользовавшись этим предлогом, сможет порадовать друзей, устроив им встречу с избранницами. Он отвечал графине, что уже свел короткое знакомство с сыновьями посла, людьми умными и учтивыми, и если она соблаговолит пообещать ему принять их у себя со всеми церемониями, подобающими людям их ранга у них на родине, то он постарается привезти их к ней, ибо они высоко ценят людей благородного происхождения. Дон Франсиско добавил при этом, что, не успел он только рассказать им о графине, как те сразу загорелись желанием засвидетельствовать ей почтение. Генеалогия была одной из слабостей этой дамы, чей кабинет был завален дворянскими грамотами, а изображения герба украшали даже клетку с попугаем. Дон Франсиско, прекрасно знавший об этом, закончил так:
— Вы конечно же согласитесь, сударыня, что, если уж вас посетят дети посла далекого Марокко, то всем будет ясно, что благородство вашего происхождения ценят и там, и в будущем такой визит может лишь украсить ваше генеалогическое древо.
Графиня, любопытная и тщеславная, решила, что это и впрямь станет шумным событием, так что предложение племянника ее немало обрадовало.
— Обо всем-то вы заботитесь, — молвила она, — и я весьма признательна вам за предупредительность; пустите же в ход все ваше влияние, чтобы я смогла с радостью принять у себя их магометанские превосходительства.
Чтобы на несколько мгновений приблизить радость от писем возлюбленных, которую уже предвкушали дон Хайме и его кузен, они выехали навстречу дону Франсиско, горячо поблагодарив его за все добрые услуги и за то, что он помогает им добиться расположения барышень. Тогда дон Франсиско и рассказал им, что его тетка горит желанием повидать сыновей марокканского посла; прелесть же ситуации в том, что кузины ничего не подозревают о придуманном им переодевании, а потому будут немало удивлены, однако подобное удивление всегда приятно; он подробно передал им весь разговор с графиней.
— Советую вам не просто переодеться, — продолжал он, — но и как следует подготовиться к предстоящей вам роли, а я уж обещаю достойно сыграть свою.
Оба влюбленных, очарованные изобретательностью дона Франсиско, нахвалиться не могли на его ум и ловкость. Не теряя ни минуты, они занялись костюмами, заказав богатые одежды из золотой парчи, украшенной драгоценными камнями, ятаганы, чьи рукояти были усыпаны бриллиантами, тюрбаны и все прочее, необходимое для подобного маскарада. Им посчастливилось найти художника, приготовившего специальное масло, от которого лицо делалось намного смуглее. Когда все маленькое путешествие было подготовлено, дон Франсиско послал слугу предупредить графиню о дне, когда он привезет к ней сыновей посла. Та, не на шутку разволновавшись, решила быть во всеоружии, дабы достойно принять сих знаменитых мавров, и приказала дочерям всячески стараться понравиться им; суровость, с какой она оценивала все нации, отступила перед этими марокканцами: ведь, будучи особой весьма набожной, для коей мавры были варварами и врагами истинной веры, она и мысли не допускала, чтобы испанка вдруг полюбила некрещеного, и потому решила, что ничем не рискует, позволяя галантным африканцам полюбоваться своими дочерьми.
Когда наступил вечер их прибытия, весь дворец украсили множеством огней. Графиня встречала гостей на лестнице; они же приветствовали ее такими причудливыми поклонами, столько раз воздевали и опускали руки, произнося на все лады то «и», то «а», то «о»[197], что дон Франсиско, изо всех сил старавшийся сдержать смех, едва не задохнулся; графиня же учтивейше им кланялась, однако ж при слове «Аллах» ни разу не удержалась, чтобы украдкой не перекреститься. С выражениями живейшей признательности она приняла от них в подарок отрезы парчи, веера, китайские шкатулки, каменья с резьбой и прочие замечательные диковинки, которые они привезли ей и ее дочерям, объяснив, что в их краях это самые обычные вещи; по-испански они при этом старались изъясняться так скверно, что понять их было весьма и весьма трудно.
Милейшая графиня пришла в восторг от столь многочисленных проявлений почтения; однако, говоря с ней, молодые люди были несколько рассеянны, как и свойственно влюбленным, увидевшим предмет своего обожания; как ни старались они не смотреть на возлюбленных, взоры их то и дело устремлялись к ним. И вот наконец донья Леонора почувствовала укол беспокойства, отрадного ее сердцу, но беспричинного; хотя и вспомнила она глаза дона Фернана, а в чертах одного из мавров уловила некоторое сходство с доном Хайме, — но как ей было узнать их самих в этих смуглых и столь причудливо одетых незнакомцах?
Графиня провела их по большой галерее, украшенной картинами, указав на одну, недавно ею купленную; на ней Амуры забавлялись разными играми, а самый маленький из них, надев маску, пугал остальных. Дон Фернан похвалил выдумку художника и его мастерство, и это была речь умного человека с хорошим вкусом. Он с равнодушным видом остановился перед картиной и, пока графиня говорила с племянником, все развлекавшим ее, не отставая ни на шаг, влюбленный мавр взял карандаш и написал у ног Амура в маске:
Escondido a todos
Por ser visto de tus lindos ojos[198].
Что значит:
Я прячусь ото всех,
Чтобы видеть ваши прекрасные глаза.
Не успела юная Леонора взглянуть на эту надпись, как сердце ее разгадало загадку; ею овладело радостное волнение. Дон Фернан понял, что она раскрыла тайну и что ей отнюдь не противно видеть его; он развеселился, проявляя поистине искрометное остроумие и рассказав множество приятных историй, весьма позабавивших Леонору. И все же, как ни отрадно ей было слушать его, она улучила минутку и, потихоньку отведя сестру в сторону, спросила ее:
— Дорогая Матильда, вы что же, в отличие от меня, совсем не опасаетесь, что дона Фернана и дона Хайме узнают?
— Не понимаю, — отвечала ей Матильда, — о чем это вы?
— Ах, бедная девочка, — сказала Леонора с улыбкой, — плохо же ваши глаза служат вашему сердцу! Как! Вы до сих пор не поняли, что тот мавр, что не отходит от вас, — дон Хайме, а другой, беседовавший со мной, — дон Фернан?
— Возможно ли?! — воскликнула Матильда. — Сестра, неужели это правда?! Однако же, — продолжала она, — он так пристально смотрит на меня и так со мной любезен, что заставляет меня отбросить последние сомнения.
Возвращаясь к маврам, они услышали, как графиня предлагает всем выйти в сад, — там, в отдаленной рощице, она приказала устроить иллюминацию, которую все нашли поистине очаровательной. Компания прошла по длинной аллее, выходившей к двум каналам; там жасмины и померанцы, перевитые жимолостью, образовывали открытую зеленую беседку, посреди которой бил фонтан, и вода его падала в бассейн с нежным журчанием, подзадоривавшим соловьев: те старались вовсю, заглушая шум струй своим щебетом. Все в восхищении сошлись на том, что сия беседка — воистину обитель услад; затем уселись на скамейки, выложенные дерном; тут как раз подали напитки со льдом, шоколад, варенья[199], чтобы подкрепиться до ужина. Графиня всячески старалась развлечь мавров, а поскольку в то время в моде были романсы, то она и велела Леоноре рассказать самый свежий из них. Прелестная девица не осмелилась отказать, ибо не так воспитала ее матушка, чтобы пренебречь ничтожнейшим из ее приказаний; и вот она начала.
Пер. М. А. Гистер
Желтый Карлик[200]

Ласки и потачки королевы-матери еще больше убеждали дочь, что на свете нет жениха, ее достойного. Что ни день, принцессу наряжали Палладой, или Дианой[201], а первые дамы королевства сопровождали ее в костюме нимф. Наконец, чтобы совсем уже вскружить голову принцессе, королева нарекла ее Красавицей. Она приказала самым искусным придворным художникам написать портрет дочери, а потом разослала эти портреты королям, с которыми поддерживала дружбу. Увидав портрет принцессы, ни один из них не мог устоять против ее всепобеждающих чар — иные заболели от любви, иные лишились рассудка, а те, кому повезло больше, в добром здравии явились ко двору ее матери. Но, едва бедные государи увидели принцессу, они сделались ее рабами.
На свете не было королевского двора более изысканного и учтивого. Двадцать венценосцев, соперничая друг с другом, пытались заслужить благосклонность принцессы. Если, потратив триста или даже четыреста миллионов золотом на один только бал, они слышали из ее уст небрежное: «Очень мило», то уже почитали себя счастливыми. Королева была в восторге от того, что ее дочь окружена таким поклонением. Не проходило дня, чтобы ко двору не прислали семь или восемь тысяч сонетов и столько же элегий, мадригалов и песенок, сочиненных поэтами со всех концов света. И воспевали прозаики и поэты того времени только одну Красавицу. Даже праздничные фейерверки устраивали в ту пору из стихотворений: они сверкали и горели лучше всяких дров.
Принцессе уже исполнилось пятнадцать лет, но никто не смел просить ее руки, хотя каждый мечтал о чести стать ее супругом. Но как тронуть подобное сердце? Хоть пытайся из-за нее удавиться несколько раз на дню, она сочтет это безделицей. Вздыхатели роптали на жестокость принцессы, а королева, которой не терпелось выдать дочь замуж, не знала, как взяться за дело.
— Ну, пожалуйста, — просила иногда королева свою дочь, — смирите хоть немного невыносимую гордыню. Это она внушает вам презрение ко всем королям, что съезжаются к нашему двору. Я мечтаю выдать вас за одного из них, а вы не хотите мне угодить.
— Я счастлива и так, — отвечала Красавица. — Позвольте же мне, матушка, сохранить мое душевное спокойствие. По-моему, вам следовало бы огорчаться, если бы я его утратила.
— Нет, — возражала королева, — я огорчилась бы, если бы вы полюбили того, кто вас не достоин, но взгляните же, кто просит вашей руки. Поверьте мне: никто на свете не может с ними сравниться.
И это была правда. Но принцесса, уверенная в собственных достоинствах, полагала, что сама она превосходит всех. Упорно отказываясь выходить замуж, она мало-помалу так раздосадовала мать, что та стала раскаиваться, да поздно, в том, что слишком потакала дочери.
Не зная, что предпринять, королева в одиночестве отправилась к прославленной фее, которую звали Фея пустыни. Однако увидеть фею было не так-то легко — ее охраняли львы. Но это не смутило королеву — она с давних пор знала, что львам надо бросить пирожное из просяной муки на сахаре и на крокодильих яйцах; королева сама испекла его и положила в корзиночку, которую взяла с собой в дорогу. Но долго идти пешком она не привыкла и, устав, прилегла отдохнуть под деревом. Незаметно для себя она заснула, а проснувшись, увидела, что корзинка пуста — пирожное исчезло, и в довершение несчастья королева услышала, что громадные львы близко — они громко рычали, почуяв ее.
— Увы! Что со мной будет? — горестно воскликнула королева. — Львы меня сожрут.
И она заплакала. Не в силах двинуться с места, чтобы спастись бегством, она только прижималась к дереву, под которым спала. И вдруг услышала: «Хруп, хруп!» Она огляделась по сторонам, потом подняла глаза и увидела на дереве человечка размером не больше локтя — и человечек этот ел апельсины.
— Я знаю вас, королева, — сказал он ей, — и знаю, как вы боитесь львов. И не напрасно — ведь львы уже сожрали многих, а у вас, на беду, не осталось пирожного.
— Что ж, придется умереть, — вздохнула королева. — Увы! Я бы меньше горевала об этом, если бы успела выдать замуж мою дорогую дочь!
— Так, стало быть, у вас есть дочь? — воскликнул Желтый Карлик (его прозвали так за желтизну кожи и за то, что он жил в апельсиновом дереве). — Право, я очень рад, потому что давно уже ищу жену на суше и на море. Если вы отдадите ее за меня, я спасу вас от львов, тигров и медведей.
Королева посмотрела на ужасного Карлика, и своим видом он испугал ее не меньше, чем прежде львы. Задумавшись, она ничего не ответила.
— Как, сударыня, — вскричал он, — вы еще сомневаетесь? Видно, вы совсем не дорожите жизнью.
И тут королева увидела львов, бегущих к ней с вершины холма. У каждого льва было по две головы, по восемь ног и четыре ряда зубов, а шкура цвета красного сафьяна была жесткой, как чешуя. При этом зрелище бедная королева, трепеща словно голубка, завидевшая коршуна, закричала что есть мочи:
— Господин Карлик! Красавица ваша!
— Пф! — надменно ответил Карлик. — Красавица слишком хороша собой, мне она не нужна, пусть остается у вас.
— О, монсеньер, — взмолилась в отчаянии королева, — не отвергайте ее. Это прелестнейшая в мире принцесса.
— Ну так и быть, — согласился тот, — возьму ее из милости. Но не забудьте, что вы мне ее отдали.
И тотчас ствол апельсинового дерева, на котором сидел Карлик, раздвинулся, королева стремительно бросилась в него, дерево сомкнулось снова, и львы остались ни с чем.
Напуганная королева вначале не заметила, что в дереве есть дверь, но теперь она увидела ее и открыла; дверь выходила в поле, поросшее крапивой и чертополохом. Вокруг тянулся ров, наполненный тинистой водой, а поодаль стояла низенькая, крытая соломой хижина. Оттуда с веселым видом вышел Желтый Карлик; на нем были деревянные башмаки, куртка из грубой шерсти, а сам он был лысый, с огромными ушами, — словом, настоящий маленький злодей.
— Я очень рад, госпожа теща, — сказал он королеве, — что вы смогли увидеть небольшой дворец, в котором будет жить со мной ваша Красавица: вот этим чертополохом и крапивой она сможет кормить осла, на котором будет выезжать на прогулку; от непогоды ее укроет вот этот сельский кров; пить она будет эту воду, а есть — жиреющих в ней лягушек; а сам я, красивый, бодрый и веселый, буду при ней неотлучно днем и ночью — я не потерплю, чтобы даже ее собственная тень следовала за ней усердней, чем я.
Злосчастная королева сразу представила себе ту горестную жизнь, какую сулил ее любимой дочери Карлик, и, не снеся такой ужасной мысли и ни слова ему не ответив, без чувств упала наземь. Но пока королева лежала замертво, ее преспокойно перенесли на ее собственную постель, и притом на голове у нее оказался нарядный ночной чепец, отделанный кружевом такой красоты, какое ей никогда не приходилось носить. Проснувшись, королева вспомнила, что с ней случилось, но не поверила этому — ведь она находилась в своем дворце, среди придворных дам, а рядом была ее дочь, — как же ей было поверить, что побывала она в пустыне, где ей грозила смертельная опасность, и Карлик, спасший ее, поставил жестокое условие — выдать за него Красавицу? Однако чепец, отделанный диковинным кружевом и лентами, удивил королеву не меньше, чем то, что она считала сном. Охваченная страшной тревогой, она впала в такую тоску, что почти перестала говорить, есть и спать.
Принцесса, которая всем сердцем любила мать, стала очень беспокоиться; много раз просила она королеву рассказать, что с ней такое, но та придумывала всякие отговорки — то ссылалась на слабое здоровье, то говорила, что один из соседей угрожает ей войной. Красавица чувствовала, что, хотя все эти ответы правдоподобны, на самом деле тут кроется что-то другое и королева всячески скрывает правду. Не в силах совладать со своей тревогой, принцесса решилась пойти к знаменитой Фее пустыни, о мудрости которой повсюду шла громкая молва. Заодно она хотела просить совета у феи, выходить ли ей замуж или остаться в девушках, потому что все вокруг уговаривали ее выбрать себе мужа. Принцесса не поленилась сама испечь пирожное, чтобы умилостивить злобных львов, вечером сделала вид, что рано легла спать, спустилась по маленькой потайной лестнице и, закутавшись в длинное белое покрывало, которое спускалось до самых пят, одна пошла к пещере, где обитала искусная фея.
Но когда принцесса подошла к роковому дереву, о котором я уже говорила, она увидела на нем столько цветов и плодов, что ей захотелось их сорвать. Она поставила корзинку на землю, сорвала несколько апельсинов и стала их есть, но, когда она вознамерилась взять корзинку, ни корзинки, ни пирожного на месте не оказалось. Принцесса удивилась, огорчилась и вдруг увидела ужасного маленького Карлика, о котором я уже говорила.
— Что с вами, прекрасная девица? — спросил Карлик. — О чем вы плачете?
— Увы! Как же мне не плакать, — отвечала принцесса. — Я потеряла корзинку с пирожным, а без него мне не попасть к Фее пустыни.
— Вон что, а зачем это вы к ней собрались, прекрасная девица? — спросил уродец. — Я ее родственник и друг и ничуть не уступаю ей в мудрости.
— Моя мать-королева, — отвечала принцесса, — с некоторых пор впала в ужасную тоску, я даже боюсь за ее жизнь. Вот мне и пришло в голову, что, может быть, я виновата в ее болезни: матушка ведь хочет выдать меня замуж, но, признаюсь вам, я еще не нашла достойного избранника, вот почему я и хочу просить совета у феи.
— Не трудитесь, принцесса, — сказал Карлик, — я лучше феи сумею объяснить вам, как обстоят дела. Ваша мать горюет оттого, что уже обещала вас жениху.
— Королева обещала меня жениху? — перебила его принцесса. — Не может быть, вы ошибаетесь, она бы рассказала мне об этом, для меня это дело слишком важное — матушка не могла решить его без моего согласия.
— Прекрасная принцесса, — заявил Карлик и вдруг упал перед ней на колени, — надеюсь, вы одобрите выбор вашей матушки. Дело в том, что счастье быть вашим супругом уготовано мне.
— Моя матушка выбрала вас в зятья! — воскликнула Красавица, отпрянув. — Да вы попросту сошли с ума.
— А по мне, так быть вашим мужем — невелика честь, — рассердился Карлик. — Вот идут львы, они мигом вас сожрут, и я буду отмщен за пренебрежение, которого не заслужил.
И тут принцесса услышала, как, протяжно рыча, приближаются львы.
— Что со мной будет? — воскликнула она. — Неужели настал конец моей молодой жизни?
А злой Карлик смотрел на нее, презрительно смеясь.
— По крайней мере, вы умрете девицей, — сказал он, — и не унизите ваши блистательные добродетели союзом с жалким карликом, вроде меня.
— Ради бога, не сердитесь, — умоляла принцесса, стиснув свои прекрасные руки, — я согласна выйти за всех карликов в мире, лишь бы не погибнуть такой ужасной смертью.
— Хорошенько посмотрите на меня, принцесса, — сказал Карлик, — я вовсе не хочу, чтобы вы решали сгоряча.
— Я вас и так слишком хорошо рассмотрела, — отвечала она. — Но львы совсем рядом, мне все страшнее и страшнее, спасите меня, спасите, не то я умру от страха.
И в самом деле, едва выговорив эти слова, принцесса упала без чувств и, сама не зная как, очутилась в своей постели: на ней была рубашка из тончайшего полотна, отделанная красивейшими лентами, а на руке — кольцо, сплетенное из одного-единственного рыжего волоска, но сидевшее на пальце так плотно, что легче было содрать кожу, чем его снять.
Когда принцесса все это увидела и вспомнила, что случилось ночью, она впала в такую тоску, что весь двор удивился и стал беспокоиться. Больше всех волновалась королева: снова и снова расспрашивала она дочь, что с ней такое, — но та упорно скрывала от матери свое приключение. Наконец королевские подданные, желавшие, чтобы принцесса поскорее вышла замуж, съехались на совет, а потом явились к королеве просить, чтобы она без промедления выбрала супруга для своей дочери. Королева ответила, что это заветное ее желание, но дочь ее выказывает такое отвращение к замужеству, что пусть лучше они сами пойдут к принцессе и ее уговорят. Так они и поступили, не откладывая дела в долгий ящик. После приключения с Желтым Карликом гордыни у Красавицы поубавилось: она решила, что самый простой способ выпутаться из беды, в какую она попала, это выйти за могущественного короля, у которого уродец не посмеет оспорить такую славную победу. Поэтому она отвечала посланцам куда более благосклонно, чем они надеялись: хотя она, мол, предпочла бы навеки остаться девушкой, она согласна выйти за Короля золотых россыпей. Это был могущественный государь, прекрасный собой, который уже несколько лет был без памяти влюблен в принцессу, но до сих пор не видел и намека на взаимность.
Нетрудно представить себе, как обрадовался король, узнав столь приятную для себя новость, и как неистовствовали его соперники, навсегда потеряв надежду, подогревавшую их любовный пыл. Но не могла же Красавица выйти замуж за двадцать королей сразу, она и одного-то выбрала с трудом, потому что отнюдь не излечилась от своего тщеславия и по-прежнему была уверена, что никто на свете ее не стоит.
И вот в королевстве стали готовить празднество, равного которому еще не видел свет. Король золотых россыпей прислал для этой цели такую кучу денег, что за кораблями, доставившими их, не стало видно моря. К самым блестящим и изысканным дворам, и в первую очередь ко двору французского короля, разослали гонцов, чтобы закупить редчайшие драгоценности для убранства принцессы. Впрочем, пышные наряды были ей не так уж и нужны — ведь красота ее была так совершенна, что они к ней ничего не прибавляли, и счастливый Король золотых россыпей ни на шаг не отходил от своей очаровательной невесты.
Понимая, что ей надо получше узнать жениха, принцесса стала внимательней к нему приглядываться и обнаружила в нем столько доблести, ума, живых и тонких чувств, словом, такую прекрасную душу в совершенном теле, что сама начала питать к нему малую толику той любви, какую питал к ней он. Какие счастливые минуты проводили они оба в прекраснейшем на свете саду, без помех изливая друг другу свою нежную страсть! Зачастую блаженству их еще содействовала музыка. Король, влюбленный и галантный, сочинял в честь своей невесты стихи и песни. Вот одна из них, очень понравившаяся принцессе:
Леса при виде вас украсились листвою,
Пестреющим ковром раскинулся лужок;
Зефир велит цветам расцвесть у ваших ног;
Влюбленный птичий хор поет звучнее вдвое;
И дол, и небосвод —
Все дочь самой любви, ликуя, узнает.
Счастье их было совершенным. Соперники короля, видя его торжество, в отчаянии покинули двор и разъехались по домам. Не имея сил присутствовать на свадьбе Красавицы, они так трогательно простились с ней, что она невольно их пожалела.
— Ах, принцесса, — укорил ее Король золотых россыпей. — Вы сегодня меня обездолили! Вы подарили жалость тем, кто одним вашим взглядом и так уже слишком щедро вознагражден за свои мучения.
— Я, конечно, огорчилась бы, — отвечала ему Красавица, — если бы вы остались нечувствительны к состраданию, какое я питаю к принцам, теряющим меня навсегда: ваше недовольство свидетельствует о тонкости ваших чувств, и я отдаю им должное! Но, государь, их судьба так несходна с вашей, у вас есть причины быть вполне довольным мною, им же похвалиться нечем, вот почему вы более не должны давать волю вашей ревности.
Король золотых россыпей, смущенный любезностью, с какой принцесса отнеслась к тому, что могло бы ее разгневать, бросился к ее ногам и, целуя ей руки, снова и снова просил у нее прощения.
Наконец наступил долгожданный и желанный день — все было готово к свадьбе Красавицы. Музыканты и трубачи оповестили весь город о предстоящем празднестве, улицы были устланы коврами и разубраны цветами. Народ толпами стекался на большую площадь у дворца. Королева от радости в эту ночь почти не спала и встала еще до рассвета, чтобы всем распорядиться и выбрать драгоценности для украшения невесты. Принцесса была усыпана алмазами до самых туфелек, которые и сами были алмазными, платье из серебряной парчи отделано дюжиной солнечных лучей, купленных по очень дорогой цене, но зато ничто не могло помериться с ними блеском, разве что красота самой принцессы: голову ее венчала богатая корона, волосы ниспадали до самых пят, а величием осанки она выделялась среди всех дам, составлявших ее свиту. Король золотых россыпей не уступал ей ни красотой, ни великолепием наряда. По его лицу и по всем его поступкам видно было, как он счастлив: всякого, кто приближался к нему, он дарил своими милостями, вокруг праздничного зала король приказал расставить тысячу бочек с золотом и огромные бархатные мешки, расшитые жемчугом и наполненные золотыми монетами — каждый мог получить сто тысяч пистолей, стоило только протянуть руку, так что эта маленькая церемония, которая была, пожалуй, одной из самых приятных и полезных на королевской свадьбе, привлекла множество людей, равнодушных к удовольствиям другого рода.
Королева с принцессой уже собрались было выйти из дворца вместе с королем, как вдруг увидели, что в длинную галерею, где все они находились, вступили два огромных индюка, тащившие за собой неказистую коробку, а за ними плелась высокая старуха, поражавшая не только своей старостью и дряхлостью, но и необычайным уродством. Она опиралась на клюку. На старухе был высокий воротник из черной тафты, красный бархатный колпак и юбка с фижмами, вся в лохмотьях. Ни слова не говоря, она вместе со своими индюками трижды обошла галерею вокруг, а потом остановилась посредине и, угрожающе размахивая клюкой, воскликнула:
— Эге-ге, королева! Эге-ге, принцесса! Вы, кажется, вообразили что можете безнаказанно нарушить слово, данное вами обеими моему другу Желтому Карлику? Я — Фея пустыни! Разве вам не известно, что, не будь Желтого Карлика, не будь его апельсинового дерева, вас бы сожрали мои львы? В волшебном царстве не прощают подобных оскорблений. Живо одумайтесь, ибо клянусь моим колпаком: или вы выйдете замуж за Желтого Карлика, или я сожгу свою клюку.
— Ах, принцесса, — с плачем сказала королева. — Что я слышу? Какое обещание вы дали?
— Ах, матушка, — печально отозвалась Красавица, — а вы-то сами какое обещание дали?
Король золотых россыпей, возмущенный всем происходящим и тем, что злобная старуха хочет помешать его счастью, подошел к ней, обнажил шпагу и приставил ее к старухиной груди.
— Злодейка, — воскликнул он, — убирайся навсегда из этих мест, или ты заплатишь мне жизнью за свои козни.
Не успел он произнести эти слова, как от коробки отскочила крышка, она с грохотом упала на пол, и глазам присутствующих верхом на громадном коте предстал Желтый Карлик, который бросился между феей и Королем золотых россыпей.
— Дерзкий юнец! — завопил он. — Не смей оскорблять эту прославленную фею. Тебе придется иметь дело со мной, это я твой соперник и враг! Вероломная принцесса, которая решила выйти за тебя, уже дала слово мне и получила мое. Погляди — она носит кольцо, сплетенное из моего волоса, попробуй его снять — и ты убедишься, что моя власть сильнее твоей.
— Жалкий урод, — воскликнул король, — ты осмеливаешься называть себя обожателем этой восхитительной принцессы, ты осмеливаешься притязать на честь быть ее супругом! Знай, что ты безобразен, на тебя и взглянуть то тошно, и я давно убил бы тебя, будь ты достоин такой славной смерти.
Желтый Карлик, оскорбленный до глубины души, пришпорил своего кота, и тот со зловещим мяуканьем стал прыгать в разные стороны, нагнав страху на всех, кроме храброго короля: король бросился на Карлика, а тот извлек из ножен свое оружие — длинный кухонный нож и, вызывая короля на поединок, с диковинным шумом въехал на площадь перед дворцом.
Разгневанный король бегом бросился за ним. Не успели они оказаться лицом к лицу, а все придворные высыпать на балконы, как солнце сначала сделалось кроваво-красным, а потом вдруг затмилось и в двух шагах ничего не стало видно. Гром и молния, казалось, возвещали погибель мира, а два индюка возле гнусного Карлика выросли размером с двух великанов, ростом выше гор, — из их клювов и глаз, словно из раскаленной печи, извергалось пламя. Но все это не могло устрашить благородное сердце молодого монарха. Он так отважно смотрел на врага и действовал с таким мужеством, что те, кто боялись за его жизнь, успокоились, а Желтый Карлик, должно быть, смутился. Но король дрогнул, увидев, что стало с его принцессой. Фея пустыни, на голове у которой, как у Тисифоны[202], развевались не волосы, а змеи, верхом на крылатом грифоне[203] и с копьем в руке, с такой силой вонзила копье в Красавицу, что та, заливаясь кровью, упала на руки королевы. Любящая мать, которую удар, нанесенный дочери, поразил сильнее, чем саму принцессу, стала кричать и плакать так горестно, что невозможно описать. И тут король потерял и мужество и рассудок: забыв о поединке, он бросился к принцессе, чтобы оказать ей помощь или погибнуть вместе с ней. Но Желтый Карлик не дал ему времени приблизиться к невесте: верхом на коте он прыгнул на балкон, где находились все трое, вырвал принцессу из рук матери и придворных дам, потом вскочил на крышу дворца и исчез.
Король застыл в совершенной растерянности: наблюдая невероятное происшествие, он с отчаянием понимал, что не в силах ничем помочь своей невесте, и тут в довершение всех несчастий в глазах у него вдруг потемнело и неведомая сила подняла его в воздух. О, горе! Любовь, жестокосердая любовь, ужели ты так безжалостно обходишься с теми, кто признает твою победу?
Злая Фея пустыни явилась помочь Желтому Карлику похитить принцессу, но, едва она увидела Короля золотых россыпей, ее жестокое сердце пленилось красотой молодого государя и она решила сделать его своей добычей[204]; она перенесла короля в страшное подземелье и цепями приковала там к скале, надеясь, что угроза близкой смерти заставит его позабыть Красавицу и подчиниться ее воле. Едва они прибыли на место, фея вернула королю зрение, не вернув, однако, свободы, и, с помощью колдовства обретя красоту и очарование, в которых ей отказала природа, явилась перед королем в образе прелестной нимфы, которая якобы случайно забрела в эти края.
— Как, — воскликнула она, — это вы, прекрасный принц! Что за беда с вами приключилась и что держит вас в этом зловещем месте?
— Увы, прекрасная нимфа, — отвечал король, введенный в заблуждение обманчивой наружностью феи, — я не знаю, чего хочет от меня адская фурия, доставившая меня сюда. И хотя, похищая меня, она даже лишила меня зрения и с тех пор не появлялась здесь, я узнал ее по голосу — это Фея пустыни.
— О государь, — вскричала лженимфа, — если вы в руках этой женщины, вам придется на ней жениться, иначе вам от нее не вырваться. Она уже проделывала такие штуки со многими героями. Если она забрала что-нибудь себе в голову, ее не переупрямить.
И пока фея притворялась, будто всей душой сочувствует горю короля, он вдруг бросил взгляд на ноги нимфы, а они были похожи на когтистые лапы грифона, — по этим когтям и можно было узнать фею, когда она меняла свой облик, потому что их она преобразить не могла.
Но король и виду не подал, что обо всем догадался, он продолжал говорить с лженимфой доверительным тоном.
— Я ничего не имею против Феи пустыни, — сказал он, — но не могу перенести, что она поддерживает моего врага — Желтого Карлика, а меня как преступника держит в цепях. В чем я перед ней провинился? Я любил прекрасную принцессу, но, если фея вернет мне свободу, я чувствую, что из благодарности буду любить ее одну.
— Это правда? — спросила фея, поддаваясь обману.
— Конечно, — отвечал король, — я не умею притворяться, и к тому же, признаюсь вам, любовь феи льстит моему тщеславию больше, нежели любовь простой принцессы. Но если бы я даже умирал от любви к Фее пустыни, я все равно выказывал бы ей одну только ненависть, пока она не вернет мне свободу.
Обманутая этими речами, Фея пустыни решила перенести короля в другое место, настолько же прекрасное, насколько ужасным было подземелье, где он томился. Поэтому она усадила его в карету, в которую запрягла лебедей, хотя обычно ее возили летучие мыши, и перенеслась с одного края света на другой.
Но каково пришлось бедному королю, когда, пролетая по воздуху, он увидел свою дорогую принцессу, заточенную в замке из стали, — стены этого замка, освещенные солнечными лучами, представляли собой раскаленные зеркала[205], испепеляющие всякого, кто осмелится к ним приблизиться. Принцесса в этот час находилась в роще, она отдыхала на берегу ручья, положив одну руку под голову, а другой, казалось, вытирала слезы; воздев глаза к небу, чтобы молить о помощи, она увидела, как ее король пронесся по небу с Феей пустыни, и, поскольку та, чтобы казаться красивой молодому монарху, прибегла к волшебству, в котором была так искусна, она и в самом деле показалась принцессе прекраснейшей из женщин.
— Как, — вскричала принцесса, — мало того что я томлюсь в этом неприступном замке, куда меня перенес безобразный Желтый Карлик, неужто, к довершению моих горестей, меня еще будет преследовать демон ревности? Неужто необыкновенный случай оповестил меня о неверности Короля золотых россыпей? Потеряв меня из виду, король счел, что свободен от клятв, какие мне дал. Но кто же эта грозная соперница, чья роковая красота превосходит мою?
Так говорила принцесса, а влюбленный король тем временем мучительно страдал оттого, что вихрем уносится прочь от предмета своей страсти. Если бы он не знал, сколь велика власть феи, то убил бы ее или попытался избавиться от нее иначе, как подсказали бы ему его любовь и доблесть. Но как одолеть столь могущественную особу? Только время и хитрость могли помочь ему вырваться из ее рук.
Фея заметила Красавицу и по глазам короля пыталась угадать, какое впечатление оставила в его сердце эта встреча.
— Никто лучше меня не сможет ответить вам на вопрос, на который вы ищете ответа, — сказал ей король. — Меня немного взволновала неожиданная встреча с несчастной принцессой, которую я любил, прежде чем полюбить вас, но вы настолько вытеснили ее из моего сердца, что я предпочел бы умереть, чем вам изменить.
— Ах, принц, — сказала фея, — неужто я могу льстить себя надеждой, что внушила вам такие пылкие чувства?
— Время докажет вам это, сударыня, — отвечал он. — Но если вы хотите, чтобы я поверил, что вы хоть немного меня любите, пожалуйста, придите на помощь Красавице.
— Понимаете ли вы, о чем меня просите? — спросила фея, хмуря брови и гневно глядя на короля. — Вы хотите, чтобы я употребила свое искусство против лучшего друга, Желтого Карлика, и освободила из его рук гордую принцессу, в которой вижу только свою соперницу?
Король вздохнул и ничего не ответил. Что ему было возразить столь проницательной особе?
Они оказались над широким лугом, усеянным всевозможными цветами; окружала луг глубокая река, под густыми деревьями тихо струились бесчисленные родники, даровавшие вечную прохладу; вдали возвышался великолепный замок со стенами из прозрачных изумрудов. Едва только лебеди, впряженные в карету феи, опустились под портиком, пол которого был выложен алмазами, а своды сделаны из рубинов, как, откуда ни возьмись, появилась тысяча красавиц, которые встретили фею радостными возгласами. Они пели:
Когда приходит страсть,
Чтоб сердце взять в неволю,
С ней борются сверх сил,
пытаясь устоять;
С того ей славы только боле,
И первый побежден
привыкший побеждать.
Фея пустыни была в восторге, что прославляют ее любовь; она отвела короля в такие роскошные покои, каких не упомнит вся история фей, и на несколько минут оставила его там одного, чтобы он не чувствовал себя пленником. Король, конечно, заподозрил, что фея вовсе не удалилась, а наблюдает за ним из какого-нибудь тайника, вот почему он подошел к большому зеркалу и, обращаясь к нему, сказал:
— Верный мой советчик, укажи, что я должен делать, чтобы угодить прелестной Фее пустыни, ведь я неотступно думаю о том, как ей понравиться.
С этими словами король причесался, напудрился, украсил себя мушкой и, увидев на столе костюм еще более великолепный, нежели его собственный, поспешно в него облачился.
Тут в комнату вошла фея, даже и не скрывавшая своей радости.
— Я ценю ваши старания мне понравиться, монсеньор, — сказала она. — Но вы сумели одержать победу даже тогда, когда к ней не стремились. Судите же сами, трудно ли вам будет ее упрочить, если у вас появится такое желание.
Король, у которого были причины расточать любезности старой фее, не поскупился на них и мало-помалу вырвал у нее позволение свободно прогуливаться по берегу моря. Море, заколдованное феей, было таким бурным и грозным, что ни один мореход не отважился бы пуститься по нему в плавание, поэтому фея могла без боязни оказать эту милость своему пленнику; король же утешался тем, что может в уединении предаваться своим мечтам и злобная тюремщица не мешает ему.
Он долго бродил по берегу моря, а потом наклонился и тростью начертал на песке такие стихи:
Теперь я волен наконец
В рыданьях дать исход
моей душевной муке.
Увы! Зачем со мной в разлуке
Чарующей красы желанный образец?
О, море,
что легло преградой предо мною,
Бушующее, грозовое,
Чьи волны буре в лад
Вздымаются в зенит и рушатся во ад,
Мне тоже, море, нет покоя,
Тебя напрасно ищет взгляд,
Красавица! О, злая доля!
Ее отняли у меня!
О, небо грозное, доколе
Мне смерти ждать, судьбу кляня!
Возможно ль,
Что любви вам пламень незнаком?
Покиньте влажные глубины,
Придите мне помочь в отчаянье моем!
И вдруг король услышал голос, привлекший его внимание, хотя он и был занят стихами. Король увидел, что волны стали круче, и, осмотревшись, заметил женщину необыкновенной красоты: тело ее было окутано только волосами — колеблемые ветерком, они колыхались на волнах. В одной руке женщина держала зеркало, в другой гребень. А заканчивалось ее тело рыбьим хвостом. Король очень удивился этой необыкновенной встрече, а женщина, подплыв к нему так близко, чтобы он мог ее услышать, сказала:
— Мне известны печаль и скорбь, в какие вас повергла разлука с вашей принцессой, и сколь нелепой страстью воспылала к вам Фея пустыни; если хотите, я вызволю вас из рокового плена, где вам суждено томиться, быть может, еще тридцать с лишним лет.
Король не знал, что и ответить на такое предложение, и не потому, что не мечтал вырваться из своей тюрьмы, — он просто боялся, что Фея пустыни, желая его обмануть, приняла облик морской девы. Сирена[206], угадавшая его мысли, сказала:
— Не думайте, что я заманиваю вас в ловушку. У меня слишком благородное сердце, чтобы я стала помогать вашим врагам. Фея пустыни и Желтый Карлик разгневали меня своими злодеяниями. Я каждый день вижу вашу несчастную принцессу, ее красота и добродетели равно внушают мне жалость. Еще раз повторяю вам: если вы мне верите, я вас спасу.
— Я верю вам настолько, — вскричал король, — что исполню все, что вы мне прикажете. Но раз вы видели мою принцессу, расскажите мне, что с ней.
— Не будем терять время на разговоры, — сказала сирена. — Идемте, я доставлю вас в замок из стали, а на этом берегу оставлю фигуру, настолько похожую на вас, что Фея пустыни не заподозрит обмана.
Тут она срезала несколько тростинок, связала их в большой пучок и, три раза дунув на них, произнесла:
— Друзья мои, тростинки, приказываю вам лежать на песке, покуда вас не заберет отсюда Фея пустыни.
И пучок тростинок покрылся кожей и стал так похож на Короля золотых россыпей, что король диву дался: впервые видел он такое чудо. На тростинках была одежда точь-в-точь такая, как у короля, и этот лжекороль был бледен и растерзан, как утопленник. Добрая сирена тем временем усадила настоящего короля на свой длинный рыбий хвост, и оба, в равной мере довольные, поплыли в открытое море.
— А теперь я хочу, — сказала королю сирена, — рассказать вам, что злобный Желтый Карлик, похитив Красавицу, бросил ее позади себя на спину своего ужасного кота, невзирая на рану, которую ей нанесла Фея пустыни. Принцесса потеряла так много крови и была так напугана всем случившимся, что лишилась чувств и не приходила в себя, пока они были в пути. Но Желтый Карлик и не подумал сделать остановку, чтобы привести ее в чувство, пока не оказался в своем грозном замке из стали. Там его встретили прекраснейшие девушки, которых он похитил из разных стран. Все они наперебой старались угодить ему, прислуживая принцессе; ее уложили в постель, на шитые золотом простыни, под полог, украшенный жемчугами величиной с орех.
— Ах! — воскликнул Король золотых россыпей, перебив сирену. — Карлик на ней женился, я умираю, я погиб.
— Нет, — сказала королю сирена, — успокойтесь, государь, твердость Красавицы оградила ее от посягательств ужасного Карлика.
— Кончайте же свой рассказ, — попросил король.
— Что еще я могу вам сказать? — продолжала она. — Когда вы пронеслись мимо, принцесса была в лесу, она увидела вас с Феей пустыни, которая настолько изменила свою внешность, что принцесса вообразила, будто фея превосходит ее красотой. Отчаяние ее нельзя описать: она думает, что вы любите фею.
— Милостивые боги! Она думает, что я люблю фею! — вскричал король. — Какое роковое заблуждение! Что же мне делать, чтобы ее разуверить?
— Спросите свое сердце, — с ласковой улыбкой отвечала сирена. — Тот, кто сильно любит, не нуждается в советах.
Не успела она вымолвить эти слова, как они пристали к замку из стали: только со стороны моря Желтый Карлик не возвел вокруг замка грозных стен, которые испепеляли все живое.
— Мне известно, — сказала сирена королю, — что Красавица сидит сейчас у того самого источника, где вы видели ее на своем пути. Но, чтобы к ней проникнуть, вам придется сразиться со множеством врагов. Вот вам шпага — с нею вы можете дерзнуть на любой подвиг и смело смотреть в лицо опасности, — только не роняйте ее из рук. Прощайте, я укроюсь под этой вот скалой. Если я понадоблюсь вам, чтобы увезти вас отсюда с вашей милой принцессой, я тотчас явлюсь: ее мать-королева — мой лучший друг, для того чтобы ей услужить, я и явилась за вами.
С этими словами сирена протянула королю шпагу, сделанную из цельного алмаза, блеск солнечных лучей мерк перед ее блеском; король понял, как пригодится ему этот подарок, и, не в силах найти слова, достойные выразить его благодарность, попросил сирену, чтобы она сама вообразила, какими чувствами отзывается благородное сердце на подобное великодушие.
Но пора сказать несколько слов о Фее пустыни. Видя, что ее любезный возлюбленный долго не возвращается, она сама поспешила к нему; она явилась на берег с сотней девушек, составляющих ее свиту, и все они несли королю богатые подарки. У одних были большие корзины, полные алмазов, у других в руках — золотые вазы искусной работы, а у некоторых — амбра, кораллы или жемчуга; были и такие, что несли на голове свитки тканей неописуемой красоты, а иные — фрукты, цветы и даже птиц. Но что сделалось с феей, которая замыкала это многолюдное и изысканное шествие, когда она увидела пучок тростника, как две капли воды похожий на Короля золотых россыпей. Пораженная ужасом и горем, она испустила такой страшный крик, что содрогнулись небеса, сотряслись горы и эхо донеслось до самой преисподней. Ни у одной из разгневанных фурий — Мегеры, Алекто или Тисифоны — никогда еще не было такого устрашающего вида. Фея бросилась на тело короля, она плакала, она рычала, она растерзала в клочья половину прекраснейших девушек своей свиты, принеся их в жертву тени любезного покойника. Потом она призвала к себе одиннадцать своих сестер, таких же фей, как она сама, и попросила их помочь ей воздвигнуть пышную усыпальницу молодому герою. И всех их обманул вид тростника. Конечно, это может показаться странным — ведь феям известно все, однако сирена была мудрее фей.
И вот пока феи доставляли порфир, яшму, агат и мрамор, статуи, барельефы, золото и бронзу, чтобы увековечить память короля, которого они считали мертвым, король благодарил любезную сирену, умоляя ее не оставлять его своим покровительством. Сирена самым ласковым голосом дала ему такое обещание и скрылась из глаз. А ему ничего не оставалось, как пойти к замку из стали.
Ведомый своей любовью, король шел быстрыми шагами, оглядываясь по сторонам в поисках обожаемой принцессы. Но вскоре ему нашлось дело — его окружили четыре страшных сфинкса; они уже выпустили свои острые когти и растерзали бы короля на части, если бы ему, как и предсказала сирена, не сослужила службу алмазная шпага. Завидев ее блеск, чудовища бессильно повалились к ногам короля, а он каждому нанес смертельный удар. Но едва он двинулся дальше, как увидел шесть драконов, покрытых чешуей тверже железа. Как ни ужасно было это зрелище, король не утратил своей храбрости и, орудуя шпагой, рассек каждого дракона надвое. Он надеялся, что уже преодолел самые трудные препятствия, как вдруг его смутило еще одно. Навстречу королю вышли двадцать четыре прекрасные и грациозные нимфы и преградили ему путь цветочными гирляндами.
— Куда вы идете, государь? — спросили они у короля. — Мы поставлены сторожить эти места, и если мы вас пропустим, и вас и нас постигнет страшная кара. Окажите нам милость, не упорствуйте. Неужто вы захотите обагрить вашу победоносную руку кровью двадцати четырех невинных девушек, не причинивших вам никакого зла?
Король растерялся, не зная, как поступить, — он всегда гордился своей преданностью прекрасному полу и готов был служить ему сверх всякой меры; а тут ему предстояло убивать женщин. Но вдруг он услышал голос, укрепивший его решимость.
— Рази, рази, — произнес этот голос, — и не щади никого, иначе навеки лишишься своей принцессы.
И тотчас, не отвечая нимфам ни слова, король бросился в их ряды, разорвал гирлянды и стал без пощады орудовать шпагой, в одно мгновение разогнав их всех. Это препятствие было последним — он вступил в небольшую рощу, ту самую, над которой пролетал, когда заметил Красавицу. Бледная и тоскующая, она и сейчас сидела на том же месте у ручья. Король с трепетом подходит к ней, — но она бежит от него с такой поспешностью и негодованием, как если бы он был Желтым Карликом.
— Не осуждайте меня, не выслушав, принцесса, — сказал ей король. — Я не изменил вам, я невиновен, но я, несчастный, сам того не желая, заслужил вашу немилость.
— Ах, злодей, я видела, как вы летели по воздуху с особой неслыханной красоты, — и что же, вы совершили этот полет против воли?
— Да, принцесса, — ответил король, — против воли. Злая Фея пустыни, не довольствуясь тем, что приковала меня к скале, увлекла меня в своей карете на край земли, где я бы томился и поныне, если бы не помощь благодетельницы-сирены, которая доставила меня сюда. Я пришел, дорогая моя принцесса, чтобы вырвать вас из недостойных рук, держащих вас в заточении. Не отвергайте же помощь преданнейшего из возлюбленных.
И король бросился к ее ногам, но, пытаясь удержать принцессу за край платья, он, на беду, уронил свою грозную шпагу. А Желтый Карлик, прятавшийся в это время под листом салата, едва увидев, что шпага, волшебная сила которой была ему известна, выпала из рук короля, тотчас ее схватил.
Принцесса, заметив Карлика, испустила страшный крик, но ее стоны только еще больше разозлили злобного коротышку. Произнеся несколько слов на своем тарабарском языке, он вызвал двух великанов — они заковали короля в железные цепи.
— Теперь, — сказал Карлик, — соперник в моей власти, но я готов подарить ему жизнь и свободу, если вы немедля станете моей женой.
— Ах, лучше мне тысячу раз умереть! — вскричал влюбленный король.
— Увы, государь, — возразила принцесса. — Для меня нет ничего страшнее вашей смерти.
— А для меня, — продолжал король, — нет ничего ужаснее, чем принести вас в жертву этому чудовищу.
— Тогда умрем вместе, — предложила принцесса.
— Дорогая моя принцесса, доставьте мне утешение — дайте умереть ради вас, и умереть одному.
— Никогда, — сказала принцесса. — Лучше уж я соглашусь исполнить ваше желание, — обратилась она к Желтому Карлику.
— Как, жестокая принцесса! Ужели я должен стать свидетелем того, как вы назовете его своим супругом? Но тогда жизнь мне опостылеет.
— Нет, — заявил Желтый Карлик. — Принцесса назовет меня своим супругом, но ты не станешь свидетелем этого, — слишком опасен мне соперник, которого любят.
И с этими словами, невзирая на горестные слезы Красавицы, Карлик нанес королю удар в самое сердце, и тот упал к ногам принцессы. Принцесса не могла пережить своего возлюбленного — она рухнула на его тело, и вскоре ее душа соединилась с его душой. Так погибли эти славные и несчастные влюбленные, и сирена ничем не смогла им помочь — ведь вся волшебная сила была заключена в алмазной шпаге.
Злой Карлик предпочел умертвить принцессу, чем видеть ее в объятьях другого, а Фея пустыни, прослышав обо всем, разрушила усыпальницу, которую сама возвела, потому что теперь она возненавидела память о Короле золотых россыпей с такой же страстью, какую питала к нему при его жизни. А помогавшая влюбленным сирена, как ни горевала о случившемся великом несчастье, смогла вымолить у судьбы только одно — превратить умерших в деревья[207]. Прекрасные тела влюбленных стали двумя стройными пальмами. Храня вечную взаимную любовь, они ласкают друг друга переплетенными ветвями и этим нежным союзом обессмертили свою страсть.
* * *
Кто в шторм клянется безрассудно
Все жертвы принести богам,
Бывает, даже не зайдет во храм,
Когда земли достигнет судно.
Судьба Красавицы — урок
Для всех, что щедры на обеты:
Нельзя в беде давать зарок,
Который соблюсти в душе
стремленья нету.
Пер. Ю. Я. Яхниной (проза), Н. Д. Шаховской (стихи)
Дон Фернан Толедский
Продолжение

— Если я не ошибаюсь, — произнес дон Франсиско, — то сама же милая Леонора его и сочинила или юная Матильда, ибо я замечаю в нем некоторые тонкие повороты мысли, которые весьма в их вкусе.
— Будь это даже и так, — скромно отвечала Леонора, — я не заслуживала бы больших похвал: такие вещицы выходят у меня сами собою, ведь для простого рассказа особого таланта не нужно.
— Но сказанного вами достаточно, сударыня, — отозвался дон Хайме на своем тарабарском наречии, — чтобы мы убедились, как хорошо понял ваш характер дон Франсиско; презрение же, с которым вы говорите о таком мудром романсе, позволяет нам оценить вашу скромность.
Тут все встали, дабы прогуляться и заодно воспользоваться вольностями, которые в изобилии предоставляет сельская жизнь; дону Фернану тем легче было переговорить с Леонорой, что все общество разделилось на маленькие группы. Пройдясь немного с графиней, он ловко от нее отделался и, отправившись на поиски возлюбленной, увидел ее в жасминовой беседке; тут, учтиво остановив ее и оказавшись с нею наедине, он пал перед нею на колени.
— Есть ли кто счастливее меня? — сказал он ей. — Я у ваших ног, сударыня, и могу наконец признаться, что обожаю вас.
— Я не нахожу, — скромно и в некотором замешательстве отвечала ему прелестная девица, — что подобная вольность так уместна, как вы, по-видимому, полагаете. Ведь, в конце концов, разве же не должна я, сударь, запретить вам ее?
— Нет, сударыня, — возразил он, — вы слишком любезны и слишком добры, чтобы так жестоко наказать меня за невольное прегрешение, которого я не в силах был не совершить. Вы коварно пленили мое сердце; отчего же нельзя возвестить вам о вашей победе? Увы, сударыня, я боюсь продолжать, — добавил он, — ибо, осмелься я на это, я рассказал бы вам, на какую заслуженную награду уповаю…
— Поистине, я еще не видела, чтобы так скоро добивались столь многого, — сказала ему Леонора, — ведь я даже не знаю, должна ли позволять вам вступать со мною в беседу. Но, ах, — возразила она самой себе, — как могу я отказать вам в этом, зная ваши достоинства, искренность ваших намерений, зная все, что вы делаете, сударь, чтобы доказать мне ваше рвение, ибо возможно ли быть еще настойчивее?
— Этого всегда будет в избытке, сударыня, — отвечал он, — и суровость графини Фуэнтес не остановит меня, ведь достаточная награда за это переодевание — уже то, что я у ваших ног, вы выслушали мое страстное признание, и я уповаю на тот день, когда мои заботы, мое почтение и постоянство тронут вас.
— Я не запрещаю вам надеяться, — промолвила в ответ Леонора, — постарайтесь только, чтобы ваши чувства стали столь же приятны моему батюшке, сколь они приятны мне, и тогда…
Слова прозвучали столь нежно, что она умолкла; ее волнение досказало все остальное. Дон Фернан едва не умер от восторга у ног ее; он хотел было поцеловать ей руку, хотя она и пыталась уклониться, но вдруг почувствовал, что падает наземь — его грубо схватили за ногу. Дон Фернан вскочил, твердо намереваясь проучить негодяя, осмелившегося нанести ему такое оскорбление на глазах у Леоноры, — но каково же было ему увидеть графиню, выросшую перед ним точно призрак? Ни он, ни его возлюбленная не заметили, что она стояла сзади и слышала весь разговор.
Едва мнимый мавр проворно покинул ее, чтобы вернуться в беседку, как бдительная старуха тут же испугалась, что там он встретит одну из ее дочерей, и последовала за ним самым осторожным шагом. Тут свечи в хрустальных фонариках озарили ей всю сцену: африканец стоял на коленях перед Леонорой. Как ни сильно было ее бешенство, ей хватило терпения прослушать весь разговор влюбленных. Но, стоило ему лишь коснуться руки ее дочери, как она сочла неуместным и дальше оставаться безмолвным зрителем.
— Ах вот оно что, дон Фернан, — воскликнула она, — так это, стало быть, вы потрудились переодеться мавром, чтобы продолжать ухаживать за Леонорой, а она столь неосторожна и глупа, что позволяет вам говорить с нею и целовать ей руку!
Леонора и дон Фернан были так сконфужены, что их состояние проще вообразить, нежели описать; однако еще теплившаяся надежда, что она не слышала всего разговора, заставила их продолжать маскарад.
— Как, — воскликнул дон Фернан, — да разве в Испании преступление говорить с милой девицей и целовать ей руку? В моей стране это проявление почтения.
— А в моей стране, — сказала в гневе графиня, — это уж точно означает, что ничего у вас не выйдет; будь вы хоть мавр, хоть испанец, больше я себя дурачить не дам.
И, осыпав дочь самыми жестокими упреками, она приказала им с Матильдой возвращаться во дворец, где и заперла их на двадцать ключей.
Дон Фернан и дон Хайме были в таком отчаянии, что, если бы не дон Франсиско, ответили бы такой же грубостью. Иллюминация и ужин исчезли мгновенно, как по волшебству. Графиня наговорила племяннику резкостей и, не увези он тотчас же обоих чертей (так она назвала этих кавалеров), дошла бы в разговоре с ними до таких крайностей, в которых после всем пришлось бы раскаиваться.
Никогда еще ни один праздник не заканчивался столь досадным образом. Оба влюбленных и их друг были в отчаянии, оставляя своих избранниц во власти этой злобной сумасбродки, но еще больше они опасались, как бы разгневанная графиня не обрушилась и на барышень: ведь, истинно любя, мы больше заботимся о покое того, кого любим, чем о собственном удовольствии.
Они уехали, даже не успев поужинать, еле живые от голода и бешенства, доиграв перед остальным обществом, елико возможно, свой спектакль и объяснив, что за ними только что приехал гонец от посла. Они то угрожали графине Магометом и Али, то пугали тем, что пожалуются на нее испанскому двору, то клялись найти способ отомстить ей, как только окажутся в Марокко. Все это лишь еще больше разозлило графиню, заклеймившую их как нарушителей общественного порядка и проходимцев без закона и веры; осыпая их упреками, она так разъярилась, что они предпочли поскорее уехать, чем дальше слушать столь злобную фурию. Они были до смерти раздосадованы, что, едва лишь успев улучить минутку для беседы с возлюбленными, теперь вынуждены полностью предать их дурному нраву ужасной матери; та же, иной раз и сомневаясь, что имеет дело именно с доном Фернаном и доном Хайме, ибо и маскарад, и перевоплощение их были безупречными, в конце концов твердо уверилась, что это два испанца, явившиеся к ней в дом, судя по всему, лишь затем, чтобы повидать ее дочерей.
По дороге в Кадис юноши долго были не в силах проронить ни слова; грустные мысли заводили их так далеко, что они себя не помнили. Дон Франсиско, хотя и столь же опечаленный, все-таки был не таким заинтересованным лицом во всей этой истории и потому заговорил первым:
— Не желая усугублять ваше несчастие несвоевременными упреками, я все же не могу не спросить вас, дорогой мой дон Фернан: осмотрительно ли было бросаться на колени перед Леонорой прямо в саду, где ее матери было так легко застигнуть вас?
— В самом деле, — прибавил дон Хайме, — пока вы ее не разозлили так некстати, все шло как нельзя лучше, я разговаривал с Матильдой и не был замечен.
— Вы оба люди холодные, если так легко говорите об этом приключении, — отвечал им дон Фернан. — Увы! Люби вы как я — вы не смогли бы, оказавшись так близко к возлюбленной, не выказать ей всю полноту восторга!
Дон Хайме подождал, пока он договорит, и затем весьма суровым тоном промолвил:
— Да вы, кажется, присваиваете себе честь любить Леонору больше, чем я люблю Матильду?
— Да, я имею все основания так утверждать, — отвечал ему дон Фернан, — и докажу вам это!
Дон Хайме живо отворил дверь кареты и выскочил прямо на луг.
— Выходите же и докажите! — крикнул он, обнажая шпагу. Дон Фернан тут же выскочил следом, но дон Франсиско поспешно бросился между ними.
— Не взбесились ли вы оба, — закричал он, — так недолго и заколоть друг друга! Живите, живите ради тех, кого вы любите; это перед ними вам надлежит свидетельствовать о величии страстей ваших, а не ввязываться в драку, которая немало огорчит их обеих, узнай лишь они об этом!
Как ни разумны были его увещевания, влюбленным очень хотелось выместить друг на друге смертельную обиду, причиненную обоим графиней Фуэнтес. Но в конце концов уговоры доброго товарища утихомирили их, и они снова уселись в карету, пристыженные, что едва не нарушили взаимные клятвы и оскорбили самое дружбу, столь тесно их связывавшую. Дон Франсиско же, в свою очередь, немало беспокоился, что не на шутку разозлил тетку проделкой с мнимыми африканцами; теперь уже он не представлял себе, как примириться, и боялся, что она склонит на свою сторону и мужа.
Заметив его беспокойство, дон Фернан признался, что его и самого повергли бы в отчаяние случившиеся невзгоды, когда б не надеялся он, что приезд его отца превратит ненастье в вёдро. И действительно — тотчас же по прибытии к дону Франсиско они узнали, что маркиз Толедский вернулся. Дон Фернан и дон Хайме несказанно обрадовались этой вести. Они снова поклялись другу жениться на его кузинах, если граф Фуэнтес даст согласие. Дон Фернан попросил у Франсиско портрет Леоноры, который с недавних пор был у его друга, дабы убедить отца, что нет на свете никого милее.
Дон Франсиско, желавший этого брака не менее горячо, с радостью дал ему портрет, понимая, что его кузина, став женою человека столь достойного и высокородного, будет счастливейшим существом на свете. Дон Фернан, от души поблагодарив его, наконец ушел вместе с доном Хайме, полный самых радужных надежд; они решили, что и дон Хайме тогда же попросит руки доньи Матильды.
Вскоре, заведя с одним из знакомых беседу о радостях брака, они попросили его поговорить с маркизом Толедским, внушив тому мысль о желательности женитьбы. Дон Фернан добавил: надо убедить отца, что нет девушки более добродетельной и любезной. Он дал этому господину взглянуть на портрет своей возлюбленной, дабы убедить его в достоинствах Леоноры, и уговаривал без проволочек показать его и маркизу; и тут же для этой цели он отдал портрет. Друзья и сами не замедлили явиться к маркизу Толедскому; дон Фернан, имевший свои причины угодить отцу, был сама нежность и предупредительность и выказывал особенную радость ввиду его возвращения.
Между тем их друг, спеша услужить им, всячески постарался расписать маркизу, как выгодно будет ему породниться с графом Фуэнтесом; тот в ответ пообещал заняться просьбой сына всерьез.
— Я принес вам портрет сей очаровательной особы, — сказал друг, — будучи уверен, что если даже вы и не отыщете в ней бесподобной красоты, то она все же понравится вам одним лишь выражением лица.
Маркиз же был так очарован портретом, что попросил разрешения оставить его себе на денек.
Оставшись один, он рассмотрел его с необычайным удовольствием и вниманием, начиная даже завидовать сыновнему успеху. «Какое счастье, — говорил он себе, — нравиться столь милой особе! Однако, — продолжал он, — о чем это я думаю? Зачем женить на ней моего сына? Я и сам еще не так стар, чтобы отказываться от брака. Надо будет разузнать побольше об ее характере, тогда я и решусь окончательно».
Он послал за доном Фернаном и, похвалив его выбор, расспросил о нраве его возлюбленной. Испанец приукрасил историю так, как это свойственно влюбленным, добавив и блеск своего природного красноречия, так что маркизу и расспрашивать не пришлось: сын обо всем рассказывал сам и, еще не подозревая, что за беды себе готовит, с удовольствием наблюдал, с каким вниманием слушает его отец. Он даже видел в этом самое счастливое предзнаменование и почти не сомневался в своем счастье, уже зная, что граф Фуэнтес ему не откажет, и потому продолжал всячески расписывать прелесть своей избранницы, дабы окончательно убедить маркиза не медлить со свадьбой. Отец обещал порадеть его любви и вскоре принести счастливые вести. Дон Фернан пришел в восторг и благодарил его с горячностью, сообразной тому счастью, на какое теперь уповал. Он сразу же написал письмо Леоноре, где рассказал ей о положении дел, — оно было передано ей кузеном, вопреки бдительности графини.
Пока дон Фернан и его возлюбленная тешились радужными надеждами, граф Фуэнтес, измученный письмами жены, приехал в Аспеньяс, чтобы успокоить ее вновь вспыхнувшую ревность. Дон Фернан, узнав об этом, тут же сообщил отцу; тот же, коротко знакомый с графом, послал ему записку, в которой просил разрешения переговорить с ним где-нибудь вне его дома; они назначили встречу у одного из общих друзей.
Они любезно поприветствовали друг друга, после чего маркиз сказал графу:
— Я приехал испросить свидетельства вашей дружбы и, со своей стороны, предложить таковое и вам; просьба моя могла бы удивить вас, если бы сам предмет, о котором идет речь, не был так способен творить чудеса; итак, я пришел просить у вас в жены милую Леонору, чья красота и юность в силах омолодить меня настолько, чтобы я не стал ей противен; отдайте ее за меня, сударь, а дабы еще теснее соединить наши дома, выдадим за моего сына прелестную Матильду.
Граф Фуэнтес отвечал на эту просьбу с радостью столь учтивой, что маркизу не оставалось желать ничего лучшего. Они обнялись, дав друг другу слово, но, хотя между ними дело и было уже слажено, решили пока держать его в секрете.
Граф Фуэнтес не преминул поговорить об этом с супругой, чтобы заручиться ее согласием, однако попросил пока ничего не говорить дочерям, полагая, что они и без того согласятся с любой отцовской волей. Маркиз же Толедский, вернувшись в Кадис, сообщил дону Фернану, что все устраивается наилучшим образом и тот скоро будет счастлив, но в детали вдаваться не стал, так что сын ничего не подозревал о злой шутке, которую с ним сыграл отец. У обоих были причины для нетерпения, и оба торопили день свадьбы. Дон Хайме, чья страсть к Матильде была не слабее страсти дона Фернана к Леоноре, осмелился поторопить маркиза Толедского испросить для него ее руки, чтобы обе сестры могли выйти замуж одновременно; старый маркиз поостерегся открыть ему истинное положение дел, поступив наоборот — обещав свое деятельное участие в этом деле. И все же, опасаясь, как бы его плутая в отношении сына и его друга не раскрылась раньше, чем следовало, он старался ускорить возвращение Леоноры и Матильды в Кадис. Граф Фуэнтес, скучавший в деревне, был только рад предлогу вернуться с семьей в места более приятные.
Нелегко долго скрывать предательство от таких проницательных людей, как дон Фернан и дон Хайме; в конце концов они и раскрыли его — но каково же было им узнать этакую новость?! Все неистовство страстей, какое только могут породить отчаяние, любовь и гнев, всколыхнулось в их сердце. Невозможно описать состояние дона Фернана, когда он осознал, что предметом его ярости и целью мщения оказался родной отец.
— Увы! — говорил он дону Франсиско. — Не его, но себя должен я покарать: ведь я сам показал ему портрет моей возлюбленной, сам слишком подробно расписал все ее совершенства: да можно ли было рассчитывать, что, увидев и услышав все это, он сумеет остаться равнодушным? Разве стрелы Любви поражают не в любом возрасте? О чем же думал я, несчастный, заставляя его любоваться столь чарующей особой?
Но после грустных мыслей его вдруг охватывала ярость, и он вопрошал:
— Могу ли простить того, кто хочет отнять у меня все, что я люблю? Нет, нет, уважение, почтение, отныне я не хочу и слышать о вас — и скорее умру, чем уступлю свою любимую.
Дон Хайме, не отягощенный столь священными обязательствами, готовил мщение, сообразное нанесенному ему оскорблению. Оба кавалера знали, что Леонора и Матильда должны вернуться завтра. Они попросили дона Франсиско выехать им навстречу, чтобы предупредить о происходящем. Тот согласился, зная, однако, как будет раздражена его тетка, которой он тщетно посылал записки с извинениями за историю с маврами; тем не менее он не преминул передать Леоноре письмо дона Фернана, где говорилось следующее:
Избыток моей скорби превышает все, что я мог бы выразить словами. Отец мой, обожаемая Леонора, хочет лишить меня надежд, похитить у меня ваше сердце, жениться на вас. С тех пор, как я узнал эту ужасную новость, я не владею собой, не помню себя, не знаю, что делать, и лишь вы одна можете избавить меня от навалившихся горестей. Позволите ли вы мне отвезти вас в такое место, которое станет убежищем нашей любви? В этом единственное наше спасение от столь внезапных бед. Однако, сударыня, если вы откажетесь, мне останется лишь искать смерти.
Дон Франсиско застал графиню за последними приготовлениями к выезду из Аспеньяса; в той суматохе, какая всегда сопровождает сборы в дорогу, ему удалось переговорить с кузинами. О боже! Как горько было им узнать эти новости, сколь неожиданные, столь и роковые; это был удар грома среди ясного неба.
— К чему так горевать? — сказал им дон Франсиско. — Разве вы не понимаете, что, стоит вам согласиться, и дон Фернан с доном Хайме избавят вас от ненавистного брака? Но для этого вам следует войти в роль и в Кадисе казаться веселыми и довольными. Поступите так — и, ручаюсь вам, все пойдет наилучшим образом.
— Ах, дорогой кузен, — отвечала ему Леонора, — вы нас успокаиваете, а ведь в такой беде всего можно опасаться; однако же я решилась последовать вашим советам и, как сумею, скрыть свою скорбь. Возвращайтесь же в Кадис и, умоляю вас, уверьте дона Фернана, что я согласна сделать все по-вашему.
— Передайте от меня то же дону Хайме, — прибавила Матильда, которой тот прислал нежнейшее письмо. — Убедите же его, что ни моя рука, ни мое сердце никогда не будут принадлежать никому другому.
— Этого недостаточно, — перебил дон Франсиско, — вы должны написать им, а я передам ваши распоряжения.
Леонора тут же написала следующую записку:
Дон Франсиско расскажет вам, как мне тяжко. И, сознаюсь, вряд ли я смогла бы вынести все эти беды, если бы не тешилась надеждой на успех Вашего замысла; одобряю его, сударь, и с радостью последую за Вами на условиях, которые не нарушат моего целомудрия и подобающих приличий.
В записке Матильды для дона Хайме было всего несколько слов:
Не ждите от меня красноречивых жалоб, я сражена ударом, поразившим Вас, а истинная скорбь обычно нема. Но, поскольку мы доведены до крайности, верьте, что я помогу Вам в Ваших замыслах, чтобы судьбы наши соединились навсегда.
Дон Франсиско отправился в Кадис, где его с нетерпением ожидали оба поклонника его кузин, безмерно обрадованные решением великодушных барышень. Последние прибыли, пока кавалеры отдавали необходимые распоряжения перед бегством. Сестры сумели скрыть свое неудовольствие, столь естественное в подобной ситуации.
Не успели они приехать в Кадис, как маркиз Толедский явился к ним без дона Фернана, прежде в туманных выражениях уверив сына в своей всемерной дружеской поддержке, если тот добровольно примет его условия. Дон Фернан, заскрипев зубами, коротко отвечал отцу, что послушен его воле.
Маркиз предпринял все, чтобы хоть отчасти скрыть свой настоящий возраст от юной Леоноры: пудра, духи, бриллианты, вышивка — все тут пошло в ход. На его многочисленные комплименты она отвечала с присущей ей скромностью; свидание было недолгим, а сразу по возвращении домой он послал Леоноре и Матильде прекраснейшие драгоценности. Девушки печально рассматривали их; вдруг Леонора заметила в маленькой коробочке, усыпанной изумрудами, листок бумаги; она развернула его и прочитала:
Нынче ночью мы проникнем в ваш сад. Будьте там, прекрасная Леонора, вместе с доньей Матильдой; наденьте плащи, чтобы вас не узнали. Все готово, скоро вы будете в надежном месте.
Вечером они ушли к себе, а в назначенный час спустились в сад. Дон Франсиско, знавший обо всем, сопровождал их; он и отпер ворота влюбленным, запася ключ заранее. Лица у всех были скрыты плащами; узнав под ними своих возлюбленных, друзья тихо и осторожно повели их за собою. Свернув на безлюдную улицу, они сели в карету и приказали гнать в порт — там ждала их шлюпка с несколькими матросами. Беглецы вошли в нее и велели грести попроворнее.
На ожидавшем их корабле они на всех парусах отправились в Венецию. Капитан проводил Леонору и Матильду в каюту; поднялся сильный и холодный ветер, что было весьма на руку нашим влюбленным беглецам; оба они, сидя каждый подле своей возлюбленной, шептали им слова, полные восторженной признательности. Однако барышни были потрясены тем, что осмелились на побег; и в самом деле, было о чем призадуматься девицам, до сих пор жившим при своей беспримерно суровой матушке. Дон Фернан легко догадался, что происходило у них в душе, и забеспокоился. Наделенный веселым нравом, он, видя, что и речи быть не может о том, чтоб заснуть, предложил развлечь их и рассеять тяжкие думы, рассказав им сказку. Девицы обрадовались, пожелав лишь подняться на верхнюю палубу, ибо ночь была ясной, луна сияла, а ласковое и спокойное море, казалось, колыхали одни лишь зефиры. Капитан попросил позволения присоединиться к ним, и дон Фернан начал свой рассказ.
Пер. М. А. Гистер
Зеленый Змей[208]

Когда все феи собрались в пиршественной зале, им подали роскошное угощение, и вот, когда они пошли к столу, явилась Маготина. Она была родной сестрой Карабос[209], и такая же злая — сестре под стать. При виде этой гостьи королева очень испугалась, как бы не случилось чего, ведь она не приглашала Маготину, но виду не показала, а даже сама подставила ей кресло, обитое зеленым бархатом и украшенное сапфирами. Так как незваная гостья была главой всех фей, те подвинулись, чтобы дать ей сесть, и тут же стали шептать друг дружке на ухо:
— Поспешим, сестрицы, одарить чем-нибудь маленьких принцесс, опередим Маготину!
Та же отказалась даже сесть, грубо возразив, что достаточно высокая и может есть стоя. Но она ошибалась: стол был выше ее самой, она же так мала, что даже его и не видела.
— Да сядьте же, сударыня, умоляю вас, — сказала ей королева.
— Если бы вы хотели видеть меня за столом, — отвечала ей фея, — так и пригласили бы, как и всех остальных. Но ведь вам тут при дворе подавай одних молоденьких красавиц, хорошо сложенных и лицом премиленьких, вроде моих сестриц, я же слишком стара и уродлива, зато могущества у меня не меньше, а, скажу без преувеличения, может быть, и побольше.
Тут все феи принялись наперебой уговаривать ее все-таки сесть за стол, и она наконец согласилась. Принесли золотую корзинку, а в ней — двенадцать букетов из драгоценных камней. Феи, которые пришли раньше, взяли себе по букетику, вот Маготине и не досталось. Она заворчала сквозь зубы. Тогда королева принесла из своих покоев шкатулку из испанской кожи[210], отделанную рубинами и доверху наполненную бриллиантами, и умоляла фею принять эту шкатулку в подарок, но Маготина лишь покачала головою:
— Оставьте себе ваши безделушки, такого добра у меня самой полным-полно; я только хотела узнать, помните ли вы меня; но нет — я в полном небрежении.
Тут она коснулась стола волшебной палочкой, и все кушанья превратились в мелко нарезанных змей. Феи пришли в ужас, побросали салфетки и выбежали из-за стола.
Пока они перешептывались, возмущаясь злой выходкой Маготины, эта бессердечная карлица приблизилась к колыбели, где лежали две принцессы, завернутые в такие чудесные парчовые пеленки, что краше не сыщешь.
— Тебя, — сказала она одной, — награждаю я даром безупречного уродства.
Хотела было потом наложить какое-нибудь проклятие и на вторую, но тут феи, сбежавшиеся в ужасе, принялись ей всячески мешать, так что злодейка Маготина разбила стеклянную перегородку, пройдя сквозь нее, как молния, и исчезла, только ее и видели.
Сколь ни прекрасны были дары, которыми добрые феи наделили принцесс, — королева не радовалась их благодеяниям, а горевала, что оказалась матерью самого уродливого создания на свете. Взяв дочку на руки, она увидела, что та с каждым мгновением становится все безобразнее, и, хотя и силилась не плакать перед сударынями феями, да все ж не могла сдержаться; тут им стало так ее жаль, что и словами не описать.
— Что же делать, сестрицы, как утешить королеву? — все повторяли они, тут же устроив совет, и наконец сказали ей, что не стоит предаваться такой скорби, ибо наступит день, когда ее дочь станет безмерно счастлива.
— Но будет ли она красива? — перебила их королева.
— Тут нам сказать нечего; ну, право, сударыня, надлежит довольствоваться счастием.
Королева от души благодарила фей и щедро одарила их; а надо сказать, что феи, хоть и были очень богаты, а все-таки обожали получать подарки. Этот обычай постепенно распространился по всему свету и меж всеми народами, и время его не разрушило.
Королева назвала свою старшую дочь Дурнушкой, а младшую Красоткой. Такие имена подходили им как нельзя лучше, ибо Дурнушка, хотя и необычайно умная, была так безобразна, что без слез не взглянешь; сестра же ее с каждым днем хорошела и всех очаровывала. И вот Дурнушка, которой уже минуло двенадцать лет, бросилась к ногам короля с королевой, моля их дозволить ей затвориться в замке Уединения, дабы не огорчать их больше своим ужасным уродством. Они же, несмотря на все ее безобразие, любили ее, так что нелегко им было согласиться, но ведь с ними оставалась Красотка, и это было достаточным утешением.
Дурнушка просила королеву отправить с ней лишь няню да нескольких лакеев в услужение.
— Вам нечего бояться — никому не придет в голову меня похитить, сударыня, — сказала она, — а я, признаться, и сама не хотела бы показываться никому, даже самому солнцу.
Король и королева не отказали ей в ее просьбе, и Дурнушку отвезли в замок, выбранный ею самой. Был он построен несколько столетий назад, и вместо рва с водой его окружало открытое море, плескавшее в окна; погулять можно было лишь в дремучем лесу неподалеку, а вдалеке виднелась голая степь. Принцесса божественно играла на музыкальных инструментах и пела. В таком приятном уединении она и провела два года и даже написала две книги размышлений, пока наконец желание повидать короля с королевой не побудило ее сесть в карету и поехать ко двору. Она прибыла очень вовремя: принцессу Красотку как раз выдавали замуж, и все кругом ликовали; увидев же Дурнушку, сразу помрачнели, а родные даже не поцеловали ее, не приголубили. Только сказали, что она так подурнела, что появиться на балу ей и думать нечего, а если уж так хочется взглянуть на праздник, то для нее оставят маленькую щелочку. Она же отвечала, что приехала вовсе не отплясывать под скрипки, а засвидетельствовать почтение королю и королеве, ибо слишком долго прожила в замке Уединения и соскучилась, но теперь с горечью видит, что им невыносимо ее присутствие, и тогда уж лучше ей вернуться в свою пустыню, где ни деревья, ни цветы, ни ручейки не попрекают ее за уродство. Король с королевой заметили ее огорчение и скрепя сердце разрешили остаться денька на два-на три. Но принцесса, с ее добрым сердцем, ответила, что если проведет столько времени в такой приятной компании, то уезжать ей потом будет слишком горько. Ну, а король с королевой, только и думавшие ее побыстрее спровадить, поспешили с ней согласиться.
Принцесса Красотка, счастливая невеста, одарила ее своей старой лентой, на которой всю зиму носила муфту, а король-жених дал отрез серо-буро-малиновой тафты на юбку. Если бы Дурнушка придавала значение подобным безделкам, она швырнула бы и ленту, и отрезец в столь щедрых дарителей, но ведь она была слишком умна, скромна и благонравна, чтобы показать, как огорчилась. И вот она отправилась восвояси со своей верной кормилицей, и так тяжело было у нее на сердце, что за всю дорогу не проронила ни слова.
Однажды, прогуливаясь по самой тенистой аллее леса, она увидела на дереве огромную зеленую змею, которая, склонив голову, сказала ей:
— Дурнушка, не ты одна несчастна, взгляни, как я ужасен, а ведь, когда родился, был еще красивее тебя.
Напуганная принцесса, едва расслышав эти слова, убежала со всех ног и несколько дней не отваживалась выходить из дому — так ее напугала змея. Наконец надоело ей сидеть одной в своей светелке, и вот как-то вечером пошла она к морю. Неспешно прогуливаясь и раздумывая о печальной своей судьбе, она вдруг увидела золотую лодочку, расписанную разными девизами, с парусом из сиявшей парчи, мачтой из кедра и веслами из красного дерева. Лодка была пуста и, казалось, плыла сама собой. Она пристала к берегу, и принцесса, не долго думая, вошла, сгорая от любопытства. Внутри все было обито малиновым бархатом с золотой подкладкой, а гвоздями послужили бриллианты. Лодка тут же отчалила, и принцесса, спохватившись, испугалась и взялась за весла, стараясь повернуть назад, но все ее усилия были тщетны: подул ветер, поднял волну, и вот Дурнушка уже не видела берега. Вокруг — только небо да море. Она призвала на помощь Фортуну[211], впрочем, отнюдь не рассчитывая на ее благосклонность и не сомневаясь, что и тут не обошлось без проделок Маготины. «Пришла моя смерть! — сказала она себе. — Но с чего бы мне бояться ее? Увы, я не познала в жизни никаких радостей, которые могли бы заставить меня ненавидеть смерть. Мое безобразие отталкивает всех, даже моих родных, сестра моя — великая королева, а я изгнана вглубь пустыни, где только-то мне и компании, что одна говорящая змея. Не лучше ли мне умереть, чем влачить столь горестное существование?!»
Размышляя таким образом, принцесса перестала плакать и взглянула на бурное море, от коего ждала смерти, и уже готова была поторопить ее, как вдруг увидала в волнах, у самой лодки, змею, которая сказала ей:
— Согласись вы только принять помощь от несчастного Зеленого Змея — я мог бы спасти вас!
— Смерть пугает меня меньше, чем ты, — крикнула принцесса, — и если хочешь услужить — никогда не показывайся мне на глаза!
Зеленый Змей зашипел (так вздыхают змеи) и, не проронив ни слова, скрылся в волнах. «Какое ужасное чудовище, — подумала принцесса, — крылья с прозеленью, тело разноцветное, когти из слоновой кости, глаза горят, а голова покрыта гривой, длинной и щетинистой. Ах, лучше умереть, чем быть обязанной ему жизнью! И все же, — продолжала она, — зачем он преследует меня — и почему разговаривает как разумная тварь?» Пока она так размышляла, ей вдруг ответил голос:
— Не тебе презирать Зеленого Змея, Дурнушка; хоть и неучтиво так говорить, да послушай: ведь он-то среди своих собратьев не так безобразен, как ты среди человеков. Но не стану больше огорчать тебя. Твоему горю можно помочь, но если только ты сама этого захочешь.
Этот голос ниоткуда немало удивил принцессу, но в ответ она только расплакалась — ведь то, что он сказал, так мало походило на правду. Но, поразмыслив, она воскликнула:
— Как! Я звала смерть, не пролив ни слезы, — а теперь плачу, стоит лишь попрекнуть меня моим безобразием?! Увы, незачем мне быть красивейшим созданием на свете — ведь и тогда бы я тоже погибла; что ж, и то мне в утешение, что нечего жалеть о жизни.
Пока она так рассуждала, лодка, все плывшая по воле ветра, налетела на скалу и разбилась на две половинки. Несчастная принцесса почувствовала, что перед подобной опасностью вся ее философия сразу отступает. Тут ей показалось, что рядом плывет что-то вроде деревянных обрубков; она ухватилась за них и невредимой добралась до подножия скалы. Но, ах! Что с нею сталось, когда увидела она, что крепко сжимает в объятиях Зеленого Змея! Тот же, увидев, в каком она ужасе, чуть отстранился и крикнул ей:
— Знай вы меня лучше — боялись бы меньше; но такова уж злая судьба моя, что все меня пугаются! — И он стремительно скрылся под водой, а Дурнушка осталась одна на этой чудовищно огромной скале.
Куда ни глянь, ничто не внушало утешения; ночь приближалась, а у нее не было ни пищи, ни крыши над головою. «Я надеялась было, — сказала она себе, — закончить печальные дни мои в море, но, оказывается, здесь ждет меня погибель. Явится морское чудище и растерзает меня, а не то так я сама умру с голоду». — Она взобралась повыше и уселась на край скалы, глядя на море, пока еще было светло; когда же совсем стемнело, сняла свою юбку из серо-буро-малиновой тафты, покрыла ею голову и лицо и стала с тревогой ждать, что будет.
Наконец она задремала, и приснилось ей, что играют на разных инструментах; казалось, это сон, но вот ей стал ясно слышен напев и слова, будто к ней обращенные:
Здесь всем Любовь сердца пронзает,
Мы чувствуем любовный пыл.
Амур печали изгоняет.
Здесь все устроено,
чтоб каждый счастлив был.
Здесь всем Любовь сердца пронзает,
Мы чувствуем любовный пыл.
Она внимательно вслушивалась и наконец проснулась окончательно. «Какие радости или горести ожидают меня теперь? Будут ли у меня еще счастливые деньки?» Она открыла глаза, опасливо оглядевшись в поисках чудовищ. Но каково же было ее удивление, когда вместо жуткой и дикой скалы она оказалась в комнате, сияющей золотом, и лежала на кровати, достойной самого роскошного дворца во вселенной. Она от души дивилась таким чудесам, не веря, что все это наяву. Наконец встала и поскорей открыла стеклянную дверь, выходившую на просторную террасу; оттуда открылся ей вид на все чудеса, какие только способна породить природа в союзе с искусством: сады, полные цветов, фонтанов, статуй и редких деревьев; подальше — леса и дворцы, чьи стены были выложены драгоценными камнями, а кровли жемчугами, и все это безупречной мастерской работы. Вдали виднелось море, ласковое и спокойное, по которому плыло много разных судов, чьи паруса, вымпелы и флаги были просто загляденье.
— Боги! Боги праведные! Куда я попала? Что за диво? Во что вдруг превратилась эта жуткая скала, казалось желавшая изранить небеса своими острыми краями? Да я ли погибала вчера на лодке, да меня ли спасла змея?
Так и ходила она взад-вперед по террасе, не понимая, сон это или явь, как вдруг услышала какой-то шум в комнатах. Вернувшись туда, она увидела сотню китайских болванчиков[212], весьма разнообразно одетых и по-разному выглядевших: самые большие ростом в локоть, а самые маленькие — всего с вершок; были среди них красивые, милые, изящные, а были и безобразные, пугающе уродливые; сделаны же все из бриллиантов, изумрудов, рубинов, жемчуга и хрусталя, из янтаря, из коралла, из золота, серебра и меди, из бронзы, железа, дерева и глины. Одни без рук, другие без ног, у тех рот до ушей, а эти косоглазые с приплюснутым носом. Одним словом, китайские болванчики тут отличались таким же разнообразием, что и все существа, населяющие этот мир.
А были это депутаты того королевства, в котором принцесса оказалась; после пространной приветственной речи, не лишенной некоторых весьма разумных рассуждений, они, дабы развлечь ее, рассказали, что успели немало постранствовать по свету, однако их господин дал соизволение уехать лишь на том условии, что будут они всегда молчать, куда бы ни попали; и клятву эту соблюдали они столь неукоснительно, что старались даже не шевелить ни головой, ни ногами, ни руками, хоть и не у всех это выходило. Так они объехали весь мир и, вернувшись, немало порадовали своего короля, поведав ему о самых заветных тайнах тех дворов, где их принимали.
— Сударыня, — сказали наконец посланники, — нам наказано не упускать ничего, что могло бы вас развеселить, и мы время от времени будем приходить и развлекать вас; и сейчас мы не принесли вам подарков, зато позабавим песнями и танцами. — И они тут же запели, встав в круг и пританцовывая под звуки бубнов и кастаньет:
Прелестны радости чредой,
Когда приходят за невзгодой.
Прелестны радости чредой
Вслед за бедой.
Так не гонись же за свободой,
Любовник молодой.
Прелестны радости чредой,
Когда приходят за невзгодой.
Прелестны радости чредой
Вслед за бедой.
Коль скорби претерпел,
Каких не чаял сроду,
Вслед за тяжелою страдой
Прелестны радости чредой,
Когда приходят за невзгодой.
Прелестны радости чредой
Вслед за бедой.
Когда они допели, один из депутатов взял слово и молвил:
— Вот, сударыня, сотня болванчиков, которым выпала честь служить вам. Все, чего бы вам только ни пожелалось, будет исполнено, лишь бы вы оставались с нами.
Тут в свой черед явились и сами болванчики. Каждый нес корзинку, соразмерную своей фигуре, и все корзинки полны самых разных вещиц, столь очаровательных и полезных, так дивно сработанных и роскошных, что Дурнушка не переставала восхищаться, нахваливать да снова и снова дивиться всем этим чудесам. Самый хорошенький болванчик, с бриллиантовым личиком, предложил ей войти в грот-купальню, так как становилось все жарче. Принцесса шествовала, как ей и указали, между двумя колоннами телохранителей, чьи размеры, равно как и выражение лица, вызывали неудержимый смех. В купальне она увидела две хрустальные ванны с золотой отделкой; вода в них источала столь приятный и редкостный аромат, что принцессе оставалось лишь подивиться. Она спросила, почему ванны две, и ей ответили, что одна для нее, а другая — для короля китайских болванчиков.
— Но где же он сам? — воскликнула она.
— Сударыня, он теперь на войне, вы увидите его по возвращении.
Принцесса поинтересовалась, женат ли он; ей отвечали, что нет, ибо он так хорош, что до сих пор не нашел достойной партии. Не продолжая расспросов, она разделась и вошла в ванну. Китайские болванчики тут же запели и заиграли на разных инструментах: на теорбах из скорлупы грецкого ореха да на скрипках из миндальной скорлупы — инструменты, как и подобает, соответствовали росту музыкантов; зато настроены они были так точно, а играли на них столь мастерски, что эти концерты веселили сердце.
Когда принцесса вышла из ванны, на нее накинули великолепный халат; одни болванчики шли перед нею, играя на флейтах и гобоях, другие шествовали следом и пели ей славословия. Так она и вошла в покои, где занялись ее туалетом. Болванчики-камеристки вместе с болванчиками-горничными засуетились да забегали, причесывая ее, нахваливая, хлопая в ладоши; никто и не вспоминал больше ни о ее безобразии, ни о юбке из серо-буро-малиновой тафты, не говоря уж о засаленной ленте.
Принцесса недоумевала. «Но кто же, — размышляла она, — кто послал мне столь необыкновенное счастье? Вот я на грани погибели, жду смерти, и никакой надежды, как вдруг я оказываюсь в самом приятном, самом роскошном месте на свете, где все так рады меня видеть!» Она была так умна и добра, что все суетившиеся вокруг нее крохотульки казались ею очарованными.
Каждое утро к ее пробуждению бывали готовы новые платья, кружева, драгоценности; одного было жаль — что она так некрасива. А между тем ее так тщательно наряжали и причесывали, что она, ненавидевшая свою внешность, постепенно переставала считать себя такой уж безобразной. Часа не проходило, чтобы кто-нибудь из болванчиков не пожаловал поведать ей о самых таинственных и любопытных вещах, какие только бывают на свете, о мирных договорах, военных лигах, о предательствах и разрывах влюбленных, о неверности любовниц, о разочарованиях, примирениях, недовольных наследниках, расстроенных свадьбах, старых вдовах, что снова выходили замуж — и опять без толку; о найденных сокровищах, о банкротствах, свалившихся на кого-то деньгах, падших фаворитах, полученных должностях, о ревнивых мужьях и кокетливых женах, о дурных детях, разоренных городах, и чего только еще не рассказывали они принцессе, дабы развлечь или занять ее?
У некоторых болванчиков живот был так выпячен, а щеки так надуты, что просто диво дивное. Она спросила, почему это, и они отвечали так:
— Нам при выходах в свет запрещается смеяться и разговаривать, мы же только и видим там что дела самые смехотворные и глупости самые непростительные — вот нам и хочется смеяться до того, что нас от этого раздувает. Это такая смеховая водянка, от которой здесь мы, впрочем, быстро излечиваемся.
Принцесса дивилась разумному ответу этого миленького болванчика, — ведь и вправду недолго раздуться, если смеяться всем несуразностям на свете.
Ни одного вечера не проходило без какой-нибудь прекрасной пьесы Корнеля или Мольера[213]. Часто случались балы, и самые маленькие фигурки, дабы получше себя показать, танцевали на канате — так их всем было видно. Ну а яства, которые подавали принцессе, везде могли бы сойти за роскошный пир. Ей приносили и серьезные книги, и любовные, и исторические, чтобы дни ее пролетали как мгновения, однако, хоть все эти болванчики и были умны на диво, принцесса иной раз сетовала, что они слишком уж малы. На прогулке ей приходилось рассовывать их штук тридцать по карманам, чтобы беседовать с ними дорогой; и все-таки ничего не было приятнее болтовни их тоненьких голосков, звучавших чище и нежнее, чем у марионеток.
Однажды, в час бессонницы, принцесса так рассуждала сама с собою: «Что же будет со мною теперь? Навсегда ли я останусь здесь? Жизнь моя проходит в удовольствиях, о каких я и мечтать не могла, и, однако же, сама не знаю, чего так недостает моему сердцу, — только чувствую я, что эта череда однообразных удовольствий начинает казаться мне несносной».
— Да не вы ли сами виноваты в этом, принцесса? — вдруг ответил ей голос ниоткуда. — Пожелай вы только любить — и узнали бы, что можно сколь угодно долго быть рядом с тем, кого любишь, и не только во дворце, но хоть и в самой ужасной пустыне, вовсе не желая никуда отлучаться.
— Что это за болванчик говорит со мной, — возразила она, — и что за вредные советы дает он мне, нарушая покой моей жизни?
— Вовсе никакой не болванчик предупреждает вас о том, что вас ждет рано или поздно, — было ей ответом, — а несчастный властелин этого королевства, который обожает вас, сударыня, и трепещет вам об этом сказать.
— Есть, стало быть, такой король, который меня обожает? — отвечала принцесса. — Что же это он, слепой, что ли?
— Я видел вас, сударыня, — отвечал невидимка, — и, по мне, вы совсем не такая, как сами о себе думаете; но, каковы бы вы ни были, с вашими достоинствами и недостатками, — повторяю вам, что я вас обожаю, но именно моя почтительная и боязливая любовь и заставляет меня прятаться.
— Благодарю вас за это, — отвечала принцесса, — ибо случись мне, увы, полюбить — уж не знаю, что бы со мною сталось.
— Вы составили бы счастье того, кто не может жить без вас, но, если вы не позволите ему явиться перед вами, он никогда не осмелится на это.
— Нет, нет, — отвечала принцесса — я не хочу видеть ничего, что бы вызвало у меня слишком сильную привязанность. — Голос замолк, и она до конца ночи размышляла об этом приключении.
Хоть она и решила ничего никому о нем не рассказывать, но все ж не удержалась и спросила у болванчиков, вернулся ли их король. Они ответили, что нет. Это встревожило ее, — ведь как же тогда она столь недавно сама слышала его? — и она спросила еще, молод ли он и хорош ли собой. Ответ был, что он молод, красив и любезен. Она спросила, часто ли они получают от него известия. Оказалось — каждый день.
— Но знает ли он, что я живу в его дворце?
— Да, сударыня, — объяснили ей, — он знает обо всем, что вас касается, и живо этим интересуется; мы отправляем к нему курьеров с известиями о вас ежечасно.
Больше она не расспрашивала, лишь чаще обычного бывала задумчивой и полюбила предаваться мечтам.
Когда она оставалась одна, голос говорил с нею; ей это было и немного страшно, и приятно, ибо она никогда не слышала ничего более галантного.
— Хоть я и решила никогда никого не любить, — отвечала ему принцесса, — и имею причины оберегать мое сердце от привязанностей, столь дорого ему стоящих, — а все же, признаюсь, мне было бы отрадно познакомиться с королем, у которого такой странный вкус, каков ваш, — ведь вы, должно быть, единственный в мире смогли полюбить такое безобразное существо, как я.
— Думайте что вам угодно, прекрасная моя принцесса, — возражал ей голос, — но я нахожу достаточное оправдание моей любви в ваших достоинствах. Однако же прятаться от вас заставляют меня причины иные, и притом столь печальные, что, знай вы о них, непременно бы меня пожалели.
Тогда принцесса стала уговаривать голос объясниться, однако он прекратил речи: ей слышны были теперь одни только вздохи. Все это встревожило ее: поклонник хотя и незнакомый и невидимый, он все же заботился о ней, да и пребывание здесь располагало желать какой-нибудь иной компании, нежели китайские болванчики. Потому-то она и начала скучать повсюду, и только голос невидимки умел с приятностью занять ее.
Однажды, самой темной ночью в году, она уснула, а проснувшись, почувствовала, что рядом с ее кроватью кто-то сидит. Она подумала, что это жемчужный болванчик, — он был поумнее других и приходил иной раз побеседовать с нею. Принцесса хотела было заговорить с ним, но тут кто-то взял ее руку в свои, пожал ее, поцеловал и уронил на нее несколько слезинок; от волнения таинственный гость не мог произнести ни слова; принцесса не сомневалась, что явился ее король-невидимка.
— Чего же вы хотите от меня, — сказала она со вздохом, — могу ли я любить вас, не зная и не видя?
— Ах, сударыня, чего требуете вы от меня за удовольствие разговаривать с вами? Я не могу показаться вам. Та же злодейка Маготина, что так жестоко обошлась с вами, обрекла и меня на семь лет страданий; пять из них уже прошло, и мне остается два года, горечь коих вы могли бы обратить в сладость, согласившись принять меня как супруга. Вы станете думать, что я наглец и требую от вас невозможного, однако, сударыня, знай вы всю силу моей страсти, всю меру моих страданий — вы не отказали бы мне в милости, которой я у вас прошу.
Как я уже говорила, Дурнушка скучала, и к тому же король-невидимка в том, что касается сердца и разума, казался ей весьма достойным: он понравился ей, и так любовь коснулась ее сердца, прикинувшись состраданием. Она отвечала, что для решения ей нужно еще несколько дней. Это уже означало добиться многого — заставить ее отложить на столь малый срок то, на что и вовсе не приходилось надеяться. Число празднеств и концертов удвоилось, пели теперь только брачные гимны, без конца принося ей подарки, роскошнее коих еще никогда не видывали. Влюбленный голос являлся развлекать ее, как только начинало смеркаться, и принцесса уходила к себе как можно раньше, чтобы подольше побеседовать с ним.
Наконец она согласилась взять в супруги короля-невидимку, обещав не пытаться увидеть его раньше, чем истечет срок его тяжкого испытания.
— От этого зависит все — и для вас, и для меня, — сказал он, — и если вы будете столь неосторожны и проявите любопытство, то мне придется начать мое испытание сначала, а вам — разделить его со мной; если же вы сумеете удержаться и не последовать дурным советам, которые вам будут давать, в награду за это вы не только меня найдете таким, какого желает ваше сердце, но и вам будет возвращена дивная красота, похищенная у вас зловредной Маготиной.
Принцесса, в восторге от этой новой надежды, тысячу раз поклялась супругу не проявлять никакого любопытства, противного его желаниям. Так и совершилась свадьба, без шума и блеска, — но это ли важно для сердца и разума?
Всем китайским болванчикам не терпелось порадовать чем-нибудь свою новую королеву, и вот один принес ей историю Психеи[214], которую некий писатель из самых модных недавно изложил приятным языком. Она нашла в книжке много сходства с собственной историей, и ей так страстно захотелось увидеть отца и мать, сестру и зятя, что, как ни отговаривал ее король, ничто не могло заставить ее отказаться от этого каприза.
— Книга, которую вы читаете, — прибавил он, — расскажет вам, в какую беду попала Психея. Ах, умоляю вас, извлеките же из нее урок, дабы избежать подобной участи!
Она без конца клялась ему, что будет осторожна. Наконец доверху нагруженный роскошными дарами корабль с китайскими болванчиками и с письмами от королевы Дурнушки отправился к королеве-матери. Дочь умоляла мать приехать в ее королевство, и, дабы убедить ее в этом, болванчики даже получили разрешение разговаривать на чужбине.
Исчезновение принцессы глубоко опечалило ее близких, уже думавших, что она погибла, так что ее письма были очень радостно приняты при дворе. Королеве до смерти хотелось повидаться с дочкой, и поэтому она, не мешкая ни минуты, отправилась в путь вместе с дочерью и зятем. Болванчики, которые одни только и знали дорогу в королевство, сопроводили туда все венценосное семейство. Дурнушка, увидев родных, была вне себя от радости. Она читала и перечитывала историю Психеи, чтобы всегда находить верные ответы, однако это оказалось совсем не так просто. Она выдумывала тысячу отговорок: то король на какой-то войне, то он хворает и не хочет никого видеть, то он якобы отправился в паломничество, или на охоту, или на рыбалку, так что ее родные подумали было, что она сама не знает, что говорит, и жестокая Маготина совсем лишила ее рассудка. Но, поразмыслив как следует, ее мать и сестра все-таки решили, что она их обманывает либо, быть может, обманута и сама; с неуместным рвением они взялись распутать это дело, да так ловко, что заронили в ее рассудок тысячи страхов и подозрений. Наконец, устав возражать на их наветы, она призналась, что супруга еще ни разу не видела, но беседа его полна такого очарования, что ее одной ей хватает для полного счастья; ему же остается еще два года испытания, и по их прошествии она не только сможет увидеть его, но и сама сделается прекрасна, как дневное светило.
— Ах, несчастная, — воскликнула королева, — и ведь до чего грубо тебя обманули-то! Как ты можешь так наивно верить всем этим сказкам! Не иначе как твой муж — какое-нибудь чудовище, ведь и все эти болванчики, над которыми он царствует, — мартышки мартышками.
— А я, напротив, думаю, что это сам Амур, бог любви.
— Что за вздор! — воскликнула королева Красотка. — Это Психее сказали, что ее муж — чудовище, а он оказался Амуром; вы же вбили себе в голову, что ваш супруг — Амур, тогда как это, несомненно, какое-нибудь чудовище; разрешите хотя бы свои сомнения, узнайте истину, это ведь совсем просто сделать. — Королева присоединилась к этим уговорам, а зять и того пуще.
Несчастная принцесса была в таком замешательстве, что, отправив восвояси всю свою семью с подарками, кстати сказать, далеко превосходившими серо-буро-малиновую тафту и ленту от муфты, решилась во что бы то ни стало увидеть мужа. Ах! Роковое любопытство, от коего не уберечь нас и тысяче плачевных примеров, слишком дорого обойдешься ты нашей несчастной принцессе! Очень уж ей хотелось последовать примеру ее предшественницы Психеи, и вот она, подобно ей, потихоньку припрятала в спальне лампу и при свете ее рассмотрела короля-невидимку, столь милого ее сердцу. Но сколь ужасный вопль вырвался у нее, когда, вместо нежного и белокурого Амура, увидела она жуткого Зеленого Змея, покрытого длинной щетиной, что стояла дыбом! Он проснулся в бешенстве и отчаянии.
— Жестокая, — воскликнул он, — так-то вы отблагодарили меня за всю любовь к вам!
Больше Принцесса не слышала ничего — со страху она упала без чувств; но Змей был уже далеко.
На шум сбежалось несколько болванчиков, сразу же позаботившихся о принцессе, уложивших ее в постель. Когда же она пришла в себя, ею овладело горе невообразимое. Как только ни упрекала она себя за то, что причинила мужу зло! Ведь она уже любила его нежно — но его внешность внушала ей ужас, и она бы полжизни отдала, чтобы никогда его не видеть.
Ее печальные размышления прервали испуганные болванчики, вбежавшие сообщить ей, что несколько кораблей с марионетками под предводительством Маготины беспрепятственно вошли в порт. Марионетки и болванчики — давние и непримиримые враги: во всем они соперничают, но при этом у марионеток есть преимущество говорить повсюду все что они хотят, а китайские болванчики такой возможности лишены. Королевой марионеток и была Маготина, а вражда, которую она питала к бедному Зеленому Змею и к несчастной Дурнушке, заставила ее собрать войско, с тем чтобы явиться и умножить их скорбь в самую злую минуту.
Она легко преуспела в своих коварных замыслах, ибо глубоко подавленная королева не слушала ничьих увещеваний и не решилась отдать необходимые приказания, уверяя, что ничего не понимает в военных делах. Все же она распорядилась собрать всех болванчиков, каких только могли сыскать где бы то ни было, от осажденных городов до ставки самых крупных военачальников. Поручив им судьбу государства, она заперлась у себя, и овладело ею полное безразличие к жизни.
Генералом у Маготины служил знаменитый Полишинель[215], хорошо знавший дело, а в резерве у него имелся значительный корпус ос, майских жуков и бабочек, которые как по волшебству расправлялись с легко вооруженными лягушками и ящерицами, издавна составлявшими армию болванчиков, однако же опасными больше на словах, чем на деле.
Маготина со смехом следила за битвой, в которой болванчики сперва превзошли самих себя; однако фея одним ударом своей палочки сокрушила все их замечательные бастионы: очаровательные сады, леса, луга и фонтаны вдруг превратились в руины; сама королева Дурнушка не избежала горькой участи — стать рабыней самой зловредной феи, каких только видели на свете. Четыреста или пятьсот марионеток привели ее к Маготине.
— Сударыня, — сказал Полишинель, — осмелюсь представить вам королеву китайских болванчиков.
— Как же, как же, давно ее знаю, — отвечала Маготина, — это в день ее рождения меня так оскорбили, что я этого никогда не забуду.
— Увы, сударыня! — вздохнула тогда королева. — Сдается мне, что вы уже достаточно со мной поквитались, ибо дар уродства, коим вы сполна наделили меня, давно бы удовлетворил любого, кто не так мстителен, как вы.
— Эк ведь она рассуждает, — сказала фея, — ну прямо доктор новоявленный. Что ж, вот вам и первая работа — обучите моих муравьев философии; приготовьтесь каждый день давать им уроки.
— Как же я сумею, сударыня, — горестно воскликнула королева, — ведь я совсем не знаю философии, да и знай я ее — разве можно научить ей муравьев?
— Нет, взгляните только на эту разумницу! — рассмеялась Маготина. — Что ж, ваше величество, не хотите учить философии — ну и не надо; но уж тогда, как ни возражайте, а придется вам самой явить миру пример невиданного терпения.
Тут принесли железные башмаки, такие узкие, что в них влезала лишь половина ее ноги; их надели несчастной королеве, которой только и осталось что страдать и рыдать.
— Ах да! Еще, — промолвила тут Маготина, — вот вам веретено и паутина, спрядите из нее нити, тонкие, как ваши волосы, и даю я вам на это только два часа.
— Я никогда не пряла, сударыня, — отвечала королева, — но, хоть это и кажется невозможным, постараюсь сделать, что вы приказали.
Ее тут же провели вглубь весьма сумрачной пещеры, а вход завалили большим камнем, оставив ей краюху заплесневелого хлеба да кувшин с водой.
Пытаясь прясть эту мерзкую паутину, она много раз роняла наземь тяжелое веретено, но терпеливо подымала его и начинала работу заново, однако все было тщетно. «Теперь я в полной мере познала, что такое скорбь, — говорила она себе, — вот я в руках у безжалостной Маготины, коей мало было лишить меня красоты моей, — теперь она думает, как меня совсем со свету сжить». Тут королева заплакала, вспомнив совсем еще недавнюю счастливую жизнь в Королевстве Болванчиков и, бросив пряжу на землю, вскричала:
— Приди же, Маготина, и сделай что хочешь, — не могу я свершить невозможного.
Вдруг она услышала голос, говоривший так:
— Ах, королева! Скольких же слез стоили вам ваши нескромность и любопытство; однако же невыносимо видеть страдания того, кого любишь. Есть у меня добрый друг, о котором я вам еще не рассказывал. Это фея по имени Заступница, надеюсь, она сможет помочь вам.
Тут послышались три удара (а между тем она никого не видела), и вся ее пряжа оказалась спрядена и расчесана. Когда же прошло два часа, Маготина, уже полная злобного задора, велела отвалить камень у входа в пещеру и вошла с большой свитой из марионеток.
— Посмотрим, — сказала она, — чего тут наработала лентяйка, не умеющая ни шить, ни прясть.
— Сударыня, — отвечала королева, — я и впрямь не умела прясть, да пришлось научиться.
Маготина же, повертев в руках катушку нитей паутины, промолвила:
— Да вы и верно большая искусница, так что досадно было бы ничем вас не занять. Сплетите из этих нитей такую крепкую сеть, чтобы ловить ею лосося.
— Помилосердствуйте! — воскликнула королева. — Такая нить и мух-то вряд ли выдержит!
— Слишком много рассуждаете, милая, — отрезала Маготина, — это вам не поможет. — С такими словами она вышла из пещеры, велев снова привалить большой камень и предупредив Дурнушку, что если через два часа сети не будут сплетены, то она пропала.
— Ах, фея Заступница, — сказала тогда королева, — если и вправду тронули вас мои бедствия, не откажите мне в вашей помощи! — И сети тотчас же сплелись. Дурнушка, вне себя от удивления, благодарила в сердце своем эту милостивую фею, сделавшую ей столько добра, и с удовольствием думала, что такого прекрасного друга ей не мог прислать никто, кроме ее мужа.
— Увы, Зеленый Змей, — сказала она, — вы слишком добры, если еще любите меня после всего зла, что я вам сделала!
Ответа не было; зато вошла Маготина и немало удивилась, увидев искусно сплетенные сети; это не могло быть простым делом человеческих рук.
— Как! И вам достанет нахальства утверждать, что вы сами сплели эти сети?
— При вашем дворе у меня нет друзей, — отвечала ей королева, — и меня хорошо заперли, так что вряд ли кто и поговорить бы со мной мог без вашего позволения.
— Ну, раз вы такая ловкая да искусная, то должны пригодиться мне в моем королевстве.
Она тут же приказала всем марионеткам готовить корабли и отплывать, королеву же велела приковать толстой железной цепью, чтобы та в отчаянии не бросилась в море. И вот несчастная принцесса всю ночь оплакивала свою горькую долю, как вдруг в свете звезд увидела Зеленого Змея, который бесшумно подплывал к кораблю.
— Я все боюсь испугать вас, — сказал он ей, — ведь, даже и не заслужив ни любви, ни почтения, вы все же мне бесконечно дороги!
— Сможете ли вы простить мое неуместное любопытство, — спросила она, — и могу ли я сказать, не огорчив вас:
То вы ли, милый Змей, то вы ли,
мой супруг,
Того ли вижу я, по ком я все вздыхала?
Вас вижу ль наконец, о мой желанный друг?
О, небо! Как же я страдала!
Страдала я, увы,
Когда исчезли вы!
Змей отвечал ей следующими стихами:
Чем только боль разлуки
Сердец влюбленных ни гнетет,
В краю, где страх живет,
Где боги-мстители готовят людям муки,
Никто страданья горше не найдет,
Чем только боль разлуки.
Многие феи позволяют себе иной раз соснуть; но не такова была Маготина — желание творить зло заставляло ее бодрствовать непрерывно, и вот она явилась и тут, подобно фурии.
— Эге! Эге! Да вы тут рифмуете! Жалуетесь, стало быть, на свою долю в высокопарных виршах? И то сказать, мне это очень кстати. Моя лучшая подруга Прозерпина[216] как раз просила меня прислать ей какого-нибудь поэта — не то, чтобы ей их не хватало, да вот хочется еще. Итак, Зеленый Змей, в довершение вашего испытания, приказываю вам отправиться в обитель мрака и передать от меня привет милой Прозерпине.
Несчастный Змей горестно зашипел и тут же отправился в путь, а королева осталась в глубокой скорби и, решив, что терять ей больше нечего, вскричала вне себя от горя и гнева:
— Чем насолили мы тебе, о жестокая Маготина! Твое адское проклятие отняло у меня красоту и превратило в уродину, стоило мне лишь появиться на свет — не посмеешь же ты сказать, что я, в те времена дитя еще несмышленое, себя не сознающее, в чем-то перед тобою провинилась? Без сомнения, и тот несчастный король, которого ты только что отправила в Ад, столь же невинен перед тобою, как и я. Что ж, доверши свое черное дело и убей меня — вот единственная милость, которой я прошу у тебя!
— Слишком многого ты хочешь, — ответствовала ей Маготина. — Хорошо было бы для тебя, если бы я сразу исполнила твою просьбу, однако прежде тебе придется вычерпать Бездонный Источник.
Как только корабли прибыли в королевство марионеток, жестокая фея привязала королеве на шею мельничный жернов и приказала ей подниматься на вершину горы, что вздымалась выше облаков. Там ей предстояло нарвать полную корзину клевера о четырех лепестках, а потом спуститься в долину и набрать в треснувший кувшин столько Воды Скромности, чтобы хватило наполнить ею большую Маготинину кружку. Отвечала королева, что никак ей этого не суметь, ибо жернов вдвое тяжелее ее самой, а треснувший кувшин воды не удержит, так что нечего и пробовать.
— А не сделаешь, — пригрозила тогда Маготина, — попомни мое слово, твоему Змею не поздоровится.
Это так испугало королеву, что та уж было стала подыматься, но — увы! — все было бы без толку, не явись на помощь ей фея Заступница, которую она призывала.
— Вас настигла справедливая расплата за ваше роковое любопытство, — промолвила она, — и осталось вам пенять на саму себя за то бедственное положение, в какое повергла вас Маготина.
Тут же она перенесла королеву на вершину горы и наполнила ее корзину клевером о четырех листах, прямо под носом у свирепых чудовищ — те из кожи вон лезли, чтобы ей помешать; однако фея Заступница коснулась их своей волшебной палочкой, и они стали кротки, как овечки.
Никаких благодарностей она и слушать не пожелала — так спешила довершить свои благодеяния. Дав королеве тележку, запряженную двумя белыми канарейками, умевшими замечательно разговаривать и щебетать, она наказала ей сойти с горы, запустить своими железными башмаками в великанов с дубинами, охранявших источник, чтобы те пали без чувств, потом отдать кувшин канарейкам, а уж они найдут способ наполнить его Водой Скромности; получив эту воду, пусть тотчас омоет ею лицо и сделается первой красавицей на свете; фея также посоветовала ей не задерживаться у источника и не подниматься снова на гору, а остановиться в маленькой приятной рощице, которая попадется ей по дороге, — там она может оставаться целых три года: ведь Маготина будет думать, что она до сих пор все черпает воду разбитым кувшином или что тяготы странствия свели ее в могилу.
Королева облобызала колени феи Заступницы, сто раз поблагодарив ее за все ее благодеяния.
— Но, сударыня, — добавила она, — все, чем я вам обязана, и даже обещанная вами красота не будут мне в радость до тех пор, пока мой заколдованный змей не расколдуется.
— Это произойдет, — сказала ей фея, — после того, как вы три года пробудете в роще под горой, а по возвращении отдадите Маготине воду в разбитом кувшине и клевер о четырех лепестках.
Королева пообещала ей ничего не упустить из ее предписаний.
— Однако же, сударыня, неужто я три года не буду иметь известий о короле Змее? — спросила она.
— Вас следовало бы на всю оставшуюся жизнь лишить известий о нем, — отвечала фея, — ибо что может быть ужаснее, чем заставить несчастного короля сызнова начать свое испытание! Что же вы натворили?
Королева ничего не ответила, и только слезы, струившиеся из глаз ее, говорили о глубине ее скорби. Она уселась в маленькую тележку, и пташки-канарейки отвезли ее в долину, где великаны стерегли Источник Скромности. Она ловко запустила своими железными башмаками им в головы; рухнув, исполины остались лежать как безжизненные колоссы. Канарейки же, овладев кувшином, заклеили его так ловко, что он стал как новенький. Название же воды побудило королеву попробовать ее.
«Это придаст мне осторожности, — подумала она, — и сделает скромнее, чем прежде. Увы! Будь я наделена этими добродетелями, я была бы сейчас в королевстве Китайских Болванчиков!» Напившись вдоволь этой воды, она вымыла ею лицо и стала такой красивой и пригожей, что походила теперь не на смертную, а на богиню.
Тут явилась ей снова фея Заступница.
— Как нравится мне ваш поступок, — сказала она, — ведь вы знали, что эта вода украсит не только ваше тело, но и душу. Я же испытывала вас, дав вам сей выбор: и вот вы выбрали душу, и я хвалю вас за это: срок вашего наказания теперь сокращен на четыре года.
— Не стоит отвращать от меня моих бед — я заслужила их все; только избавьте от них Зеленого Змея, ведь он-то страдает без вины.
— Я сделаю все, что могу, — сказала фея, обнимая ее. — Но уж раз вы теперь так красивы, то и называться Дурнушкой вам больше не к лицу; будьте же теперь королевой Скромницей. — С этими словами фея исчезла, оставив ей пару маленьких башмачков, очень красивых и так искусно вышитых, что их даже жалко было надевать.
Когда она снова уселась в тележку, держа в руках кувшин с водой, канарейки повезли ее в рощу под горой. Не бывало на свете места приятнее: мирты и померанцы тут сплетали ветви в закрытые от ярких солнечных лучей аллеи и беседки; родники и протекавшие повсюду ручейки освежали эти прекрасные поляны. Но самым необыкновенным было то, что все животные здесь разговаривали; они с чрезвычайным радушием приняли маленьких канареек.
— А мы-то думали, что вы нас покинули, — говорили им.
— Время нашего испытания еще не истекло, — отвечали канарейки. — Однако вот королева, которую фея Заступница приказала нам доставить сюда, будьте же любезны всячески ее развлечь.
Тотчас животные всех видов и мастей, окружив ее, наговорили ей множество ласковых слов.
— Вы будете нашей владычицей, — говорили ей, — нет таких забот и почестей, которых мы вам не окажем.
— Где я, — воскликнула королева, — и каким таким чудом получается, что вы со мной разговариваете?
Один летун-канарейка, который все время порхал вокруг нее, шепнул ей на ухо:
— Да будет вам известно, сударыня, что несколько фей, отправившись странствовать, весьма огорчились, увидев, сколь порочно живут люди. Поначалу они думали, что этих несчастных можно образумить и исправить мудрыми увещеваниями, однако все труды их оказались напрасны. И вот, в крайнем разочаровании, они назначили людям покаяние: несносных болтунов превратили в попугаев, сорок и кур; любовников и любовниц — в голубков, воробьев, канареек и собачек; тех, кто насмехался над своими друзьями, — в обезьян; обжор и чревоугодников — в свиней; гневливцев — во львов; в конце концов число кающихся стало так велико, что они заполнили весь этот лес, так что здесь вы найдете характеры самые что ни на есть разнообразнейшие.
— Из всего сказанного я могу заключить, милая маленькая канарейка, — сказала ему королева, — что вы наказаны за то, что слишком любили.
— Это так, сударыня, — отвечал летун-кенар, — я сын одного испанского гранда[217], а любовь в нашем краю властвует столь безраздельно, что сопротивляться ей — преступление, граничащее с мятежом. При дворе явился один английский посол. У него была дочь необычайной красоты, но надменная и желчная до несносности. Несмотря на это, я увлекся ею, я любил ее, обожал. Она же то казалась чувствительной к моим исканиям, а то вдруг отвергала меня так жестоко, что почти вывела из себя. Однажды меня, уже доведенного до отчаяния, попрекнула моею слабостью одна почтенная старушка, но меня не заставили одуматься никакие ее увещевания. Тогда она рассердилась не на шутку и сказала: «Превращаю тебя в канарейку на три года, а твою возлюбленную в осу». Я тут же почувствовал это необыкновенное превращение; как ни горько мне было, я все же полетел в сад послании-ка узнать, что сталось с его дочерью. Едва лишь прилетев туда, я увидел ее — в виде огромной осы, жужжавшей вчетверо громче любой другой. Я порхал вокруг нее с настойчивостью влюбленного, которого ничто не в силах оторвать от предмета его обожания; в ответ она несколько раз попыталась меня ужалить.
«Вы желаете моей смерти, прелестная оса? — спросил я. — Вам не потребуется жала; лишь прикажите — и я умру». — Оса же, ничего не ответив, накинулась на цветы, обратив на них, несчастных, весь свой дурной нрав.
Подавленный ее презрением и собственным жалким положением, я летел, не разбирая дороги. Наконец я достиг прекраснейшего в мире города, который зовут Парижем. Я так устал, что немедля спустился на кроны больших деревьев, окруженных оградою. Сам не знаю как, я оказался вдруг в большой зеленой клетке, украшенной золотом. Комнаты были обставлены с удивительным великолепием. Вдруг вошла юная красавица и принялась ласкать меня, так мило со мною беседуя, что я был очарован. Находясь в ее комнате, я вскоре узнал ее сердечную тайну: к ней часто заходил эдакий фанфарон, вечно разъяренный и недовольный всем на свете, — он не только осыпал ее незаслуженными упреками, но и бил так, что она замертво падала на руки своих камеристок. Мне горько было видеть ее страдания, особенно же меня огорчало, что побои, которыми варвар награждал ее, лишь с новой силой пробуждали нежность в этой милой женщине.
Я денно и нощно мечтал, чтобы те же феи, что превратили меня в канарейку, явились и навели порядок в этой несуразной любви. Мои желания исполнились, и феи вдруг появились в ее спальне как раз в тот момент, когда ее неистовый любовник приступил к обычным забавам. Они осыпали его упреками и приговорили пожить в волчьей шкуре, долготерпеливую же даму, покорно сносившую побои, превратили в овечку и обоих отправили в рощу под горой. А я взял и улетел. Мне хотелось посмотреть все европейские дворы. Я прилетел в Италию и случайно попал в дом к одному крестьянину, которому часто приходилось отлучаться в город, а он был очень ревнив и, не желая позволять жене ни с кем видеться, на весь день запирал ее на ключ, так что мне выпала честь забавлять эту прекрасную узницу. Да вот только у нее были иные заботы, кроме как со мной болтать. Один сосед, давно ее любивший, спускался к ней по вечерам через печную трубу; он вылезал оттуда черный как черт[218]. Ключи, которые так берег ревнивец, лишь усыпляли его же бдительность. Я же все время боялся, как бы не случилось чего ужасного, но тут сквозь замочную скважину явились феи, чем немало удивили нежную парочку. «Ступайте на покаяние, — сказали они любовникам, касаясь их волшебными палочками, — трубочист пусть станет белкой, а дама, столь преловкая, — обезьянкой; и пускай муж ее, коль скоро ему так нравится стеречь ключи от дома, на десять лет превратится в дога».
— Мне пришлось бы слишком злоупотребить вашим вниманием, — прибавил летун-канарейка, — вздумай я рассказать вам обо всех моих приключениях. Я довольно часто прилетаю в рощу под горой и всякий раз встречаю там новых животных, ибо феи все еще странствуют, а люди по-прежнему огорчают их нескончаемыми дурными поступками. Однако вы еще успеете вдоволь наслушаться о приключениях тех, кто здесь кается.
И вправду нашлось немало желающих поведать королеве историю своей жизни, если будет у нее на то охота; однако она, поблагодарив весьма учтиво, решила лучше поискать уединенного местечка, ибо ее больше клонило к мечтам, нежели к беседам. Стоило ей лишь об этом намекнуть, как тут же вырос небольшой дворец, где ей были поданы утонченнейшие яства, — все это были лишь фрукты, но фрукты редчайшие; подносили их птицы, коих в этой роще было в избытке, и она ни в чем не нуждалась. Бывали там и праздники, притом самые необычайные: можно было увидеть и льва, пляшущего с ягненком, и медведя, нашептывающего нежности голубкам, и змей, ласково беседовавших с коноплянками. Случалось и бабочке любезничать с пантерой. Ведь за обликом здесь скрывалась совсем иная сущность, ибо никто из них не был взаправду тигром или барашком, — все это были люди, которых феи хотели отучить от их недостатков.
Все они просто обожали королеву Скромницу, обо всем спрашивая ее мнения, так что она безраздельно властвовала в этом маленьком государстве и, если бы не обвиняла себя неустанно во всех бедствиях Зеленого Змея, то уж свои-то, вооружась терпением, вынесла бы легко; но, стоило ей подумать о том, как страдает он, как она снова принималась корить себя за непростительное любопытство. Вот пришло время покинуть рощу под горой; она призвала своих маленьких провожатых, верных канареек, и те заверили ее, что все готово к благополучному возвращению. В дорогу она пустилась ночью, чтобы избежать долгих проводов и обойтись без слез, ибо ее весьма тронули те дружба и почтение, коими все эти разумные твари ее одаривали.
Она не забыла прихватить и кувшин с Водой Скромности, и корзину с клевером о четырех листах, и железные башмаки; и вот, когда Маготина считала ее давно умершей, она вдруг явилась перед ней, с жерновом на шее, в железных башмаках и с кувшином в руках. Увидев ее, фея громко вскрикнула и спросила, откуда она взялась.
— Сударыня, — отвечала ей королева, — я три года черпала воду разбитым кувшином, но вот наконец сумела сделать так, чтобы она не вытекала.
Маготина расхохоталась, вообразив, как, должно быть, устала эта несчастная королева, однако, наконец-то разглядев ее, вскричала:
— Как так! Дурнушка похорошела! Где это вы взяли такую красоту?
Королева рассказала ей, что это чудо свершилось, едва она умылась Водой Скромности. Тут Маготина с досады хватила кувшином оземь.
— Ну, у меня еще хватит могущества, чтоб отомстить, — вскричала она, — отправляйтесь-ка вы в этих железных башмаках прямо в Ад да попросите для меня у Прозерпины Эликсир Долгой Жизни[219], а то я все боюсь заболеть и даже, чего доброго, умереть. Когда у меня будет это снадобье, мне уже нечего будет опасаться. Посему остерегайтесь открывать бутылку, не смейте даже пригубить напитка, который она вам даст, — все это только для меня.
Приказ привел несчастную королеву в необычайное замешательство.
— Но как же попадают в Ад, — спросила она, — и можно ли вернуться оттуда? Увы, сударыня! Неужто вам никогда не надоест мучить меня? Под какой такой несчастной звездой я родилась? И отчего моя сестра много счастливее меня, — а еще говорят, что созвездия ко всем равно справедливы!
Она расплакалась, а торжествующая Маготина лишь расхохоталась.
— Ну же, пошевеливайтесь! — кричала она. — Ни на минуту нельзя откладывать путешествия, венцом которого будет столь прекрасный дар!
Она дала ей торбу со старыми орехами и заплесневелым хлебом, и королева отправилась в путь, решив разом прекратить все свои страдания, разбив себе голову о первую же скалу.
Она все шла и шла неведомо куда, без дороги, и думала, что странное это было поручение — послать ее в Ад. Наконец, совсем выбившись из сил, улеглась под деревом и принялась мечтать о несчастном Змее, уже более не думая о своем странствии. Но вдруг появилась фея Заступница и сказала ей:
— Знаете ли вы, прекрасная королева, что вашего супруга удерживают в обиталище тьмы по приказу Маготины, и, чтоб его освободить, вам надлежит спуститься к Прозерпине?
— Я пошла бы и дальше, будь оно возможно, — отвечала она, — но мне неведомо, где спускаются в эту мрачную обитель.
— Возьмите эту зеленую ветвь, — сказала фея Заступница, — ударьте ею оземь и громко произнесите…
И королева, упав к ногам своей великодушной подруги, произнесла:
Ты, перед кем и сам Зевес[220] склониться рад,
Амур, приди, подай подмогу
И мне ты облегчи дорогу,
Страданий полную и горестей души!
Скорей отверзни путь мне в Ад
И в подземелии свой пламень не туши,
Любовью ведь и там сердца горят,
Любил и сам Плутон[221]; открой же путь мне в Ад.
Томится здесь супруг, любимый беспредельно,
А жизнь моя — чреда сплошных невзгод.
Ах, боль моя смертельна,
А смерть ко мне нейдет.
Едва она закончила молитву, как из лазурного облачка с позолотой по краям слетел прямо к ней маленький мальчик, такой красивый, каких мы с вами и не видывали; голову его украшал венок из цветов. По луку и стрелам королева догадалась, что это сам Амур. И он сказал ей:
Услышав ваши воздыханья,
Спустился я с небес,
Чтоб слезы ваших осушить очес,
Чтоб ваши прекратить страданья.
Увидитесь вы здесь с предметом обожанья;
Напомним Змею мы, как жизнь сладка,
Тем посрамив его врага.
Королева, пораженная расходившимся от Амура сиянием и воодушевленная его обещаниями, воскликнула:
За вами в самый Ад последовать спешу,
И мрачные края теперь мне будут милы:
Там встречу я того, кого любила;
Я им одним лишь и дышу.
Амур, которому редко случается говорить прозой, трижды стукнул по земле и чудесным голосом пропел следующие строки:
Земля, услышь Любви наказ,
Признай Амура, дай проход
Нам к берегам пустынных вод,
Плутон там встретит нас.
Земля разверзлась, послушно раскрыв широкое лоно. По мрачному пути, где не обойтись без такого светозарного проводника, как тот, кто взял королеву под защиту, она спустилась в Ад. Она боялась встретить там мужа в облике Змея, но Амур, иной раз да помогающий несчастливцам и предвидевший все, заранее приказал, чтоб стал Зеленый Змей таким, каким был до своего испытания. Как ни могущественна Маготина, — ах, право, что она такое против самого Амура? Первым же, кого там встретила королева, был ее милый супруг. Она никогда не видала его столь очаровательным; да ведь и он тоже никогда не видал ее такой красавицей, какой она теперь стала. Но их вело предчувствие, а узнать друг друга помог Амур, который был рядом. Тогда королева сказала голосом, исполненным невыразимой нежности:
Спустилась я сюда судьбе назло.
Пусть держат вас в печальном этом месте,
Мы не расстанемся, мы вечно будем вместе,
И, хоть во мраке смертным тяжело,
Мне с вами и в Аду покажется светло.
Король, вне себя от страсти, не находил слов, чтобы выразить своей супруге восхищение и радость, однако Амур, который не любит терять времени попусту, поторопил их и повел к Прозерпине. Королева передала ей поклон от феи и попросила для нее Эликсир Долгой Жизни. Впрочем, меж этими добрыми кумушками все было обговорено заранее; Прозерпина тут же дала сосуд, нарочно закупоренный так небрежно, что его так и хотелось открыть; однако недремлющий Амур тут же предостерег королеву от любопытства, которое могло оказаться роковым. Тут король и королева поспешили выйти на свет из этих скорбных мест. Амур, не пожелав оставлять их, проводил их к Маготине и, чтобы та не заметила его, спрятался в их сердцах; между тем, от одного лишь его присутствия фея вдруг прониклась таким человеколюбием, что, сама не зная почему, обласкала несчастных супругов. Более того, она проявила необыкновенное великодушие, вернув им королевство Китайских Болванчиков. Король с королевой поспешили вернуться туда и с тех пор жили так счастливо, что забыли обо всех невзгодах, выпавших на их долю.
* * *
От любопытства много людям бед,
Оно виною горестям ужасным;
Коль, тайну приоткрыв, ты можешь
стать несчастным,
То раскрывать ее не след.
Порок сей, женщины и девы,
У вас от прародительницы Евы;
За ней Пандора[222] и Психея вслед
На самый тот секрет польстились,
Что боги скрыть от них стремились, —
За то они хлебнули бед.
Дурнушка Змея разглядеть желала
И наказания не миновала.
Пример Психеи не помог.
Увы! Из древнего сказанья,
Что нам осталось в назиданье,
Никто урока не извлек.
Пер. М. А. Гистер
Дон Фернан Толедский. Окончание

Они входили в Венецианский залив[223], когда вдруг разразилась такая непогода, что им пришлось опасаться за свою жизнь. Мореходы долго противились ветрам, пока наконец не пришлось покориться судьбе; их стремительно отнесло так далеко, что судно оказалось более чем в сотне лье от берега. Едва море начало успокаиваться, как их тут же атаковали две бригантины[224]: то были корабли Зороми, знаменитого корсара[225], снискавшего себе столь громкую славу, что его боятся почти во всех морях. Путников заметили, настигли и взяли на абордаж. Они были захвачены так быстро, что в суматохе после бури даже не успели опомниться и занять оборону. После первого бортового залпа испанский капитан сдался, и наши юные влюбленные, подчинившись суровой необходимости, признали корсара своим господином. Не могу вам описать всю меру их скорби — легко понять ее, но непросто о ней рассказать. Корабль тут же заполнился турками, которые отняли у них все и, главное, лишили их свободы. Между тем, поняв по учтивому обращению с дамами и по роскошным нарядам последних, что перед ними — знатные особы, пираты повели себя почтительно, чего трудно было ожидать от подобных варваров.
Зороми отвел их, вместе с доном Фернаном и доном Хайме, на свой корабль, попытался утешить на франкском наречии[226] Леонору и Матильду и обещал скрасить им горечь плена. В ответ девицы залились слезами, свидетельствовавшими об их безмерном горе. Оба испанских кавалера также прониклись их скорбью, хотя сами были люди мужественные.
Как только Леонора улучила минутку, чтобы поговорить с доном Фернаном, она сказала ему, что считает разумным выдать его за своего брата — ведь неизвестно, как дальше повернется судьба. Она также заверила его, что в случае разлуки скорее расстанется с жизнью, чем изменит ему.
— Ах, сударыня, — воскликнул влюбленный дон Фернан, — о чем вы говорите? Возможно ли, чтобы меня постигла такая беда — оказаться вдали от вас?!
— В положении столь плачевном, как наше, — отвечала она, — все приходится предвидеть, не давая слабины.
— Вы так твердо и спокойно рассуждаете, что я боюсь, как бы это не означало вашего безразличия, — произнес он.
— Как можете вы допускать подобные подозрения? — возразила она, печально глядя на него. — Разве того, что ради вас я покинула отчий дом, недостаточно для доказательства моей к вам горячности?
— Я вовсе не неблагодарен, — отвечал ей дон Фернан, — я всего лишь несчастный, удрученный самыми жестокими ударами Фортуны, какие только могут быть. Итак, простите же мне мое беспокойство: не будь вы мне так дороги, быть может, я бы не был так несправедлив к вам.
Столь нежные чувства немало утешили милую Леонору; поведав же дону Фернану о своих, она ласковыми речами сумела облегчить и его скорбь. Они сговорились подойти к Зороми, чтобы спросить, как он замыслил с ними поступить. Но не успел дон Фернан и рта раскрыть, как гордый корсар приказал ему умолкнуть.
— Этим дамам, — сказал он, — надлежит думать лишь о том, чтобы понравиться Великому Визирю Ахмету, которому я решил подарить их в благодарность за все его многочисленные одолжения, ибо я весьма многим ему обязан.
Увы! Сколь печальной была эта новость для влюбленных, уже надеявшихся вскоре освободиться из рабства!
Когда дон Фернан сообщил об этом Леоноре, весть поразила ее живейшей скорбью, и все же она сочла чрезмерной слабостью целиком отдаться собственным горьким переживаниям, видя, в каком горе ее великодушный возлюбленный; и вот она собрала все свое мужество, чтобы хоть отчасти приглушить боль, а насколько возможно, и скрыть ее. Речи дона Хайме и Матильды были исполнены не меньшего благородства и нежности: они то и дело клялись друг другу в вечной любви, лишь в этом находя единственное утешение.
Ветер был столь благоприятен, что вскоре они уже прибыли в Константинополь. Когда сходили с корабля, Зороми постарался спрятать дам. Их отвели к нему, дав время отдохнуть, чтобы от усталости с дороги не померк блеск их очей и не поблекли свежие краски на лице, потом облачили в турецкие платья из роскошной золотой парчи, связав им руки и ноги оковами из тех самых драгоценных камней, которые у них же и были украдены.
Дон Фернан и дон Хайме тоже были одеты как рабы, в парчовые кафтаны; природная прелесть украшала их больше тех драгоценностей, коими Зороми велел украсить их наряды. В этих непривычных одеждах всех четверых отвезли в загородный дом Великого Визиря, что неподалеку от Константинополя.
Зороми попросил разрешения засвидетельствовать ему почтение. Ахмет принял его любезно, похвалив его рабов за привлекательную наружность и сказав, что никого еще не видал красивее Леоноры. Он очень хорошо говорил по-испански и, глядя на нее ласково и участливо, произнес:
— Сними эти цепи: небо сотворило тебя, чтобы ты сама оковывала ими всех, кто тебя видит.
Леонора, ничего не ответив на комплимент, лишь опустила взор, не сумев сдержать слез.
— Как так! — продолжал Визирь. — Неужели тебе так горько у нас? Уверяю тебя, что здесь ты будешь наделена властью не меньшей, чем у тебя на родине.
— Сеньор, — сказала Леонора, — каких бы милостей вы ни обещали мне столь великодушно в вашем краю, у меня всегда будут причины жаловаться на судьбу, после всех обрушившихся на меня мытарств, однако же я умоляю вас не считать меня неблагодарной. Я ценю вашу доброту, хотя пока и не могу засвидетельствовать вам это с должной чувствительностью. Однако, сеньор, — добавила она, с очаровательной грацией бросаясь к его ногам, — если вы желаете осушить источник моих слез, умоляю вас назвать цену за нашу свободу, чтобы мы смогли вскоре увидеть наших родителей и наше отечество!
— Поскольку эта прелестная девица — твоя сестра, а эти рабы — твои братья, я согласен на то, чего ты просишь для них. Что же касается тебя, позволь мне еще немного подумать.
Из этого ответа все поняли, что Ахмет возвращает им свободу лишь затем, чтобы разлучить их с Леонорой; потому они, решившиеся по возможности не расставаться, весьма почтительно возразили Визирю:
— Сеньор, мы были бы недостойны оказываемой вами милости, не постарайся мы заслужить ее, прежде чем ею воспользоваться. Поэтому мы умоляем вас позволить нам остаться в числе ваших рабов еще некоторое время, чтобы хоть отчасти показать вам всю меру нашей благодарности.
Ахмет согласился и, объявив корсару, что никогда не забудет бесценного подарка, который тот ему сделал, приказал отвести Леонору и Матильду на женскую половину.
В этом доме, предназначенном для утех, содержались самые прелестные в мире особы. Никто на свете не вел столь сладостной жизни, как Ахмет. Он стал Великим Визирем в том возрасте, когда иные едва лишь входят в фавор. Груз государственных дел не лишал его времени для удовольствий, а удовольствия не отвлекали от исполнения долга. Он был красив, хорошо сложен и настолько учтив, насколько это возможно в стране, где мало знакомы с утонченным воспитанием; впрочем, он ведь и научился всему этому не в Константинополе, а бывая при других дворах, и, если бы ему удалось пожить там подольше, не было бы во всем мире человека благороднее и обходительнее.
Он поселил двух испанок в удивительно красивых и роскошных покоях; каждый день навещал Леонору и был с ней весьма любезен. Он присылал ей подарки огромной ценности, и старания, прилагаемые им, чтобы понравиться ей, вполне ясно говорили прелестной девице, что впереди у нее немало страшных боев и он не будет долго ждать милостей, которых может потребовать на правах хозяина. Она иной раз говорила ему, что радости, получаемые таким образом, всегда смешаны с тоскою, что сердце может отдаться по привязанности, но никогда по принуждению, а когда он принимался ее торопить, умоляла его предоставить ей достаточно свободы, дабы убедить себя, что не его власти, но его нежности отдает она свою дружбу. Он нашел это предложение весьма тонким и обещал ей, что не осмелится пренебречь ничем, чтобы угодить ей.
С Матильдой он вел себя почтительно: дарил ей множество подарков, стараясь склонить на свою сторону. Что же касается дона Фернана и дона Хайме, то он скрашивал их горестное рабство с такими великодушием и обходительностью, что они скорее казались его друзьями, нежели рабами. Но увы! Тяжела была такая жизнь для дона Фернана, лишенного возможности видеться со своей возлюбленной и знавшего, что она находится во власти могущественного и влюбленного соперника: какие же тревоги и страхи ежечасно терзали его душу! Он боялся, как бы она не проявила слабости, свойственной ее полу, его страшило всевластие визиря; положение было поистине плачевно. Дон Хайме, у которого было не меньше причин беспокоиться за свою Матильду, утешал его, пытаясь смягчить муки, терзавшие друга. Леонора же ловко оттягивала срок, положенный Ахметом для того, чтобы она дала ему свою клятву, а он ей — свою. Имея все основания радоваться своей выдумке, она все чаще грустила; печаль эта была виной тому, что, несмотря на все дипломатические приемы, коими ей пришлось вооружиться, и на то, что ей подобало угождать визирю, она нередко огорчала его, а он иной раз бывал с ней резок или нетерпелив — все это предвещало ужасное будущее. Наконец он потребовал ее решения, сказав ей:
— Я поступлю с вами не так, как поступил бы другой; я хочу жениться на вас и сделать вас счастливой, так подумайте же хорошенько о том, что мне ответить, когда я приду в следующий раз.
Леонора огорчилась и задумалась. Как только он вышел от нее, к ней зашла Матильда; увидев слезы, ручьем струившиеся из глаз сестры, она уговорила ее рассказать, каковы новые причины ее горести. Леонора рассказала ей о происшедшем, а затем с большой нежностью заговорила о доне Фернане, как вдруг заметила, что визирь подслушивает у потайного выхода из ее комнаты. Желая узнать, о чем разговаривают сестры, он вот уже несколько дней прятался то тут, то там в ее покоях.
Леонора сделала вид, что не видит его, и продолжала, обращаясь к Матильде:
— Я чувствую, что, будь только верен мне дон Фернан, — и я не смогла бы пренебречь клятвами, которые мы дали друг другу, сохранив для него мое сердце, хотя бы и ценою жизни, и наша разлука не изменила бы моего решения; однако неблагодарный отказался от меня, — вы ведь знаете, сестрица, как недостойно он повел себя; вот я и решилась забыть его ради моего блага; полагаю даже, что говорю с вами о нем в последний раз.
Визирь удалился — трудно выразить степень его волнения. Он не мог удержаться и поговорил с Матильдой; та отвечала на его расспросы разумно и ловко. Леонора узнала от нее об этом разговоре и, поскольку она была вынуждена управлять мыслями поклонника, бывшего одновременно и ее господином, послала просить его прийти к ней. Ему бы не ходить к ней более — но как бежать того, кого любить? Тут и герои бессильны, подобно всем остальным смертным.
Он явился к Леоноре; в его взгляде она прочитала терзавшую его печаль.
— Не сердитесь на мое сердце, — сказала она ему, — оно было отдано другому, когда еще не знало вас; теперь вам известно это — как и то, что неверный, который меня любил, больше меня не любит. У вас был соперник, сударь; теперь его больше нет и, если вы дадите мне немного времени, чтобы горе мое утихло, я могу обещать вам всю признательность, какая только подобает вашей доброте.
— Признаю, — отвечал он ей, — что и моя любовь, и моя скромность были задеты, когда я узнал, что в твоем сердце у меня есть соперник. Твое равнодушие не удивляло меня, я винил в нем твою юность и многого надеялся достигнуть моей предупредительностью. Меня даже подзадоривала сладостная надежда оказаться первым, кто пробудит твое сердце для дружбы и нежности. Но, жестокая, я уже знаю, какая беда постигла меня; напрасно ты утешаешь меня — увы, мне уже не на что надеяться!
Договорив, он взглянул на Леонору, надеясь прочитать в ее глазах успокоение своим тревогам; она посмотрела на него благосклонно, что обрадовало его не меньше, чем все ее приятные речи. Леоноре это было на руку: она замышляла побег и предпринимала все возможное, чтобы, выиграв время, воспользоваться первым же случаем, который благосклонная Фортуна и впрямь даровала ей.
Великий султан возвращался в Константинополь, визирю же предстояло сопровождать его; Леонора не отличалась крепким здоровьем, поэтому он не хотел подвергать ее тяготам поездки. Когда он уже собирался уезжать, то вошел к ней и сказал:
— Я оставляю тебя, прекрасная Леонора, лишь на несколько дней, — и все же мне кажется, что я вырываю часть самого себя и, чтобы решиться уехать, мне необходимо еще раз услышать твои клятвы. Увы! Что будет со мной, если ты нарушишь их! Что я буду делать, если потеряю тебя?! О, боги!.. — Он умолк и погрузился в глубокую задумчивость. Леонора дрожала при мысли, что ее замысел, быть может, сейчас будет раскрыт. Но визирь продолжал. — О нет, уйдите, страхи и пустые тревоги, — воскликнул он, — я не слушаю вас: Леонора обещала мне свою нежность!
Тут она перебила его:
— Да, сеньор, — она всецело ваша, и я была бы недостойна жить на свете, если бы ответила равнодушием на ваши чувства; поезжайте же, куда зовет вас долг, но служите ему не столь ревностно, чтобы он мог надолго задержать вас.
Ахмет, глубоко тронутый услышанным, страстно поклялся ей в вечной любви, однако попрощался с нею так трогательно, что можно было подумать, будто его терзают какие-то горькие предчувствия.
Дон Фернан и дон Хайме знали о замысле своих возлюбленных и сумели воплотить его в жизнь: они нашли корабль и сообщили об этом девушкам. У Леоноры с сестрой были рабыни-христианки, беззаветно им преданные; по их сигналу сераль подожгли в нескольких местах, и в суматохе, всегда сопутствующей происшествиям подобного рода, испанским кавалерам легко удалось пробраться на женскую половину и спасти Леонору и Матильду, увезя с собою и самых верных из рабынь. Дворец, в котором их держали, стоял на берегу моря; беспрепятственно добравшись до корабля на поджидавших их шлюпках, наши нежные любовники тут же снялись с якоря, подняли паруса, и вот уже вкушают счастье снова оказаться вместе: они свободны, они наверху блаженства.
Поднялся попутный ветер, и корабль быстро принес их в Венецианский залив; никогда еще не бывало путешествия приятнее и счастливее. Леонора с сестрой собирались сразу по прибытии отправиться в монастырь и ждать там, пока дон Фернан и дон Хайме получат от графа Фуэнтеса и маркиза Толедского разрешение на их брак. Однако, поразмыслив сообща, все вместе решили, что медлить нельзя, иначе их родные могут воспротивиться; между тем, если дело будет уже решено, они погневаются немного и успокоятся. Кавалеры были счастливы, когда возлюбленные решились принять их предложение. Прекраснейшие драгоценности, подаренные Леоноре визирем, остались у них, так что они смогли позволить себе экипаж и наряды, подобающие особам столь высокого происхождения.
Между тем старый маркиз Толедский, едва лишь узнав о похищении Леоноры, немедленно пустился в погоню. Граф Фуэнтес, чьи интересы тут также были затронуты, поехал вместе с ним; они предприняли все, чтобы настигнуть юных беглецов, но те, пока их искали в одном месте, сбежали из другого.
Как ни чувствительно все это задевало графа Фуэнтеса, а все же ни в какое сравнение не шло с живейшим горем маркиза Толедского — тот и впрямь пылал страстью к Леоноре и собирался оставить своего сына без наследства и титула. Но вот он слег, измученный всеми треволнениями последних дней, не в силах более предаваться поискам. Врачи нашли его состояние столь опасным, что предупредили его об этом; все друзья его сына старались утешить его, присылая ему письма, полные почтения и сострадания. Наконец близость смерти успокоила его страсти, и он простил дона Фернана. Граф Фуэнтес был столь же добр к своим дочерям: что же еще ему оставалось? Они были замужем; и, займись даже все семейство поисками лучшей партии, ее было бы не сыскать. Маркиз Толедский страдал недолго; дон Фернан воздал его памяти подобающие почести. Он и дон Хайме вернулись в Кадис вместе с супругами, которых все нашли похорошевшими, ведь радость душевная — прекрасное украшение. Дон Франсиско продолжал оказывать им услуги, и более великодушного родича нельзя было бы найти во всем свете. Дон Хайме, полный признательности, спросил однажды, не даст ли тот ему возможность как-нибудь воздать за добро.
— Вам легко это сделать, — отвечал ему дон Франсиско, — отдайте за меня вашу прелестную сестру, я давно уже обожаю ее, а она терпит это не гневаясь; без вашего же согласия нам не быть счастливыми.
Дон Хайме обнял его, горячо уверяя в самой искренней дружбе.
— Мне жаль, — ласково попенял он другу, — что вы держали в секрете от меня страсть, в которой я мог бы стать вашим союзником; моя сестра не будет принадлежать никому, кроме вас; я объявлю ей об этом, и вам не на что будет жаловаться.
Трудно передать восторг дона Франсиско; он благодарил друга в самых трогательных выражениях. Они вместе отправились к сестре дона Хайме, в монастырь, где она воспитывалась. Наделенная не менее страстной душою, чем ее поклонник, она хотя и пыталась скрыть свои чувства, но дон Хайме без труда разгадал их. Он забрал ее из святой обители и сыграл в своем доме свадьбу со всем возможным великолепием. Так благополучно разрешилась судьба троих влюбленных и их возлюбленных. Немногие могут похвалиться подобным счастьем.
Пер. М. А. Гистер
НОВЫЕ СКАЗКИ, ИЛИ МОДНЫЕ ФЕИ
ТОМ ПЕРВЫЙ
Принцесса Карпийон[227]

— Я единственный сын короля, — говорил он, — и потому одни меня любят, а другие боятся. Но если у молодой королевы будут дети, отец, в чьей власти распоряжаться королевством по своему усмотрению, не посмотрит на то, что я старший, и лишит меня права наследования, передав его им.
Был он честолюбив, злобен и скрытен и потому, никоим образом не выказывая беспокойства, тайно обратился за советом к одной фее, о которой говорили, будто она самая хитроумная на свете.
Едва он явился к ней, фея угадала, кто он и зачем пришел.
— Принц Горбун, — молвила она (ибо так его называли), — вы опоздали, потому как у королевы будет сын и я не хочу причинять ему зла. Но если он умрет или что другое с ним случится, я обещаю помешать ей иметь других детей.
Это немного ободрило Горбуна, и, уходя, он попросил фею не забывать о данном слове, а сам уже придумал, как навредить младшему брату, едва тот успеет родиться.
Спустя девять месяцев королева разрешилась сыном несравненной красоты. Велико было удивление, когда заметили на плече у него родимое пятно в форме стрелы. Королева души не чаяла в мальчике и решила сама вскормить его[228], что весьма раздосадовало принца Горбуна, ибо матери куда бдительнее кормилиц и усыпить их внимание много сложнее.
Однако Горбун, ни на минуту не забывавший о своем коварном плане, всячески старался показать, что предан королеве и нежно любит новорожденного принца, чему король не мог нарадоваться.
— Я и представить себе не мог, — говорил он, — как добр может быть мой сын. Если он будет таким и впредь, я оставлю ему часть королевства.
Однако таких обещаний Горбуну было недостаточно: он хотел все или ничего — и вот однажды вечером угостил королеву сладостями, пропитанными опием. Она уснула, и принц, прятавшийся за гобеленом, осторожно забрал маленького брата из колыбели, положив вместо него большущего кота, запеленатого как младенец, чтобы няньки не заметили пропажи. Кот громко замяукал, няньки принялись убаюкивать его, но плач не стихал, а, напротив, становился все громче. Подумав, что младенец голоден, они разбудили королеву. Та, еще сонная, думая, что держит на руках своего малыша, принялась кормить его. Тут злой кот укусил ее. Громко вскрикнув, она посмотрела на ребенка. Что сталось с ней, когда она увидела кошачью морду вместо личика своего дитяти? Королеву поразила столь сильная боль, что она чуть было не упала замертво. Крики ее фрейлин разбудили весь дворец. Король, накинув халат, поспешил в покои жены. Первым, кого увидел он, был кот, закутанный в пеленки его сына, сшитые из золотой парчи. Кота швырнули на пол, и он пронзительно мяукал. Король, не на шутку встревожившись, спросил, что сие означает; ему ответили, что маленький принц непостижимым образом исчез, и его нигде не могут найти, а королева невыносимо страдает. Король вошел в опочивальню жены, где нашел ее в неописуемой печали; тут он скрепя сердце, не желая удваивать ее муки прибавлением еще и своих собственных, принялся утешать несчастную.
Тем временем Горбун отдал маленького брата в руки одного из доверенных людей.
— Отнеси его в дальний лес, — приказал он, — и оставь нагого там, где его быстрее всего найдут дикие звери. Пусть они сожрут его, чтобы мы больше никогда о нем не услышали. Я бы и сам отнес его, ибо опасаюсь, что ты не исполнишь в точности мое указание, да мне нужно предстать перед королем. Ступай же и знай, что, если доведется мне стать правителем, я тебя не забуду.
Горбун сам положил несчастного младенца в крытую корзину. Ребенок, привыкший к его ласкам, заулыбался, узнав его, но безжалостный принц остался бесстрастен как скала. Он немедля направился в покои королевы, объяснив, что поспешил и потому пришел полуодетым; тер глаза, как будто только что проснулся, а узнав дурные вести о несчастье, постигшем его мачеху — о похищении принца, и увидев запеленатого кота, разрыдался так горестно, что все бросились утешать и его, словно он и вправду был невыразимо опечален. Кончилось тем, что, подняв с пола кота, он с привычной жестокостью свернул ему шею, во всеуслышание заявив, что зверюге так и надо — ведь он укусил королеву.
Никто ничего не заподозрил, хотя злоба его давала для того повод; так преступление свое удалось ему сокрыть за притворными слезами. Король и королева были благодарны этому негодяю и поручили ему разузнать у всех фей, что могло статься с их ребенком. Горбун же, которому было не до подобных изысканий, отделывался разными и уклончивыми ответами, из коих следовало, что принц жив и похитили его лишь на время по причинам необъяснимым, но обязательно вернут невредимым, так что поиски следует прекратить, ибо это лишь напрасный труд. Он рассудил, что волнение вскоре утихнет. Так и случилось. Король с королевой льстили себя надеждой однажды вновь увидеть сына. Тем временем рана, нанесенная королеве кошачьими зубами, так воспалилась, что стоила ей жизни. Король, безутешный от горя, целый год не покидал дворец: он все ждал вестей о сыне, но тщетно.
Слуга же, уносивший мальчика, шел всю ночь напролет. При первых проблесках зари он открыл корзину, и милый младенец улыбнулся ему, как привык улыбаться королеве, когда та брала его на руки.
— Несчастный маленький принц, — молвил он тогда, — как жестока судьба твоя! Увы! Ты, о беспомощный агнец, будешь съеден голодным львом. Почему именно мне выпала участь исполнить приказ Горбуна?
И он закрыл корзину, чтобы не видеть больше того, кто так заслуживал сострадания. Но младенец, проголодавшийся за ночь, надрывался от плача. Тогда слуга собрал немного инжира и накормил его. Сладость плода немного успокоила ребенка, и вот слуга вновь пошел вперед и нес корзину до темноты, пока не вступил в огромный густой лес. Идти ночью в чащу ему было страшно — ведь его и самого могли сожрать звери, поэтому он углубился в лес лишь наутро, все так же не выпуская корзину из рук.
Чаща была такой густой, что, куда взор ни кинь, не увидишь никакого просвета. Но вот он заметил скалистую гряду, скрытую за деревьями.
— Вот тут, должно быть, — молвил он, — и есть обиталище самых хищных диких зверей. Придется оставить младенца здесь, ибо не в моих силах его спасти.
Он приблизился к скалам, и в тот же миг, откуда ни возьмись, появилась необычайно огромная орлица; она парила над вершинами, описывая круги, словно оставила здесь нечто весьма ей дорогое, — а были то ее птенцы, которых она вскармливала в скалистом рву.
— Бедное дитя, ты станешь добычей этих хищных птиц, царей всех пернатых, — сказал слуга.
С этими словами он распеленал младенца и положил его в гнездо к трем орлятам. Было оно просторным и укрытым от злых ветров, и с большим трудом удалось поднять туда принца, ибо пришлось взбираться по крутому склону над бездонной пропастью. Вздохнув, слуга пошел прочь и, обернувшись, увидел, как орлица стремительно подлетела к гнезду.
— Ох! Вот и все, — сказал он, — ребенок сейчас погибнет.
И поскорее поспешил оттуда, чтобы не слышать криков младенца. А представ перед Горбуном, уверил того, что брата его больше нет в живых.
Получив такие известия, жестокий принц обнял своего верного лакея и подарил ему кольцо, украшенное алмазами, да еще и заверил, что, став королем, назначит его капитаном гвардии.
Меж тем орлица, вернувшись в гнездо, должно быть, изумилась, обнаружив там гостя. Была она удивлена иль нет, но ее гостеприимство во многом превосходило людское. Прижавшись к новому «птенцу», она обняла его крыльями, чтобы согреть. Казалось, все ее заботы теперь лишь о нем. Неведомый инстинкт побудил ее слетать за вкусными плодами. Проклевав в них отверстия, она влила их сок в алый ротик маленького принца. Словом, орлица накормила его не хуже, чем сделала бы его мать-королева.
Когда орлята немного окрепли, орлица стала брать их по очереди с собою в полет, то сажая на спину, то неся в когтях, чтобы они привыкали смотреть на солнце, не отрывая взора[229]. Бывало и так, что орлята уже могли взлетать сами и тогда подолгу кружили над гнездом. Маленький принц же не мог следовать их примеру и, когда орлица поднимала его в воздух, вполне мог упасть и разбиться. Однако судьбою принца владела Фортуна[230] — ведь это она, сперва даровав ему столь необычную кормилицу, теперь оберегала его и от падения.
Так прошли четыре года, за которые орлица рассталась со всеми орлятами. Повзрослев, они улетали и не возвращались больше в гнездо, даже чтобы повидать мать. Принц же так и жил на скале, ибо был еще слишком слаб, чтобы уходить далеко. Осмотрительная орлица, опасаясь, как бы он не упал в пропасть, перенесла его на скалу повыше, в такое отвесное место, куда не могли добраться дикие звери.
Сам Амур[231], коего изображают созданием столь совершенной прелести, — и тот был не красивее маленького принца, чья белоснежная кожа и свежий румянец ничуть не портились от лучей жаркого солнца, а черты лица отличались такой правильностью, какую не могли бы вообразить даже самые выдающиеся художники. Волосы его отросли уже до плеч, а облик стал так прекрасен, что ни в одном ребенке не встречалось еще доселе подобного величия и благородства. Орлица, чрезвычайно его полюбившая, кормила его только плодами, отличая тем от своих орлят, которым давала лишь сырое мясо. Она досаждала всем окрестным пастухам, беспощадно похищая их ягнят. Везде только и говорили, что о ее нападениях на скот. И вот пастухи, которых допекло, что они кормят хищную птицу в ущерб своим стадам, решили отыскать ее гнездо. Разделившись на несколько отрядов, они проследили, куда она полетела, и пошли за ней следом по горам и равнинам. Долго они не могли найти орлицу, но вот наконец как-то раз увидели, что она опустилась на высокую скалу. Самые смелые из преследователей отважились по ней подняться, хоть и было это очень опасно. У орлицы в то время оставалось еще двое маленьких орлят, которых она заботливо кормила. Но как ни дороги они ей были, еще сильнее любила она маленького принца, который прожил у нее намного дольше. Орлицы не было в гнезде, когда до него добрались пастухи, поэтому никто не помешал им разорить его и разграбить все, что они там нашли. Но каково же было их изумление, когда они обнаружили принца! Это выглядело столь невероятно, что они, простаки, лишь дивились да недоумевали.
Когда они забирали ребенка и орлят, и тот и другие подняли такой крик, что услышавшая их орлица прилетела и в отчаянии накинулась на похитителей. Им бы довелось испить полную чашу ее гнева до дна, не убей ее один из пастухов, пустивший стрелу из лука. Маленький принц, невинное дитя природы, увидев, что его кормилица упала, жалобно вскрикнул и заплакал горше прежнего. Пастухи же, добившись своего, возвратились в деревню. На следующий день там должны были исполнить жестокий обряд, о коем речь пойдет далее.
Край тот издавна был пристанищем людоедов. Люди старались хоть как-нибудь оградить себя от такой напасти, но тщетно. Ужасные людоеды, разъяренные людской ненавистью, стали только свирепее и теперь поедали всех без разбору.
Но вот однажды пастухи собрались, чтобы наконец решить, как им противостоять людоедам. Вдруг, откуда ни возьмись, появился человек невиданного роста. Тело его было оленьим, шерсть — синей, ноги — козьи, на плече он держал палицу, а в руке — щит. Он сказал им:
— Пастухи, я Синий Кентавр[232]. Если вы будете отдавать мне каждые три года по ребенку, я обещаю вам привести сюда сотню своих собратьев, и они побьют людоедов и прогонят их.
Пастухи никак не хотели соглашаться на такую жестокую цену, однако самый почтенный из них молвил:
— Полно, други! Неужто нам сподручней терпеть, что людоеды день за днем поедают наших отцов, детей и жен? Отдав одного, мы спасем многих. Примем же предложение кентавра.
Тут уж все согласились и с жаром поклялись кентавру, что отдадут ему ребенка.
Кентавр ушел и вскоре вернулся, сдержав обещание: он привел своих собратьев, таких же чудовищных, как он сам. Однако людоеды оказались столь же смелы, сколь были жестоки. Начались сражения, побеждали в них всегда кентавры и наконец обратили людоедов в бегство. Тогда Синий Кентавр явился требовать награду за свои труды, и, хотя все согласились с его полным правом на это, однако же не нашлось ни одного семейства, готового расстаться со своим чадом. Матери прятали детей только что не под землей. Кентавр, посуровевший, прождав два дня, заявил пастухам, что требует по ребенку за каждый день, что проведет здесь. В конце концов промедление стоило пастухам шестерых мальчиков и стольких же девочек. С тех пор нелегкое это дело стали совершать по установленному порядку, и каждые три года пастухи устраивали торжественное празднество в день, когда приходилось отдавать кентавру несчастное дитя.
Случилось так, что день выплаты дани наступил сразу после того дня, когда принца забрали из орлиного гнезда. Хотя ребенок был уже выбран, нетрудно догадаться, как охотно пастухи заменили его принцем. Его сомнительное происхождение — ведь простодушные пастухи думали, что орлица была его матерью, — и дивная красота укрепили их в решении непременно преподнести кентавру именно его, ибо тот был так прихотлив, что желал есть лишь самых красивых детей. Мать ребенка, выбранного для него на сей раз, после пережитого смертельного ужаса вновь ощутила радость жизни. Ей велели подготовить маленького принца к церемонии, как собственного сына. Она старательно расчесала его длинные волосы и надела ему венок из маленьких свежих алых и белых роз, нарядила в длинное платье из тонкого белого полотна и подвязала поясом из цветов. Окончив все приготовления, ему велели идти вперед одному, а другие дети шли следом, сопровождая его; но каким же величавым благородством сиял его взгляд! Он, мальчик возраста столь нежного, прежде не видевший никого, кроме орлов, не казался ни испуганным, ни диким; можно было подумать, что пастухи собрались лишь для того, чтобы прислуживать ему.
— Ах! Какая жалость! — переговаривались они. — Малыша сейчас съедят! Как нам спасти его?
Многие плакали, но что же тут поделаешь.
Обычно кентавр появлялся на вершине скалы с палицей в одной руке и со щитом в другой и громовым голосом кричал пастухам:
— Оставьте жертву и уходите!
Едва увидев ребенка, приведенного на сей раз, он несказанно обрадовался и, расхохотавшись так оглушительно, что задрожали горы, страшным голосом проревел:
— Лучший обед в моей жизни. Что за чудо-малыш — можно и не солить, и не перчить!
Пастухи же с пастушками, глядя на несчастного ребенка, перешептывались:
— Орлица, и та пощадила его, вот чудо так чудо, но от этого страшилища ему не спастись.
Самый старый из пастухов взял принца на руки и несколько раз поцеловал.
— Дитя мое, милое мое дитя, — говорил он, — я только успел узнать тебя и уже чувствую, что вот-вот навсегда с тобою расстанусь. Зачем должно мне присутствовать при твоей погибели? Что за ирония у судьбы, давеча защитившей тебя от цепких когтей и острого клюва страшной орлицы, а теперь отдающей в хищную пасть ужасного чудовища?
Покуда сей пастух орошал ручьем своих слез румяные щечки принца, невинный ребенок теребил ручонками его седые волосы, по-детски улыбаясь ему, и все жальче становилось его старику, и он все мешкал идти вперед.
— Эй вы, шевелитесь! — кричал голодный кентавр. — Коли придется спуститься к вам — проглочу сразу сотню.
Потеряв терпение, он встал на дыбы и взмахнул палицей, как вдруг в небе появился огромный огненный шар, окруженный голубым облаком. Покуда все стояли, не смея шелохнуться, шар в облаке медленно опустился на землю и сфера открылась; оттуда выехала алмазная колесница, влекомая лебедями, а в ней — женщина ослепительнейшей красоты. На голове ее сиял шлем из чистого золота, украшенный белыми перьями, с поднятым забралом; глаза сверкали, как два солнца; роскошные латы и огненное копье в поднятой руке — все выдавало в ней амазонку.
— Как?! Пастухи, — воскликнула она, — да можно ли быть столь бесчеловечными, чтобы отдать такое дитя жестокому кентавру? Справедливость и здравый смысл восстают против обычаев столь варварских. Не страшитесь возвращения людоедов, ибо я — фея Амазонка[233] — покровительствую вам, и впредь все вы будете под моей защитой.
— Ах! Госпожа, — и пастухи с пастушками протянули к ней руки, — большего счастья мы и не желаем!
Ничего другого они сказать не успели, ибо разъяренный кентавр вызвал фею на поединок. Он сражался грубо и напористо, но огненное копье феи жгло его, стоило ему лишь зазеваться; тогда кентавр испускал страшные вопли, которые смолкли лишь с последним его вздохом. Весь обгоревший, он рухнул тяжело, словно огромная гора. Пастухи в ужасе попрятались, убежав кто в соседний лес, кто в горы, спрятавшись в расселинах, — оттуда можно было все видеть, самим оставаясь незамеченными.
Там укрылся и мудрый пастух, державший на руках маленького принца; он больше переживал за очаровательного малыша, нежели за себя и свою семью, хотя она-то куда как заслуживала участия. После гибели кентавра фея Амазонка протрубила в горн мелодию столь благозвучную, что больные, услышав ее, сразу исцелились, здоровых же охватила тайная радость, причину коей не понимали они сами.
Услышав мелодию горна, пастухи с пастушками наконец вышли из укрытий. Увидев всех вместе, фея Амазонка, дабы совершенно их успокоить, постепенно опускала алмазную колесницу все ниже, пока до земли не осталось нескольких футов, двигаясь в облаке столь прозрачном, что оно казалось хрустальным. Тем временем подошел и старый пастух, звавшийся Верховником; он держал на руках маленького принца.
— Подойдите, Верховник, — позвала его фея, — ничего не бойтесь. Я хочу лишь, чтобы впредь в этих краях царил мир, а вы наслаждались покоем, коего всегда искали; но отдайте мне это бедное дитя, чья судьба уже столь необычна.
Старик, низко поклонившись волшебнице, передал принца ей на руки. Она приласкала малыша, поцеловала, посадила к себе на колени и заговорила с ним, хотя и знала, что он не понимает человеческого языка и не умеет разговаривать; он только и мог что вскрикивать от радости или боли или же вздыхать да лепетать — ведь людской речи ему слышать еще не доводилось.
Однако мальчик, ослепленный сверкающими доспехами феи Амазонки, встал на ножки у нее на коленях, пытаясь дотянуться до ее шлема. Фея, улыбаясь, сказала, будто он мог ее понять:
— Когда ты сможешь ноешь доспехи, мой мальчик, я отдам тебе свои.
Крепко обняв его напоследок, она вернула маленького принца Верховнику.
— Мудрый старец, — обратилась она к нему, — хоть ваша доброта и не осталась не замеченной мною, я все же прошу вас соблаговолить позаботиться об этом мальчике. Научите его пренебрегать мирским величием и достойно принимать удары судьбы, ибо, хотя он и рожден блистать, я все же полагаю, что счастие его скорее в мудрости, нежели в могуществе. Не в одном лишь внешнем величии заключается радость жизни человеческой, — ведь, дабы стать счастливым, следует быть мудрым, а обрести мудрость можно, лишь познав самого себя, научившись смирять желания, будучи довольным и в умеренности, и в изобилии, и при этом искать уважения людей достойных, не презирая ближних, и всегда быть готовым без сожаления расстаться с благами сей бренной жизни. Однако что же это я, о почтенный пастух? Учу вас тому, что вы знаете лучше меня. Правда, слова мои сказаны не столько для вас, сколько для остальных внемлющих мне пастухов. Прощайте же, пастыри, прощаюсь и с вами, верные пастушки; зовите меня, если вам понадобится моя помощь, — копье и рука, от которых пал Синий Кентавр, всегда защитят вас.
Верховник и все, кто стоял вокруг, столь сконфуженные, сколь и восхищенные, не ответили ни слова на любезные речи феи Амазонки, — пребывая единовременно и в большом замешательстве, и в большой радости, они лишь смиренно пали ниц, и, пока оставались так, огненный шар мягко взмыл в средние области воздушных путей[234], пока не исчез в небесах вместе с Амазонкой на колеснице.
Боязливые пастухи поначалу никак не решались приблизиться к кентавру — даже мертвый, он все еще вызывал ужас. Наконец, мало-помалу набравшись храбрости, пастухи решили развести большой костер и сжечь на нем труп чудовища: они страшились, что собратья, узнав о его судьбе, придут отомстить за смерть вожака. Замысел всем пришелся по душе, и, не теряя ни мгновения, пастухи избавились от гнусных останков.
Верховник отвел маленького принца в свою хижину, где лежала его больная жена; потому-то и не было на церемонии обеих его дочерей, ухаживавших за нею.
Он сказал жене:
— Вот вам, моя пастушка, дитя — любимец богов, ему покровительствует сама фея Амазонка. Впредь мы должны относиться к нему как к родному сыну и воспитать его так, чтобы он стал счастливым.
Жена Верховника обрадовалась такому мужнину подарку и посадила принца к себе на кровать.
— Хоть я и не смогу дать ему столько мудрых наставлений, сколько вы, — молвила она, — но буду воспитывать его, пока он маленький, и любить, как свое дорогое дитя.
— Этого я и прошу, — сказал старик и передал принца-малютку на попечение жены. Обе дочери пастуха, прибежавшие посмотреть на мальчика, были очарованы его несравненной красотой и изяществом и тотчас же принялись учить его своему языку. Мальчик оказался послушным и смышленым; он схватывал самые сложные вещи с такой легкостью, что немало удивлял пастухов, и за короткое время так поумнел, что лишь Верховнику стало под силу продолжить его обучение. А ведь сей мудрый старик мог научить многому, ибо когда-то был королем прекрасного процветающего государства, но владыка соседних земель, его враг, сумел тайными интригами склонить на свою сторону нетвердые умы, которые помогли тирану внезапно напасть и захватить короля со всей его семьей. Узурпатор, не мешкая, заточил их в крепости на медленную погибель.
Столь резкие перемены ничуть не поколебали добродетелей короля и королевы, стойко перенесших все нанесенные тираном удары; когда пришли невзгоды, королева ждала ребенка, теперь же благополучно родила дочь и сама пожелала вскормить ее. Были у нее еще две прелестные дочери, разделявшие все тяготы родителей, несмотря на нежный свой возраст. Прошло три года, и вот королю удалось уговорить одного из стражей, согласившегося дать ему лодчонку, чтобы переплыть озеро, окружавшее крепость, и бежать. Снабдил он его и подпилком, чтобы было чем перепилить железные прутья решеток, и веревками, чтобы спуститься из их темницы. Королевская семья дождалась ночи и без шума выбралась из крепости; слезть с головокружительной высоты по стенам помог им тот же стражник. Король спустился первым, за ним две старшие дочери, следом королева; последней же спускали малышку-принцессу в большой корзине — но увы! Узел завязали некрепко, и когда раздался тихий всплеск, беглецы поняли, что корзина сорвалась и пошла ко дну. Если бы королева с горя не лишилась чувств, то перебудила бы весь гарнизон криками и стенаниями. Король в отчаянии бросился искать принцессу. Что он мог найти в таком мраке, — разве что корзину, но напрасными оказались его надежды — принцессы в ней не было. Посему король принялся грести, спасая себя и свою семью. На берегу озера их ждали приведенные стражником кони, и теперь, вскочив в седло, король с семейством мог отправиться, куда пожелает.
В заточении у них с королевой было вдоволь времени, чтоб поразмыслить о жизни. Там и поняли они, сколь бренно все, что зовется житейским благом. Это, вкупе с новым несчастьем — ведь они потеряли младшую дочь, — сподвигло их не искать прибежища у союзников, правивших соседними землями, где они, возможно, были бы в тягость, а поселиться, не страшась испытаний, на самой плодородной равнине, попавшейся им по пути. Там король сменил скипетр на пастуший посох, купил большое стадо и стал пастухом. Они построили небольшой сельский дом, с одной стороны защищенный горами; с другой же протекала небольшая речка, где водилось немало рыбы. Здесь было им спокойнее, чем во времена царствования; дни их протекали без печалей, и король часто говорил:
— Ах! Как счастливы были бы люди, если бы могли избавиться от честолюбия! Вот я — был король, а теперь пастух, и эта хижина мне больше по нраву, чем дворец, который я оставил.
Сей великий философ и обучал маленького принца, не знавшего о том, кто его учитель; тот же, ничего не ведая о происхождении малыша, тем не менее замечал в нем наклонности столь благородные, что никак не мог считать его ребенком простолюдинов. Ему нравилось, что мальчик почти всегда повелевает своими товарищами, внушая им почтение: то он создавал маленькое войско, то сам строил укрепления и сам же атаковал их и даже, пренебрегая опасностями, ходил на охоту, несмотря на порицания короля-пастуха. Того же все это убеждало, что мальчик был рожден царствовать. Однако оставим его, пока не минет ему пятнадцати лет, и вернемся ко двору его отца-короля.
Видя, как он состарился, принц Горбун утратил к нему всякое уважение. Он терял терпение, слишком долго ожидая наследования. Чтобы отвлечься, Горбун попросил у короля армию — завоевать соседнее королевство, чьи жители, склонные к измене, просили теперь о мире. Король охотно согласился, однако поставил условие: прежде чем выступить в поход, вся знать королевства подпишет акт, где будет сказано: если когда-нибудь вернется младший принц — а удостовериться, что это действительно он, можно по родинке на плече в форме стрелы, — то единственным наследником короны станет он. Горбун сам пожелал не только присутствовать на церемонии, но и подписать сей акт, хотя даже отец посчитал слишком суровым требовать этого от старшего сына. Однако тот, уверенный в смерти брата, намеревался, ничем не рискуя, таким способом доказать свою верность. Меж тем король собрал государственных мужей и обратился к ним с речью об утрате младшего сына; при этом он проливал слезы, чем немало растрогал всех, после чего подписал акт, а вслед за ним и самые знатные люди королевства. Государь приказал поместить акт в королевскую сокровищницу и сделать с него несколько заверенных печатью копий, дабы они служили напоминанием.
Тут принц Горбун простился с отцом и во главе блестящей армии отправился завоевывать обратившееся к нему за помощью королевство. После нескольких сражений он победил врага и захватил столицу, повсюду оставив гарнизоны и комендантов, а потом вернулся к отцу, представив тому юную принцессу по имени Карпийон, плененную во время похода.
Она была так несравненно хороша, что все, доселе сотворенное природой или воображением, меркло рядом с нею. Король восхитился, а Горбун так влюбился, что потерял покой. Но сколь сильна была его любовь, столь же великой оказалась ненависть Карпийон, ибо Горбун разговаривал с нею властно, не упуская случая напомнить, что она — его рабыня. Душа ее противилась такой грубости, посему принцесса всячески старалась избегать жестокого принца.
Король отвел ей покои во дворце и прислал служанок. Он был глубоко тронут несчастиями, выпавшими на долю столь прекрасной и юной принцессы. Когда Горбун заявил, что намерен жениться на ней, король ответил:
— Я дам свое согласие при условии, что она не выкажет ни малейшего нежелания, а то что-то, как я погляжу, рядом с вами она грустней обычного.
— Это от любви, которую она ко мне испытывает, но не решается открыть, — сказал Горбун, — робость обременяет ее. Вы увидите, как приободрится она, став моей супругою.
— Надеюсь, что так и будет, — молвил король, — но не слишком ли вы самоуверенны?
Сомнения отца обидели Горбуна.
— Вы — причина того, — сказал он принцессе, — что отец суров со мною, ведь ему это совсем не свойственно. Быть может, он сам влюблен в вас? Тогда признайтесь в этом и выберите, кто вам больше по сердцу. Мне же довольно будет видеть вас на троне.
Так говорил он, чтобы выведать ее чувства, ибо в своих был уверен. Юная Карпийон не знала еще, что влюбленные — существа по большей части скрытные и лукавые, и потому попалась в западню.
— Признаюсь вам, господин, — ответила она ему, — что по своей-то воле я не выбрала бы ни короля, ни вас, но коли злой рок принуждает меня к такой необходимости, так уж лучше король.
— Почему же? — скрипнув зубами, спросил Горбун.
— Потому, — сказала принцесса, — что он добрее вас, давно уже правит и, значит, проживет меньше.
— Ха-ха! Вот так злючка, вот так плутовка! — воскликнул Горбун. — Вы выбираете отца, чтобы поскорее стать вдовствующей королевой. Не бывать этому: он и не думает о вас, это я, добряк, все лишь о вас и мечтаю, да только зря я такой добрый, ибо ваша неблагодарность невыносима; но, даже будь она хоть в сотню раз больше, вы все равно станете моей женой.
Тут принцесса Карпийон спохватилась, поняв наконец-то, что порой опасно говорить начистоту, но поспешила исправить оплошность.
— Я хотела узнать ваши чувства, — сказала она Горбуну, — и очень рада, что вы так сильно любите меня, что готовы снести мои дерзости. Я уважаю вас за это. Постарайтесь же сделать так, чтобы я вас полюбила.
Каким грубым ни был принц, а на эту приманку клюнул — ибо так заведено, что если уж кто влюбляется, то сильно глупеет и весьма склонен поддаваться обольщеньям. Горбун от слов Карпийон стал кротче ягненка, улыбнулся и от избытка чувств до синяков сжал ей руки.
Едва он ушел, принцесса кинулась в ноги королю.
— Даруйте мне спасение от самого страшного из несчастий! — воскликнула она. — Принц Горбун хочет жениться на мне. Скажу вам правду: он мне ненавистен. Будьте милосерднее его: мое положение, моя юность, невзгоды, выпавшие на долю моего дома, заслуживают сострадания столь великого короля, как вы.
— Прекрасная принцесса, — ответил ей король, — я не удивлен, что мой сын влюблен в вас, но я не прощу ему, если он не выказывает вам должного уважения.
— Ах, Ваше Величество! — вновь воскликнула Карпийон. — Я для него только пленница, и обращается он со мной, как с рабыней.
— С помощью моей армии, — ответил король, — победил он того, кто ранее разбил войско вашего отца. Будь вы даже и пленница, — но тогда уж моя пленница, и, значит, вот что: я возвращаю вам свободу, благо, что мой преклонный возраст и седины не позволяют мне самому стать вашим рабом.
Признательная принцесса от души поблагодарила его и удалилась вместе со служанками.
Тем временем Горбун, узнав об этом разговоре, оскорбился до глубины души. Он пришел в ярость, когда отец запретил ему и думать о принцессе до тех пор, пока тот не окажет ей такой услуги, после которой она сама не в силах будет противиться его чувствам.
— Стало быть, мне придется трудиться всю жизнь и при этом, возможно, остаться ни с чем, — усмехнулся Горбун. — А ведь мне время терять не с руки.
— Я огорчен, ибо люблю вас, сын мой, — ответил король, — однако будет так, как я повелел.
— Там поглядим, — дерзко заявил Горбун, выходя от отца. — Хотите отнять у меня пленницу, — так я скорее расстанусь с жизнью, чем с ней.
— Не ваша она пленница, а моя, — рассердился король, — а теперь и вовсе свободна, ибо я хочу, чтобы она сама распоряжалась своей судьбой и не зависела от ваших прихотей.
Столь напряженная беседа могла бы далеко зайти, если бы Горбуну не хватило благоразумия удалиться: однако он тут же вознамерился захватить не только принцессу, но и всю власть в королевстве. Во время военного похода он снискал расположение солдат, и те из них, кто был мятежно настроен, охотно поддержали Горбуна в его коварных замыслах. Королю вскоре стало известно, что сын хочет свергнуть его, и, поскольку сила была не на его стороне, ему пришлось искать примирения; послав за принцем, король сказал ему:
— Возможно ли, чтобы вы были столь неблагодарны, что пожелали, отняв у меня трон, сами на него взойти? Кончина моя и без того близка, не торопите же ее: неужели не достаточно страданий, причиненных мне смертью жены и утратой сына? Да, мне не нравится, что у вас виды на принцессу Карпийон, но ведь и тут я забочусь о вас не меньше, чем о ней, ибо можно ли быть счастливым с человеком, который вовсе вас не любит? Однако, раз уж вы хотите рискнуть, пусть будет по-вашему: позвольте мне лишь уговорить ее выйти за вас замуж.
Принцесса привлекала Горбуна больше короны, — ведь он только что уже завоевал себе одно королевство, и поэтому ответил отцу, что не так жаден до власти, как тот думает, а свидетельством тому — подписанный им акт, по которому он терял право наследования, если бы вернулся младший брат. Посему он будет почтительным, только если ему позволят жениться на Карпийон. Король обнял его и послал за несчастной принцессой; та же места себе не находила, не зная, как решится ее судьба, и не отпускала гувернантку из своих покоев, где только прегорько плакала.
— Возможно ли такое, — спрашивала она ее сквозь слезы, — что после всех своих обещаний король окажется столь жесток, что отдаст меня этому Горбуну? Не сомневайтесь, моя милая подруга, — если придется выйти за него замуж, день свадьбы будет последним днем моей жизни: ибо не столько внешнее безобразие отталкивает меня, сколько уродливая душа его.
— Ах, моя принцесса, — ответила гувернантка, — вы, верно, еще не знаете, что дочери величайших королей лишь жертвы, и до их мнения никому и дела нет. Если случается им выйти замуж за принцев приятных и благодушных, — пусть скажут судьбе спасибо, ведь на первом месте всегда интересы королевства, даже если суженый — сущая образина.
Карпийон хотела было возразить, но тут ей сообщили, что ее призывает король. Принцесса с мольбою возвела глаза к небесам.
Стоило ей лишь взглянуть королю в лицо, как она фазу все поняла, ибо, не говоря уж о редкостной ее проницательности, красота души ее превосходила даже красоту внешнюю.
— Ах, Ваше Величество! — воскликнула она. — Что вы изволите мне сказать?
— Прекрасная принцесса, — обратился к ней король, — не думайте о свадьбе с моим сыном как о несчастии. Прошу вас выйти за него замуж по доброй воле. Да, он резок, — но ведь его чувство к вам столь пылко… Не выбери он вас — не одна принцесса с радостью разделила бы с ним и то королевство, что уже есть у него, и то, которое он надеется получить после моей смерти. Но ему нужны лишь вы, и ни презрению, ни безразличию вашим не удалось остановить его. Поверьте, он сделает все, чтобы завоевать ваше расположение.
— Я надеялась обрести в вас покровителя, — ответила Карпийон, — но, увы, мои надежды не оправдались, — но боги, праведные боги не оставят меня.
— Знай вы, как хотелось мне уберечь вас от этого замужества, — сказал король, — так не сомневались бы в моем расположении. Увы! Небеса послали мне сына, которого я нежно любил, и жена моя сама вскормила его. Однажды ночью его выкрали прямо из колыбели, положив вместо него кота, так сильно укусившего королеву, что она умерла. О мальчик мой милый, — если бы его не похитили, сейчас он скрашивал бы мою старость, подданные боялись бы его, и я отдал бы королевство ему и вам; Горбун же, который теперь всем распоряжается, почел бы счастьем позволение остаться при дворе. Но я потерял любимого сына, принцесса, и теперь это горе бросило тень и на вашу судьбу.
— Я одна тому виною, — ответила Карпийон, — ведь, будь он жив, и моя жизнь наполнилась бы смыслом; итак, Ваше Величество, считайте меня виновницей всего и примерно накажите, но только замуж не выдавайте.
— В то время, прекрасная принцесса, — молвил король, — вы еще были не в силах ни приносить добро, ни причинить зло. Я вовсе не виню вас в своих невзгодах, но, коли вы не хотите преумножать их, приготовьтесь принять моего сына как своего мужа, иначе же может дойти и до кровопролития, ибо тут он одержал надо мной верх.
Оставив ее рыдать, король пришел к Горбуну, которому не терпелось узнать о решении принцессы. Правитель сообщил сыну, что Карпийон согласна, и распорядился обо всем, что необходимо для торжественной церемонии. Принц, несказанно обрадованный, поблагодарил его и тотчас велел принести ему все, что найдется у ювелиров, купцов и вышивальщиков, а купив для возлюбленной все самое красивое, отправил ей эти диковинки в огромных золотых сундуках. Принцесса старательно прикинулась радостной. Тогда Горбун пришел к ней сам:
— Ну так что же, госпожа Карпийон, разве не несчастием было бы для вас отказаться от той чести, какую я вам предлагаю? А ведь я не только галантен, но и, по общему мненью, еще и весьма умен. Я дарую вам столько нарядов, драгоценностей и всяческой роскоши, что с вами не сравнится никакая королева на свете.
Принцесса холодно возразила, что несчастья, постигшие ее семью, не позволяют ей наряжаться так богато, и попросила не делать ей столь щедрых подарков.
— Если б вы отказывались наряжаться оттого, что этого вам не позволяю я, — это было бы правильно, — ответил принц, — однако вам надо стараться быть приятной моему взору. Через четыре дня все будет готово к свадебной церемонии. Наслаждайтесь жизнью, принцесса, и распоряжайтесь всем, ибо вы уже полноправная хозяйка здесь.
После его ухода Карпийон заперлась в покоях с верной гувернанткой, предоставив той выбор — помочь ей спастись или придумать, как в день свадьбы покончить с собой. Однако гувернантка, убеждая принцессу, что бегство невозможно, самоубийство же с целью избежать тягот жизни есть признак слабости, принялась взывать к ее благоразумию, внушая, что Карпийон сможет быть счастлива и почтительна с Горбуном, даже если и ничуть не любит его.
Ни один из этих доводов принцессу не убедил: она ответила гувернантке, что больше полагаться на нее не может и все ее обманули, а стало быть, теперь она сама решит, что делать; раз уж суждено ей такое зло, то клин клином вышибают. Засим она отворила окно, часто и безмолвно поглядывая в него. Гувернантка, испугавшись, как бы госпожа не бросилась вниз, упала на колени и, ласково глядя на нее, спросила:
— Но что же могу я сделать для вас, Ваше Высочество? Я подчинюсь, даже если придется заплатить за это жизнью.
Тут принцесса обняла ее, попросив купить ей одежду пастушки и корову: она убежит куда глаза глядят переодетая, и нечего ее отговаривать, потому как это лишь время понапрасну тратить, а его уже и так почти нет. И еще — чтобы успеть ей уйти как можно дальше, надобно будет уложить в кровать принцессы куклу в ночном чепце и сказать всем, что Ее Высочеству нездоровится.
— Вы прекрасно понимаете, госпожа, — сказала принцессе бедная гувернантка, — какой опасности я подвергаю себя. У принца Горбуна не будет причин сомневаться, что я помогла осуществить ваш замысел, и он подвергнет меня пыткам, чтобы разузнать, где вы, а потом велит сжечь или содрать кожу живьем. Вот и скажите после этого, что я вас совсем не люблю.
Принцесса же отвечала ей в сильном замешательстве:
— Я хочу, чтобы и вы убежали через два дня, а до тех пор не составит большого труда всех обманывать.
Наконец они так удачно все продумали, что в тот же вечер у Карпийон появились одежда пастушки и корова.
Это простое облачение так шло принцессе, что в нем она была вдвое прекраснее, чем все богини с высот Олимпа: и те, что призвали пастуха Париса, и сотня дюжин всех прочих. И вот она пустилась в путь одна, при свете луны, то ведя корову в поводу, то забираясь ей на спину; шла навстречу приключениям, умирая от страха. Легкий ли ветерок шелестел в кустах, птичка ли взлетала из гнезда или заяц выбегал из норы — всё ей казалось, что это волки или грабители, пришедшие ее убить. Она шла всю ночь и хотела идти и дальше, когда занялась заря, но корова остановилась пощипать травку на лугу, и принцесса, уставшая от ходьбы в тяжелых сабо и неудобном платье из грубой сермяги, прилегла на траву у ручья. Сняв желтый чепец, чтобы уложить выбившиеся из-под него белокурые локоны, спадавшие к ее ногам, она быстро огляделась, дабы убедиться, что никто ее не видит, и быстро спрягала кудри под чепцом; но при всей своей осмотрительности не заметила, как рядом с нею вдруг, откуда ни возьмись, появилась дама, вся закованная в латы, за исключением головы, с которой она сняла украшенный алмазами золотой шлем.
— Я порядком устала, пастушка, — обратилась она к принцессе, — не надоите ли мне молока вашей коровы, чтобы утолить жажду?
— С удовольствием бы, госпожа, — ответила Карпийон, — будь у меня посуда, куда налить его.
— Вот, — сказала воительница, протянув красивую фарфоровую чашку, но бедная принцесса не знала, как подступиться к корове, чтобы ее подоить.
— Неужто у вашей коровы совсем нет молока? — спрашивала дама. — Или вы не умеете доить?
Принцесса заплакала, устыдившись, — вот какой неумехой выглядит она перед особой столь необычной.
— Должна признаться, госпожа, — сказала Карпийон, — что в пастушках я недавно. Отвести корову на выпас — вот вся моя работа, остальное делает матушка.
— Значит, у вас есть матушка? — молвила воительница. — Чем же она занимается?
— У нее своя ферма, — ответила принцесса.
— Далеко отсюда?
— Нет, — поспешила ответить Карпийон.
— Поистине, я чувствую к ней большое расположение и признательна ей за то, что она произвела на свет такую красивую дочь. Я хочу повидать ее.
Тут Карпийон совсем растерялась — лгать она не привыкла, и неведомо ей было, что она разговаривает с феей, ибо феи в те времена не были явлением столь обычным, каким стали теперь[235]. Принцесса опустила глаза, а щеки ее заалели от стыда. Наконец она сказала:
— Если я ухожу на пастбище, то вернуться могу лишь вечером. Прошу вас, госпожа, не заставляйте меня сердить матушку. Она может меня отругать за то, что я ее ослушалась.
— Ах, принцесса! — улыбнулась фея. — Вы не умеете ни соврать толком, ни сыграть роль, которую для себя выбрали. Но я помогу вам. Возьмите этот букетик левкоев и знайте, что, пока он у вас в руках, Горбун вас не узнает. Не забудьте, дойдя до большого леса, справиться у тамошних пастухов, где живет Верховник. Идите к нему и скажите, что явились от феи Амазонки, которая просит его с женой и дочерьми приютить вас. До встречи, прекрасная Карпийон, я давно уже питаю к вам дружеские чувства.
— Ах, госпожа! — воскликнула принцесса. — Зная меня, любя и видя, как я нуждаюсь в помощи, вы меня оставляете?
— Букетик левкоев вам поможет, — ответила фея, — мое же время драгоценно, а вам предстоит вершить свою судьбу самой.
С этими словами она исчезла на глазах у смертельно перепуганной Карпийон; та же, едва придя в себя, снова пустилась в дорогу, не имея ни малейшего представления, где находится большой лес, однако уверяя саму себя: «Сия ученая фея, что так странно появилась и так же странно исчезла и узнала меня в крестьянской одежде, хотя прежде ни разу не видела, приведет меня куда надобно». Шла ли принцесса или останавливалась передохнуть, — никогда она не выпускала из рук заветный букетик. Меж тем прошла она совсем чуть-чуть — смелости ее духа мешала изнеженность: она то и дело спотыкалась о придорожные камни и падала, ноги ее стерлись в кровь, и ей пришлось прилечь под сенью деревьев. Все кругом ее пугало, а особенно тревожили мысли об оставленной ею гувернантке.
Не без причины она думала о несчастной женщине, ибо мало найдется примеров такого усердия и верности. Та же, надев на куклу фонтанж[236], чепец принцессы и красивое белье и иногда потихоньку заходя в ее покои, призывала не тревожить госпожу, а если кто-то шумно возражал ей, изображала возмущение. Королю поспешили доложить, что принцесса недомогает. Его это ничуть не удивило — ведь он знал, какого труда и огорчений стоило ей решение выйти за принца. Зато Горбуна эта неприятная новость огорчила безмерно. Он хотел увидеть принцессу, и помешать ему гувернантке удавалось с большим трудом.
— Пусть ее хотя бы осмотрит мой лекарь, — сказал он наконец.
— Ах, Ваше Высочество, — воскликнула гувернантка, — вот это ее уж точно доконает. Она ненавидит лекарей и снадобья. Но не тревожьтесь, ей всего лишь нужно отдохнуть несколько дней, у нее мигрень, а для такой болезни сон — лучшее из лекарств.
Так ей удалось уговорить принца не беспокоить возлюбленную, вместо которой в кровати лежала кукла. Но вот однажды вечером, не сомневаясь, что нетерпеливый принц вновь попытается войти в покои принцессы, и приготовившись бежать, она вдруг услышала, как он, не дождавшись, пока ему откроют, в ярости вышиб дверь.
Причиной буйства явилось то, что служанки принцессы заметили подмену и, боясь, что их накажут, поспешили доложить об этом Горбуну. В неописуемом гневе бросился он к королю, подумав, что правитель причастен к обману. Однако изумленное лицо отца убедило Горбуна, что тот ничего не знал. Едва же пред ним предстала несчастная гувернантка, как принц набросился на нее, схватив за волосы и рыча:
— Верни мне Карпийон, или я вырву у тебя сердце!
В ответ она лишь разрыдалась, упав на колени и умоляя выслушать ее, но напрасно. Он сам отволок ее в темницу, где неминуемо заколол бы кинжалом, не вмешайся в это король, чья доброта была равна злобе его сына: он и уговорил его сохранить ей жизнь, оставив в ужасной тюрьме.
Принц, влюбленный и взбешенный, приказал искать принцессу на суше и на море; он и сам, словно обезумев, рыскал повсюду. И вот однажды, когда Карпийон с коровой укрылась под высокой скалой от разразившейся непогоды, вздрагивая от ударов грома, вспышек молнии и града, случилось так, что принц Горбун и его люди, промокшие до нитки, решили переждать грозу под той же скалой. Увы! Принц снова был рядом с нею, и это устрашило ее пуще стихии; обеими руками схватила она букетик левкоев и прижала к груди, боясь, что не подействует колдовство, если она так и будет держать его в одной руке; и, вспомнив о фее, прошептала тихонько:
— Не оставляйте меня, прекрасная Амазонка.
Горбун взглянул на нее и сказал:
— Чего тебе бояться, дряхлая старуха. Убьет тебя молнией — ну и ладно, ты ведь и так уже на краю могилы?
Услышав, что ее назвали старухой, принцесса была столь же обрадована, сколь и удивлена.
«Сомневаться не приходится, — подумала она, — мой букетик совершил чудо».
И, чтобы не отвечать ему, Карпийон притворилась глухой. Когда Горбун понял, что она ничего не слышит, он сказал своему наперснику, который всегда был рядом:
— Будь у меня настроение получше, я бы загнал эту старуху на вершину скалы, а потом бы столкнул: до чего ж приятно было бы посмотреть, как она сломает себе шею.
— Да за чем же дело стало, Ваше Высочество, — ответил негодяй, — если вас это хоть немного развеселит, я ее сам туда оттащу — вот вы и поглядите, как ее тело, летя вниз и натыкаясь на отроги, подскакивает, словно мяч, а кровь стекает сюда, прямо к вашим ногам.
— Времени жалко, — отмахнулся принц, — нужно найти неблагодарную, из-за которой нет мне в жизни покоя.
С этими словами он пришпорил коня и во весь опор понесся прочь. Легко представить радость принцессы, ибо, конечно, ее ужаснул разговор принца с наперсником; не забыла она и поблагодарить фею Амазонку, в могуществе которой только что убедилась. Карпийон продолжила путь и вышла к равнине, где стояли пастушьи хижины. Эти небольшие домики с садами и колодцами были отрадой для взора: даже Темпейская долина и берега реки Линьон[237] не сравнились бы с сей равниною. Пастушки большею частью были прелестны, пастухи же всячески старались им понравиться. Все деревья были испещрены тысячами надписей и любовными стихами. Поселяне, заметив принцессу, оставили стада и на почтительном расстоянии последовали за нею, покоренные ее красотой и необычайно величественным видом. Однако их удивило, что она так бедно одета, — ведь жители деревни, хоть и вели скромную сельскую жизнь, старались выглядеть изящными.
Принцесса спросила, где живет пастух по имени Верховник, и ее тотчас же проводили к нему. Она застала его сидящим на лужайке с женой и дочерьми; у их ног нежно журчала небольшая речка. В руках у пастуха был тростник — из него он умело плел корзину для плодов; жена вязала, а дочери удили рыбу.
Подойдя к ним, Карпийон почувствовала прилив необычайного почтения и нежности. Они же при виде ее заволновались так, что лица их то бледнели, то краснели.
— Я бедная пастушка, — скромно поклонилась Карпийон, — и пришла от известной вам феи Амазонки, в надежде на то, что из уважения к ней вы приютите меня.
— Дочь моя, — обратился к ней король, вставая и тоже приветствуя ее, — о да, мы глубоко почитаем сию великую фею. Вы здесь желанная гостья и, не будь у вас даже иного поручительства, кроме себя самой, — не сомневайтесь, что и тогда вы обрели бы в нашем доме пристанище.
— Подойдите, прелестное дитя, — молвила королева, протягивая ей руку, — подойдите, чтобы я могла обнять вас. У меня к вам самые благожелательные чувства, и я хочу, чтобы вы видели во мне мать, а в моих дочерях сестер.
— Увы! Дорогая матушка, — ответила принцесса, — я не заслуживаю такой чести, мне достаточно быть вашей пастушкой и пасти ваши стада.
— Дочь моя, — вновь заговорил король, — мы здесь все равны, вы же явились от той, кому мы доверяем, а посему нам следует относиться к вам так же, как к собственным детям нашим. Сядьте же подле нас, и пусть ваша корова щиплет траву рядом с нашими овцами.
Карпийон попыталась было отнекиваться: она-де пришла только помочь по хозяйству; однако, пожелай они поймать ее на слове, — это бы ее весьма смутило, ибо, по правде говоря, достаточно было лишь взглянуть на нее, чтобы понять: она рождена повелевать, а не прислуживать. Да ведь нельзя забывать и того, что Амазонка, фея столь влиятельная, не стала бы покровительствовать простолюдинам.
Король и королева смотрели на Карпийон с изумлением и безотчетным восхищением. Они спросили, издалека ли пришла она: ответ был «да»; есть ли у нее отец и мать? — она сказала «нет»; почти всегда она отвечала односложно, с подобающей почтительностью.
— Как ваше имя, дочь моя? — спросила королева.
— Меня зовут Карпийон, — ответила принцесса.
— Необычное имя, — заметил король. — Редко так называют, если только за этим не стоит какое-то особое обстоятельство.
Ничего не ответив, Карпийон лишь взяла у королевы веретено, чтобы смотать с него пряжу. Тут всех ослепили ее руки, до того скрытые под рукавами, — они были белы точно снег. Король с королевой многозначительно переглянулись и сказали принцессе:
— Вы слишком тепло одеты для этой поры года, Карпийон, а сабо тяжело носить столь юной девушке. Вам нужно одеться по-нашему.
— Матушка, — ответила она, — я одета по обычаю моей страны. Коли вам угодно мне велеть, я переменю платье.
Они восхитились ее послушанием, особенно же — скромностью взора и всего облика.
Когда пришло время ужина, все вместе вернулись в дом. Обе принцессы поймали небольшую жирную рыбу; на столе появились свежие яйца, молоко и плоды.
— Странно, что сын еще не вернулся, — сказал король, — а всё его страсть к охоте — она заводит его дальше, чем мне хотелось бы. Каждый раз я боюсь, как бы с ним чего не случилось.
— Я боюсь того же, — молвила королева, — но если вы согласны, мы подождем его, чтобы он тоже поужинал с нами.
— Напротив, — возразил король, — этого мы делать не станем. Прошу вас, когда он вернется, не говорить с ним вовсе; пускай все будут с ним холодны.
— Вы знаете, как он добр, — сказала королева, — да ведь он так огорчится, что может и заболеть.
— Ничего не поделаешь, — ответил король, — надо его перевоспитать.
Все уселись за стол, а под конец трапезы явился и юный принц; на плечах он нес косулю, волосы его вымокли от пота, а лицо покрывала пыль. Он опирался на небольшое копье, которое всегда носил с собою, на одном боку у него висел лук, на другом — колчан, полный стрел. В его лице и манерах было столько благородства и достоинства, что он поневоле внушал предупредительность и почтение.
— Матушка, — молвил он, обращаясь к королеве, — желание принести вам эту косулю заставило меня побегать сегодня по холмам и долинам.
— Сын мой, — серьезно сказал ему король, — вы не столько радуете нас, сколько заставляете тревожиться. Зная все, что я думаю о вашей страсти к охоте, вы не в силах исправиться.
Принц покраснел, более всего огорченный тем, что все это слышит незнакомый человек. Он пообещал в следующий раз вернуться раньше или уж вовсе пересилить свою страсть к охоте.
— Довольно, — сказала королева, очень нежно любившая его. — Сын мой, благодарю вас за подарок, что вы мне преподнесли. Сядьте подле меня и отужинайте, ведь я не сомневаюсь, что вы голодны.
Принц, расстроенный той строгостью, с которой говорил с ним отец, едва осмеливался поднять взор, ибо, неустрашимый перед лицом опасности, он был кротким и послушным с теми, к кому испытывал почтение.
Тем не менее, справившись со смущением, он уселся напротив королевы и взглянул на Карпийон, которая уже давно смотрела на него. Как только взгляды встретились, их души охватило сильное волнение, смятение, для них самих необъяснимое[238]. Принцесса залилась румянцем и опустила глаза, однако принц продолжал смотреть на нее, и она вновь осторожно взглянула на него уже подольше. Оба равно удивились и подумали, что с таким не сравнится ничто в целом свете.
«Возможно ли, — спрашивала себя принцесса, — что сей юный пастух красивее всех, кого я видела при дворе?»
«Неужели эта чудесная девушка простая пастушка? — думал принц. — Ах! Почему я не король, чтобы посадить ее на трон и сделать владычицей и моих земель, и моего сердца?»
Занятый такими мыслями, он совсем не ел. Королева подумала, что тому причиной холодность, с какой его встретили, и изо всех сил старалась ему услужить, и даже сама принесла ему свои любимые изысканные плоды. Он поднес их Карпийон. Та же, поблагодарив его и будто не заметив протянутой руки, печально сказала:
— Мне они не нужны. — И тогда он бесстрастно положил их на стол.
Королева ничего не заметила; зато старшая принцесса, которой принц был отнюдь не противен, — не будь различия в их положении, она бы и вовсе безумно его полюбила, — с досадой прикусила губки.
После ужина король и королева удалились, принцессы же по обыкновению занялись хозяйством: одна пошла доить коров, другая — готовить сыр. Карпийон тоже принялась было за дело, но, совсем к такой жизни не привычная, так и не смогла сделать ничего путного, за что обе принцессы со смехом называли ее прекрасной неумехой; однако принц, уже влюбленный, помог ей. Пойдя с нею к колодцу, он сам понес кувшины, наполнил их водою и принес в дом, не желая, чтобы она носила тяжести.
— Что это значит, пастух? — спрашивала она его. — Всю-то жизнь я трудилась — а теперь мне что же, строить из себя госпожу? Разве отдыхать пришла я в эту долину?
— Делайте что пожелаете, милая пастушка, — ответил ей принц, — но не отвергайте мою скромную помощь; для меня это — одно удовольствие.
Они вернулись вместе; ему было жаль, что время пролетело так быстро, — ведь, даже едва решаясь беседовать с нею, он был счастлив просто ее видеть.
Оба провели беспокойную ночь, однако неопытность не позволила им понять причину бессонницы. Тем не менее принц с нетерпением ждал часа, когда опять сможет увидеть пастушку, а она боялась новой встречи с пастухом. Такое волнение всего лишь при виде принца было внове для Карпийон и немного отвлекло девушку от иных печалей, удручавших ее. Она столь часто думала о пастухе, что стала реже вспоминать о принце Горбуне.
«О причудница-Судьба, — вопрошала она, — отчего же одарила ты изяществом, красотой и приятностью юного пастуха, чей единственный удел — пасти свое стадо, и наделила злобой, уродством и порочностью великого принца, которому суждено править королевством?»
Превратись из принцессы в пастушку, Карпийон не хотела даже знать, как сама выглядит; однако теперь желание понравиться заставило ее поискать зеркало; найдя его у принцесс и увидев свою одежду и прическу, она застыла в замешательстве.
— Что за вид! — воскликнула она. — На кого я похожа? Нельзя мне и дальше ходить в такой грубой холстине.
Принеся воды, она умылась и помыла руки, сразу ставшие белее лилий. Вслед за этим отыскала королеву и, встав перед ней на колени, поднесла ей кольцо с дивной красоты алмазом (ибо она взяла с собой драгоценности).
— Дорогая моя матушка, — обратилась она к ней, — когда-то я нашла это кольцо, и мне неведома его ценность; но смею надеяться, что оно стоит немалых денег. Молю вас принять его в доказательство моей благодарности за вашу доброту и прошу купить мне платье и белье, чтобы я была одета как все пастушки в этих краях.
Увидев у столь юной девицы такое красивое кольцо, королева удивилась.
— Я лишь сохраню его для вас, — ответила она, — не приняв как дар; что до остального, то нынче же утром вы получите все, о чем попросили.
Она и вправду отправила посыльного в соседний городок, велев ему купить там самое красивое крестьянское платье, какое только бывает на свете. А уж в новой шапочке и туфельках Карпийон казалась прекрасней Авроры[239]. Принц тоже принарядился — украсил шляпу венком, а перевязь своей сумы и пастуший посох — цветами. Собрав в полях букет, он робко, как подобает влюбленному, поднес его Карпийон; принцесса смущенно приняла сей дар, хотя он и пришелся ей очень по душе. После встречи с принцем она почти перестала разговаривать и все витала в облаках. То же происходило и с ним: на охоте он теперь, вместо того чтобы преследовать оленей и ланей, предпочитал привалы в уединенных уголках природы, где подолгу мечтал об очаровательной Карпийон, сочиняя стихи и песни для своей пастушки, обращаясь к скалам, деревьям и птицам. Веселое расположение духа, благодаря которому другие пастухи постоянно искали его общества, совсем его покинуло.
Трудно, однако же, сильно любя, не бояться предмета любви своей — и вот принц до того страшился рассердить пастушку, открыв ей свои чувства, что не смел ни слова сказать ей. Она же хоть и замечала, что он предпочитает ее всем остальным — а не это ли лучшее доказательство искренности его чувств, — все же немного тяготилась его молчанием, но порой и радовалась.
«Если он и вправду любит меня, — думала она, — что скажу я в ответ ему? Рассердиться на него — не значит ли тем его погубить; а не рассердиться — сама умру от стыда и душевных мук. Как! Неужели, родившись принцессой, я стану слушать какого-то пастуха? Ах! На столь недостойную слабость я никогда не пойду. Сменить одежду не значит сменить и сердце. Мне и так уже придется корить себя слишком за многое, с тех пор как нахожусь здесь».
У принца от природы был красивый голос; да даже и не пой он так сладко, расположенная к нему принцесса все равно с удовольствием слушала бы его. Так или иначе, она часто просила его спеть песенки, и все они звучали столь нежно и трогательно, что Карпийон поневоле заслушивалась ими. Принц сочинил несколько строк и беспрестанно повторял их, а она прекрасно знала, что речь тут о ней. Вот они:
Ах! Если бы в каком краю
Нашлась меж всеми божествами
Та, что красой сравнится с вами,
Готовая весь мир отдать за страсть мою,
Как счастлив был бы я всем этим пренебречь,
Чтобы хоть раз ваш взор привлечь!
Хоть принцесса и делала вид, что эта песня нравится ей ничуть не больше других, она все же, к большому удовольствию принца, отдавала явное предпочтение именно ей. Это вдохнуло в него побольше смелости. Зная, что Карпийон каждый день пасет ягнят на берегу реки, под сенью ив и рябин, принц пришел туда и кинжалом вырезал на коре деревца[240]:
Напрасно летнею порой
Здесь всяк резвится и играет:
Как хоть на миг мне обрести покой?
Амур меня язвит и вздохи исторгает.
Принцесса застала его за вырезыванием последнего слова. Притворившись смущенным и помолчав немного, он сказал:
— Перед вами несчастный пастух, принужденный изливать свои страдания предметам бесчувственным, хотя должен был бы доверить их одной лишь вам.
Ничего не ответив, она опустила глаза, позволив ему говорить ей о своих чувствах сколько угодно; сама же в это время раздумывала, как принять признания юноши, и пристрастность склоняла ее к тому, чтобы с легкостью простить его.
«Он не ведает о моем происхождении, — размышляла она, — его дерзость объяснима, ибо он любит меня и считает, что мы с ним равны. Но даже и знай он, кто я, — разве и самые возвышенные из богов не стремятся привлекать людские сердца? Разве они сердятся на то, что их любят?»
— Пастух, — сказала принцесса юноше, когда тот смолк, — мне жаль вас, ибо я испытываю к вам лишь сочувствие; я ничуть не хочу любить, у меня и без того много печалей. Увы! Сколь несчастной была бы судьба моя, согласись я в довершение всех жизненных невзгод еще и взвалить на себя такое тяжкое бремя?!
— Ах, пастушка! — воскликнул принц. — Уж коль скоро вас терзают заботы и беды, ужели вам неизвестно лучшее средство облегчить их? Я разделю их с вами, моей единственной заботой будет угодить вам, можете оставить свое стадо на мое попечение.
— Если бы мучила меня лишь эта забота! — возразила Карпийон.
— Что же еще тревожит вас? — спросил принц с предупредительностью, столь прекрасной, юной, чистой, столь не похожей на пустое величие двора. — Ах, ну конечно! Вы любите другого, потому-то и столь безжалостны ко мне.
Сказав это, он побледнел и стал печален, мысль эта мучила его жестоко.
— Признаюсь, — ответила она, — что у вас есть соперник, отвратительный мне и ненавистный: вы никогда бы не повстречали меня, если бы не его настойчивые преследования, вынудившие меня бежать.
— Что ж, милая пастушка, — молвил он, — тогда вы убежите и от меня; ведь раз вы ненавидите его лишь за то, что он вас любит, тогда самый ненавистный из мужчин для вас — я.
— А если это вовсе не так, — сказала принцесса, — и я благосклоннее к вам, чем вы думаете; ибо я чувствую, что от него бежала куда охотней, чем от вас.
Пастух несказанно обрадовался этакой любезности. С того дня чего бы не сделал он, чтобы угодить принцессе!
Каждое утро отыскивал он самые красивые цветы, плел из них гирлянды для Карпийон, украшал свой посох разноцветными лентами, следил, чтобы девушка не слишком долго оставалась на солнце. Когда она выводила стада на берег реки или в лес, он, согнув густолиственные ветви дерев и сплетая их между собою, устраивал укромные беседки, а мурава служила им тогда креслами, созданными самой природою. На всех стволах красовались их вензеля, а на древесной коре он вырезал стихи, воспевавшие лишь одно — красоту Карпийон. Принцесса же следила за проявлениями любви пастуха то с удовольствием, а то и с беспокойством; еще не понимая, что уже любит его, она не решалась признаться в этом самой себе, боясь, что не сумеет сдержать нежных чувств. Но не указывает ли сей страх сам на свою истинную причину?
Столь явная приязнь молодого пастуха к юной пастушке не осталась незамеченной, получив всеобщее одобрение: да и кто мог осудить их в краю, где царит любовь? Говорили, что достаточно лишь взглянуть на них, чтоб понять, какое оба совершенство и как подходят друг другу, что они — дар богов их долине, и следует всячески потворствовать тому, чтобы они были вместе. Карпийон втайне радовалась, видя, как столь милый ей пастух всем приятен. Когда же она принималась думать о различии в их положении, ею овладевала печаль, и не хотелось раскрывать, кто она на самом деле, дабы дать больше свободы своему сердцу.
Король и королева, любившие ее необычайно, благосклонно наблюдали за рождавшимся чувством; принц был для них все равно что сын, и красота пастушки пленяла их ничуть не меньше, чем его самого.
— Ведь ее привела к нам Амазонка! — говорили они. — Она, защитившая дитя и сразившая кентавра! Нет сомнений — эта мудрая фея предназначила их друг для друга. Нужно ждать ее дальнейших приказаний и следовать им.
Вот все и шло своим чередом, — принц неустанно жаловался на безразличие Карпийон, а она столь же старательно скрывала от него свои чувства, — пока однажды на охоте на него не напал разъяренный медведь, внезапно появившийся из пещеры в скале. Бросившись на принца, он загрыз бы его, не помоги тут молодому человеку его ловкость и бесстрашие. После долгой борьбы на вершине горы они, сцепившись, скатились к самому ее подножию, где отдыхала с подругами Карпийон, даже не подозревавшая о схватке. Как же перепугались они, увидев человека и медведя, которые, казалось, бросились с кручи вниз! Сразу узнав своего пастуха, принцесса в ужасе закричала; все пастушки разбежались, оставив ее одну ожидать исхода поединка. Отважно решилась она ткнуть в морду страшного зверя железным концом своего посоха; любовь, удвоившая ее силы, придала удару весомую мощь, и это помогло ее возлюбленному. Принц же, увидев Карпийон, испугался, что и она может погибнуть вместе с ним, и это придало ему еще больше мужества, так что, совсем забыв о спасении своей жизни, он тревожился лишь о своей пастушке. И вот наконец он убил медведя прямо у ног принцессы, но и сам упал тут же, дважды раненный и еле живой. Ах! Что стало с Карпийон, когда она заметила, что принц истекает кровью, что кровью уже пропитана вся его одежда! Она не могла исторгнуть ни слова, в один миг лицо ее все намокло от слез; положив его голову себе на колени, она неожиданно произнесла:
— Пастух, если вы умрете, я умру с вами. Напрасно я скрывала свои тайные чувства: знайте же, что моя жизнь неразрывно связана с вашей.
— Какого еще счастья могу я желать, прекрасная пастушка! — воскликнул он. — Что бы со мной ни случилось, теперь любой удел для меня будет в радость.
Пастушки, убежавшие от страха перед медведем, вернулись вместе с несколькими пастухами, которым рассказали о происшедшем. Пастухи, дабы помочь принцу и принцессе, вдруг тоже ослабевшей, решили нарезать ветвей и соорудить подобие носилок, как вдруг появилась фея Амазонка.
— Не тревожьтесь и расступитесь, — обратилась она к ним, — дайте мне дотронуться до юного пастуха.
Она взяла его за руку и, надев ему на голову свой золотой шлем, сказала:
— Запрещаю тебе страдать от ран.
Тотчас принц встал на ноги, забрало его шлема было приподнято, и все увидели, как живо блеснули глаза его, какой воинственной силой задышало лицо: так исполнилось веление феи. Удивленный чудесным исцелением и величавой фигурой Амазонки, он в порыве восхищения, радости и благодарности кинулся к ее ногам.
— О великая королева, — молвил он, — я был серьезно ранен, и вот один ваш взгляд, единственное слово, излетевшее из ваших уст, вернули меня к жизни. Но увы! В сердце моем живет иная рана, исцелять которую я не желаю. Молю, облегчите боль от нее и даруйте мне счастие, коим поделюсь я с этой прекрасной пастушкою.
Принцесса залилась румянцем, услышав такие его речи, — ведь фея Амазонка знала, кто она на самом деле. Карпийон боялась, что волшебница станет порицать ее за то, что она дает надежду возлюбленному, столь недостойному ее по происхождению, и не решалась поднять взгляд. Вырвавшийся у нее невольный вздох вызвал у феи жалость.
— Карпийон, — сказала она ей, — сей пастух отнюдь не лишен права на вашу любовь; вы же, пастух, не сомневайтесь, что чаемые вами перемены наступят скоро и будут весьма значительны.
По своему обыкновению, едва произнеся эти слова, она исчезла. Пастухи и пастушки с триумфом проводили влюбленных в деревню, увенчав их цветочными венками в знак победы над ужасным медведем — его тушу несли следом, — и распевая песню о нежных чувствах Карпийон к принцу:
В прелестных сих местах
нас счастье ждет большое,
Нас здешний лес обворожил:
Влюбленный пастушок своею красотою
Дитя Любви пленил.
Так явились они к Верховнику, которому поведали обо всем, что произошло: как отважно пастух бился с медведем, с какой самоотверженностью пастушка помогла ему в этой схватке и, наконец, о фее Амазонке. Обрадовавшись, король поспешил к королеве.
— Сомнений нет, — сказал он ей, — и этот юноша, и эта девушка высокородны: их выдающиеся качества, красота и то покровительство, какое им оказывает фея Амазонка, указывают нам на нечто необычное.
Тут королева вспомнила про кольцо с алмазом, подарок Карпийон.
— Я все забываю показать вам то кольцо, что с необычайной грацией поднесла мне эта юная пастушка, попросив взамен дать ей одежду, которую принято носить в этих краях.
— Красив ли камень? — спросил король.
— Я успела лишь бросить на него один взгляд, — ответила королева, — но вот он.
Она показала королю кольцо, и едва он посмотрел на него, как воскликнул:
— О, боги! Что вижу я? Как?! Неужели не узнали вы ту драгоценность, что получил я из ваших рук?
С этими словами он нажал на известную ему секретную пружину. Алмаз поднялся, и под ним королева увидела свой портрет — она заказывала его для короля, а кольцом этим, надетым на цепочку, играла когда-то ее малышка-дочь, когда мать кормила ее в башне.
— Ах, Ваше Величество, — промолвила она, — сие приключение столь необычайно, что разом оживляет все мои скорби. Поговорим же с пастушкой, чтобы узнать побольше.
Она позвала Карпийон и сказала ей:
— Дочь моя, я так долго ждала от вас признания, которое несказанно бы нас обрадовало, надумай вы сделать его по собственной воле. Но, коль скоро вы продолжаете скрывать от нас ваше происхождение, будет справедливо сказать, что нам все известно; а разрешить эту загадку помогло подаренное вами кольцо.
— Ах, матушка! — И принцесса опустилась на колени перед королевой. — Я столь упорно скрывала вовсе не потому, что так мало вам доверяю, — нет, а только лишь из опасения, что вам будет больно видеть принцессу в таком плачевном положении. Мой отец был королем Мирных Островов, но захватчик сверг его, заточив в башню вместе с моей матерью-королевой. Три года спустя они нашли способ спастись, воспользовавшись помощью стражника: но когда меня спускали в корзине под покровом ночи, веревка оборвалась, и я упала в озеро. Не знаю, как я не утонула, но наутро рыбаки, расставившие сети для ловли карпов, нашли меня запутавшейся в них. По размеру и тяжести они вообразили, что им попался самый огромный карп в озере. Однако, увидев меня и поняв, что их ожидания обмануты, рыбаки хотели было бросить меня обратно в воду на корм рыбам, но потом решили все же оставить в сетях и отнесли тирану, который, зная о побеге моей семьи, тотчас понял, что я и есть несчастная маленькая принцесса, оставленная на произвол судьбы. Его жена, у которой не было детей, пожалела меня и вырастила, дав мне имя Карпийон, тем самым, быть может, желая заставить меня позабыть о своем происхождении; однако сердце всегда подсказывало мне, кто я. Сколь горька бывает жизнь, если наши чувства противоречат выпавшей доле. Так или иначе, но вскоре королевство моего отца, которым тогда спокойно правил его соперник, захватил принц, прозванный Горбуном.
Смена тирана сделала мою судьбу еще горше. Горбун увез меня как свой триумфальный трофей и решил жениться на мне вопреки моей воле. Доведенная до отчаяния, я решилась бежать одна, переодевшись пастушкой и ведя в поводу корову. Принц Горбун стал повсюду искать меня и нашел случайно. Он, несомненно, узнал бы меня, если бы великодушная фея Амазонка не дала мне букетик левкоев для защиты от врагов. Таким же милосердным ее деянием было направить меня к вам, моя добрая матушка, — продолжала принцесса, — и если я до сего момента не рассказывала вам всей правды о себе, то не от недоверия, а только лишь из боязни причинить вам боль. Я вовсе не жалуюсь, — спохватилась Карпийон, — ибо лишь с тех пор, как я у вас, отдыхает душа моя. Признаюсь, что сельскую жизнь, столь приятную и бесхитростную, я с радостью предпочла бы придворной.
Говоря так пылко, она и не замечала, как по щекам королевы текут слезы, да и в глазах у короля блестит предательская влага. Едва Карпийон замолчала, как они оба кинулись к ней и долго обнимали молча; принцесса же, растроганная так же, как и они, тоже заплакала. Как нам описать чувства трех благородных горемык, в чьем счастье было столько боли. Наконец королева, с трудом овладев собою, сказала Карпийон:
— Возможно ли, дитя души моей, что после столь долгой скорби о твоей ужасной кончине боги вернули тебя матери, даруя ей утешение в невзгодах? Да, милое дитя, перед тобой та, которая выносила тебя и вскормила; вот и король, твой отец, — ибо это мы произвели тебя на свет. О, солнце очей моих! О, принцесса, отнятая у нас гневом небес, — с какой великой радостью отметим мы твое счастливое возвращение!
— А я, милая матушка и моя бесценная королева, — воскликнула принцесса, бросившись к ее ногам, — я-то какими словами, какими делами могу выразить вам обоим всю любовь и почтение, какие сейчас чувствует мое сердце? Как случилось, что, уже не смея надеяться увидеть вас снова, я именно тут и нашла приют от всех тягот?
Тут они вновь бросились друг другу в объятия и обнимались несколько часов кряду. Потом король и королева отпустили Карпийон, запретив ей говорить о случившемся, — они боялись любопытства местных пастухов: те хоть и были простаками, но подчас любили совать нос в чужие тайны.
Принцесса хранила секрет от тех, к кому была равнодушна, — но как не посвятить в него юного пастуха, как таиться от того, кого любишь? Она давно корила себя за то, что скрывает от него свое происхождение.
«В каком неоплатном долгу предо мною был бы он, если б знал, что, рожденная принцессой, я опустилась столь же низко? Увы! Скипетр и пастуший посох равны пред любовью; в силах ли столь превозносимое людьми мнимое величие, заполнив нашу душу, принести нам совершенное счастье? Нет, лишь добродетели это под силу. Она, вознеся нас выше трона, учит пренебречь им. Пастух, который любит меня, мудр, умен, мил; какой принц может сравниться с ним?»
Среди этих размышлений она вдруг увидела пастуха у своих ног: он следовал за нею к берегу речки и теперь протягивал ей букет цветов, восхитительных в своем разнообразии.
— Где вы были, прекрасная пастушка? — спросил он. — Вот уже несколько часов я ищу и с нетерпением жду вас.
— Пастух, — ответила она, — меня задержали удивительные события. Я буду упрекать себя, если не расскажу вам о них, однако же помните, что сей знак моего доверия требуется держать в строжайшем секрете. Я принцесса, мой отец был королем, и сейчас я вновь обрела его в лице Верхов-ника.
Принца так смутили и взволновали эти известия, что он слушал, не перебивая и затаив дыхание, хотя Карпийон и рассказывала обо всем с исключительной доброжелательностью. Сколь многого боялся он сейчас: что мудрый пастух, воспитавший его, теперь не отдаст за него свою дочь, ибо он уж не пастух, а король, или что она сама, почтя слишком великой разницу между ним и красавицей принцессой, лишит его даже и едва появившихся знаков поощрения.
— Ах, госпожа, — печально молвил он, — я пропащий человек, и лучше мне умереть. Вы дочь короля и отыскали своих родителей, а я всего лишь несчастный, у которого нет ни родины, ни дома. Орлица была мне матерью, а ее гнездо — колыбелью. Если я ранее и удостоился нескольких ваших благосклонных взглядов, то теперь вас заставят отказаться от меня.
Принцесса помолчала мгновение, а затем, ничего не ответив, вынула заколку, поддерживавшую прядь ее прекрасных волос, и вырезала ею на коре дерева:
Вы любите ли ту, которую пленили?
Следом и принц вывел такие слова:
Любовным пламенем душа обожжена!
Ниже принцесса добавила:
Так радуйтесь же: та, кого вы полюбили,
В вас тоже влюблена.
В порыве счастья принц бросился к ее ногам и, сжимая ее руку, сказал:
— Уняв боль моего сердца, прекрасная принцесса, вы новыми свидетельствами своего расположения сохраняете мне жизнь. Только не забывайте слов, которыми сейчас выразили вашу благосклонность.
— Никогда мне их не забыть, — ласково улыбнулась она, — верьте моему сердцу, что бьется скорее для вас, чем для меня самой.
Они, несомненно, проговорили бы еще долго, будь у них побольше времени, но пора было вести назад стада, и влюбленные заторопились домой.
Между тем король с королевой вдвоем совещались, как теперь быть с Карпийон и юным пастухом. Пламя разгоравшегося в сердцах молодых людей чувства, дарованная им небом совершенная красота, ум, изящество их манер — все заставляло желать, чтобы сей союз продлился вечно, и они одобряли его, пока не узнали о том, кто она. Однако теперь, обретя в Карпийон дочь, они видели в ней совсем иное; пастух же для них по-прежнему был несчастным горемыкой, которого бросили на растерзание диким зверям, не иначе чтоб избавиться от лишнего рта. Наконец, они решили сказать Карпийон, чтобы она не подкрепляла более надежд, которыми пастух льстил себя, и даже твердо заявила ему, что не желает оставаться в этих краях.
Едва рассвело, королева позвала к себе принцессу. Она говорила с ней очень ласково, но разве есть слова, способные унять столь сильную тревогу? Напрасно Карпийон сдерживалась: лицо ее то пылало жаром, то мертвенно бледнело, а потухший взор явно говорил о печали. Ах, как корила она себя за сделанное признание! И все-таки она покорно заверила мать в полном своем послушании. Выйдя же, принцесса едва дошла до своей кровати и бросилась на нее, заливаясь слезами, сетуя и раскаиваясь.
Наконец она поднялась, ибо настал час вести овец на выпас. Однако она направилась не к реке, а углубилась в лес, прилегла на мох и, положив руки под голову, погрузилась в мечты. Принц, всегда беспокоившийся, если Карпийон не было рядом, отправился искать ее и внезапно появился перед нею. При виде его она громко вскрикнула, словно захваченная врасплох, поспешно встала и отпрянула, стараясь не встречаться с ним взглядом. Это было так неожиданно, что повергло его в растерянность; устремившись за нею, он спросил:
— Что ж! Тогда, о пастушка, раз хотите вы моей смерти, не отказывайте уж себе в удовольствии видеть и последний вздох мой. Отчего переменились вы к верному пастуху, отчего не помните вчерашних обещаний ваших?
— Увы и ах! — молвила она, бросив на него печальный взгляд. — В каком злодеянии вы меня обвиняете? Я несчастна, ибо вынуждена слушаться приказов, от которых мне невозможно уклониться. Сжальтесь надо мною и не ищите более встреч: так надобно.
— Так надобно? — вскричал он, в отчаянии воздев к небу руки. — Надобно, чтобы я избегал вас, божественная принцесса? Да возможно ли, что сами вы отдаете мне приказ столь жестокий и незаслуженный? Что же будет тогда со мною, если дарованная вами радостная надежда угаснет, а жизнь моя продолжится?
Карпийон, страдая не меньше возлюбленного, упала без чувств, не в силах проронить ни слова. Тут до крайности взволнованный и растерявшийся принц ясно понял, что она хотела бы воспротивиться данным ей приказам; уверенность эта немножко облегчила его терзания.
Не теряя ни мгновения, он бросился ей на помощь. Водою из ручья, тихо журчавшего в траве, принц смочил лицо пастушки, и подглядывавшие из-за кустов амуры шепотом поведали остальным крылатым малышам — тем было плохо видно, — что он посмел украсть ее поцелуй. Тут принцесса открыла глаза и, оттолкнув своего милого пастуха, сказала:
— Бегите! Если сюда придет матушка, она рассердится на вас.
— Значит, я должен оставить вас на съедение медведям и кабанам, — вздохнул он, — или, чего доброго, гадюка или другая змея приползет и укусит вас, пока вы лежите тут одна и без чувств.
— Лучше подвергнуть себя опасности, — возразила она, — чем вызвать гнев королевы.
Пока принц и принцесса вели столь нежную и милую беседу, в королевских покоях вдруг, откуда ни возьмись, появилась фея-покровительница в полном снаряжении, а глаза ее сверкали ярче драгоценных камней, украшавших ее латы и шлем. Она молвила королеве:
— Где же благодарность за мой дар, ваше величество, — ведь это я вернула вам дочь; не будь меня, она утонула бы, запутавшись в рыболовных сетях; а сейчас вы обрекаете на смерть от душевных мук пастуха, заботу о котором я тоже поручила вам. Не думайте больше о том, что препятствует их союзу, — настало время соединить их. Вы же, славный Верховник (обратилась она к королю), подумайте об их свадьбе, ибо таково мое желание, в исполнении которого у вас никогда не будет причин раскаиваться.
И тут, не дожидаясь ответа, она исчезла, оставив за собою лишь столб света, похожий на солнечный луч.
Король и королева были равно изумлены и обрадованы, что веления феи оказались столь приятными.
— Не стоит сомневаться, — молвил король, — что этот загадочный пастух по происхождению не ниже Карпийон, ибо его покровительница слишком благородна, чтобы желать союза тем, кто друг другу не пара. Как видите, именно она спасла нашу дочь из озера, где ей грозила неминуемая гибель. Чем заслужили мы ее покровительство?
— Я слышала, — ответила королева, — что есть добрые и злые феи, и те и другие действуют сообразно своему гению: одни проникаются к людским семьям любовью, а другие — ненавистью. Должно быть, Амазонка — фея добрая и потому благосклонна к нам.
Они все еще беседовали, когда вернулась принцесса с печалью и тоской во взгляде. Принц, не решившись сопровождать ее, явился чуть позже. Стоило лишь разок взглянуть на него, чтоб понять, как он удручен. За ужином пара несчастных влюбленных, некогда отрада сего дома, безмолвствовала, не смея даже поднять глаз.
Вдруг король, встав из-за стола, пригласил пастуха в сад. Принц побледнел и похолодел, Карпийон же, думая, что отец решил прогнать его, тоже не на шутку встревожилась. Верховник прошел в беседку, сел на скамью и молвил, взглянув ему в глаза:
— Сын мой, вам ли не знать, что я воспитал вас в любви, как дар, посланный мне богами, дабы поддержать меня и скрасить мою старость. Однако вот вам и лучшее доказательство моего расположения: я выбрал вас в мужья моей дочери Карпийон. Вам приходилось слышать, как я оплакивал ее гибель. Небеса, вернувшие мне ее, желают, чтобы она принадлежала вам, того же от всего сердца хочу и я. Не станете же вы единственным, кто воспротивится этому?
— Ах, отец мой! — воскликнул принц, бросаясь к ногам короля. — Смею ли я надеяться, что слух не обманывает меня? Неужто и вправду мне выпало счастье быть вашим избранником, или вы лишь хотите узнать, какие чувства питаю я к прекрасной пастушке?
— Нет, мой возлюбленный сын, — ответил король, — не мечитесь больше меж надеждой и страхом: я решил, что свадьбе быть через несколько дней.
— Вы слишком добры ко мне, — возразил принц, обнимая колени Верхов-ника, — и если я не в силах сейчас подобающе выразить свою благодарность, то лишь от безмерной радости.
Король поднял его с колен и приласкал; и, хотя и не осмелившись еще открыть ему, какого тот высокого рода, обхождением своим намекнул, что благородство его происхождения превосходит то, до какого низвела его судьба теперь.
Меж тем Карпийон, полная тревоги, вышла в сад вслед за отцом и возлюбленным, и, спрятавшись под деревьями и наблюдая за ними, увидела принца у ног короля; решив, что он умоляет не обрекать его на жестокое изгнание, и не справившись со своими чувствами, она бросилась бежать в лес, словно лань, преследуемая охотниками со сворой собак. Не испугали ее ни свирепость диких зверей, ни острые терновые шипы, впивавшиеся в нее со всех сторон. Эхо разносило ее скорбные вопли; казалось, одной лишь погибели она ищет, — меж тем пастух, сгорая от нетерпения сообщить ей радостные вести, которые только что узнал, побежал за ней следом.
— Где вы, моя пастушка, моя милая Карпийон? — взывал он. — Если слышите меня, остановитесь! Мы будем счастливы!
Тут он заметил ее: в лощине принцессу окружили несколько охотников, силой пытавшиеся посадить ее на коня позади какого-то горбатого недоростка.
Увидев это и услышав зов возлюбленной, принц устремился вперед быстрее стрелы, пущенной с туго натянутой тетивы. Не имея иного оружия, кроме пращи, он с такой точностью и силой метнул камень в похитителя его пастушки, что тот от сокрушительного удара по голове вылетел из седла.
Карпийон, упавшую было без сил, подбежавший принц успел подхватить; но напрасно было сопротивляться — челядь принца Горбуна, — а похитить принцессу хотел именно он, — перерезала бы пастуху горло, если б Горбун знаком не остановил своих людей.
— Ну нет, — произнес он, — этот у меня все муки претерпит, прежде чем умрет.
Посему юного принца лишь связали грубыми веревками, как и принцессу, позволив влюбленным, однако, переговариваться друг с другом.
Слуги злодея Горбуна тем временем мастерили для него носилки; затем все отправились в путь, и никто из пастухов не знал о несчастье, случившемся с принцем и принцессой, так что некому было рассказать о нем Верховнику. Легко вообразить, как тот забеспокоился, когда с наступлением ночи они не вернулись. Королева тревожилась не меньше. Несколько последовавших за этим дней король с супругой и все местные пастухи разыскивали юных влюбленных, в бессилии оплакивая их. Надо сказать, что хотя принц Горбун так и не позабыл принцессу Карпийон, время все же немного приглушило его страсть. Если ему наскучивало чинить убийства и резать без разбора всех неугодных, он отправлялся на охоту и, бывало, на целую неделю. И вот однажды во время долгой охоты он неожиданно заметил на тропинке принцессу. Боль Карпийон была столь нестерпимой, что она и не подумала захватить с собой букетик левкоев; тут Горбун и узнал ее с первого взгляда.
— О, наихудшее из мыслимых несчастий! — шептал пастух своей пастушке. — Увы! Как близок был тот счастливый миг, когда наш союз мог быть скреплен навеки.
И он рассказал принцессе о разговоре с Верховником. Легко понять, как корила себя Карпийон.
— Я стану вашей погибелью, — говорила она, заливаясь слезами, — я словно сама веду вас на казнь, а ведь я отдала бы за вас жизнь. Я — причина вашего несчастья, из-за собственной неосторожности я оказалась в безжалостных руках своего жестокого гонителя!
Такие речи вели они, пока не приехали в столицу старого доброго короля, отца Горбуна. Ему доложили, что сына его принесли на носилках, ибо один юный пастух, защищая свою пастушку, нанес ему такой удар камнем из пращи, что жизнь его в опасности. Встревоженный этим известием, король тотчас приказал бросить пастуха в темницу; Горбун же, в свою очередь, отдал тайный приказ, чтобы туда же отвели и Карпийон, ибо давно решил, что если она не выйдет за него замуж, то окончит жизнь в муках. Посему и случилось так, что влюбленных разделяла теперь лишь грубо сколоченная дверь; слабым утешением было для них видеть друг друга сквозь щели в ней, когда солнце стояло в зените, в остальное же время переговариваться.
Каких только нежных и страстных слов не наговорили они друг другу! Все, что сердце может почувствовать, а ум — вообразить, они выражали в столь трогательных речах, что сами были все в слезах; да тут заплакал бы и любой, кто услышал бы их.
Люди злодея-принца, приходившие каждый день, угрожали принцессе неминуемой смертью, если не выйдет она за Горбуна по доброй воле; она же выслушивала их с непреклонностью и презрением, свидетельствовавшими о тщетности переговоров; а потом шептала принцу:
— Не бойтесь, мой милый пастух, что страх перед жестокими пытками способен толкнуть меня на измену. Мы хотя бы умрем вместе, коль уж не удалось нам вместе жить.
— Уж не думаете ли вы утешить меня такими речами, прекрасная принцесса? — спрашивал ее принц. — Ах! Мне было бы легче видеть вас с этим чудовищем, чем в руках палачей, которым вас угрожают отдать!
Тут Карпийон принималась упрекать его в слабости, беспрестанно обещая, что уж она-то явит ему пример бесстрашной смерти.
Горбун тем временем немного оправился от раны. Любовь его была уязвлена неизменным отказом принцессы, и он решил выместить на ней ярость, казнив вместе с напавшим на него пастухом. Выбрав день для сего мрачного события, он пригласил на казнь короля со всеми сенаторами и знатными вельможами. Самого же Горбуна принесли на носилках, дабы он в полной мере насладился жестоким зрелищем. Король, как уже было сказано, не знал, что в темнице томится принцесса Карпийон. Увидев же, как ее ведут на эшафот вместе с несчастной гувернанткой, тоже приговоренной Горбуном к смерти, и с юным пастухом, прекрасным как ясный день, он тотчас приказал привести их на балкон, где расположился со всем двором.
Не дожидаясь сетований принцессы, король поспешно перерезал ее путы. Взглянув же на пастуха, он почувствовал, как сердце его сжалось от нежности и жалости.
— Дерзкий юнец, — обратился король к нему, всячески стараясь придать своему голосу суровость, — как посмел ты напасть на великого принца и едва не убить его?
Пастух же при виде столь почтенного старика, облаченного в королевскую мантию, в свою очередь испытал глубокое уважение и доверие, доселе ему не ведомые.
— Великий государь, — сказал он королю с восхитительной твердостью, — причина моего безрассудства — опасность, в которой оказалась эта прекрасная принцесса. Я не ведал, что то был ваш сын, да и как мне было счесть его таковым, застав за деянием, столь жестоким и не достойным его положения?
Возвысив голос, он взмахнул рукой; тут рука обнажилась, и король увидел у него на плече родимое пятно в форме стрелы.
— О боги! — воскликнул он. — Да верить ли мне глазам своим? Неужели я вновь обрел сына, которого давно потерял?
— Да, великий король, — молвила фея Амазонка еще с небес, в которых парила верхом на великолепном скакуне. — Да, ты не ошибся: вот твой сын, которого сберегла я в орлином гнезде, куда его велел отнести жестокосердный брат. Пусть этот сын станет твоим утешением, ибо другого ты сейчас потеряешь.
И тут фея ударила злого Горбуна в самое сердце пылающим копьем. Она предпочла не подвергать его долгой смертной муке — и пламя мгновенно поглотило его, как будто в него ударила молния.
Вслед за этим она приблизилась к балкону и отдала свои доспехи принцу.
— Я обещала их тебе, — сказала она ему, — неуязвимый в них, ты станешь величайшим воителем на свете.
Тут раздались звуки множества труб и всех военных орудий, какие только можно представить, однако вскоре этот громовой шум сменила мелодия симфонии, нежно воспевавшей принца и принцессу. Фея Амазонка спешилась, встала перед королем и попросила его быстрее отдать распоряжения, необходимые для свадьбы влюбленных. Маленькой фее, мигом явившейся на ее зов, Амазонка приказала отправиться за королем-пастухом, королевой и их дочерьми, да не мешкать и вернуться поскорее. Та тотчас исчезла, и не прошло мгновенья, как она появилась вновь уже вместе с именитыми изгнанниками. Какое счастье после столь долгих невзгод! Дворец оглашали крики радости, подобной которой не испытывали еще ни один король и ни один принц.
Всем распоряжалась фея Амазонка, и одно ее слово делало больше, чем под силу совершить тысяче людей. Свадьба завершилась с пышностью, какой на свете не видывали. Король Верховник вернулся в свои владения. Карпийон вместе с дорогим супругом имели удовольствие проводить его. Старый же король помолодел от счастья, что новообретенный сын столь достоин его любви, — по крайней мере, старость его прошла в таком довольстве, что он прожил еще очень долго.
* * *
Характер юноши, мой друг,
Легко направит тот, кто направлять умеет,
Ведь сердце воска мягкого нежнее,
Что ловких слушается рук.
Податливою чтоб руководить душою,
Тяжелого не надобно труда,
Ведь все, что было в ней начертано тобою,
Уж не сотрется никогда.
По морю жизни можно смело
Пускаться в путь, коль кормчий есть умелый,
Чтобы дорогу указать.
А принцу, чей портрет я написала,
Судьба благая ниспослала
Того, кто мог его достойно направлять.
Он в добродетелях умел его наставить,
Но и Амур умеет сердцем править;
Напрасно требует постылый критик мой,
Чтоб нежности герой сопротивлялся
И только разуму лишь подчинялся:
Любовь — прекрасный рулевой.
Пер. О. Л. Берсеневой (проза), М. А. Гистер (стихи)
Лягушка-Благодетельница[241]

Королева уехала с печальным сердцем, предоставив мужа всем тяготам войны; ее везли, часто останавливаясь на привал, из опасения, что столь долгое путешествие утомит ее и она захворает; так, в тревогах и скорбях, она наконец добралась до замка. Хорошенько отдохнув, королева захотела прогуляться по окрестностям и не нашла ничего, что могло бы ее развлечь; и справа, и слева, спереди и сзади видела она лишь обширные пустыри, доставлявшие ей больше скорби, чем радости. Грустно осматривая их, она, бывало, говорила так:
— И велика же разница между тем местом, где я нахожусь сейчас, и тем, в каком я провела всю жизнь! Уж лучше мне умереть, чем оставаться здесь: с кем поговорить в этих безлюдных краях? С кем разделить мне свои тревоги? И за что прогнал меня мой король? Кажется, он хочет, чтобы я поняла всю горечь разлуки с ним, для того только и сослал меня в столь отвратительный замок.
Привыкнув сетовать на невзгоды, хотя король и писал ей каждый день из осады, сообщая добрые вести, она печалилась все больше и наконец приняла решение возвратиться к мужу; а поскольку слугам было приказано привезти ее назад только если король пришлет срочного гонца, то королева никого в свой замысел не посвятила, а лишь велела смастерить себе маленькую повозку, где хватало места только для нее одной, сказав, что хочет-де как-нибудь отправиться на охоту. Умея сама править конской упряжкой и на зависть ловчим мчаться едва ли не быстрее охотничьих псов, она могла уехать на такой повозке, куда душа пожелает. Единственная трудность заключалась в том, что она не знала лесных дорог, но королева тешила себя надеждой, что боги доставят ее куда ей нужно, и, совершив в их честь небольшие жертвоприношения, пожелала устроить большую охоту для всех обитателей замка: она сядет в повозку, а каждый охотник пусть едет по своей дороге, дабы не оставить диким зверям ни единого пути к отступлению. Так они и разделились; молодая королева, с нетерпением ожидавшая встречи с супругом, облачилась в нарядные одежды: украсила шляпку разноцветными перьями, надела плащ, усыпанный драгоценными камнями, так что несравненной своей красою стала походить на вторую Диану[242].
Пока все еще только предвкушали радости охоты, королева отпустила поводья и подстегнула коней криками и ударами кнута. Те же сперва пошли быстрым шагом, потом пустились галопом и, наконец, помчались что есть мочи. Казалось, что повозку уносит ветром, взгляд едва за ней поспевал; несчастная королева раскаялась в своем безрассудстве, но было слишком поздно.
— А чего другого ждала я, — сетовала она, — посмев в одиночку управлять лошадьми столь гордыми и непокорными? Увы! Что со мной будет? Ах! Если бы король помыслил, что я могу подвергнуть себя подобной опасности, что бы стало с ним, столь нежно любящим? Ведь это он отправил меня подальше от столицы, лишь бы только охранить меня от злополучных бед? Вот как я отплатила за его трогательную заботу, и его милое дитя, что ношу я под сердцем, сейчас вместе со мною станет жертвой моей неосторожности.
Эхом разносились по лесу ее горестные крики, когда взывала она к богам и звала на помощь фей, но и боги, и феи ее покинули. Повозка опрокинулась, и нога обессиленной королевы, не успевшей вовремя соскочить, оказалась зажатой между колесом и осью; легко представить, что лишь чудо могло спасти ее.
Итак, она осталась лежать на земле у подножья дерева, без признаков жизни, с лицом, залитым кровью. Долгое время пробыла она без чувств, а когда открыла глаза, то увидела пред собой женщину гигантского роста, покрытую лишь львиной шкурой; ее руки и ноги были обнажены, волосы связаны сушеной шкурой змеи, чья голова свисала ей на плечи, на боку висел колчан, полный стрел, а посохом служила каменная дубина. Столь необычайное зрелище убедило королеву в том, что она мертва, ибо бедняжка не верила, что после такого ужасного происшествия она могла остаться в живых.
— Я не удивляюсь, — прошептала она еле слышно, — что так трудно решиться умереть, раз обитатели иного мира столь ужасны.
Услышав это, великанша едва не расхохоталась, поняв, что королева считает себя умершей.
— Воспрянь духом, — сказала она ей, — и знай, что ты все еще среди живых. Но все равно твоей судьбе не позавидуешь. Я — фея Львица и живу тут неподалеку; тебе же предстоит провести свою жизнь вместе со мною.
Грустно посмотрев на нее, королева промолвила:
— Что стоило бы вам, сударыня Львица, доставить меня обратно в мой замок и потребовать у короля выкупа за мое избавление — он ведь любит меня так нежно, что не откажется уступить вам и полцарства.
— Нет, — ответила фея, — я достаточно богата, а вот одной мне тут что-то скучно живется; а ты умна, так что, быть может, меня развлечешь.
С этими словами она приняла облик львицы и, взвалив королеву себе на спину, унесла ее вглубь мрачной пещеры; едва очутившись там, фея сразу же исцелила ее, натерев неким снадобьем.
Какое удивление и горе испытала королева, очнувшись в столь ужасном месте! Ее спустили туда по десяти тысячам ступеней, которые вели к центру земли; тьму освещало только множество больших лампад, отражавшихся в озере из ртути. Озеро же то кишело чудовищами, чьи разнообразные обличья ужасали королеву, хоть она и была не из робких; то и дело ухали филины и совы, каркали вороны или же слышались столь же зловещие голоса других птиц; вдалеке виднелась гора, с которой стекали почти застывшие потоки; то были все слезы, когда-либо пролитые несчастными любовниками, чьи горестные чувства обрели здесь хранилище. На деревьях ни листьев, ни плодов; земля покрыта лишь ноготками, колючками и крапивой; под стать суровому климату этого края и пища: немного сушеных кореньев, горькие конские каштаны да плоды шиповника. Только это и утоляло голод несчастных, попавших в лапы к фее Львице.
Не успела королева хоть чуть-чуть окрепнуть, как фея приказала ей соорудить себе хижину, ибо она останется с ней на всю жизнь; услышав такое, королева не смогла сдержать слез.
— Ах! Что я вам сделала! — воскликнула она. — За что вы меня здесь держите? Если моя близкая кончина, которую я уже чую, доставит вам удовольствие, убейте меня, о другом я вас и молить не смею, но не обрекайте меня на длинную и скорбную жизнь без моего супруга.
Фея посмеялась над ее горем, посоветовав не реветь, а лучше попробовать ее развлечь; а ежели ослушается, то вот тогда-то и вправду станет самой несчастной на свете.
— И что же нужно сделать, — спросила королева, — чтобы тронуть ваше сердце?
— Я люблю, — ответила фея, — пироги с мухами; извольте-ка наловить столько, чтобы испечь для меня большой и вкусный пирог.
— Да ведь тут, кажется, ни единой мушки нет, — возразила королева, — а если б и были, как поймать их в такой темноте; а даже и поймай я их, так все равно не умею печь пироги; сами видите, что даете мне приказания, коих я не могу исполнить.
— Не важно, — заявила безжалостная Львица, — как я хочу, так и будет.
Ничего не ответила ей королева; подумала только, что ей нечего терять, кроме жизни, и не стоит ей бояться жестокости феи. Посему, вместо того чтобы пойти за мухами, она села под тисом и принялась горестно причитать.
— Каким будет ваше горе, мой дорогой супруг, — говорила она, — когда, придя за мною, вы не найдете меня? Вы подумаете, что я умерла или была вам неверна, и, по мне, лучше бы вы оплакивали утрату моей жизни, нежели моего расположения; а что, если в лесу отыщут мою разбитую повозку и все те украшения, которые я надела, чтобы доставить вам радость. Тогда уж вы не усомнитесь в моей смерти и, как знать, не подарите ли вы другой ту часть вашего сердца, какую отдали мне? Но, к счастью, я об этом не узнаю, ибо мне уже не суждено возвратиться на белый свет.
Она бы еще долго продолжала так разговаривать сама с собою, как вдруг у нее над головой печально каркнул ворон. Королева подняла глаза и в тусклом прибрежном свете и вправду различила большого ворона: он держал в клюве лягушку и уже собрался ее склевать.
— Хотя это и не облегчит мои страдания, — сказала тогда королева, — я не хочу пренебрегать спасением несчастной лягушки, которая тоже по-своему страдает, подобно мне самой. — Она подняла с дороги первую попавшуюся палку и запустила ею в ворона; лягушка, упав с такой высоты, осталась лежать на земле, совсем оглушенная, однако же, вновь обретя свои лягушачьи силы, молвила:
— Прекрасная королева, вы — единственный свершитель благих дел из всех людей, кого я видела в этих краях с тех пор, как любопытство меня сюда привело.
— Вот так чудо — лягушечка умеет разговаривать, — ответила королева, — и каких таких людей вы здесь видели? Ибо я не встретила пока еще ни души.
— Все чудовища, которыми кишит это озеро, — сказала тогда Лягушка, — были некогда людьми; одни — королями, другие — их советниками, есть даже любовницы некоторых правителей, стоившие их государствам немалой крови; пиявок видели? — вот это они и есть. Их временное пребывание здесь обусловлено самой судьбою, хотя никто из тех, кто сюда попадает, не становится лучше и не исправляет своих недостатков.
— Я прекрасно понимаю, — согласилась королева, — что множество злодеев, собранных вместе, не в силах помочь друг дружке стать лучше; но вы-то, сестрица Лягушка, что здесь делаете?
— Всему виной мое любопытство, — ответила она, — я наполовину фея, и хотя могущество мое в некоторых вещах ограничено, зато в других — весьма велико; посему если фея Львица узнает, что я нахожусь в ее королевстве, она меня уничтожит.
— Да может ли быть такое, — усомнилась королева, — что ворон чуть не съел вас, фею или полуфею?
— Это я вам легко объясню, — молвила Лягушка, — самая главная моя сила заключена в розовой шапочке, и, когда она у меня на голове, я не боюсь ничего; но, к несчастью, я уронила ее в болото, как раз когда этот гнусный ворон на меня налетел; признаю, сударыня, что без вас меня бы уже не было в живых; и, поскольку я обязана вам своей жизнью, то хочу хоть чем-нибудь облегчить и вашу: вы можете приказать мне что пожелаете.
— Увы! Моя дорогая Лягушка, — сказала королева, — злая фея, которая держит меня в заточении, хочет, чтобы я приготовила для нее пирог с мухами; их здесь нет, а даже и будь они тут, их не поймать в такой темноте; боюсь, кабы мне не умереть от ее тумаков.
— Положитесь на меня, — сказала Лягушка, — сейчас будут вам мухи.
Тотчас же она натерла себя сахаром и шесть тысяч ее подруг-лягушек тоже, следом за нею; затем они попрыгали в место, где мух полным-полно, а была это камера пыток злой феи: она нарочно держала там множество мух, чтобы мучить попавших к ней несчастных. Как только мухи почуяли сахар, они облепили лягушек, а те и рады услужить: помчались что есть мочи обратно к королеве. Никогда еще не бывало такого большого улова мух и пирога лучше, чем тот, что королева испекла для феи Львицы. Когда она его ей преподнесла, фея от души удивилась, как это она ухитрилась столько их наловить.
Чтобы защититься от непогоды и ядовитых испарений, королева срубила несколько кипарисов и собралась построить себе домик. Лягушка великодушно предложила ей свои услуги и, возглавив большой отряд все тех же подружек-лягушек, помогла королеве возвести маленькое строение, самое прекрасное на свете; но стоило только королеве возлечь спать, как чудовища из озера, завидуя ее отдыху, подняли такой шум, ужаснее коего еще никогда не бывало. Перепуганная королева вскочила и убежала; а чудовищам только того и было нужно, и вот дракон, прежде бывший тираном в одном из самых прекрасных королевств во вселенной, завладел ее домом.
Несчастная и опечаленная королева принялась было всюду жаловаться на такую несправедливость, но над ней только посмеялись: чудовища ее освистали, а фея Львица сказала, что, ежели та и впредь будет докучать ей своими причитаниями, она ее поколотит. Пришлось королеве умолкнуть и вновь бежать к Лягушке, которая оказалась самой лучшей лягушкой на свете. Они поплакали вместе, ибо стоило Лягушке только надеть свою розовую шапочку, как она обретала способность смеяться и плакать, как и все в этом мире.
— Я так привязалась к вам, — призналась она королеве, — что хочу заново выстроить ваш домик, а все эти озерные чудовища пусть себе хоть лопнут.
Тотчас она нарубила деревьев, и маленький сельский замок королевы вырос так быстро, что она той же ночью в нем и укрылась.
Лягушка, позаботившись обо всем, что может понадобиться, смастерила ей постель из чабреца и дикого тимьяна; когда же злая фея узнала, что королева спит уже не на голой земле, то послала за ней.
— Кто хранит вас — люди или боги? — спросила она. — Эта почва, издревле орошаемая дождями из огня и серы, никогда не рождала даже ни единого листа шалфея; и, несмотря на это, я вижу под вашими ногами благоухающие травы.
— Я не знаю, сударыня, — сказала ей королева, — и если и есть объяснение такому покровительству, так это мое дитя, появления которого я ожидаю; быть может, ему выпадет меньше горестей, нежели мне.
— Меня одолевает желание, — сказала фея, — получить букет из самых редких цветов и трав; вот и проверьте, поможет ли вам его собрать фортуна вашего малютки; но уж ежели удача обойдет вас стороной, без моих тумаков не останетесь, а я раздаю их часто и всегда на славу.
Королеве ее угрозы пришлись совсем не по душе; она принялась плакать, в отчаянии думая, что никогда и нигде не отыщет таких цветов.
Потом возвратилась в свой домик, а ее подруга Лягушка тут как тут.
— Как вы печальны! — сказала она королеве.
— Увы! Моя дорогая сестрица, кто бы не печалился? Фея хочет получить букет из самых красивых цветов. Но где мне их найти? Сами видите, что за цветы здесь растут; но, если я ей не услужу, жизнь моя в опасности.
— Милая государыня, — любезно ответила Лягушка, — мы с подругами попытаемся помочь вам в этой беде; я тут подружилась с одной летучей мышью: это доброе создание передвигается быстрее меня, дам-ка я ей свою шапочку из розовых лепестков, а с ее помощью она отыщет для вас цветы.
Довольной королеве осталось лишь присесть в глубоком реверансе, — ведь не могла же она, в самом-то деле, заключить Лягушку в объятия.
Та же тотчас поведала обо всем летучей мыши, которая улетела и через пару часов вернулась, пряча под крыльями восхитительные цветы. Королева поспешила отнести их злой фее, удивившейся пуще прежнего: та не могла взять в толк, каким чудом королеве все удается.
А королева беспрестанно обдумывала способы побега. Она сообщила о своем горячем желании бежать доброй Лягушке, и та ей сказала:
— Сударыня, позвольте мне прежде всего посоветоваться с моей шапочкой; как она велит, так и поступим.
Тут она, надев розовую шапочку на соломинку, сожгла перед нею несколько веток можжевельника, каперса[243] и две маленькие зеленые горошины; затем проквакала пять раз, а окончив ритуал и вновь надев ее себе на голову, изрекла тоном оракула:
— Судьба, владычица всего, запрещает вам покидать эти места; здесь у вас родится принцесса, которая будет прекрасней самой Афродиты[244], а об остальном не беспокойтесь — лишь время облегчит ваши страдания.
Королева опустила глаза, уронив несколько слезинок, но все же решила поверить подруге.
— Раз так, — сказала она Лягушке, — хоть вы не покидайте меня; примите мои роды, коли уж я обречена пережить их здесь.
Честная Лягушка пообещала быть ее Луциной[245] и утешила, как только смогла.
Но пора вспомнить и о короле: покуда враги осаждали его в столице государства, он не мог постоянно посылать гонцов к королеве; однако, все атакуя и атакуя, он наконец заставил неприятеля отступить и возрадовался не столько этому, сколько тому, что теперь мог без страха отправиться к дорогой своей королеве. О случившейся же с нею беде ему не осмелился сообщить никто из слуг, ибо они нашли в лесу разбитую карету, бежавших лошадей и все убранство амазонки, которое бедняжка надела, отправившись на поиски короля. Не сомневаясь, что королева мертва, и полагая, что ее растерзали дикие звери, слуги решили сказать королю, что она скончалась от внезапного удара. Получив это прискорбное известие, он сам едва не умер от горя: рвал на себе волосы, лил потоки слез, жалобно стенал, рыдал, вздыхал, — словом, вел себя точно так, как подобает вдовцу.
Много дней король не желал никого видеть и сам никому не показывался на глаза; наконец он вернулся в свой город, влача за собою длинные траурные одежды, в которые, подобно его телу, облачилось и его сердце; все послы соседей-королей явились его поприветствовать, и после церемоний, без которых никогда не обходятся подобные несчастья, он отпустил подданных на отдых, освободив их от участия в сражениях и повелев вместо этого торговать побойчее.
Королева ничего этого не знала; время ее родов наступило, и они прошли очень удачно. Маленькая принцесса, посланная ей Небесами, была так прекрасна, как и предсказывала ей Лягушка; они назвали ее Муфеттой, и королеве стоило больших трудов получить разрешение феи Львицы ее кормить, ибо та оказалась столь жестокой и кровожадной, что прямо-таки хотела сама съесть малютку.
И вот чудо-девочке Муфетте исполнилось уже шесть месяцев, а королева, глядя на нее и с нежностью, и с жалостью, все повторяла:
— О! Доведись только твоему отцу-королю увидеть тебя, моя бедная малютка, как бы он был рад, как бы ты стала ему дорога! Но что, если в эту самую минуту он уже забывает меня, думая, что мы навеки похоронены во мраке смерти; быть может, другая занимает в его сердце место, которое он прежде отводил мне.
Эти горестные раздумья стоили ей многих слез; видя это, Лягушка, искренне любившая королеву, однажды сказала ей:
— Пожелай вы только, сударыня, — и я отправлюсь на поиски короля, вашего супруга; путь далек, и я бреду медленно; но рано или поздно я до него доберусь.
Невозможно было больше обрадоваться этому предложению, чем обрадовалась королева, сразу же прижавшая свои ладони к ладошкам Муфетты, показывая сударыне Лягушке, какую услугу та ей окажет, отправившись в такое путешествие. Она заверила, что король не останется в долгу, однако продолжила так:
— Однако же какая польза может быть, если даже король узнает о моем пребывании в этом горестном месте? Он не сможет вызволить меня отсюда.
— Такой госпоже, как вы, — важно ответила Лягушка, — лучше оставить эта хлопоты богам, а уж мы с вами сделаем все, что зависит от нас.
Они тут же и распрощались: записку мужу королева написала собственной кровью на лоскутке ткани, ибо у нее не было ни чернил, ни бумаги. Она молила его полностью доверять благодетельнице Лягушке и обо всем ей рассказывать.
Год и четыре дня поднималась Лягушка по десяти тысячам ступеней, которые вели из кромешной тьмы, где она оставила королеву, к белому свету, и еще целый год наряжалась, ибо была слишком гордой, чтобы предстать пред великолепным двором гадкой лягушкою, выпрыгнувшей из болота. Она повелела сделать носилки, достаточно большие, чтобы на них легко помещались два яйца; снаружи они были покрыты черепаховым панцирем, подбитым шкурками молодых ящериц; еще взяла она с собою пятьдесят фрейлин, — а были это те маленькие зеленые королевы, что прыгают по лугам, каждая верхом на улитке, сама в английском седле, а лапкой опиралась на прелестный ленчик; впереди улиток шествовало множество водяных крыс, одетых пажами, — им Лягушка доверила охрану своей персоны. Но милей всего на свете смотрелась ее шапочка из алых лепестков роз, все еще свежих и гладких, которая так была ей к лицу. Лягушка, кокетливая от природы, не преминула нарумяниться и прикрепить мушки; говорили даже, будто она накрасилась, как и большинство дам в тех краях; но уж это наверняка болтали злые языки.
Она провела в пути семь лет, пока бедная королева сносила невыразимые тяготы и невзгоды, и, не утешай ее прекрасная Муфетта, она бы умерла уже многие сотни раз. Какое слово ни сорвется с уст прелестной малютки, всем очарована мать, все сердца кругом делаются мягче, добрей становится и сама фея Львица; и вот, когда королева прожила в этом ужасном месте уже шесть лет, фея пожелала взять ее с собой на охоту при условии: всех, кого королева убьет, она отдаст Львице.
С какой радостью бедная королева вновь увидела солнце! Она так от него отвыкла, что теперь чуть было не ослепла. Что до Муфетты — та была такой ловкой для своих пяти или шести лет, что никто не уходил от наносимых ею ударов; этим мать и дочь немного смягчили жестокость феи.
Лягушка же плелась днем и ночью по горам и долинам, пока наконец не очутилась вблизи большого города, который король сделал своей столицей; ее весьма поразило, что вокруг одни лишь пляски да пиршества; все только и делали, что смеялись и пели; и чем ближе она подходила к городу, тем больше было радости и ликования. Ее болотная свита всех удивила, каждый норовил увязаться следом, и в город она вошла уже с такой большой толпой, что едва добралась до дворца; тут тоже царило небывалое оживление. Король, вот уже девять лет как вдовец, наконец уступил мольбам своих подданных и собирался жениться на принцессе, по правде говоря, не такой красивой, как его жена, но, нельзя этого отрицать, весьма миловидной.
Добрая Лягушка, спустившись с носилок, вошла к королю в сопровождении всей своей свиты. Ей не пришлось даже просить аудиенции: государь, его невеста и все принцы и без того горели желанием узнать причину ее появления.
— Ваше Величество, — сказала Лягушка королю, — уж не знаю, радость или страдания принесет вам мое известие: свадьба, которую вы вот-вот сыграете, убеждает меня, что королеве-то вашей вы неверны.
— Воспоминания о ней мне все еще дороги, — молвил тут король (уронив несколько слезинок, которые не смог сдержать), — но вы должны знать, милая Лягушка, что короли не всегда делают то, что хотят; вот уже девять лет мои подданные настаивают на том, чтобы я снова женился, ибо я должен оставить им наследников. И вот мой выбор пал на эту юную принцессу, которая кажется мне очаровательной.
— Я не советую вам брать ее в жены, — сказала Лягушка, — ибо многоженство карается виселицей: королева не умерла; вот письмо, написанное ее кровью, она сама его мне вручила: прочтите же, что ваша маленькая принцесса Муфетта прелестней всех небожителей вместе взятых.
Король взял лоскут, на котором королева торопливо написала несколько слов, поцеловал его, оросив слезами, и показал всем собравшимся, сказав, что прекрасно узнает почерк своей жены; потом забросал Лягушку вопросами, на которые та ответила столь же пылко, сколь и разумно. Тут принцесса-невеста и послы, обязанные присутствовать при ее венчании, возмутились и насупились.
— Как же можете вы, Ваше Величество, — сказал самый важный из них, — из-за слов какой-то жабы разрушать столь торжественный союз? Эта болотная тварь дерзнула явиться сюда и лгать вашему двору, да еще и, к своему удовольствию, имеет несчастье быть услышанной.
— Надо вам знать, господин посол, — ответила Лягушка, — что я не болотная тварь; и раз уж нужно показать мое уменье, вот вам: взгляните на всех этих фей и феев[246].
И тут лягушки и лягушата, крысы, улитки, ящерицы во главе с нею самой показались уже не в обличье маленьких гадов, нет — их фигуры обрели стройность и стать, лица поражали благородством черт, глаза засияли ярче звезд, и у каждого на голове сверкала корона из драгоценных камней, а на плечах была королевская мантия из бархата, с горностаевой опушкой и длинным шлейфом — его несли карлики и карлицы. В тот же миг, откуда ни возьмись, выскочили трубы, литавры, гобои и барабаны, которые пронзали облака своими звуками, приятными и воинственными, а все феи и волшебники принялись танцевать с такой легкостью, что стоило им чуть-чуть подскочить — а они уже под самым потолком. Только успели король и будущая королева насторожиться, удивленные один не меньше другой, как вдруг сии почтенные танцоры обернулись цветами и тоже пустились в пляс — жасмины, нарциссы, фиалки, гвоздики, туберозы, только с руками и ногами. То была ожившая клумба, к тому же еще и весьма ароматная.
Мгновенье спустя цветы исчезли, и их место заняли многочисленные фонтаны; они стремительно взмывали ввысь и вновь падали в большой канал у подножия замка; он был покрыт маленькими расписными и золочеными лодками, столь красивыми и изящными, что принцесса пригласила послов отправиться с ней на водную прогулку. Те с радостью согласились, полагая, что это всего лишь игра, предшествующая веселому свадебному пиру.
Но как только они взошли на борт, канал и все фонтаны исчезли, а венценосные особы вновь превратились в лягушек. Король спросил, куда подевалась принцесса, и Лягушка ответила:
— Ваше Величество, вам не нужен никто, кроме королевы, вашей супруги; не будь я ей другом, — мне бы и дела не было до свадьбы, которую вы едва не сыграли, но государыня ваша заслуживает такого уважения, а ваша дочь Муфетта так мила, что вы должны постараться их вызволить из беды, не теряя ни минуты.
— Признаюсь вам, сударыня Лягушка, — сказал король, — не будь я уверен, что моя жена мертва, — все на свете бы отдал, чтобы ее вернуть.
— После тех чудес, что я вам показала, — воскликнула Лягушка, — вам уж нечего сомневаться: итак, оставьте ваше королевство под добрым началом и немедля отправляйтесь в путь. Вот кольцо, которое поможет вам увидеть королеву и встретиться с феей Львицей, хоть ужаснее ее и нет никого на свете.
Король, больше не видевший своей нареченной принцессы, почти совсем про нее забыл, зато любовь к королеве, напротив, вспыхнула в нем с новой силой.
Он прещедро одарил Лягушку и отправился в путь, не пожелав, чтобы его хоть кто-нибудь сопровождал.
— Не унывайте, — такими словами проводила его Лягушка, — хоть и ждут вас страшные испытания, но, надеюсь, вам удастся совершить все задуманное.
Король, утешившись этим напутствием, удовольствовался лишь одним проводником для поисков королевы — своим кольцом.
По мере того, как Муфетта взрослела, она становилась такой прекрасной, что все чудовища из ртутного озера в нее влюбились; доходило до того, что драконы устрашающих размеров смиренно ползали у ее ног. Такого ежедневного зрелища ее прекрасные глаза вынести не могли; бедняжка бежала к матери, чтоб укрыться в ее объятиях.
— Долго ли мы здесь пробудем? — плакала она. — Неужто нет конца нашим бедам?
Королева ее обнадеживала, но в глубине души сама ни на что не надеялась: разлука с Лягушкой, от которой так и не было ни единой весточки, и столь долгое молчание короля — все это, скажу я вам, повергало ее в несказанную печаль.
Фея Львица мало-помалу привыкла брать их на охоту; она была не прочь полакомиться, и, с удовольствием съедая убитую ими дичь, в награду отдавала им ноги или голову добычи; но зато теперь им дозволялось видеть дневной свет. Фея принимала облик львицы, королева с дочерью садились на нее верхом и так носились по всем окрестным лесам.
Король, ведомый кольцом, остановившись в каком-то из них, однажды видел, как они пронеслись мимо, словно стрела, выпущенная из тетивы; не замеченный ими, он хотел было бежать вдогонку, но они быстро скрылись из виду.
Нескончаемые страдания королевы не заставили ее красоту поблекнуть, и она показалась ему прекрасной, как никогда. Огонь в его душе зажегся вновь; не сомневаясь, что та юная принцесса, что была подле нее, и есть его дорогая Муфетта, он решил, что лучше погибнуть тысячу раз, чем отказаться от намерения их вернуть.
Услужливое кольцо привело его в мрачное место, где королева провела столько лет; он был немало удивлен тем, что спустился вглубь земли; но больше всего потрясло его все, что он там увидел.
Фея Львица, которой до всего было дело, знала день и час его появления: чего бы она ни совершила, дабы заклясть Судьбу остановить его! Но теперь уж фея решила, что надо, по крайней мере, померяться с ним силами.
Она выстроила посреди ртутного озера хрустальный дворец, качавшийся на волнах, и заточила в нем бедную королеву с дочерью, обратившись затем с речью ко всем чудовищам, влюбленным в Муфетту.
— Вы потеряете эту прекрасную принцессу, — сказала она им, — если не поможете мне защитить ее от рыцаря, который явился ее похитить.
Чудовища пообещали сослужить ей хорошую службу и окружили хрустальный дворец: самые легкие из них попрыгали на крышу и стены, те, что потяжелее, стали на страже у дверей, остальные же остались в озере.
Король, следуя совету верного кольца, явился сначала в пещеру феи, поджидавшей его там в обличье львицы. Стоило ему войти, как она на него бросилась; король взмахнул мечом с доблестью, какой фея от него не ждала; и когда она занесла над ним лапу, чтобы повалить его на землю, он поразил ее в самый локоть. Она издала страшный вопль и упала, поверженная; он же, придавив ей горло ногою, осыпал ее проклятиями. Тогда фея, в которой неукротимая ярость боролась со страхом, спросила его:
— Чего ты хочешь? И чего требуешь от меня?
— Я хочу тебя наказать, — надменно ответил король, — за то, что ты похитила мою жену, и, если ты мне ее сию минуту не вернешь, я тебя задушу.
— Взгляни на озеро, — сказала ему фея, — и увидишь, в моей ли она власти.
Обернувшись, король увидел королеву и ее дочь в хрустальном замке, плававшем по ртутному озеру, как галера без руля и ветрил.
Король чуть было не умер и от радости, и с горя: крикнул что было сил — и его услышали; но как же ему добраться до них? Пока он раздумывал, фея Львица исчезла.
Король бегал вдоль озера: когда он был уже готов настигнуть прозрачный дворец, тот удалялся с немыслимой скоростью, оставляя его с разбитыми надеждами. Королева, которая опасалась, что его в конце концов сморит усталость, все подбадривала его, крича, что фея Львица-де хочет его уморить, но настоящей любви никакие трудности нипочем. Они с очаровательной Муфеттой умоляюще протягивали к нему руки. От этого зрелища король приободрился, он кричал в ответ что было сил, клялся Стиксом[247] и Ахероном[248] скорее провести остаток дней в этих горестных местах, чем уйти отсюда без них.
Надо полагать, он был наделен большим упорством, коли так безропотно сносил все невзгоды; постелью ему служила земля, покрытая шипами и колючками, пищей — лишь дикие плоды, что горче желчи, и без конца приходилось ему сражаться с озерными чудовищами. Сомневаться не приходится — мужа, способного на такое ради того, чтобы вернуть свою жену, можно было встретить лишь во времена фей, и его подвиги в должной мере отражают дух эпохи, о коей и идет речь в моей сказке[249].
Миновало три года, но король так и не приблизился к цели; почти отчаявшись, он сотню раз хотел было уже броситься в озеро; и так бы и сделал, будь это последним средством, чтоб избавить от страданий королеву и принцессу. Как-то бегал он, по обыкновению, то туда, то сюда, как вдруг его подозвал к себе ужасный дракон и сказал:
— Если вы поклянетесь короной и скипетром, а еще королевской мантией, а еще — вашей женой и дочерью, что отдадите мне на съедение один весьма лакомый для меня кусочек, который я у вас попрошу, когда захочу, то я, несмотря на всех чудовищ, что населяют озеро и охраняют хрустальный замок, перенесу вас на крыльях и обещаю вам, что мы вызволим королеву и принцессу.
— Ах! Душа моя, милейший дракон, — вскричал король, — клянусь вам и всему вашему драконьему роду, что досыта накормлю вас и навсегда останусь вашим покорным слугой!
— Не клянитесь, — ответил ему дракон, — если не намерены сдержать слова; ибо тогда я навлеку на вас столь страшные беды, что вы будете помнить о них до конца своих дней.
Король вновь повторил все свои обещания и, умирая от нетерпения, прыгнул на спину дракона так, будто оседлал самого прекрасного в мире скакуна; тотчас же чудовища выстроились в целую армию, чтобы заслонить проход: вот настал миг борьбы, слышалось лишь пронзительное шипение змей, вокруг все горело, и сера летела вперемежку с порохом. Наконец король добрался до замка, а там чудовища набросились на него с новой силой: летучие мыши, совы, вороны преграждали ему вход, но дракон когтями, зубами и хвостом порвал на части самых ревностных стражей. Королева, увидев это великое сражение, тоже вовсю рушила стены, пробивая их ногами, и потом рубила мечом на куски, помогая своему дорогому супругу; наконец они одержали победу и воссоединились — колдовству положил конец удар молнии: попав прямо в озеро, она разом осушила его.
Услужливый дракон исчез, все остальные — тоже, а король, сам не зная как, перенесся в столицу своего государства, очутившись в чудесной гостиной, за уставленным яствами столом, и притом вместе с королевой и Муфеттой. Никогда еще не бывало ни такого удивления, ни большей радости. Подданные сбежались посмотреть на своего государя и юную принцессу, которая чудесным образом оказалась так великолепно одета, что от сияния ее драгоценных камней всем приходилось прищуриваться.
Легко представить, сколько всякого рода увеселений, маскарадов, состязаний и турниров устроил этот прекрасный двор, куда съезжались самые знатные принцы со всего света, плененные прекрасными глазами Муфетты. Среди самых статных и ловких повсюду одерживал верх принц Муфи; все рукоплескали ему, все им восхищались, и юная Муфетта, которая до сих пор видела лишь змей да драконов из озера, не могла не воздать по заслугам достоинствам Муфи. Не проходило и дня без его галантных ухаживаний, и наконец он так страстно влюбился, что, будучи вправе по высоте своего положения претендовать на руку и сердце принцессы, стал нахваливать королю с королевой свое княжество: оно-де так прекрасно и велико, что заслуживает самого пристального внимания.
Король отвечал, что принуждать дочку не станет: пусть принцесса сама выберет себе мужа, но принц должен потрудиться, чтобы ей понравиться, и это единственный путь к счастью. Принц, довольный ответом, после многих встреч понял, что принцессе он не безразличен; тут наконец и Муфетта призналась ему, что ежели он не станет ее мужем, то другого у нее не будет. Муфи, упоенный радостью, кинулся к ее ногам, заклиная самыми нежными словами всегда помнить эту клятву.
Принц тотчас же бросился в покои короля и королевы доложить им об успехе, какой его любовь снискала у Муфетты, и умолял более не откладывать его счастье. Те с радостью согласились: такой он был блистательный, принц Муфи, что лишь один и казался достойным обладать восхитительной принцессой Муфеттой. Король очень хотел объявить об их помолвке, прежде чем Муфи отправится в свои владения, чтоб там отдать распоряжения о свадьбе; ведь принц ни за что не уехал бы, не убедившись окончательно, что обретет счастье по возвращении. Принцесса Муфетта, прощаясь с ним, не смогла не пролить обильных слез, ибо с горечью предчувствовала дурное; королева же, видя, как удручен разлукой и принц, дала ему портрет своей дочери и молила не так уж заботиться о пышном въезде невесты в его столицу, а лучше самому побыстрее вернуться за нею. Принц ей ответил:
— Сударыня, я никогда с таким удовольствием не подчинялся вам, как сейчас; мое сердце слишком тронуто, чтобы я пренебрегал собственным счастьем.
Он поспешно уехал, и в ожидании его возвращения принцесса Муфетта занимала себя музыкой, чудесно управляясь с инструментами, на которых научилась играть всего за несколько месяцев. Однажды, когда она была в покоях королевы, король вошел туда весь в слезах и, заключив дочь в объятия, воскликнул только:
— О, дитя мое! О, горемычный я отец! О, несчастный я король!
Он не мог говорить и все только вздыхал и вздыхал; перепуганные королева и принцесса принялись спрашивать, что стряслось, и наконец он им поведал, что только что принимал у себя великана необъятных размеров, представившегося послом дракона из озера — того самого, что помог ему победить чудовищ, а теперь напоминал о данном слове и требовал принцессу Муфетту, дабы съесть ее запеченной в тесте; а ведь он, король, связал себя ужасной клятвой, обещав отдать дракону все, что тот пожелает; в те времена не умели нарушать данное слово.
Королева, услышав столь горестные вести, сжала принцессу в объятиях, испуская ужасные вопли.
— Скорее меня лишат жизни, — восклицала она, — чем отдам я мою дочь этому чудовищу; уж лучше пусть забирает наше королевство со всем добром в придачу! Бесчеловечный отец, и вы могли согласиться на столь великую жестокость? Как же так! Мое дитя запекут в тесте? Ах! Мысль об этом мне невыносима: пришлите ко мне сего посла, изувера этакого, быть может, мое горе смягчит его сердце.
Король отправился за послом и привел того к королеве; она же вместе с дочерью, бросившись к его ногам, умоляли сжалиться и уговорить дракона взять все, что у них есть, только сохранить жизнь Муфетте; но он им ответил, что это от него вовсе не зависит: дракон слишком упрям и прожорлив, и раз уж он присмотрел себе какой-нибудь лакомый кусочек, то даже все боги вместе взятые не заставят его отказаться, и по-дружески посоветовал вести себя достойно, ибо дракон может принести им гораздо большие несчастья. От таких слов королева упала в обморок, а следом бы и принцесса, если бы ей не нужно было прийти на помощь матери.
Едва эти печальные вести разлетелись по дворцу, как о них узнал и весь город; повсюду слышались плачи да причитания, ибо Муфетту все обожали. Король не мог решиться отдать ее великану, тот же, уже прождав несколько часов, начал терять терпение и принялся изрыгать страшную ругань. Тогда сказали король с королевой:
— Что может быть еще горше? Нам нипочем, если озерный дракон явится сожрать нас; но если нашу Муфетту запекут в тесте, такого мы не переживем.
На это великан ответил, что получил известия от своего господина: пожелай только принцесса выйти замуж за племянника дракона, и тот согласится оставить ее в живых; а кстати, этот племянник статен, хорош собой и вообще принц, и она будет жить с ним в полном достатке.
Это предложение немного смягчило горе Их Величеств, и королева бросилась уговаривать принцессу, но та скорее согласилась бы умереть.
— Я не способна, сударыня, — сказала она, — сберечь свою жизнь ценой измены: вы обещали меня принцу Муфи, и я никогда не буду принадлежать другому; что ж, я, с вашего позволения, умру, и пусть конец моей несчастной жизни принесет покой вашей.
Тут вошел король, обратившись к дочери с самыми нежными словами, какие только можно вообразить, однако она осталась тверда; тогда он решил сам отвести ее на вершину горы, куда за ней прилетит озерный дракон.
Все было готово для горького жертвоприношения, пред мрачностью коего побледнели бы и Ифигения, и Психея[250]; все кругом заполонили черные одеяния, восковые и мрачные лица, и четыре сотни самых красивых девушек, облачившись в длинные белые одежды и водрузив на головы венки из кипариса, вышли сопровождать принцессу; ее несли в паланкине из черного бархата, дабы все видели это творение богов: волосы, перехваченные лентами и ниспадавшие на плечи, венчала корона из цветков жасмина и ноготков. Казалось, ничто уже не трогало ее в этом мире, кроме скорби короля с королевой; великан, вооруженный до зубов, шествовал рядом с паланкином, пожирая принцессу таким жадным взглядом, что, казалось, и сам не прочь ее съесть; эхом разносились вздохи и рыдания, а слез пролилось столько, что всю дорогу затопило.
— Ах! Лягушка, Лягушка, — воскликнула тут королева, — что же это вы меня бросили! Увы! Зачем нужно было мне спасенье в темном болоте, раз нынче вы в нем отказываете? Отчего не умерла я тогда! Я не увидела бы сегодня крушения всех моих надежд! Слышите, — я не увидела бы, как мою дорогую Муфетту вот-вот съедят.
Пока она причитала, процессия, хоть и очень медленно, продолжала двигаться вперед и вот уже оказалась на вершине роковой горы: тут крики и причитания стали столь пронзительными, что никогда и никто еще не вопил так жалостно; великан же приказал всем проститься с принцессой и убираться прочь. Да ведь ничего не поделаешь — в те времена все было по-простому, и от таких напастей и защиты-то никакой не было.
Король с королевой и всем двором взобрались на другую гору, с которой могли все видеть; скоро они заметили подлетающего дракона в пол-лье длиною; он, хотя и шестикрылый, снижался с трудом, ибо слишком тяжелым было его туловище, сплошь покрытое толстой синей чешуей и длинными огненными иглами; хвост вился пятьюдесятью с половиной кольцами, каждый коготь был размером с ветряную мельницу, а в разинутой пасти виднелись три ряда зубов, длинных, как у слона.
Но пока он мало-помалу приближался, добрая и верная Лягушка верхом на ястребе устремилась к принцу Муфи. На ней была розовая шапочка, и потому, хотя принц и заперся у себя в кабинете, она вошла туда без ключа.
— Как, вы еще здесь, о несчастный влюбленный! — воскликнула она. — Мечтаете о прелестной Муфетте, а она в эту минуту на краю погибели; не медлите! вот вам лепесток розы — сами увидите, как я сейчас на него дуну, и он превратится в скакуна редкой породы.
В тот же миг появился конь зеленого цвета, с дюжиной копыт и о трех головах: одна изрыгала огонь, другая — картечь, а третья — пушечные ядра. Еще Лягушка дала принцу меч длиною в восемнадцать локтей, который был легче перышка, а в придачу — цельный бриллиант, чтоб он облачился в него, как в доспех; хоть и был камень тверже скалы, но так удобен, что никаких движений отнюдь не стеснял.
— Спешите же, — сказала она ему, — летите на выручку той, кого любите; мой зеленый конь доставит вас к ней; а освободив ее, расскажите ей о моей в том заслуге.
— О великодушная фея, — воскликнул принц, — ныне я не в силах выразить вам всей признательности, но объявляю себя навеки вашим верным рабом.
Он вскочил на трехглавого коня о двенадцати ногах, и тот мгновенно пустился вскачь, помчавшись быстрее трех лучших скакунов вместе взятых, так что принц очень скоро очутился на вершине горы, где увидел свою дорогую принцессу, совсем беззащитную, и неторопливо летевшего к ней дракона. Тут зеленый конь принялся вовсю изрыгать огонь, картечь и пушечные ядра, чем немало удивил чудовище: двадцать ядер попало ему в шею, слегка ободрав чешую, а картечью выбило глаз. Дракон рассвирепел и совсем было кинулся на принца, но меч в восемнадцать локтей был так хорошо закален, что принц мог орудовать им как хотел и то вонзал его по самую рукоять, то бил им, как хлыстом. И все же, не будь на нем непробиваемых бриллиантовых доспехов, несдобровать бы ему от драконьих когтей. Муфетта узнала его издалека — так ярко сверкал защищавший его бриллиантовый панцирь; и тут ее охватила такая смертельная тревога, на какую способна лишь влюбленная девица; зато в сердца короля с королевой проник слабый луч надежды, ибо поразил их вид трехголового коня о двенадцати копытах, изрыгавшего огонь, и вооруженного чудо-мечом принца в бриллиантовом футляре, столь вовремя явившегося и сражавшегося так рьяно. Король нацепил свою шляпу на жезл, а королева привязала к своей трости платок: и давай оба вовсю махать принцу, чтоб вдохновлять его на битву. Все последовали их примеру; хотя, по правде говоря, нужды в этом не было — доблесть его питало пламя, горевшее у него в сердце, и опасность, коей подвергалась возлюбленная.
И как же преуспел он в битве! Земля была усыпана иглами, когтями, рогами, крыльями и чешуей дракона, из многих ран которого натекли лужи синей крови, а кровь трехглавого коня была зеленой, что создавало на земле весьма своеобразный оттенок[251]. Пять раз был повержен принц и пять раз поднимался, лихо вскакивая обратно в седло, и тут в ход шли пушечная канонада и греческий огонь[252], которым доселе не было равных; наконец дракон выбился из сил и упал; тогда принц нанес ему страшную рану в живот — и тут-то и случилось такое, чему поверить невозможно, хоть это столь же правдиво, как и все в этой сказке: из огромной дыры вылез принц[253], самый прекрасный и милый из всех, кои на свете есть: в расшитых жемчугом одеждах из синего бархата с позолотой, а на голове у него шлем с греческим орнаментом, украшенный белыми перьями. И подбежал он к принцу Муфи с распростертыми объятиями.
— Чем отплатить вам, мой великодушный избавитель? — сказал он ему. — Вы только что освободили меня из самого ужасного заточения, в каком только может оказаться государь. Я был обречен на него феей Львицей и томился шестнадцать лет, — ведь ее могущество столь велико, что, вопреки моей воле, она заставляла меня проглотить эту очаровательную принцессу, которой и прошу вас меня представить, дабы мог я, пав к ногам ее, рассказать о своих злоключениях.
Принц Муфи, удивленный и восхищенный столь необычайным приключением, не уступал в любезностях такому обходительному принцу: вместе они поспешили к прекрасной Муфетте, которая уже возносила хвалу богам за столь нежданное счастье; король, королева и весь двор были уже тут как тут, все говорили наперебой, друг друга не слушая, и плакали от радости так же громко, как еще недавно с горя; наконец, в довершение праздника, показалась в небе добрая Лягушка верхом на ястребе, а у того на лапках звенели золотые колокольчики. Когда послышалось «динь-динь-динь», все посмотрели вверх и увидели, как в воздухе, прелестная, словно заря, восседает Лягушка в розовой шапочке, сиявшей как солнце. Королева вышла ей навстречу и взяла ее за лапку; в тот же миг мудрая Лягушка превратилась в самую прекрасную и великую королеву на свете.
— Я пришла, — воскликнула она, — вознаградить за верность принцессу Муфетту, которая предпочла подвергнуть опасности свою жизнь, нежели изменить возлюбленному. В наше время это редкость, но сие послужит ей добром в будущем. — Тут же увенчала она молодых людей двумя коронами, сплетенными из мирта[254], и трижды ударила своей палочкой; тогда все увидели, как кости дракона, взлетев, сами сложились в триумфальную арку — в память о только что свершившемся великом сражении.
Затем многочисленное и прекрасное шествие направилось в город, воспевая брак и супружеские узы столь же радостно, сколь печально они совсем недавно провожали принцессу на жертвоприношение. Со свадьбой промедлили только до следующего дня, и легко вообразить, как там всем было весело.
* * *
Королеве, о коей мы вам рассказали,
Посреди бесконечного горя и зла
Никакие опасности не угрожали,
Ведь любовь ей и дружба защитой была.
Ни король, ни Лягушка ее не забыли,
Обещали они королеву спасти,
Дружно силы свои они вместе сложили,
Чтобы Львице жестокой удар нанести.
В дни далекие верными были мужья,
В дни далекие честными были друзья.
Век волшебных историй во всем своем блеске
Канул в Лету, навеки он нами забыт.
И лишь старая сказка о людях чудесных
След того, что давно миновало, хранит.
Пер. Е. Ю. Шибановой
Лесная лань[255]

В густом лесу било множество ключей; их обнесли мрамором и порфиром, ибо каждый паломник так и жаждал их украсить. Однажды королева, усевшись на край колодца, удалила всех своих фрейлин и, оставшись одна, принялась сетовать, по обычаю.
— Отчего я так несчастна, — причитала она, — что нет у меня детей? У последних нищенок, и у тех они есть, а я уж пять лет как прошу у Неба наследника. Неужто так и умереть мне без утешения?
Проговорив так, она вдруг заметила, что вода в источнике забурлила, оттуда выполз большой рак и сказал ей:
— Великая королева, вы получите что хотите. Тут неподалеку, скажу я вам, стоит великолепный дворец, возведенный феями; отыскать его нельзя, ибо окружен он тучами столь густыми, что не проникает сквозь них взгляд смертного. Однако я всегда к услугам вашего величества. Если соблаговолите вы довериться бедному раку, вас туда отведу.
Королева только рот разинула — так удивило ее, что рак говорит человечьим языком; потом с радостью согласилась, признавшись, правда, что не приучена при ходьбе пятиться назад. Рак улыбнулся и в сей же миг превратился в премиленькую старушечку.
— Что ж, сударыня, — сказала старушка, — будь по-вашему, пятиться нам не придется; главное, считайте меня своим другом, ведь я желаю вам лишь добра.
И она вышла из фонтана совсем сухая, в белых одеждах, обшитых багрецом, а в седых кудрях — зеленые ленты. Другой такой учтивой да кокетливой старушки больше нигде и на свете не бывало; она поклонилась королеве, прижала ее к груди и, не желая более медлить, повела ее по лесной тропинке, к немалому удивлению нашей монархини, ибо хаживала она тут тысячу раз, а этой тропки ни разу не видала: и куда бы она могла завести? А была это дорога, которой к источнику целебных вод приходили феи. Стоило на нее, обыкновенно заросшую терновником да шиповником, ступить королеве и ее вожатой — на кустах сразу расцвели розы, ветви жасминов и померанцев сплелись в затейливую беседку, увитую листвой и цветами, земля покрылась фиалками и тысячи разных птиц на деревьях защебетали, соперничая, чья песнь лучше.
Не успела королева еще оправиться от изумления, как ей пришлось зажмуриться — так ослепительно было сияние открывшегося ей дворца, целиком сложенного из бриллиантов — стены и крыши, полы и потолки, ступени и даже террасы. Она была так восхищена, что не смогла сдержать громкого восклицания, спросив у любезной старушки, что привела ее сюда, явь это или же сон.
— Разумеется, это все наяву, — отвечала ей та.
Тут врата дворца отворились, из них вышли шесть фей, да еще каких! Прекраснейших и расчудесных из всех, которых когда-либо знавала империя фей. Все они склонились перед королевой в глубочайшем реверансе, и каждая преподнесла ей по цветку, сделанному из драгоценных камней, так что получился целый букет: тут были роза, тюльпан, анемон, аквилегия, гвоздика и алый цветок граната.
— Сударыня, — сказали они ей, — самый лучший знак нашего к вам расположения — это позволить вам лицезреть здесь всех нас, но мы с большой радостью сообщаем, что у вас родится прекрасная принцесса, и назовете вы ее Дезире — Желанная, ибо, надо признать, уж очень давно вы ее желаете. И, едва она появится на свет, не забудьте непременно послать за нами, ибо мы хотим даровать ей достоинства самые всевозможные: вам стоит лишь взять дарованный букет и назвать каждый цветок, подумав о нас, — тогда мы явимся в вашу опочивальню.
В восторге королева бросилась им на шею, и обнимались они крепко добрых полчаса. Потом феи упросили ее войти к ним во дворец, великолепие которого описанию не подвластно; дело в том, что строить его они пригласили того же архитектора, что возвел дворец Солнца, и он сделал все как там, только в миниатюре[256]. Королева, которую такое сияние немного слепило, то и дело щурилась. Они провели ее в сад, полный невиданных плодов: абрикосы крупней человеческой головы, а вишню можно было съесть, лишь сперва разрезав на четыре части, и на вкус она была такой сладкой, что, раз отведав, королева уже не хотела потом никаких других вишен. Были там и цукатные деревья, которые стояли все в сахаре, и при этом казалось, что они живут и растут себе потихоньку, как и все прочие.
Однако же не будем подробно рассказывать обо всех восторгах королевы, и как много говорила она о принцессе Желанной, и как благодарила прелестных созданий, объявивших ей столь чудесную новость, — тут уж ни одного слова нежности и признательности не было забыто. Фея Источника тоже удостоилась заслуженной благодарности, а королева оставалась во дворце до самого вечера — она любила музыку, и ей позволили послушать голоса, звучавшие как небесные песнопения, и надарили множество драгоценных подарков. Наконец, поблагодарив этих прекрасных дам, государыня вместе с феей Источника вернулись домой.
Дома давно уже тревожились о королеве и искали ее повсюду, думая-гадая, куда она могла исчезнуть; опасались даже, не похитила ли ее шайка каких-нибудь чужестранцев-сорвиголов, ведь она была так молода и красива! И вот все от души возликовали, когда она наконец возвратилась; она же, бесконечно обрадованная дарованными ей добрыми надеждами, очаровывала всех приятной беседою.
Фея Источника, проводив ее немного, удалилась восвояси. И тогда любезности и похвалы преумножились, и еще целую неделю оставалась королева на водах, не преминув навещать дворец фей в компании кокетливой старушки, которая сперва являлась ей в образе рака, а уж потом принимала естественное свое обличье.
Вот королева и уехала. Вскоре она понесла и родила принцессу, которую назвала Дезире — Желанною. Тотчас взяла она подаренный ей букет и один за другим принялась называть все цветы, да сразу и увидела, как слетаются к ней феи. Прибывали они на самых разных колесницах: в одну, эбеновую, запряжены были белые голуби, в другую, из слоновой кости, — стая воронят; еще были колесницы кедровые и из орлиного дерева[257]. Это означало, что приезжают они с миром и согласием; ибо когда они гневались, то запрягали свои повозки летающими драконами, огнедышащими змеями с горящими глазами или львами, леопардами и пантерами, на которых могли перелетать на другой край света в мгновение ока, так что не успеешь сказать «доброе утро» или «добрый вечер»; но на сей-то раз они пребывали в самом лучшем расположении духа.
Королева смотрела, как весело и величаво они входят к ней в опочивальню, а следом идут их карлики с карлицами, еще и согнувшись под тяжестью несомых подарков. Вдоволь наобнимавшись с королевой и расцеловав малютку-принцессу, они закутали ее в пеленки из такого тонкого и прочного полотна, что, пользуйся хоть сто лет — сносу им не будет. Феи сами сшили их в часы досуга; кружева были еще тоньше, чем то драгоценное полотно, и на них иглой и веретеном была выткана вся история мира и людей. Потом они показали распашонки и одеяла, тоже затейливо вышитые специально для принцессы: на них изображалась тысяча разнообразных детских забав. С тех пор как живут на свете вышивальщики и вышивальщицы, никто не видал ничего подобного[258], — но стоило феям лишь достать потом саму колыбельку, как королева вскрикнула от восхищения, до того превосходила люлька все до сей поры ею виденное. Выточена она была из дерева столь редкой породы, что оно стоило сто тысяч экю за фунт. Ее поддерживали четыре амурчика — четыре шедевра, свидетельствующие о том, что подлинное искусство превосходит природную материю, даже и такую благородную, как бриллианты и рубины. В этих амурчиков феи вдохнули жизнь, так что, если младенец плакал, они принимались качать его и убаюкивали: чудо как удобно для кормилиц.
Феи сами покачали малютку-принцессу у себя на коленях, а пока пеленали, всю осыпали поцелуями, ведь она была так красива, что нельзя было взглянуть, не полюбив ее. Заметив, что ее пора покормить грудью, они тотчас ударили оземь волшебными палочками, и появилась няня в точности такая, какая нужна таким вот очаровательным крепышам. Теперь оставалось лишь наделить младенца дарами, что феи не замедлили сделать; одна даровала ей добродетель, другая наделила разумом; третья — чудесной красотой, четвертая — счастливой судьбой, пятая — долголетием во здравии; и наконец последняя пожелала, чтобы у нее всегда хорошо получалось все, что она ни задумает.
Счастливая королева успела уже много раз поблагодарить их за всё благо, дарованное малютке, когда увидела, как в спальню вползает такой огромный рак, что его туловище едва-едва пролезло в дверь.
— Так вот оно что! Неблагодарная, — воскликнул рак, — а обо мне вы даже не соизволили вспомнить! Да где ж это видано, что фея Источника так скоро позабыта вами вместе со всеми знаками доброго расположения, вам оказанными, — да разве не я привела вас к моим сестрам? Как! Их вы позвали, а мною одной пренебрегли; так я и думала о вашей дружбе — ей бы продвигаться вперед, а она давай пятиться назад; вот почему я и предпочла явиться вам в образе рака.
Королева, безутешная от совершенной ошибки, перебила ее, испросив прощения и все повторяя, что думала, будто назвала и ее цветок среди других, и что ее просто запутал букет из драгоценностей; что она неспособна забыть оказанные феей благодеяния и умоляет ее не лишать ее своей дружбы и особенно — быть благосклонной к принцессе. Феи, опасаясь, как бы она не наслала на нее нищету и беды, хором старались смягчить ее.
— Дорогая сестрица, — уговаривали они, — пусть Светлость Ваша не сердится на королеву, никогда и в мыслях не имевшую вас расстроить, сбросьте, пожалуйста, эту рачью кожу, мы хотим увидеть, как вы обворожительны.
Я уже говорила, что фея Источника была дамой весьма кокетливой, и похвалы сестер ее немного улестили.
— Да ладно уж! — сказала она. — Решила я было содеять великое зло Желанной малютке, да теперь не стану; но вот навредить ей хочу, это точно, и никто мне в этом помешать не сможет; однако, так и быть, скажу, что если она увидит солнечный свет до того, как ей исполнится пятнадцать лет, — вот тогда она попомнит меня, а может быть, и с жизнью расстанется.
Решения ее не смогли поколебать ни слезы королевы, ни мольбы знаменитых фей, и она гордо ретировалась задом, так и не сбросив обличье рака.
Когда она выползла из спальни, безутешная королева спросила у фей, нет ли средства уберечь ее дочь от грозивших ей бед. Они стали держать совет и наконец, выслушав мириады разных мнений, остановились вот на чем: нужно построить дворец без окон, без дверей, с подземным входом и, поместив принцессу туда, кормить ее и обихаживать, пока она не достигнет рокового возраста.
Три взмаха волшебной палочкой — и вот здание начато и достроено. Снаружи из белого и зеленого мрамора, полы и потолки выложены изумрудами и бриллиантами в форме цветов, птиц и прочих всевозможнейших затейливых вещиц. Все устлано разноцветным бархатом, вышитым самими феями; а будучи весьма искушенными в исторической науке, они не смогли отказать себе в удовольствии запечатлеть самые прекрасные и значительные события — было здесь изображено как прошлое, так и будущее, и на множестве гобеленов красовались геройские деяния самого великого короля в мире.
Очами грозен, как фракийский бог,
Воинственен, и горделив, и строг,
С тех пор, как он в державе сей царит,
Он подданным покой и счастие дарит.
Он справедливости примером служит свету,
Кумиром воину и светочем поэту.
Победой увенчав кровавый пир,
Он щедрою рукою дарит мир[259].
Такое средство придумали эти мудрые феи, дабы наглядней поведать юной принцессе о разных событиях в жизни героев и прочих великих людей.
Освещалось все лишь огнем свечей, но при этом свет был столь ярок, что во дворце словно стоял вечный полдень. Все учителя, необходимые ей, чтобы стать совершенством, были доставлены сюда. Наделенная живым умом и замечательной сообразительностью, она почти всегда заранее знала то, чему они еще только собирались ее научить, — это восхищало их так, что они не успевали удивляться — ведь она была в том возрасте, когда другие еще всего-то и могут что кликнуть кормилицу; и то сказать, не напрасно же феи своих любимцев одаривают: незнайкой и неумехою после этого не останешься.
Всякий, кто приближался к ней, бывал очарован ее разумом; не менее притягательна была и ее красота, восхищавшая и самых бесчувственных; королева-мать и вовсе бы от нее не отходила, когда б не призывал ее долг быть подле короля. Добрые феи частенько навещали принцессу, принося ей несравненные диковинки и наряды, мастерски пошитые и столь пышные и изысканные, как будто созданы были к свадьбе какой-нибудь молодой принцессы, такой же милой и любезной, как и та, о коей я рассказываю[260]. Среди всех нежно благоволивших к ней фей больше всего любила ее фея Тюльпанов, весьма обеспокоенно советовавшая королеве не давать ей увидеть свет, пока ей не минет пятнадцать лет.
— Сестра наша, фея Источника, очень мстительна, — говаривала она ей, — как ни заботься мы об этом ребенке, она сотворит ей зло, едва лишь сможет; тут, госпожа моя, надо вам бдеть неусыпно.
Королева обещала ей беспрестанно следить за столь важным делом; но, поскольку день, когда дорогой ее дочери предстояло покинуть замок, становился все ближе, она приказала нарисовать ее, и портрет разослали ко дворам всех величайших монархов мира. Не сыскалось принца, который не застыл бы в восхищении от этого зрелища; однако лишь один был так потрясен, что не смог оторваться от портрета. Он забрал его в свой кабинет, заперся с ним там, стал с ним разговаривать, точно портрет был живой и мог слышать его, и говорил ему самые страстные слова на свете.
Королю же, совсем переставшему видеть сына, донесли о том, чем тот занялся и почему он уже не такой веселый, как раньше. Несколько придворных, одержимых сплетнями, — ибо немало среди них господ подобного сорта, — нашептали ему, что следует-де опасаться, кабы принц не лишился рассудка, раз дни напролет просиживает, запершись, в своем кабинете, и слышно, как он там разговаривает сам с собою, думая, что рядом с ним есть еще кто-то.
Король выслушал это с тревогой.
— Возможно ли, — спросил он своих приближенных, — чтобы мой сын потерял рассудок? Вот уж чего у него всегда было в избытке: сами знаете, как им всегда восхищались, и по сей день также, и взгляд у него совсем не блуждающий, вот только запечалился он отчего-то; поговорю-ка я с ним сам, быть может и разберу, что за безумие такое его охватило.
Тут он и вправду послал за ним, всех придворных удалил и, порассуждав о тысяче всяческих мелочей и видя, что принц то и дело отвечает невпопад, наконец спросил, что же так изменило его настроение и характер. Принц же, подумав, что настал подходящий момент, бросился ему в ноги.
— Вы решили, — промолвил он, — женить меня на Черной принцессе, находя в этаком союзе большие выгоды, коих я не могу вам обещать в моем союзе с принцессой Желанной; но, господин мой, я очарован именно ею и не сравню ее ни с какой иной.
— А где же это вы их видели? — поинтересовался король.
— Мне принесли портреты и той и другой, — отвечал принц Ратоборец (так прозвали его после того, как он отличился в трех больших битвах). — Признаюсь вам, что испытываю столь сильную страсть к принцессе Желанной, что придется вам взять назад слово, данное вами Черной принцессе, иначе я умру — и с радостью с жизнью расстанусь, коли не буду вместе с той, кого полюбил всем сердцем.
— Вот, значит, какая у вас прихоть — беседовать с портретом, — мрачно промолвил король. — Да знаете ли, что над вами уже все придворные смеются: они уверены, что вы тронулись умом, и, знай вы все, что они мне тут наговорили, ей-богу, собственной слабости сами бы устыдились.
— Не в силах я стыдиться того дивного жара, коим пылает мое сердце, — откликнулся на это принц, — взгляните сами на портрет этой чудо-принцессы и одобрите мою страсть к ней.
— Тотчас же принеси мне его, — отвечал король с нетерпением, лишь подчеркнувшим его печаль; принцу бы тут огорчиться, да ведь он был уверен, что ничто в мире не сравнится с красотой его Желанной. Он помчался в кабинет и вернулся с портретом к королю; тот был почти так же очарован.
— Вот это да! — сказал он. — Милый мой, мои желания совпадают с вашими: имей я такую прекрасную принцессу у себя при дворе, и сам бы помолодел; тотчас пошлю я послов к Черной принцессе и возьму назад данное слово, пусть даже мне предстоит с ней большая война.
Принц почтительно поцеловал отцу руки и несколько раз обнял его колени. Он был так преисполнен радости, что его едва узнавали; торопил короля с отправкой посольства — и не только к Черной, но и к Желанной и убеждал, что для последней миссии нужно выбрать человека достойнейшего и богатейшего, чтобы он выглядел подобающим столь важной миссии образом и смог убедить в желаемом. Тут король обратил взор на Пересмешника: а был это юный сеньор весьма красноречивый, к тому же с ежегодным доходом в сто миллионов. Он так горячо любил принца Ратоборца, что ради дружбы с ним велел изготовить самый большой экипаж и пошить самую красивую ливрею, какую только смог придумать. Собирался он с большой поспешностью, ведь любовь принца росла с каждым днем, и тот умолял ускорить отъезд.
— Рассудите сами, — говорил он, — дело тут о моей жизни и смерти; едва подумаю, что отец этой принцессы может заключить брачный союз с кем-нибудь еще и не захочет порвать его ради меня, так чувствую, что теряю разум и боюсь навсегда его утратить.
Чтобы выгадать время, Пересмешник его утешал, ибо он очень был доволен тем, что его старания приносили ему такую честь. Он снарядил восемьдесят карет, сиявших золотом и бриллиантами, с такими утонченными миниатюрами, что с ними не сравниться никаким иным, и еще пятьдесят карет и восемьдесят четыре тысячи конных пажей, величавых точно принцы; а всего, что шло еще и следом, даже и счесть было нельзя.
Когда он пришел попрощаться с принцем, тот крепко обнял его.
— Помните же, дорогой Пересмешник, — сказал он, — моя жизнь зависит от той женитьбы, о которой вы должны сговориться, ничего не упускайте, убеждая прелестную принцессу, и привезите мне ее, ибо я ее обожаю.
Он дал ему множество даров, в которых изысканность соревновалась с величавостью: тут были и бриллиантовые печатки с выгравированными на них любовными призывами, и часы, оправленные карбункулами и отделанные вензелями Желанной, а еще рубиновые браслеты в форме сердца — чего, в конце концов, только ни выдумал он, дабы ей понравиться?
Посол вез и портрет молодого принца, исполненный художником столь искусным, что это был портрет говорящий, который мог делать изящные и весьма остроумные комплименты. Он не мог отвечать каждому, кто к нему обращался, но до этого было недалеко. Пересмешник обещал принцу ничего не упустить, дабы достичь желаемого; и добавил еще, что везет столько несметных богатств, что, откажи ему принцесса, легко будет обольстить любую из ее фрейлин, чтобы та помогла похитить Желанную.
— О, — вскричал тут принц, — нет, такого я позволить не могу — это уж вовсе бесцеремонно и может оскорбить ее!
Пересмешник ничего не ответил и пустился в путь.
Слух о его приезде опередил его. Король с королевой были очень рады, ведь они с почтением относились к его господину и знали о великих подвигах принца Ратоборца, но еще того пуще наслышаны были о его личных достоинствах: так что и во всем мире не нашли бы лучшего мужа для своей дочери. Пересмешника приняли с почетом, разместив в нарочно приготовленном для него дворце, и отдали все нужные приказы, чтобы во всем великолепии показать ему двор.
Король с королевой решили было представить посла и Желанной, но тут пришла к королеве фея Тюльпанов и сказала ей:
— Остерегайтесь, госпожа моя, показывать Пересмешнику нашу малышку, — так она называла принцессу, — ему еще рано ее лицезреть, и ни за что не отпускайте ее к королю, который за ней прислал, пока ей не минет пятнадцати лет, а не то случится беда.
Королева обняла добрую фею Тюльпанов, обещав следовать ее советам, и тут же они пошли навестить принцессу.
Приехал посол, а его свита подтягивалась еще двадцать три часа, ибо насчитывалось в ней шестьсот тысяч мулов, с позолоченными подковами и колокольчиками, в попонах из бархата и парчи, расшитых жемчугами, — вот был затор-то на всех улицах, такая толпа сбегалась посмотреть на них. Король с королевою выехали ему навстречу — так они были счастливы, что он прибыл. Нечего и рассказывать обо всех торжественных речах, им произнесенных, и церемониях, тут и там происходивших, — их лучше всего самим себе вообразить, но когда он попросил отвести его к принцессе, чтобы ей поклониться, то был изумлен, что в этой милости ему отказали.
— Хоть эта милость и кажется само собою разумеющейся, — объяснил ему король, — мы не соизволим оказать вам ее, сеньор Пересмешник; не потому, что на нас каприз такой вдруг нашел, — о нет, и потому сейчас расскажем вам одно странное приключение, случившееся с нашей дочерью, в надежде на ваше участие и понимание.
Когда малышка родилась, нашлась одна фея, почувствовавшая к ней неприязнь и пригрозившая ей весьма большим несчастьем, если она увидит дневной свет прежде, чем ей исполнится пятнадцать лет, — вот мы и держим ее в таком дворце, где самые роскошные покои располагаются в подземельях. Мы уж было собрались вас туда препроводить, да фея Тюльпанов предупредила нас, что этого не стоит делать.
— Как так, сир? — удивился посол. — Неужто буду я столь незадачлив, чтоб вернуться домой без нее? Вы согласны отдать ее моему королю для его сына, и она сама ждала этого с таким нетерпением, — да возможно ли, чтоб вас остановила такая сущая безделица, как предостережение фей? Вот портрет принца Ратоборца, у меня приказ преподнести его ей. Написан он с таким сходством, что стоит мне лишь взглянуть на него, и кажется, я вижу сам оригинал.
Тут он развернул полотно, и портрет, который был обучен ни с кем не говорить, кроме самой принцессы, произнес:
— О прекрасная Желанная, вы не в силах вообразить, как пылко я жду вашего прибытия: приезжайте же поскорее к нашему двору и украсьте его вашим неподражаемым очарованием.
Больше портрет ни слова не сказал, но король и королева так и замерли, остолбеневшие, и попросили Пересмешника дать им его, а уж они отнесут принцессе; он с радостью согласился и отдал портрет прямо им в руки.
Королева до сих пор еще ничего не говорила дочери о том, что происходило при дворе; запретила она и придворным дамам сообщать ей о приезде посла. Те не послушались ее, и принцесса знала, что готовится большая свадьба, но она была столь осторожна, что матери ничего не сказала. Когда же та показала ей говорящий портрет принца, который еще и сделал ей комплимент, столь нежный, сколь и галантный, она была немало удивлена, ибо никогда ничего равного этому не видала, и даже приятное лицо принца, одухотворенный облик, правильность черт — и те поразили ее меньше, чем то, что произносил портрет.
— Скажите-ка, — со смехом спросила ее королева, — огорчитесь ли вы, если вам достанется такой супруг, как сей принц?
— Госпожа моя, — отозвалась принцесса, — выбор тут вовсе не за мною, я-то всегда буду рада тому, кого вы мне соблаговолите предназначить.
— И все же, признайтесь, — прибавила тут королева, — если выбор вдруг падет на него, будете ли вы считать себя счастливой?
Принцесса покраснела, опустила глаза и промолчала. Королева обняла ее и расцеловала, не сумев сдержать слезы, — ведь она подумала, что им так скоро придется расстаться, ибо до пятнадцатилетия принцессе оставалось не больше трех месяцев, но, скрыв досаду, она объявила ей о посольстве славного Пересмешника и отдала все привезенные для нее редкости и драгоценные дары. Та же ими восхитилась и с большим вкусом расхвалила самые изящные и любопытные; однако все чаще поглядывала на портрет принца с выражением удовольствия, доселе ею никогда не испытанного.
Посол, поняв, что, сколько он ни проси, принцессу ему не отдают, а только обещают желаемый брак — но обещают так торжественно, что сомневаться неуместно, не замешкался при дворе короля, а пустился в обратный путь и доложил своим государям об успехах посольства.
Принц, узнав, что его надеждам увидеть свою Желанную не суждено сбыться ранее чем через три месяца, разразился такими рыданиями, что поверг в уныние весь двор; он перестал спать и есть, стал грустным и мечтательным, лицо побледнело, утратив живость красок, и целыми днями теперь он только и делал, что сидел на диване у себя в спальне и смотрел на портрет принцессы, писал ей письма и вслух читал их портрету, как будто тот мог их услышать или прочесть, — так его силы все таяли, и он опасно заболел, а о причинах догадаться было легко — не нужно для того ни лекарей, ни ученых докторов.
Король был в отчаянии — ведь он любил сына как никто на свете. И вот он почти потерял его: каково же отцовское горе! Он не видел никакого средства исцелить принца — тот жаждал Желанной, а без нее умирал. Видя сына в такой крайности, принял он решение найти короля с королевой, которые обещали ему принцессу, и умолить их проявить милость к принцу, слабевшему на глазах, и не откладывать больше свадьбы, ибо она может и не состояться вовсе, если они упорно хотят дождаться, пока дочери минет пятнадцать лет.
Это был поступок странный до необычайности, но все же лучше было так, нежели оставить на погибель сына столь горячо любимого. Однако тут сыскалось непреодолимое препятствие: почтенный возраст его позволял ехать только в паланкине, а такой способ передвижения никак не сочетался с нетерпением его сына, потому послал он вперед верного Пересмешника с трогательнейшими письмами, которые должны были склонить короля и королеву к желаемому решению.
Все это время Желанная с таким же удовольствием всматривалась в портрет принца, как и он — в ее портрет. Любую минуту старалась она улучить, чтобы пойти туда, где висел он, но, как ни скрывала свои чувства, за ней все время кто-нибудь да подсматривал: среди таких были ее фрейлины Желтофиоль и Терновая Колючка, они-то и подметили, что принцесса стала беспокойней, чем прежде. Желтофиоль горячо любила ее и хранила ей верность, но Терновая Колючка давно уже чувствовала тайную зависть к ее достоинствам и положению, ведь ее мать выпестовала принцессу, была при ней наставницей, а уж потом стала ее первой фрейлиной. Ей бы любить принцессу как самое дорогое, что есть на свете, да вот обожала она до безумия свою родную дочь и, видя, какую ненависть та питает к Желанной, тоже не могла сохранить к ней добрых чувств.
Когда же при дворе Черной принцессы узнали, какие вести им привез посол, то приняли его неподобающе, — ведь эта эфиопка была самым мстительным существом на свете. Она посчитала это дерзостью — сперва заручиться ее словом, а потом прислать ей депешу, где сказано, что с благодарностью его возвращают. Она была влюблена в принца по привезенному ей портрету, а уж этих эфиопок до любовных дел только допусти — тогда они становятся такими сумасбродками, что другим и не снилось.
— Как так, господин посол, — спросила она, — ваш повелитель считает меня не такой богатой или не столь красивой? Прогуляйтесь по моим владениям — и вы едва ли где найдете просторы шире здешних, пойдите в мою царскую сокровищницу — и увидите там больше золота, чем добывают на перуанских приисках; да посмотрите же наконец, как черна моя кожа, а какой приплюснутый нос, а мои пухлые губы! — разве можно быть еще красивее?[261]
— Госпожа, — отвечал он ей (боясь палочных ударов поболее, чем те послы, коих отправляли к туркам в Порту[262]), — я осуждаю своего властелина, да так, что, позволено мне будет сказать: если бы Небу было угодно вознести меня на лучший трон во всем свете, уж я бы знал, кому его предложить.
— Такие речи спасут вам жизнь, — молвила она, — а то я уж решила начать мщение с вас, но это было бы несправедливо, ибо не вы же причиною дурных манер вашего принца. Вернитесь к нему и передайте, что мне в радость порвать с ним, поскольку я не люблю нечестных людей.
Посол, только и мечтавший поскорее унести ноги, устремился прочь, едва получив дозволение уйти.
Но эфиопку слишком уязвил поступок принца Ратоборца, чтобы его простить. Она приказала заложить карету из слоновой кости, запряженную шестью страусами, пробегавшими в час по десяти лье, и поехала во дворец феи Источника: та была ее крестной и лучшей подругой. Ей она и поведала о своих обидах и горячо молила помочь отомстить. Фея, проникшаяся печалью крестницы, заглянула в волшебную книгу, где отражается все на свете, и тотчас узнала, что Черную принцессу Ратоборец оставил ради принцессы Желанной, потому что без памяти влюбился в последнюю и даже заболел лишь от одного нетерпения с нею встретиться. Все это вновь разожгло в ней почти потухшую было ярость — ведь с тех пор, как принцесса родилась, она больше ее и не видала и вроде о злобе своей позабыла, кабы не мстительная Чернушка.
— Как, — воскликнула она тогда, — эта Желанная снова хочет нанести мне обиду! Ну уж нет, прелестная принцесса, нет, малышка моя, я не потерплю, что тебе дали от ворот поворот. Призываю на помощь в этом деле и Небеса, и все стихии: возвращайся домой и положись на твою милую крестную матушку.
Черная принцесса рассыпалась в благодарностях, одарив ее цветами и фруктами, которые та приняла с превеликим удовольствием.
Посол же Пересмешник спешно скакал к старой столице, где проживал тогда отец принцессы Желанной; доскакав, бросился в ноги королю с королевой, проливая слезы и говоря им в самых трогательных выражениях, что принц Ратоборец умрет, если и далее будут задерживать час его свидания с их принцессою, что коль скоро до ее пятнадцатилетия остается не больше трех месяцев, то за столь краткий срок не может случиться ничего прискорбного, и, кроме того, он осмеливается им напомнить, что столь безоглядное легковерие каким-то феечкам не пристало королевскому величию; он так долго разглагольствовал, что наконец сумел их убедить. Представив, в каком печальном положении оказался принц, все вместе поплакали, а потом постановили, что для принятия окончательного решения понадобится еще несколько дней. Он же возразил, что согласен лишь на несколько часов, ибо его повелитель дошел до крайности и уверен, что принцесса ненавидит его и сама тянет с отъездом. Тут его заверили, что нынче же вечером ему объявят решение.
Королева побежала во дворец к дорогой дочери и рассказала ей обо всем. Тогда Желанную охватила беспримерная печаль, ее сердце сжалось, она упала без чувств, и королева тут же догадалась, что дочь ее любит принца.
— Не огорчайтесь так, милое дитя, — сказала она, — его исцеление в ваших руках, и меня беспокоит лишь одно: то, чем еще при рождении вам угрожала фея Источника.
— Мне хочется верить, государыня, — отвечала ей принцесса, — что, приняв некоторые предосторожности, мы обманем злую фею: например, нельзя ли мне отправиться в путь в наглухо закрытой карете, где я вовсе не буду видеть дневного света? Отпирать ее будут только по ночам, чтобы дать нам поесть, — так я счастливо доберусь до принца Ратоборца.
Королеве весьма по душе пришелся такой выход, и она поделилась с королем, также одобрившим его. Тут же живо послали за Пересмешником, и он получил определенные заверения в том, что принцесса отправится в путь как можно быстрее; ему же надлежит теперь вернуться, чтобы привезти своему властелину добрую весть, а поскольку дело спешное, ему даже не станут готовить экипаж и дорогих облачений, приличествующих его положению. Посол, вне себя от восторга, снова бросился в ноги королю и благодарил его, затем сразу уехал, так и не повидав принцессы.
Ей же разлука с королем и королевою показалась бы невыносимой, когда б не влекло ее так к принцу, — ведь бывает же какое-нибудь чувство столь сильным, что заставляет позабыть обо всех прочих. Ей приготовили карету, снаружи обитую зеленым бархатом, украшенную золотыми вензелями, а изнутри — серебряной парчой с розовой вышивкой; карета эта, очень просторная и совсем без стекол, запиралась крепче любого ларца, и ключи доверили первому вельможе королевства, чтобы он открывал дверцы.
Толпой летели ей вослед
С почтеньем, нежностью, отрадой
Забавы, Смехи, Грации, Услады[263],
Изящней коих в мире нет!
Но расступились, пропуская
Амуров благонравных ряд:
Вот свита пышная какая!
И засиял принцессы взгляд.
Юница, что прекрасна видом,
Восторги все — тебе одной!
Ты нам напомнила Аделаиду[264],
Что мир скрепила, принцу став женой.
Сопровождающих офицеров назначили ей немного, ибо большая свита стеснила бы ее; дали ей с собою самые прекрасные драгоценности на свете и немало пышных платьев. И вот наконец, после такого прощания, что и король, и королева, и весь двор едва не захлебнулись от слез, заперли ее в темной карете вместе с фрейлиной, Терновой Колючкой и Желтофиолью.
Не забудем, что Терновая Колючка принцессу Желанную вовсе не любила, зато лишь взглянула она на говорящий портрет принца Ратоборца, как тот пришелся ей весьма по сердцу. Так тяжко она была ранена любовной стрелою, что перед отъездом сказала матери, что если свадьба принцессы состоится, то ей самой тогда судьба умереть, а мать, коли хочет сохранить ей жизнь, пусть любое средство найдет, чтобы расстроить дело. Фрейлина же ободрила ее, наказав не беспокоиться ни о чем, — она, дескать, уж постарается горю помочь и счастье ее обеспечить.
Королева же, собирая в дорогу любимое дитя, дала этой злобной даме много наказов и напутствовала ее так.
— Каких только ценностей я не доверяла вам? — сказала она. — А уж дочь мне дороже жизни: позаботьтесь же о ее здоровье, но главное — проследите, чтобы она не видела света дневного, иначе все пропало: сами знаете, какими бедами ей грозили, а посему мы договорились с послом Ратоборца, чтобы до пятнадцатилетия держали ее в замке, освещенном одними лишь свечами.
Королева осыпала эту даму подарками, чтобы быть уж совсем уверенной в ее беспорочной службе, та же пообещала радеть о благополучии принцессы и по прибытии представить королеве полный отчет.
Так король с королевой, понемножку успокоившись, больше и не тревожились за свое дорогое дитя; их печаль от разлуки мало-помалу смягчилась. Но Терновая Колючка каждый вечер узнавала у офицеров, приносивших принцессе поесть и отпиравших карету, далеко ли еще до города, где их ждут, и торопила мать с исполнением замысла, боясь, как бы король с принцем не опередили ее, а уж тогда времени не останется; и вот потому-то однажды в полуденный час, когда лучи солнца особенно жестоки, она вдруг нарочно разрезала захваченным из дома длинным ножом верхнюю обшивку кареты. Так принцесса Желанная впервые узрела дневной свет. Она успела лишь взглянуть на него и глубоко вздохнуть, как тотчас же выпрыгнула из кареты, превратившись в белую лань, и стремглав унеслась в ближайший лес — в одиночестве оплакивать свое прелестное лицо, которое только что утратила.
Фея же Источника, устроившая это злоключение, как увидела, что вся свита принцессы осталась верна долгу — кто последовал за нею, а иные поехали в город, дабы известить принца Ратоборца о случившемся несчастье, — тотчас принялась заклинать стихии: засверкали молнии, прогремел страшный гром, и вот с помощью самого непревзойденного колдовства она отправила их всех куда подальше, чтоб не мешали ей.
Остались лишь фрейлина, Терновая Колючка и Желтофиоль. Последняя побежала следом за принцессой, оглашая лес и скалы стенаниями и взывая к ней. Первые же две были счастливы, что наконец предоставлены сами себе, и не преминули использовать это для воплощения своих замыслов. Терновая Колючка надела самые роскошные наряды принцессы. Пошитое к свадьбе королевское платье с шлейфом было пышности необычайной; в короне сверкали бриллианты, каждый с два, а то и три кулака величиною, скипетр выточен из цельного рубина, а держава, которую она взяла в другую руку, — из жемчужины крупней человеческой головы; все эти диковинки весьма трудно было нести, однако ей предстояло всех убедить в том, что она и есть принцесса, а потому ничем из королевских украшений пренебрегать не приходилось.
В таком вот облачении Терновая Колючка, шлейф за которой несла ее мать, направилась в город. Шла себе лжепринцесса вразвалочку и не сомневалась, что их примут с почетом; и вправду, стоило им лишь войти, как заметили они большой конный отряд, сопровождавший два паланкина, сверкавших золотом и жемчугами и запряженных мулами с длинными плюмажами из зеленых перьев (любимый цвет принцессы). В одном был король, в другом — все вздыхавший принц, и оба знать не знали, что за дамы к ним пожаловали. Самые ретивые всадники подскакали к ним и, по пышности одежд рассудив, что это, должно быть, особы знатные, спешились и почтительно приблизились.
— Сделайте милость, скажите мне, — обратилась к ним Терновая Колючка, — кто там, в этих паланкинах?
— Госпожа, — отвечали они, — это король со своим сыном принцем выехали встретить принцессу Желанную.
— Тогда попрошу вас передать им, — продолжала она, — что это я и есть. Тут одна фея, позавидовавшая моему счастью, разогнала мне всю свиту какой-то жалкою сотней ударов грома, молниями и прочими необъяснимыми чудесами. Однако вот перед вами моя фрейлина, у которой письма моего отца-короля и мои драгоценности.
Всадники тотчас поцеловали край ее платья и поспешно отправились доложить королю, что прибыла принцесса.
— Как так! — воскликнул он. — Идет пешком средь бела дня?
Они передали ему весь разговор с ней. Принц же, сгорая от нетерпения и даже не задав ни единого вопроса, лишь вскричал:
— Признайте же, что это чудо красоты, диво дивное, что принцесса — само совершенство.
Удивило принца, что они молчат, и он спросил:
— Что же, вы боитесь переусердствовать в похвалах?
— Господин мой, вы сейчас ее увидите, — отвечал ему самый смелый всадник, — наверное, путешествие порядком ее притомило.
Принц был весьма изумлен; не будь он так слаб, выскочил бы от нетерпения и любопытства из паланкина. Король же вышел из своего и на глазах у всего двора подошел к лжепринцессе; но стоило ему лишь бросить на нее взгляд, как он, отступив на шаг, громко вскрикнул:
— Что вижу я? Какое вероломство!
— Сир, — ответствовала фрейлина, храбро выступив вперед, — вот же вам принцесса Желанная с письмами от короля и королевы: передаю вам в собственные руки еще и шкатулку с драгоценностями, доверенную мне при отъезде.
Король взирал на все это мрачно и молча, принц же, опираясь на Пересмешника, подошел к Терновой Колючке. Что оставалось ему думать после того, как он рассмотрел эту девицу, столь высоченную, что одно это повергало в ужас? Она была так долговяза, что платья принцессы едва доходили ей до колен, к тому же чудовищно тоща, а ее нос, горбатостью способный поспорить с клювом попугая, так и отливал краснотою, и ни у кого еще не видывали таких корявых и прочерневших зубов: словом, сколь прекрасна была принцесса Желанная, столь же эта девица была уродлива.
Принц же, все это время только и мечтавший о своей принцессе, поистине оцепенел при виде этакой раскрасавицы, не в силах слова вымолвить, и только изумленно ее разглядывал, пока наконец не сказал королю:
— Меня предали, — тот чудесный портрет, на который я обменял свою свободу, ничего общего не имеет с этой присланной мне дамою, меня попытались обмануть и преуспели в этом, и это будет стоить мне жизни.
— Что вы хотите этим сказать, господин? — спросила Терновая Колючка. — Вас хотели обмануть? Знайте же, что если женитесь на мне, то никогда не будете обмануты.
Ее бесстыдство и спесь были беспримерны.
Добавила сверх того и фрейлина.
— Ну и ну! Прекрасная моя принцесса, — спросила она, — куда это мы пожаловали? Да разве так встречают даму вашего положения? Вот же ветреность и дурные манеры! А как узнает король, батюшка ваш, — уж он вам всем покажет!
— Это мы вам еще покажем, — вмешался тут король. — Обещали нам прекрасную принцессу, а прислали скелет скелетом, такую мумию только увидишь — и сбежишь со страху; я не удивляюсь теперь, что ваш король пятнадцать лет эдакое сокровище держал взаперти и никому не показывал: он искал, кого бы поймать на эту удочку — жребий пал на нас; ну, да ведь за такое отомстить положено.
— Какое оскорбление! — вскричала тут лжепринцесса. — Да не я ли тут самая несчастная, что приехала, поверив пустым посулам этих господ? Эка невидаль — нарисовали меня чуть покрасивей, чем есть! Да разве это не сплошь и рядом бывает? Если б принцы отвергали невест из-за этаких безделиц, никто бы никогда не женился.
Король с принцем, трясясь от ярости, не удостоили ее ответом, а лишь расселись по своим паланкинам; предводитель войска без церемоний взгромоздил принцессу на коня позади себя, а следом тем же манером взгромоздили и фрейлину: их привезли в город и по приказу короля заточили в Замок о Трех Шпилях.
Принц Ратоборец был так удручен свалившимся на него горем, что вся печаль его затворилась в глубине его сердца. Когда же обрел он силы стенать и жаловаться, — как только не проклинал он горькую свою судьбину! Он по-прежнему любил принцессу, но мог излить страсть лишь ее портрету. Все его надежды рухнули, все чарующие мечты о принцессе Желанной развеялись как дым; он предпочел бы умереть, чем женишься на той, кого прислали вместо нее; в конце концов, понимая, что горе его беспримерно, решил он, что не стоит заставлять страдать и двор, и, едва позволит здоровье, тайно уехать и уединиться в укромном месте, чтобы там окончить печальную жизнь свою.
Об этом решении сообщил он одному лишь верному Пересмешнику, уверенный, что тот последует за ним повсюду; только ему поверял он великую грусть свою от той дурной шутки, какую с ним сыграли. Едва лишь почувствовав себя лучше, он сразу уехал, оставив отцу большое письмо на столе в кабинете, где уверял, что, когда дух его хоть немного успокоится, он вернется и снова будет подле него; однако в ожидании его он умоляет подумать об их общем мщении и не выпускать из темницы безобразную принцессу.
Легко вообразить горе короля, прочитавшего это послание. От разлуки с дорогим сыном он едва не умер. Пока все наперебой утешали его, принц с Пересмешником уехали, и вот через три дня оказались они в густом лесу, столь темном от тени густых древесных крон, столь сладостном от прохладных трав и текущих повсюду ручейков, что принц, утомленный долгой дорогой (ведь он был еще нездоров), спешился и в горестном изнеможении бросился наземь, подложив руку под голову и от слабости не в силах произнести ни слова.
— Отдыхайте, о господин мой, — сказал ему Пересмешник, — а я сейчас принесу какие-нибудь плоды, чтобы вы подкрепились, и немного обследую эти места.
Принц ничего не отвечал, знаком показав, что отпускает его.
Мы давно не вспоминали о лесной лани, то есть о несравненной принцессе. Она же заливалась слезами, видя себя в роднике, послужившем ей зеркалом.
— И это — я? — говорила она. — Ах, и жалкой же я себя чувствую, пережив самое странное злоключение, какое только могло произойти в царстве фей с такой невинной девушкой! Сколько же продлится мое превращение? Куда спрятаться мне, когда львы, медведи и волки придут съесть меня? А самой мне каково будет питаться травою?
Столько всего пугало ее и тревожило, что охватила ее великая скорбь; и вправду, если что и могло служить утешением, так только то, что и ланью она была столь же прекрасной, как была принцессой.
Проголодавшись, она с жадностью пощипала травки и сама удивилась тому, как легко это у нее вышло. Потом ее застигла ночь, и она улеглась на мох, но так и не смогла заснуть от несказанного ужаса. Совсем рядом ревели свирепые звери, и часто она пыталась взобраться от них на дерево, забывая, что она — лань. Дневной свет немного рассеял ее страхи; она восхитилась его красотою, а солнце показалось ей таким чудесным, что она вовсе не могла от него глаз оторвать; все, что она о нем слышала, представлялось ей теперь куда бледнее того, что сейчас довелось увидеть, — и это было единственной ее отрадой в местах столь пустынных, где она оставалась совсем одна еще премного дней.
Фея Тюльпанов, по-прежнему любившая принцессу, сразу же узнала о постигшем ту несчастье; с неподдельною досадой вспомнила она, как много раз предупреждала, что если принцесса уедет прежде своего пятнадцатилетия, то с ней случится беда, и не на шутку рассердилась; однако ж ей совсем не хотелось оставлять ее на милость яростной феи Источника. И потому именно она-то и заставила Желтофиоль побежать в лес, дабы эта верная подруга утешила принцессу в ее невзгодах.
И вот эта прекрасная лань потихоньку бежала вдоль берега ручейка, когда Желтофиоль, уже падая от усталости, прилегла наконец отдохнуть. Она с тоскою думала, в какую сторону ей пойти, чтобы встретить свою милую госпожу. Едва ее заметив, лань сразу перескочила через ручеек, хотя он был и широк и глубок, и, бросившись к Желтофиоли, стала всячески ласкаться к ней. Та же в ошеломлении застыла, гадая, знакома ли ей эта лань или животные в сем краю так особенно расположены к людям; ибо все-таки было весьма диковинным делом, чтобы лесная лань так хорошо была воспитана. Она внимательно осмотрела ее и с превеликим удивлением заметала, как из глаз животного текут крупные слезы; тут уж она больше не сомневалась — перед нею была ее милая принцесса. Она, повеселев, расцеловала ее так почтительно и нежно, что та в ответ облизала ей руки. Заговорив с нею, она поняла, что лань ее понимает, но не может ответить; это исторгло слезы и вздохи удвоенной силы у них обеих. Желтофиоль обещала хозяйке никогда не оставлять ее, на что лань ответила ей и взглядом, и много раз кивнув, что она тому будет очень рада и это хоть немного утешит ее.
Весь день провели они вместе, и юная лань, тревожась, что ее верная Желтофиоль проголодалась, привела ее к полянке, на которой подметила множество ягод, хотя и диких, но оттого не менее вкусных. Та же нарвала их вволю, ибо умирала с голоду; однако, закончив трапезу, очень и очень забеспокоилась, не зная, где бы им укрыться, чтоб поспать, ибо страшновато им казалось провести ночь в глухом лесу, подвергаясь всевозможным опасностям.
— Не ужасает ли вас, прекрасная лань, — спросила она, — что придется нам здесь ночевать?
Лань лишь со вздохом подняла глаза к небесам.
— Но ведь вы, — продолжала Желтофиоль, — уже знакомы отчасти с таким ужасным одиночеством, когда рядом нет ни домишки, ни угольщиков, ни дровосеков и никакой уединенной хижины?
Лань кивнула головой, подтверждая, что ничего этого тут нет.
— О боги! — воскликнула Желтофиоль. — Завтра меня уж не будет на свете: если, по счастью, не растерзают тигры и медведи, так просто умру со страху; впрочем, не ради себя хотела бы я жить, — нет-нет, а только лишь ради вас! Увы! Покинуть вас в таких местах, где нет никакого утешения! Да есть ли что-нибудь печальней?
Юная лань залилась слезами, рыдая почти по-человечески.
Слезы ее тронули нежно любившую ее фею Тюльпанов, которая, несмотря на непослушание принцессы, не упускала из виду всего, что с нею происходило; и вот, внезапно появившись, она молвила:
— Не стану я ворчать на вас, ибо слишком больно мне видеть, в каком несчастье вы пребываете.
Юная лань и Желтофиоль бросились к ее ногам, не дав даже договорить: первая облизывала ей руки и всячески ластилась, вторая же молила проявить милость к своей госпоже, вернув ей настоящий облик.
— Это не в моей власти, — ответствовала фея Тюльпанов, — ибо у той, что сотворила такое зло, много силы; однако я могу укоротить срок наказания, расколдовав ее лишь на то время, какое день уступает ночи — тогда она перестанет быть ланью; но едва взойдет утренняя заря, как ей снова придется принять облик лани и бегать по долинам и лесам, как ланям и положено[265].
Не быть ланью по ночам — уже немало, и принцесса принялась выражать свою радость, скача и прыгая; это развеселило фею Тюльпанов.
— Пойдете по этой лесной тропинке, — посоветовала она, — и найдете хижину, достаточно чистенькую для сельской глуши. — Сказав так, она исчезла; Желтофиоль, послушавшись ее, повела лань по этой дорожке, и вот они увидели благообразную старушку, сидевшую на пороге маленькой избушки и доплетавшую из тончайших ивовых прутьев корзину. Желтофиоль обратилась к ней с приветствием:
— Что, добрая бабушка, если мы с моей ланью попросим вас приютить нас? Хватило бы нам и одной спаленки.
— Отчего ж, милая девушка, — отвечала та, — я охотно дам вам прибежище; заходите вместе с ланью.
Тотчас она провела их в очень милую комнатку, со стенами из черешневого дерева, в которой стояли две кровати под белыми покрывалами, застеленные тонкими простынями, и все тут выглядело так просто и опрятно, что принцесса никогда еще не видела ничего столь ей приятного.
Едва лишь стемнело, как Желанная перестала быть ланью; вдоволь на-обнималась она с дорогой своей Желтофиолью, поблагодарив ее за то, что та разделила ее судьбу, и пообещала даровать ей счастье, как только ее наказание подойдет к концу.
Тут в дверь тихонько постучала старушка и, не входя, передала великолепные ягоды Желтофиоли, и принцесса поела их с большим аппетитом; потом они улеглись спать, а едва занялся день, как Желанная снова превратилась в лань и принялась скрести копытами в дверь, чтобы Желтофиоль ее выпустила. Распрощались они весьма трогательно, хоть было это и ненадолго, и юная лань устремилась в самую густую лесную чащобу, резвясь на свой лад.
Я уж говорила, что принц Ратоборец остановился в лесу, а Пересмешник отправился поискать каких-нибудь плодов. Уже начинало темнеть, когда он вышел к тому самому домику старушки и вежливо спросил ее, нет ли самого необходимого для его господина. Тотчас она наполнила корзину и подала ему.
— Боюсь я, — добавила она при этом, — как бы чего с вами не случилось, ведь вы будете ночью без крова над головой; могу вам предложить комнатушку, хотя и весьма скромную, но это все же убежище от львов.
Он поблагодарил ее, сказав, что тут неподалеку его друг, и он сейчас приведет его сюда. Он и вправду так горячо убеждал принца, что тот согласился прийти к этой доброй старушке. Она все еще сидела на пороге и потихоньку провела их в такую же комнатку, как и та, где ночевала принцесса, — обе спаленки были так близко друг к другу, что их разделяла лишь тонкая стенка в одну дощечку.
Принц провел ночь в обществе обычных грустных мыслей; как только первые лучи солнца заглянули в окошко, он встал и, чтобы рассеять тоску, пошел в лес, приказав Пересмешнику оставить его одного. Долго он шел сам не зная куда; наконец забрел в места без конца и краю, сплошь заросшие мхом и большими деревами, — тотчас оттуда выпрыгнула лань. Он невольно пошел за нею, ведь его главной страстью всегда была охота; однако поселившаяся в его сердце любовь лишила его прежних сил. И все-таки он преследовал бедную лань, иногда пуская в нее стрелы и заставляя обмирать от страха, что он ее ранит; однако берегла ее благодетельница — фея Тюльпанов, а бывает достаточно хранительной длани одной феи, чтобы отвратить даже столь точные удары. Усталость принцессы ланей описать невозможно — такое испытание для нее было внове: наконец-то, к счастью, она повернула на ту тропку, где опасный охотник потерял ее из виду и, сам едва не падая от усталости, предпочел не преследовать ее больше.
Так и день прошел понемножку, а почувствовав, что близится час превращения, лань помчала к хижине, где ее с нетерпением ждала Желтофиоль. Едва добежав до спальни, она, запыхавшись, вся в мыле, бросилась на кровать; Желтофиоль приласкала ее, умирая от желания узнать, что случилось. Пришло время разоблачиться, и вот принцесса обрела свой прежний облик и кинулась обнимать свою фаворитку.
— Увы, — сказала она, — я-то думала, что бояться мне надо лишь феи Источника да свирепых хозяев леса. Ан нет: сегодня за мною гнался молодой охотник, и я едва успела сбежать от него, ибо тысячи стрел чуть не достигли меня, а это была бы верная смерть; сама не знаю, каким чудом удалось мне спастись.
— Не выходите больше, милая принцесса, — ответила Желтофиоль, — пока вы еще подвергаетесь этому роковому испытанию, оставайтесь в этой спаленке, а я схожу в ближайший город и накуплю книг для вашего развлечения; займемся чтением новых сказок о феях[266] и будем слагать стихи и песни.
— Замолчи, милая моя, — перебила ее принцесса, — ведь я до сих пор в приятных мечтах о принце Ратоборце; но та сила, что днем заставляет меня снизойти до печального положения лани, заставляет меня делать и то, что пристало этим животным: я, сама того не желая, скачу, прыгаю и щиплю травку, и в это время спаленка мне несносна.
Охота так утомила ее, что она просила только дать ей поесть; потом ее прекрасные веки сомкнулись до самой зари. Когда же она заметила, что солнце всходит, — случилось обычное превращение, и она убежала в лес.
Тем же вечером и принц, по своему обыкновению, пришел к своему фавориту.
— Я, — признался он, — неплохо провел время, преследуя самую прекрасную лань из всех мною виданных; сотню раз она уворачивалась от меня с такой чудесной ловкостью, что в толк взять не могу, как это ей удавалось, ведь я так точно прицеливался. Лишь взойдет ясный день, я снова пойду туда же поискать ее и без нее не вернусь.
И вправду, молодой принц, желая отвлечь свое сердце от мечты, уже казавшейся ему несбыточной, и ничуть не огорчившись тем, что в нем снова пробудилась страсть к охоте, на рассвете пошел туда же, где встретил лань; однако она остереглась там появляться, боясь повторения вчерашнего приключения. Он все оборачивался по сторонам, ступая осторожно; разгорячившись от долгой ходьбы, он с радостью увидел несколько яблок, румяных и аппетитных на вид; принц сорвал их и съел и почти тотчас же заснул глубоким сном, расположившись на свежей травке под деревьями, где назначали друг другу свидания мириады птиц.
Пока он спал, наша пугливая лань, охочая до отдаленных мест, как раз туда и пришла. Заметь она его раньше, тут же сбежала бы, но она уже слишком приблизилась и невольно залюбовалась им: он же так крепко дремал, что она осмелилась долго вглядываться в его черты. О боги! Что с ней стало, когда она узнала его! Слишком еще полна была ее душа свежей прекрасной мечтою, чтобы забыть ее за столь короткое время; о Амур, Амур, зачем желаешь ты подвергнуть юную лань опасности погибнуть от рук своего любимого? Вот она, вся здесь, и не скрывается. И нет больше средства защитить ее. Она прилегла в нескольких шагах, не отрывая от него восторженных глаз; томилась, испуская тихие вздохи, наконец, осмелев, подошла еще ближе и, дотронувшись до него, разбудила[267].
Он безгранично удивился, узнав ту самую лань, что доставила ему столько хлопот и кого он так долго искал; но увидеть ее в двух шагах от себя казалось ему почти невообразимым. Она же, не дожидаясь, пока он ее схватит, со всех ног пустилась бежать, а принц так же быстро припустил вдогонку. Иногда оба останавливались перевести дух: прекрасная лань еще чувствовала изнеможение от вчерашнего быстрого бега, не меньше ее утомлен был и преследователь; но более всего препятствовала бегству юной лани — увы! как вымолвить такое? — горечь, что убегает она от того, кто ранил ее не столько всеми выпущенными стрелами, сколько своими достоинствами. Он видел, как часто она оборачивается, словно бы спрашивая, хочет ли он, чтобы она пала от его стрел, и, когда он уже почти догонял, она снова попыталась спастись бегством.
— Эй! Если бы ты знала мои намерения, маленькая лань, — крикнул он тогда, — ты не бежала бы меня. Я люблю тебя. Хочу тебя покормить и заботиться о тебе, потому что ты прелестна.
Ветер унес его слова, лань не услышала их.
Наконец, обежав уже весь лес, наша лань выбилась из сил и еле-еле шла; тут принц, ускорив бег, догнал ее с радостью, о которой уже давно и не помышлял; он прекрасно понимал, что она измождена, и вот она приникла к земле, несчастный полумертвый зверек, и уже жаждала смертельного удара от своего победителя; но вместо такой жестокости принц стал гладить ее.
— Прекрасная лань, — сказал он, — не бойся же меня, я хочу забрать тебя с собою, чтобы ты всегда была рядом.
Он наскоро наломал ветвей, проворно их расстелил, покрыв листвой, травами и мхом и набросав сверху роз, которыми богаты были ближние кусты; потом, взяв лань на руки, так что ее голова легла к нему на плечо, нежно положил ее на это ложе, сам же сел рядом, иногда подавая ей ароматные травки, которые она брала у него с руки.
Уверенный в том, что она не понимает слов, он все-таки продолжал с нею говорить; но, каким бы наслаждением ни было для нее смотреть на него, она тревожилась, ибо приближалась ночь. «Что может случиться, — размышляла она, — если он вдруг увидит мое внезапное превращение: он ужаснется и убежит, а если и не убежит — чего мне ждать от него, совсем одной, в глухом лесу?» Она думала только о том, как бы улизнуть, и тут принц сам подсказал ей средство: беспокоясь, что ее мучит жажда, он пошел поискать вблизи какой-нибудь ручеек, чтобы отвести ее туда, и за это время она потихоньку убежала и пришла в хижину, где ее ждала Желтофиоль. Там она снова бросилась на кровать; наступила ночь, превращение свершилось, и она рассказала о своем приключении.
— Поверишь ли, милая? — говорила она. — Мой Ратоборец живет в здешнем лесу, и это он охотился за мною два дня подряд, и поймал меня, и был со мною так нежен. О! Как же мало похож на него присланный мне портрет! Сам он во сто крат лучше, и даже растрепанное охотничье платье ничуть его не портит и придает такого очарования, что я тебе описать не могу; ну не несчастное ли я существо, что должна избегать того принца, что предназначен мне моей же роднею, кто любит меня и кого я люблю? И надо же было случиться, чтобы злонравная фея почувствовала такое отвращение ко мне в самый первый день моей жизни, что испортила мне ее всю до последнего.
Тут она заплакала, Желтофиоль же принялась утешать ее, убеждая надеяться на лучшее, — ведь может статься, в скором времени ее горести превратятся в радости.
Принц же, найдя источник, вернулся к милой своей лани; но ее больше не было там, где он ее оставил. Тщетно он повсюду искал ее и почувствовал тут такую горечь-досаду, точно и вправду имел на то причину.
— Что же это! — восклицал он. — Неужто всю жизнь придется мне сетовать на женский пол, лживый и коварный?
Печальный вернулся он к доброй старушке и рассказал своему наперснику о приключении с маленькой ланью, кляня ее за неблагодарность. Пересмешник же, увидев, в каком принц негодовании, не смог сдержать улыбки и посоветовал ему при встрече наказать лань.
— Я только затем здесь и останусь, — ответствовал принц, — потом же пойдем с тобою еще дальше.
И вот наступил завтрашний день, а принцесса снова превратилась в белую лань. Она не знала, на что решиться, — снова ли пойти в те места, где обычно гулял принц, или избегать встречи, выбрав противоположную тропу. Наконец предпочла последнее и ушла далеко; но юный принц, столь же хитроумный, как и она сама, на сей раз пошел тем же путем, верно рассудив, что она прибегнет к этой маленькой уловке, — так он и настиг ее в самой густой чаще. Она полагала себя вне опасности, как вдруг заметила его; тотчас же она вскочила, перепрыгнула через кусты и, как будто еще больше испугавшись из-за своего вечернего побега, умчалась быстрее ветерка; однако, когда она перебегала тропинку, он настиг ее стрелой. Ей стало невыносимо больно, и, чувствуя, что силы покидают ее, она упала.
О Амур, о жестокий варвар, как допустил ты, что несравненную красавицу ранил нежнейший друг ее?[268] Однако сие прискорбное событие было неизбежным, ибо им фея Источника венчала все злоключения. Подойдя, принц с большой жалостью увидел, что у лани течет кровь; он нарвал травы и перевязал ей копытце. Потом снова сделал ложе из хвороста, положив голову лани себе на колени.
— Не твое ли непостоянство всему виною? — укорял он ее. — Что дурного я вчера сделал, почему ты меня оставила? Ну, уж сегодня такого не будет — я унесу тебя.
Лань молчала — да и что тут скажешь? Она была неправа, да не могла признаться; ибо не всегда молчат оттого лишь, что не хотят говорить. Принц ласкал и нежил ее.
— Как же горько мне, что я тебя ранил! — вздохнул он. — Ты возненавидишь меня, а ведь я хочу твоей любви.
Казалось, все, что он говорил маленькой лани, ему нашептывал некий тайный дух; наконец пришел час возвращаться к старой хозяйке. Тут принц взвалил свою добычу на плечи, но нелегко ему было нести, вести, а иной раз и тащить ее за собою. Она же совсем не хотела идти с ним.
«Что со мной станется? — думала она. — Как! Я останусь наедине с принцем! Ну нет! Лучше умереть».
Тогда, нарочно упираясь, она утомила его так, что он весь взмок и едва не падал от усталости; и хотя до хижины оставалось совсем недалеко, он понял, что без помощи туда не дойдет. Он пошел искать верного Пересмешника, однако прежде привязал добычу к подножию дерева, боясь, что она снова уйдет.
Увы! Кто мог бы предположить, что настанет день, когда с самой красивой из всех принцесс на свете так поступит обожающий ее принц? Тщетно старалась она развязать путы[269] — от ее усилий веревки лишь стягивались в крепкие скользящие петли и едва совсем ее не удушили, когда Желтофиоль, устав сидеть одна в спальне, вышла подышать воздухом и подоспела как раз туда, где выбивалась из сил белая лань. Что с ней сделалось, едва увидела она дорогую свою повелительницу? Даже и освободить ее получилось не сразу — столько навязалось в разных местах узлов, но, когда она уже наконец уводила лань с собою, явились и Пересмешник с принцем.
— При всем моем уважении к вам, сударыня, — сказал ей принц, — позвольте мне помешать той маленькой краже, какую вы хотите совершить: я ранил эту лань, она моя, я ее люблю и очень прошу вас признать во мне ее хозяина.
— Господин мой, — вежливо отвечала Желтофиоль (ибо она была не только красивой, но и весьма воспитанной девушкой), — эта лань была моей, прежде чем стала вашей, и я скорее пожертвую своей жизнью, нежели дам ее в обиду; если же вы хотите убедиться, что она меня знает, вам стоит дать ей лишь немножко свободы: а ну-ка, милая моя лань, обнимите меня! — И тут лань бросилась ей на шею. — Теперь поцелуйте в правую щеку. — И она послушалась. — Дотроньтесь же до моего сердца. — Она дотронулась до него копытцем. — Вздохните! — И лань вздохнула. Принц уж больше не мог сомневаться в сказанном Желтофиолью.
— Возвращаю ее вам, — чистосердечно признал он, — но не без печали в душе.
Тотчас же она ушла и лань увела с собою. Они и не знали, что принц живет в той же хижине; он же последовал за ними на почтительном расстоянии и немало удивился, увидев их входящими к той же доброй старушке. Он вошел почти сразу вслед за ними и, все в том же изумлении, причиной коему была белая лань, спросил у хозяйки, кто эта молодая особа. Та ответила, что с нею незнакома, но пустила к себе вместе с ее ланью, поскольку она хорошо заплатила и теперь живет в полном уединении; Пересмешник же спросил, где ее спальня, и услышал в ответ, что совсем рядом от их комнаты — разделяет две спальни лишь тонкая перегородка.
Когда же принц вошел к себе, то услышал от верного своего друга, что либо тот жестоко ошибается, либо девушка эта из свиты принцессы Желанной, и ему, Пересмешнику, уже случалось встречать ее в том дворце, куда ездил он послом.
— Какое неприятное воспоминание вы во мне воскресили! — промолвил принц. — И с какой же стати ей быть здесь?
— Этого я сам не пойму, — признал Пересмешник, — однако хочу еще разок на нее поглядеть, а раз нас разделяет всего лишь деревянная створка, так я проткну в ней дыру.
— Вот уж ненужное любопытство, — печально произнес принц, в котором слова Пересмешника разом возродили все его скорби. Сам он открыл окно и предался мечтам, любуясь лесом.
Пересмешник же тем временем трудился и вот уже проделал дыру, вполне достаточную, чтобы увидеть очаровательную принцессу, одетую в платье из серебряной парчи, расшитое алыми цветами и украшенное золотом и изумрудами; густые локоны падали ей на прелестнейшие в мире плечи; на лице играл живой румянец, глаза сияли. Коленопреклоненная Желтофиоль перевязывала ей руку, из которой изобильно сочилась кровь; обе, казалось, очень удручены этой раной.
— Дайте мне умереть, — говорила принцесса, — смерть кажется мне слаще моей теперешней жизни. Как! Весь день быть ланью, смотреть на того, кто предназначен мне судьбою, и не мочь ни сказать ему хоть слово, ни объяснить свое роковое злоключение. Увы! Если б ты услышала, какой проникновенный у него голос, сколько всего трогательного наговорил он мне, пока я была ланью, как чарующи и изящны его манеры, ты бы жалела меня еще сильнее, чем теперь, — ведь я даже не могу объяснить ему, какая горькая доля мне выпала!
Нетрудно вообразить, как удивился Пересмешник всему, что увидел и услышал. Побежал он сразу к принцу, да и оттащил того от окна, крича с неизъяснимым восторгом.
— Ха-ха! Господин мой, — восклицал он, — не медля прильните к этой перегородке и взгляните на оригинал того портрета, который столь очаровал вас.
Принц, посмотрев, тотчас узнал свою принцессу; он умер бы от удовольствия, когда б не боялся еще одного разочарования: ибо что же тогда, в самом деле, значила его удивительная встреча с Терновой Колючкой и ее матерью, заключенными в Башню о Трех Шпилях и выдававшими себя за принцессу Желанную и ее ближайшую фрейлину?
Однако страсть, поневоле склоняющая нас поверить в желаемое, вдохнула в него добрую надежду, а уж тут от нетерпения впору свершить что угодно, лишь бы все наконец прояснить. Он без проволочек тихонько постучал в дверь спальни принцессы; Желтофиоль, не сомневавшаяся, что это старушка, и обрадовавшись, что та сейчас поможет ей перевязать руку ее повелительницы, поспешно отворила и ошеломленно застыла на пороге, увидев принца, который вошел и бросился к ногам своей Желанной. От восторга он почти онемел, так что, как я ни старалась вызнать, что же такое он пролепетал ей в первые минуты встречи, никто мне про это так и не рассказал; не меньше него смущена была и принцесса, но Амур, часто служащий переводчиком в трепетных немых сценах, пришел им на помощь и горячо убедил, что никогда еще не внушал никому чувств более возвышенных, трогательных и нежных. Слезы, вздохи, мольбы, даже несколько изящных улыбок, — словом, все знаемые нежности. Так прошла ночь, а на следующий день Желанной уже не о чем было тревожиться — она больше не превратилась в лань. Радость ее от того охватила неизъяснимая, и слишком дорог был ей принц, чтобы ею с ним не поделиться; тотчас же она принялась рассказывать свою историю, да с таким естественным изяществом и столь красноречиво, что превзошла лучших ораторов.
— Как, — воскликнул он тогда, — так это вас, милая принцесса, ранил я под видом белой лани! Как искупить мне столь великое прегрешение, и достаточно ли будет умереть от скорби на глазах ваших?
Он был так удручен, что лицом стал грустный-прегрустный. Желанной же видеть это было горше боли от раны, и убеждала она его всячески, что ничего страшного не случилось, ибо не вправе она осуждать горесть, принесшую ей столько добра.
Так ласково она говорила, что перестал он сомневаться в ее добрых чувствах. А чтобы и ей все прояснить, рассказал о подлоге, учиненном Терновой Колючкой и ее матерью, добавив, что нужно поскорее послать отцу-королю письмо об обретенном им счастье, ибо тот вот-вот затеет ужасную войну, дабы доискаться до причины бесчестья, как он полагал, ему нанесенного. Желанная же попросила Пересмешника написать это письмо; тот уж совсем было сел за стол, как вдруг весь лес огласили пронзительные звуки труб, горнов, литавр и барабанов; в тот же миг почудился им вокруг хижины топот множества сапог; принц выглянул в окно и увидел немалое число офицеров, знамена и кавалерийские стяги: тут он приказал им остановиться и подождать его.
Армия же была столь приятно удивлена, что словами и не выразишь, будучи уверена, что сейчас принц сам поведет их отомстить отцу Желанной. Предводительствовал войском, несмотря на почтенный возраст, его отец. Он ехал в бархатном, расшитом золотом паланкине, за которым следовала открытая повозка, а в ней — Терновая Колючка с матерью. Увидев паланкин, принц Ратоборец подбежал к нему, и отец протянул ему руку и обнял с поистине отцовской любовью.
— Откуда путь держите, дорогой сын мой, — вскричал он, — и зачем исчезли, повергнув меня в такую скорбь?
— Господин мой, — отвечал принц, — благоволите выслушать меня.
Тотчас король вышел из паланкина, и уединились они с сыном в дальнем шатре; тогда и рассказал ему принц о счастливой встрече с возлюбленной и о проделках Терновой Колючки.
Возрадовавшись, отец воздел очи горе и руки — к небесам, воздавая им хвалу; тут и увидел он принцессу Желанную, сиявшую ярче всех звезд небесных. Она оседлала великолепного коня, так и гарцевавшего под ней, прическу ее украшала сотня разноцветных перьев, одежды были расшиты самыми крупными бриллиантами на свете, одета она была охотницей, а следовавшая за нею верная Желтофиоль немногим уступала ей в блеске красоты и украшений. Содеяла это все фея Тюльпанов, хранившая их исправно и заботливо: ведь это она ради принцессы построила чудесную деревянную хижину и все эти дни кормила их в облике доброй бабушки.
Когда принц, узнав свои войска, отправился навстречу отцу-королю, она вошла в комнату к Желанной, подышала ей на руки, дабы залечить рану, а потом дала ей богатые одежды, в которых та и явилась пред королевские очи; король же, очарованный до глубины души, сперва отказывался верить, что видит существо смертное. Все, что только можно высказать самого восторженного, слетело с уст его, и заклинал он немедля даровать всем счастье увидеть ее королевою.
— Ибо я решил, — сказал он, — уступить мой трон принцу Ратоборцу; так станет он еще достойнее вас.
Желанная поклонилась и отвечала королю с такой учтивостью, которой только и можно было ожидать от столь благовоспитанной особы; потом, взглянув на двух несчастных узниц, сидевших в повозке и закрывавших лица руками, великодушно попросила простить их и отпустить в той же повозке, куда им заблагорассудится. Король согласился на просьбу принцессы и не преминул восхититься ее добротой и восславить ее.
Армии приказали возвращаться домой, принц же вскочил в седло, дабы сопровождать свою прекрасную избранницу, и в столице встретили их тысячекратными «ура»; все приготовили для свадьбы, особую торжественность которой придал приезд шести добрых фей, покровительниц принцессы. Они преподнесли ей самые дорогие подарки на свете, но прекраснейшим из всех был тот великолепный дворец, в котором когда-то увидела их королева, — он вдруг слетел прямо с неба, и пятьдесят тысяч амуров мягко опустили его на мураву у речного бережка; роскошней дара и придумать невозможно.
Верный Пересмешник попросил своего господина поговорить с Желтофиолью и соединить их судьбы в тот же день, когда сам принц женится на принцессе; загорелось в нем желанье, да ведь и прелестная девица была весьма довольна, что ей так повезло в чужеземном королевстве. Фея же Тюльпанов оказалась щедрее сестер и подарила ей четыре золотых прииска в Индиях[270], дабы муж не попрекал ее, что она его беднее. Свадебные торжества продолжались много-много дней — и в каждый из них придумывались новые забавы, а все вокруг воспевали приключения маленькой Белой Лани.
* * *
И доброй феи дар порой жесток.
Принцесса милая, вы ждать не пожелали
И свет дневной до срока увидали —
И вот вам послушания урок:
Пришлось в лесах побегать ланью белой!
Не ясен ли сокрытый тут намек:
Хоть люб нам свет, когда приходит срок,
Он все ж опасен для красы незрелой,
Для вас же, баловней беспечных, здесь
Не меньшей важности наука есть:
Неуязвимы ль вы для стрел Амура?
Нет! Роковая у любви натура,
И вам, кому внушать любовь достался дар,
Изведать суждено сладчайшей страсти жар.
Пер. Д. Л. Савосина
ТОМ ВТОРОЙ
Послание
Вы, сказочки мои,
что с радостью живейшей
Спешите
пред лицо принцессы августейшей[271],
Счастливицы! Ведь вам такой же жребий дан,
Которым польщены Принц-Дух и Принц-Баран.
От славы от ея в восторге пламенею
И рвенье баснями свидетельствовать смею.
Спешите же! Но к ней явитеся тогда,
Когда важнейшим чем не будет занята.
Вам все бы лишь играть, и ваше назначенье —
Принцессу забавлять, даря ей наслажденье.
Когда отправится в Сен-Клу, покинув двор,
Чтоб в тишине пожить, куда не вхож раздор,
Тогда вы храбрости скорее наберитесь
И здесь со старшими[272] вы перед ней явитесь.
Увидите тогда чудесные места
Повсюду, где царит и блещет красота.
Здесь от шагов ее в любое время года
Цветы рождаются, презрев закон природы.
Сильваны с нимфами[273], родной покинув лес,
Здесь ей завидуют иль славят до небес.
Красоты здешние — самих богов творенье,
На это и у фей нет должного уменья.
А у прекраснейшей, что всем владеет тут,
Все добродетели, как сад, в душе цветут…
Но я лишь только жар стужу в вас понапрасну.
Летите к той, что так мудра и так прекрасна,
Завистников легко вам будет презирать,
Которым ваш удел уж не дает и спать.
Пер. М. А. Гистер
Новый дворянин от мещанства[274]
Начало

Долго наш новоиспеченный дворянин выбирал из всех провинций и, наконец решив обосноваться в Нормандии[276], отправился в Руан. Там встретился он с поручителями своего покойного отца, которые всячески старались ему угодить. Но это все были простые купцы, и ему не хотелось держать себя с ними ровней, а посему он с помощью нелепых выдумок пытался заставить всех вокруг поверить в свое благородное происхождение, так что поведение его было весьма странным, а голова полнилась всякими безумными фантазиями. Он разузнал, какие из близлежащих земель можно было приобрести во владение, и выбрал ту, что располагалась у моря и приглянулась ему по рассказам. Ее он и купил, сперва побывав там и увидев все собственными глазами. Дом ему, однако, показался не слишком красивым, и он сразу же нанял рабочих, чтобы его снести; но, считая, что он и есть непревзойденный знаток всех наук, не захотел другого архитектора для своего скромного замка, кроме самого себя.
Он выбрал весьма приятное место на берегу моря. В часы прилива волны плескались у самых стен. Здесь же в море впадала бурная речка, поэтому он повелел возвести над ней высокую аркаду, на которой и построил свой новомодный дворец. Туда можно было подняться с обеих сторон по крутой каменной лестнице с железными перилами. В дождливую или ветреную погоду это было поистине ни с чем не сравнимое удовольствие, поскольку, покуда гости добирались наконец до замка, они успевали промокнуть до нитки, продрогнуть от холодного ветра или обгореть на солнце; зато попробовали бы пожаловаться на такие неудобства — вот уж чего хозяин не прощал никогда.
Наш мещанин, отказавшись от своей фамилии, стал называть себя господин де Ла Дандинардьер[277]. Сие длинное имя должно было внушать благоговение соседям, по большей части баронам и виконтам, не слишком богатым и отвыкшим от визитов ко двору. Чтобы произвести еще большее впечатление, наш герой набивал карманы письмами от важных персон, которые сам же и писал в стиле напыщенном и вульгарном. Тем не менее содержание их всегда действовало на провинциалов, особенно та непременная приписка, где обеспокоенность его здоровьем выражал его величество король. Новоиспеченный господин де Ла Дандинардьер обзавелся полудюжиной маленьких злых собачонок, которых стал называть сворой, и нанял слугу по имени Ален[278]. По мере надобности своего господина тот бывал и письмоводителем, и дворецким, а то и поваром или камердинером.
Слуга этот, охотясь со сворой хозяина, весьма часто заходил на земли соседей, нимало не задумываясь о том, как вредно это может быть для репутации Ла Дандинардьера и какой скандал может вызвать. И вот однажды некий господин, не отличавшийся терпимостью, случайно застал нашего охотника в своих владениях за безжалостным истреблением куропаток. Нарушитель был жестоко избит, а на угрозы, что его хозяин пожалуется на такую несправедливость маршалам Франции, услышал в ответ:
— Ха! Хочешь меня запугать! А я ведь знаю твоего маркиза[279] де Ла Дандинардьера. Получи-ка! Вот тебе четыре тумака! Передай их от меня своему хозяину да спроси у него, не заслужил ли он поболе от других!
Вернулся слуга весь избитый и с пустыми руками, хотя его господин рассчитывал подать дичь на ужин, куда были приглашены трое почтенных приходских священников из соседних поместий. Ла Дандинардьер, низенький, толстый и вспыльчивый, страшно разгневался, узнав от Алена о его злоключениях и о словах Вильвиля (так звали встреченного им господина).
— Я отомщу, — процедил он, нахлобучивая шляпу. — Я им покажу, как ссориться со мной! Я ли не важная персона? У меня замок на прекрасной реке, у подножья его плещется море, крыша из сланца, а у этого нищего только и есть, что глиняные стены да соломенная кровля.
На прогулке он гневно вышагивал, сцепив руки за спиной. Как раз в это время к нему явился барон де Сен-Тома, человек незаменимый в тех краях, — так он был радушен и благожелателен. Не было такого спора, который бы он не разрешил, и ни одна свадьба не обходилась без его совета и участия. Он был благородного происхождения, но беден; женился же, к несчастью, на женщине высоченной, худосочной и чернявой, которая любой ценой хотела прослыть красавицей, притом сия цена оказалась столь велика, что доходы мужа таяли день ото дня. Двух своих дочерей, девушек весьма пригожих, она ничуть не любила. Дело в том, что они рано повзрослели и знали гораздо больше матери. А было это так, потому что держала она их взаперти в небольшом доме, стоявшем в глубине сада; и вот, маясь от одиночества, они один за другим проглатывали романы и воображали себя, прекрасных и несчастных, принцессами в ожидании героя, который вызволил бы их из заколдованного замка.
Скудные знания об окружающем мире, слившись с фантазиями, с помощью коих они пытались избавиться от скуки, превратили их в особ весьма сумасбродных. Богом данный здравый смысл принял в них причудливую форму. Мать же, отличавшаяся полным отсутствием оного, старалась на сей счет себя успокоить: лишь бы дочери денег не просили, а в остальном пусть себе блажат сколько вздумается. Г-н де Сен-Тома куда больше тревожился о своих дочерях. Имей он больше средств, несомненно, и для них смог бы состояние нажить; но барышни были счастливы только в своих фантазиях, и отцу ничего не оставалось, кроме как не мешать их утехам.
Разгневанный вид г-на де Ла Дандинардьера удивил барона де Сен-Тома.
— Вас сегодня не узнать, — улыбнулся он. — Что с вами?
— Что со мной, господин сосед мой? — переспросил Ла Дандинардьер. — Сейчас я вам расскажу, что со мной. И если вы не упадете замертво от изумления, то уж по меньшей мере сделается вам нехорошо. Господин де Вильвиль нанес мне оскорбление, убивает моих собак, избивает ловчего, клевещет на меня. Но это малая толика! На самом деле всё намного… Но нет, больше я ничего не скажу. Мы еще посмотрим, еще поглядим.
— Вы что же, — перебил его г-н де Сен-Тома, — хотите вызвать его на дуэль?
— Хочу ли я? — вскричал Ла Дандинардьер. — Чего я хочу, так это сразить его насмерть первым же выпадом! Другого исхода мне не нужно!
— Умерьте свой пыл, друг мой, — стал уговаривать барон, — вы знаете, какая участь ждет дуэлянтов. Если ваши недруги узнают об этой затее, вам нужно будет думать лишь о том, как бежать из королевства.
— Честь всегда была мне дороже жизни, — ответствовал Ла Дандинардьер. — Если смиренно сносить обиды да насмешки, останется только с позором покинуть замок. Эти негодяи нормандцы посчитают меня за мягкотелого тюфяка. Разумеется, — спохватился он, — это я так рассержен на Вильвиля, вот и ругаю нормандцев, а вас ни в коей мере не хочу задеть.
— Я не воспринимаю слова столь буквально, — сказал г-н де Сен-Тома. — И чтобы доказать вам свою преданность, готов тотчас же пойти и бросить ему вызов, раз уж вы непременно хотите драться.
Такое предложение обескуражило Ла Дандинардьера, чей гнев уже угасал, уступая место страху. Рвение барона в эту минуту было для него невыносимо.
Немного помедлив, Ла Дандинардьер спросил:
— Думаете, если я буду драться с этим деревенщиной, из-за меня поднимется шум при дворе?
— Нужно умело устроить ваш поединок, — ответил барон. — Я знаю Вильвиля — вызвать его на дуэль не составит никакого труда.
— Так ли он храбр? — заволновался Ла Дандинардьер.
— Его храбрость граничит с безрассудством. Он убил больше людей, чем другой прихлопнул мух.
— Я восхищен, — Ла Дандинардьер старался оставаться невозмутимым, — такой противник мне и нужен. Никогда не забуду свою шестую дуэль: на ней я сразил одного хвастуна, пред которым другие отступали.
— Вот как! А я опасался, — добавил барон, — что вы в этом деле неопытны. Решайтесь же, и я буду иметь удовольствие быть вам полезным.
— Я полон решимости, — ответил Ла Дандинардьер. — Однако не будем спешить. Надеюсь иметь честь вновь увидеть вас через несколько дней.
И он сменил предмет разговора, перейдя к новостям, которые получил из Парижа.
Господин де Сен-Тома поспешил оставить нашего мещанина. Он еле сдерживался, чтобы не расхохотаться, ибо хотя был уже немолод, но все еще сохранял природную веселость и способность воображать вещи весьма забавные. Он понимал, в каком замешательстве находится Ла Дандинардьер, теперь куда больше рассерженный на самого себя за свое хвастовство, чем на Вильвиля за его оскорбления. Барон надеялся позабавиться на славу, дав ход этому делу. У него был весьма статный слуга-гасконец, не утративший бахвальства, свойственного уроженцам этой местности[280]. Двумя днями позже де Сен-Тома, дав ему определенные указания, отправил его к Ла Дандинардьеру. Вид у гасконца был впечатляющий: камзол буйволовой кожи, шейный платок из черной тафты, залихватски загнутая кверху шляпа с галунами, такая большая, что походила скорее на зонт, кожаная портупея, богато расшитая перевязь и шпага, какой не видывали здесь со времен Вильгельма Завоевателя[281].
Ла Дандинардьер беспокойно прогуливался по берегу моря. Внезапно прямо перед ним вырос этот фанфарон, да так близко, что не оставалось ни малейшей возможности ускользнуть.
— Не вы ли, — громогласно и без приветствия произнес слуга, — не вы ли господин де Ла Дандинардьер?
— Пусть так, — в страхе пробормотал наш мещанин.
— Пусть так? — вопросил гасконец. — Что вы подразумеваете под таким ответом?
— Я хочу сказать, что я вас вовсе не знаю и с легкостью обхожусь без новых знакомств. В общем, в двух словах — что ж, может, я и Ла Дандинардьер, а может быть, и нет.
— Вот, значит, как объясняется ваше «пусть так», — произнес наш храбрец. — Я же без лишних церемоний заявляю вам: господин де Вильвиль прекрасно осведомлен о той клевете, что вы на него возводите. Посему он хочет встретиться с вами лицом к лицу через три дня в близлежащем лесу. Я буду его секундантом, вы приведете своего.
Ла Дандинардьер не сразу пришел в себя от испуга и изумления. К тому времени нагнавший ужаса хвастун ушел уже довольно далеко, и когда наш мещанин наконец принялся вертеть головой в поисках своего недавнего собеседника, тот успел скрыться за утесом. В подобных обстоятельствах Ла Дандинардьер предпочитал иметь дело с демоном, нежели с человеком. Он изо всех сил убеждал себя, что это было видение, что злой дух принял фантастический облик и явился потревожить его покой; и если он сам и сомневался в таком своем предположении, то, по крайней мере, надеялся убедить в нем местное общество, дабы с достоинством выйти из затруднительного положения.
Он вернулся домой столь бледный и осунувшийся, что не было даже надобности прикидываться испуганным. Его ждали приор де Ришкур и виконт де Бержанвиль. Они были так увлечены изучением гравюр, изображавших героев древности, которыми де Ла Дандинардьер украсил свою гостиную, что не заметили состояния хозяина. Наш мещанин приказал у каждой гравюры поставить надпись с именем героя и его подвигами, но буквы были такие маленькие и неудобочитаемые, что виконт и приор спорили. «Это Жиле», — говорил один. «Нет, Жило», — возражал другой. Тут они заметили вошедшего Ла Дандинардьера.
— А! Вот и вы! — обратились к нему гости. — Просим вас разрешить наш спор: как зовут сего господина на портрете?
— Это Жиль, господа, — ответил наш мещанин, — Жиль де Ла Дандинардьер, мой предок. Он вырос в замке д’Амбуаз вместе с сыном короля Франции Людовика Одиннадцатого Карлом Восьмым — то-то был король пригожий да мудрый! Карл обожал моего славного предка. Но, как известно, Людовик Одиннадцатый боялся, что сын может предать его. Чтобы себя обезопасить, он его плохо воспитывал и кормил говядиной, в то время как Жиль был у Людовика Одиннадцатого в фаворе и каждый день ел дичь, часть которой отдавал Карлу. В благодарность тот сделал его, не помню точно кем, но, по-моему, коннетаблем[282].
— Вот как! — воскликнул приор. — Не помню я что-то коннетабля с таким именем.
— Не важно, — ответил Ла Дандинардьер. — Если не коннетаблем, так сухопутным адмиралом[283] точно. На гравюре ясно видно, что он изображен с жезлом командующего, а это кое-что значит.
Тут наш мещанин стал рассказывать гостям всю историю своих предков, написанную по его приказу. Он бы и продолжал, несмотря на плачевное состояние, в которое его привела встреча с давешним хвастуном. Но тут виконт, приглядевшись, заметил, что Ла Дандинардьер то бледнеет, то краснеет, то зеленеет, и вскричал:
— О Боже! Вам худо, вы при смерти, друг мой? Вы так странно изменились в лице!
— Большая удача, господа, что я еще с вами после того, что со мной случилось. Не будь я таким храбрым, так был бы уже мертв. Представьте, каково человеку, на которого вдруг нападает злой дух. Он хоть и был в людском обличье, но глаза его горели адской злобой, ноги словно вывихнуты, а на руках когти[284].
И Ла Дандинардьер рассказал о происшествии на берегу моря. Как ни старались виконт и приор, им не удавалось сдерживать смех над этим воображаемым испугом. Они толкали друг друга локтем в бок и украдкой перемигивались, что весьма красноречиво говорило об их чувствах. В конце концов, после бурных восклицаний по поводу такого удивительного приключения, они посоветовали нашему мещанину сделать кровопускание, на что тот с радостью согласился, желая воспользоваться поворотом событий, чтобы выиграть время.
Он послал за лекарем, а гости в это время приступили к трапезе. Ла Дандинардьеру кусок в горло не лез, хоть он и был очень голоден, — ведь на море воздух возбуждает аппетит, как нигде более. Однако друзья стали его уговаривать, что поддержание сил необходимо для противодействия и людям, и злым духам. Ла Дандинардьер согласился и с таким усердием принялся поглощать пищу, что один съел больше своих гостей и всей прислуги.
Дом лекаря находился весьма далеко от замка нашего мещанина, и виконт с приором откланялись до его приезда. Они поражались безрассудству, с коим Ла Дандинардьер стремился сойти за потомка фаворита Карла VIII и заставить поверить, что злой дух потрудился явиться, чтобы его напугать. Они оба согласились, что это все чрезвычайно забавно и распутать сей клубок тайн под силу разве что барону де Сен-Тома, а посему и отправились к нему на ночлег и нашли его в обычном веселом расположении духа, хотя в жизни его не было особых причин для радости — стоило лишь вспомнить о его жене и дочерях, частенько подливавших дегтя в медовую сладость его обычного добродушия. Барон не скрыл от друзей шутку, которую сыграл с Ла Дандинардьером, показав им и того лакея, что так сильно напугал нашего мещанина, и предположив, что тут еще есть чем позабавиться. Де Сен-Тома пообещал предложить свои услуги в дуэли с Вильвилем и во всех подробностях живописать, каков будет Ла Дандинардьер, когда получит известие о предстоящем поединке. Каждый наперебой предлагал, как сделать эту историю еще забавнее. На следующий день барон не преминул навестить нашего великосветского простака.
К тому времени, как приехал лекарь, Ла Дандинардьер потерял уже всякое желание расставаться даже с каплей крови и подумал, что достаточно лишь пустить слух о кровопускании. Он хорошо заплатил лекарю, чтобы тот везде подтверждал и даже приукрашивал сей факт, приказав прислуге повторять за лекарем, а сам с забинтованной рукой улегся в постель.
Барон де Сен-Тома явился рано — Ла Дандинардьер еще не встал. Верный слуга Ален доложил, что не может разбудить господина по причине его плохого самочувствия. На это барон возразил:
— У меня очень важные известия, я непременно должен увидеть его. Поэтому, Ален, дружочек, проводи-ка меня в его комнату.
Слуга повиновался. Ла Дандинардьер лежал в кровати. На нем была ночная фуфайка черного сукна, бывшая когда-то камзолом. Подол отрезали, и теперь он свисал, обмотанный вокруг красного шерстяного колпака. Остальные предметы одежды на нем были под стать этому домашнему облачению.
— Как же так! — вскричал барон. — Вы спите, пока Вильвиль готовится вас уничтожить? Он сообщил, что вчера один храбрец приходил бросить вам вызов и подтвердить самые серьезные намерения. Не думаю, — добавил он, — что вы можете отказать ему в сатисфакции.
Ла Дандинардьер слушал его с возрастающим ужасом, который более не мог скрывать.
— Признаюсь вам по чести, — пробормотал он, — что я перебрался в эту провинцию не для того, чтобы меня проткнули на дуэли. Я с таким же успехом мог остаться и в Париже — городе весьма опасном. Там хватает людей, готовых уничтожать всех и каждого. Я долго выбирал, я хотел поселиться в месте, где смогу жить тихо-мирно. У меня всего в достатке и нет причин ненавидеть жизнь. Так почему же вы советуете рисковать самым ценным, что есть у меня?
— По-дружески советую вам, — ответствовал барон, — следовать тому пути, который для вас проторили ваши доблестные предки. Неужели вы хотите обесчестить свое имя, отказавшись пару раз взмахнуть шпагой? Если вам не нравится называть это дуэлью, пусть это будет просто встреча — я-то в любом случае готов вам услужить. Я буду вашим секундантом вопреки всему, хотя страшно рискую: ведь у меня жена и две дочери. Но чего не сделаешь ради друга? Все отдам, душу свою отдам!
Ла Дандинардьер почувствовал, что его загнали в угол, и прибегнул к избитому средству — упал без чувств. Это у него, впрочем, вышло неудачно: он повалился на кровать и принялся кричать что есть мочи:
— Умираю! Вчерашнее кровопускание было слишком жестоким! Рана открылась! Два ведра крови я потерял этой ночью! С ног валюсь от истощения…
Он закатил глаза и остался без движения, твердо решив пролежать в таком положении несколько часов. Барон, имевший представление, как действовать в подобных случаях, потряс нашего притворщика за плечо и отвесил ему пару-тройку пощечин, которые тот снес не пошевелившись, со стойкостью, заслуживающей восхищения. Де Сен-Тома тотчас побежал за кувшином, из которого выплеснул Ла Дандинардьеру воду в лицо, да так сильно, что тот на мгновение подумал, не началось ли наводнение, и в испуге открыл глазки-щелочки. Оценив ситуацию, он покраснел от гнева.
— Прошу вас, сударь, — процедил он, — если я вдруг еще когда-нибудь окажусь без сознания в вашем присутствии, то уж лучше позвольте мне умереть, чем приводить в чувство таким способом.
— Вы не оценили мое старание, — вздохнул барон, — между тем я остаюсь вашим преданным другом. Надеюсь, вы порадуете меня и примете вызов.
— Боже мой! Дайте же мне время успокоиться, — ответил Ла Дандинардьер, — вы еще нетерпеливее Вильвиля.
— Хотите, чтобы он лишил вас жизни? — поинтересовался барон. — Да, сия участь не минует тех, кто уклоняется от дуэлей.
Угроза такого рода взволновала нашего мещанина.
— Мне нужно поразмыслить над этим, — сказал он, — а уж потом я дам вам положительный ответ.
Господин де Сен-Тома решил, что слишком утомит Ла Дандинардьера, продолжая настаивать на своем. Едва не задушив его в объятиях, барон направился домой, как ни просил его наш простак поужинать с ним.
Оставшись один, Ла Дандинардьер задумался о долге чести, который ему предстояло исполнить. Тут в голову ему пришла замечательная мысль, как спасти свое доброе имя и остаться при этом целым и невредимым. Идея заключалась в том, чтобы отправить на дуэль Алена, переодев его в доспехи хозяина, после чего сам Ла Дандинардьер явится к барону и другим представителям местной знати в этих же самых доспехах. Тогда все поверят, что и на дуэли был тоже он. Наш мещанин позвал верного Алена и молвил:
— Я не сомневаюсь в твоей преданности, но есть в этом мире вещи, которые от нас не зависят. Вот, например, хочет человек быть храбрым, но если по природе своей он трус, все усилия его будут тщетны. Я считаю, что во мне бьется сердце короля или императора, полное отваги и решимости, и если я в чем и грешен, то лишь в том, что чувств сих во мне преизбыток. Ты, верно, знаешь, что этот несчастный Вильвиль желает драться со мной, и, подойди я к поединку со всей серьезностью, его можно считать мертвецом. Я владею немалым имуществом, досадно будет все потерять. И потом, он жесток и может убить меня до того, как я успею ему помешать. Единственный выход таков: ты дерешься вместо меня, я в это время молюсь за тебя.
Ален, самый безобидный человек на свете, был поражен, услышав предложение столь жестокое и безрассудное. Он немного помедлил в поисках отговорки для своего господина, а затем сказал:
— У меня должно быть ваше лицо, телосложение и рост, но я на вас не похож: вряд ли мне удастся его обмануть.
— Обещаешь ли ты драться, если я устраню это препятствие?
— Да, господин, — ответил Ален, убежденный, что такое невозможно.
— Что же мне с тобой делать, если проиграешь?
— Все, что вам заблагорассудится, — молвил добродушный Ален.
— Что ж, еще немного — и мы узнаем, так ли ты храбр и честен, — заключил Ла Дандинардьер.
От этих слов Алена затрясло так, что он еле устоял на ногах, сразу испугавшись, что злой дух, явившийся хозяину на берегу моря, обучил того какому-то заклятью.
— Выслушайте меня, господин, — запричитал он, — молю вас, только без всяких там темных сил! Не хочу, чтобы меня прокляли, ненавижу чародеев со всеми их фокусами. Я беру слово назад — теперь не стану драться даже за сто золотых.
Ла Дандинардьер, разозлившись на такую трусость, взял палку и со всего размаху огрел ею Алена.
— Пока не начнешь меня слушаться, — процедил он, — буду обращаться с тобой так, а не иначе.
Ален поспешил скрыться, полный досады и решимости уйти со службы.
Ла Дандинардьер между тем не находил себе места. Времени до дуэли оставалось все меньше, а он еще не сделал ничего, чтобы ее предотвратить. Наш мещанин приобрел у старьевщика пару кирас и два шлема, латные рукавицы и все остальное, что приличествовало рыцарю. В эти доспехи он собирался облачить Алена и искренне надеялся, что Вильвиль не раскроет обмана, если забрало у шлема будет опущено. Ла Дандинардьер отправился на поиски слуги и нашел его уединившимся в темном погребе, где тот с унылым видом облегчал страдания подле бочки вина, содержимое которой было, вероятно, лучшим средством от побоев.
— Поди сюда, презренный, — крикнул Ла Дандинардьер еще с лестницы, — поди и проверь, колдун ли я или ты — глупец.
Ален поспешил опорожнить содержимое бочки и, ведомый радостью, почерпнутой под сим подземным сводом, поднялся к своему господину в куда более приподнятом настроении. Он последовал за ним в его покои и весьма испугался при виде железных доспехов. Ла Дандинардьер приказал ему надеть их.
— Как же я это надену, господин? Я в этом понимаю не больше, чем в законе турецкого султана.
— Да помогу я тебе, грубиян несносный, — проворчал наш мещанин, — если я сейчас не выступлю в качестве твоего камердинера, тебе никогда духу не хватит в доспехи облачиться.
Кираса оказалась слишком тесной, и Алену пришлось расстаться с камзолом и рубашкой, но теперь доспех врезался ему в кожу.
— Вот, — приговаривал Ла Дандинардьер, — именно так выглядят величайшие короли, когда собираются на войну.
— У королей этих, — отвечал Ален, — вовсе нет ума, если они меняют бархат да атлас на такую мерзость. Я бы лучше натянул на себя пуховое одеяло.
— Ах, негодяй! — воскликнул Ла Дандинардьер. — Никогда ты ничего не добьешься в жизни. Предпочтения людей благородных отличаются от склонностей черни и в большом, и в малом. Вот хоть я — будучи человеком высокого происхождения, я бы предпочел пить, есть и спать, вовсе не снимая доспехов.
— Это, конечно, так, — согласился Ален, — только вот на поединок с де Вильвилем вы в них пойти не хотите, предоставляя эту возможность мне, а меня от такого избави бог.
Ла Дандинардьер рассердился и, ничего не ответив, нахлобучил на бедного Алена шлем, да с такой неуклюжей грубостью, что тот приготовился сразу отдать богу душу — ведь наш простак, будучи таким же несведущим, как и его слуга, надел шлем задом наперед. Напрасно Ален кричал и вопил — Ла Дандинардьер не сомневался, что это он со злости или с непривычки, и только посмеивался. В конце концов он все же заметил свою оплошность и поскорее повернул шлем. К этому времени Ален почти задохнулся и, обрадовавшись глотку воздуха, принялся болтать без умолку.
Закончив со слугой, хозяин сам облачился в доспехи и, подтащив Алена к зеркалу, спросил:
— Кто ты, по-твоему?
— Хе, господин! Я Ален.
— Тупица этакая, — взвился его хозяин, — неужели не видишь, что ты господин де Ла Дандинардьер? Когда забрало опущено, нас не отличить. Я уверен, что Вильвиль ни за что не догадается. Так наберись же немного храбрости, мой бедный мальчик, — продолжил он спокойнее, — и не подумай, что будешь драться даром. Я обещаю, что, живой или мертвый, ты получишь хорошее вознаграждение. Если будешь убит, я похороню тебя с почестями, как благородного господина, а останешься в живых — женю тебя на Ришарде[285], ведь ты к ней, по-моему, неравнодушен. Вот тебе для начала три монеты по пятнадцать су и еще мелочь. Ты же понимаешь, что о деньгах тебе тоже беспокоиться нечего.
Увидев, что господин подкрепляет обещания денежками, Ален, весьма захмелевший после изрядного количества вина, растаял и воскликнул геройски:
— Вперед! Сражаться! Я стану богатым, и тогда Ришарда меня полюбит!
Обрадованный Ла Дандинардьер продолжил увещевать его сладкими речами.
Между тем дома у барона де Сен-Тома в нетерпении дожидались его возвращения виконт и приор. Все вместе они немало повеселились над тем, как нелегко сейчас приходилось нашему мещанину, и договорились не оставлять его в покое. Он же облачился в доспехи, украсив шлем старым плюмажем, а чтобы сделать свой облик более устрашающим, обрезал у красавицы лошадки хвост и прикрепил его наподобие султана, ниспадающего до плеч; сбоку же привесил себе старинную шпагу. В таком снаряжении его можно было принять за младшего брата Дон-Кихота, хотя и столь же безумного, однако отнюдь не такого храброго. За ним следовал Ален, достойный подражатель Санчо Пансы.
В дороге Ла Дандинардьер боялся ненароком повстречать де Вильвиля. Он очень надеялся на опущенное забрало своего шлема, сквозь которое едва мог дышать.
— Враг ни за что не узнает меня, — говорил он Алену, — а если и нападет, я ему сразу скажу, что он ошибается, ибо я вовсе не Ла Дандинардьер. После такого заявления было бы весьма глупо продолжать нападение.
Слуга согласился с такой предусмотрительностью, и они продолжили разговор, как вдруг наш мещанин подумал, что Ален вполне может стать причиной его разоблачения, ведь он не вооружен, и не так давно ему досталось от Вильвиля. Он наверняка передумает и снова сбежит, а Ла Дандинардьер от этого уже порядком устал.
Он резко остановился и приказал Алену возвращаться домой, предупредив, что может не вернуться к вечеру и остаться ночевать у барона. Кроме того, он посоветовал слуге потренироваться во владении оружием, поскольку вскоре это может ему понадобиться. Ален, удивившись такому приказу, — он уже достаточно протрезвел, и часть его благостного настроения улетучилась вместе с винными парами, — поморщился и ответил, что потерял всякое желание драться и что он самый неподходящий человек для этого дела.
Хорошо, что Ла Дандинардьер не слушал его более, иначе не миновать бы парню новых побоев.
Наш мещанин неспешно ехал вдоль моря. Но вот, проезжая мимо маленького домика, окруженного садом, он вдруг услышал голос:
— Мартонида, сестрица! Сюда! Скорее, скорее! Вон едет рыцарь в доспехах!
Ла Дандинардьер, не сомневаясь, что речь шла о нем, многозначительно поднял голову, в душе радуясь, что смог возбудить чей-то интерес. Как же он удивился, когда сквозь зарешеченное окошко разглядел двух молодых привлекательных особ. Он отвесил такой глубокий поклон, что, если бы не забрало, разбил бы себе нос о луку седла. Тотчас обе приветствовали его с еще большим почтением. То были дочери барона де Сен-Тома. Ла Дандинардьер никогда их раньше не видел, хотя часто бывал у него в гостях. Встреча была внове и для них, так что восхищение, в которое их привело это знакомство, трудно описать.
Наш коротыш Дандинардьер был весьма склонен к проявлению нежных чувств и вполне галантен, посему от этой непредвиденной и приятной встречи пришел в восторг и он. Что до молодых особ, то те, начитавшись романов о необыкновенных приключениях странствующих рыцарей, героев и принцев, удивились при виде потешного Ла Дандинардьера гораздо меньше, чем он — тому обстоятельству, что две столь любезные особы живут вдали от всех в маленьком доме на берегу моря.
Старшая из сестер, называвшая себя Виржинией (хотя настоящее ее имя было Мари, а Мартонида[286] на самом деле была Мартой), первой нарушила молчание.
— Легко можно понять, сеньор, — обратилась она к нашему мещанину, — что неотложная миссия зовет вас к важной цели. Однако позвольте все же спросить: что за случай привел вас под наши окна?
Ла Дандинардьер, польщенный обращением «сеньор», не мог не ответить любезностью на любезность:
— Всё потому, что Ваши Высочества обратили взор на меня, недостойного. Дело чести заставило меня следовать этим путем.
— Как! О благородный рыцарь! — перебила его Мартонида. — Вы едете драться? Кто тот смельчак, что решился бросить вам вызов?
Ла Дандинардьер пришел в восторг от сих сладких речей, никогда и никто так его не воодушевлял.
— Я не назову вам имя моего противника, — ответил он, — ибо на то есть несколько причин. Могу лишь заверить, что как только отрублю ему голову, повешу ее напротив этих окон как дань вашей красоте.
— О нет! Не делайте этого, сеньор! — вскричала Виржиния. — Мы же умрем со страху.
На это наш мещанин изрек, что сам предпочтет умереть, нежели вызвать их неодобрение, что за столь небольшой промежуток времени они внушили ему самые пылкие и нежные чувства и он поистине в отчаянии от того, что дела вынуждают его их покинуть. Прежде чем откланяться, он решил немного погарцевать на коне и, пришпорив его, так резко натянул уздечку, что бедное животное, не понимая, чего от него хотят, встало на дыбы. Ла Дандинардьер почувствовал опасность и, не зная как от нее уберечься, еще сильнее пришпорил, отчего лошадь повалилась на бок и придавила его.
Если бы кто-нибудь услышал крики двух заточенных принцесс, то подумал бы, что их новообретенный герой попал в большую беду; это, впрочем, было весьма близко к правде, ибо он задыхался под весом лошади, прибрежная галька впивалась в тело, плохо закрепленный шлем слетел, и беззащитная голова ударилась о камень. Мартонида не вынесла этого зрелища и, наказав Виржинии оставаться у окна, поспешила сообщить о несчастье, приключившемся с рыцарем.
Она побежала в комнату к отцу: тот пил кофе с виконтом и приором.
— Ах, батюшка, — выпалила она, — скорее же к морю! Там странствующий рыцарь, в доспехах с головы до пят. Он серьезно ранен, ему нужна ваша помощь!
Барон, привыкший к чудачествам дочерей, решил, что все это ей привиделось.
— Это Рыцарь Круглого стола? Или один из двенадцати пэров Карла Великого?[287] — спросил он с улыбкой.
— Я его совсем не знаю, — ответила она с видом грустным и серьезным, — а только видела, что у него серая лошадь, она без правого уха и с гривой, подвязанной зелеными лентами.
По этим приметам барон и виконт узнали лошадь несчастного Ла Дандинардьера. Они переглянулись, удивляясь словам Мартониды, и, наперебой расспрашивая ее, поспешили за нею.
Они нашли неудачливого простака и вправду лежащим без сознания. Его снаряжение удивило их.
— Безумие! — приговаривали они. — Возможно ли более удивительное перевоплощение?
Наконец, с помощью Воды Венгерской Королевы[288] и всех мыслимых средств они привели его в чувство. Он изумился, поняв, где находится, и, опираясь на руки г-на де Сен-Тома и виконта, направился к дому барона.
Виржиния и Мартонида стояли у окна и задавались вопросом, откуда их отец знал этого доблестного рыцаря, ведь он явно был не из этих мест. За ответами они отправились к матери, которая только что услышала от мужа о приключениях их доброго соседа Ла Дандинардьера и теперь хотела знать, надолго ли он останется в их доме и уж не собирается ли лечиться за их счет: ведь она была так же скупа, когда дело касалось других, как и расточительна по отношению к себе. Барон успокоил ее, сказав, что этот человек весьма богат и что он этим воспользуется; оставшись же с нею с глазу на глаз в своем кабинете, он продолжил:
— Виконт де Бержанвиль поделился со мной одним соображением, которое я нахожу вполне удачным: он предложил попробовать женить Ла Дандинардьера на Виржинии или Мартониде. Я ведь не в состоянии им много предложить. Если он согласится, я буду весьма рад.
— Но, сударь, — возразила г-жа де Сен-Тома, имевшая на сей счет свои соображения, — вы ведь знаете, кто наши предки. Неужели мы позволим запятнать наш род и умалить его благородство столь неравным браком?
— Поверьте мне, сударыня, — ответил барон, — знатное происхождение без денег почти ничего не значит, и я хотел бы, чтобы в этом мещанине, какой он ни есть, укоренилась бы мысль о женитьбе. Прошу вас только не говорить на эту тему с нашими дочерьми, а то вы испортите всё, что стоило мне таких трудов.
— Неужели, — вскричала она, побагровев, — вы хотите сказать, что я им меньше мать, чем вы — отец? Вы не хотите считаться со мной, принимая такие решения, и мнения мои менее весомы, чем ваши. Увольте! Мои дочери выйдут замуж только за маркизов или графов, которые представят доказательства своего благородного происхождения.
— Что ж, сударыня, будьте стойкой, — холодно произнес г-н де Сен-Тома, — не запятнайте честь ваших предков, и вам придется сторожить своих дочерей еще лет пятьдесят.
Баронесса в отчаянии принялась ругать его на чем свет стоит. На шум в кабинет явились виконт и приор.
— Беру этих мужей в свидетели, — сказал барон.
— А я отказываюсь от таких свидетелей, — заявила баронесса, — не говоря уж о том, что они ваши друзья, а не мои, и к тому же сами и предложили вам идею с женитьбой, так что теперь не захотят отступиться.
Виконт и приор, будучи остры на язык, предпочли, однако, в этом споре обойтись без насмешек. Они молили баронессу проявить сдержанность, ведь дело можно легко уладить. Она соглашалась на всё, но с условием, что будущий зять должен быть знатного происхождения. Тут ее заверили, что у Ла Дандинардьера в замке повсюду висят портреты его праотцев. Один из них, Жиль де Ла Дандинардьер, был при Карле VIII по меньшей мере коннетаблем. Тут баронесса несколько смягчилась; поджав губки, чтобы они казались тоньше, она объявила, что препятствовать торжеству не станет, буде это действительно так. Тогда почтенные господа посоветовали ей пойти проведать несчастного раненого и предложить ему помощь, необходимую в таких обстоятельствах.
Баронессе захотелось появиться перед гостем во всем блеске, поэтому она сначала озаботилась своим туалетом: сменила корсаж, платье, юбку, чепец, букли, ленты и лишь после того, как провела за этим занятием несколько часов, явилась наконец к Ла Дандинардьеру.
У него уже побывал деревенский лекарь, большой невежда, который все приговаривал: «Негоже пускать волка в овчарню», при этом отнимая у страждущих руки, ноги, а иногда и голову — всё во избежание этого самого жуткого волка. Он возымел желание испробовать бистури и на нашем мещанине; однако тот, едва увидев сей инструмент в руках лекаря, завопил во всю мочь:
— Господин де Сен-Тома! Прошу защиты! Не позволяйте причинять мне больше боли, чем я уже терплю!
Услышав его, барон успел-таки помешать мэтру Роберу напроказить.
Госпожа баронесса нашла Ла Дандинардьера в состоянии скорее встревоженном, нежели болезненном. Рана его была не столь серьезна, сколь могла показаться после пережитого им сокрушительного удара. Баронесса учтиво предложила Ла Дандинардьеру остаться у них до полного выздоровления, пообещав находиться рядом с ним и даже привести к нему дочерей, чтобы он не скучал.
— Осмелюсь заметить без лишнего тщеславия, — добавила она, — что ум и манеры их весьма утонченные. Они любят читать и не прочь блеснуть познаниями — расскажут вам наизусть «Амадиса Гальского»[289].
— Я верю каждому вашему слову, госпожа. Однако благодаря случайности я встретил двух светлейших особ несравненной красоты. Их образ столь ярко запечатлелся во мне, что никто другой не сможет стереть их из моей памяти. Слова мои никоим образом не умаляют моего восхищения вашими дочерьми. Я скорее страшусь найти их прекрасными сверх всякой меры.
Баронесса побледнела от недовольства и напустила вид немного высокомерный.
— Воля ваша, сеньор, — ответила она. — Я лишь хотела сделать вам приятное. Но, по сути, не так уж обязательно звать сюда моих дочерей.
С этими словами она поднялась и, немало раздосадованная, подумала, что задушит мужа и виконта за свои напрасные труды.
— Признаюсь вам в своих предчувствиях, — заявила она, выйдя от Ла Дандинардьера, — они меня никогда не подводят. Я очень сомневалась, что буду довольна этим визитом. Этот пройдоха уже и так влюблен в пару-тройку принцесс. С чего ему обращать внимание на Виржинию?
Господин де Сен-Тома любил, когда в доме спокойно, поэтому не стал перечить жене, а вышел прогуляться вместе с виконтом и приором в сад, где они принялись обсуждать чудачества их соседа.
— О ком это он говорил? — спрашивал барон. — И где он видел тех прелестных принцесс? В голове у него, очевидно, совсем помутилось.
— А ведь это на вашей совести, — ответил виконт, — череда его безумств началась после того, как ваш гасконец бросил ему вызов от имени де Вильвиля. Доспехи, которые напялил Ла Дандинардьер, тому убедительное доказательство.
На следующее утро все эти господа явились в комнату, где оставался Ла Дандинардьер. После короткой беседы он объявил, что хочет переговорить с бароном наедине. Виконт и приор удалились, а наш мещанин, оставшись с г-ном де Сен-Тома и схватив его за руки, спросил:
— Могу я рассчитывать на вас как на самого преданного друга?
— Безусловно, — ответил барон, — я с вами.
— Так вот, — продолжил Ла Дандинардьер, — я хочу, чтобы вы знали: я собирался выйти на поединок с де Вильвилем в полном вооружении. Я всегда так дерусь, и если его это не устраивает, пусть оставит меня в покое — а я не уступлю ни за что. Я ехал к вам с намерением проешь предупредить его, чтобы он отыскал похожие доспехи, если вдруг у него их нет, ибо я не хочу иметь никакого над ним преимущества и гордо блюду обет чести и рыцарства. Не хочу утомлять вас долгими разговорами, поэтому оперою вам свое сердце, сказав всего два слова: я влюблен.
— Вы влюблены?! — вскричал барон. — Давно?!
— Вот уж сутки, — ответил Ла Дандинардьер, — сутки и несколько минут, если я не ошибся в расчетах. Я ведь не всегда был таким равнодушным к красоте. Я любил. Мои ухаживания за прекрасными дамами потрясали парижское общество и заполняли страницы «Меркюр Галан»[290]. Кончилось тем, что несколько графинь, чьих имен я не назову, сыграли со мной злую шутку и совершили множество ужасных измен. Признаюсь, я дал волю страстям и, побитый судьбой, поспешил к морю, чтобы утопиться. Но, увидев, как здесь прекрасно, я предпочел построить на этой земле почти воздушный замок, чтобы жить в нем, погрузившись в философическую летаргию[291].
Так я и жил, сеньор, — без любви, без цели, без стремлений, в радости и здравии, пока на меня не свалилось первое несчастье в лице де Вильвиля с его жестокостью и Алена, имевшего наглость бахвалиться. Из-за этого мерзавца я рискую честью, дуэль — словно гора у меня на плечах, потому как у меня нет ни малейшего желания терять всё состояние и быть изгнанным из Франции. Мне ничего не оставалось, как принять вызов на эту распроклятую дуэль, как я уже сказал, при условии, что я буду в доспехах. И вот я ехал, чтобы сообщить вам о своих планах, как вдруг, следуя берегом моря, услышал довольно громкую беседу двух молодых особ. Я принялся осматриваться в поисках источника этих ангельских голосов и увидел небольшой дом с зарешеченными окнами, а в окне — двух принцесс или почти принцесс. Они пленили меня. Та, что с белоснежной кожей и светлыми кудрями, тотчас покорила мое сердце. Они говорили со мной учтиво и кокетливо, с воодушевлением и… о, мне никогда не выразить, сколь приятны были их речи. А когда они обратились ко мне «сеньор» (а это значит, что они водят знакомство только с королями да принцами), так вот, когда они обратились ко мне «сеньор», то похитили мою душу, словно коршун голубку. Преисполненный уважения и восхищения, я плохо понимал, что делаю, и вместо того, чтобы явить собой образец наездника, неловко повалился на камни и ударился о них головой. И вот я пред вами — влюбленный, раненый, обремененный дуэлью с Вильвилем, несчастнейший из смертных.
Тут Ла Дандинардьер умолк и пару раз вздохнул, словно изнемогая от боли. Барон, который все это время слушал не перебивая, воздел руки и возвел очи горе, поражаясь великим событиям, о которых ему только что поведали, и тоже вздохнул: уж на что-на что, а на вздохи он был весьма щедр.
— Мужайтесь, мой дорогой друг, — молвил он, — время все лечит.
— Но, господин барон, — возразил Ла Дандинардьер, — в этом вся загвоздка: моя любовь и мое здоровье не терпят отлагательств. Прошу вас послать за врачом, который будет понадежнее мэтра Робера, а также написать для меня письмо тем прекрасным особам, о которых я только что вам рассказал.
— Хорошо. Но только, если вы сами его продиктуете, — ответил г-н де Сен-Тома. — Я буду вашим писарем.
— Я бы избавил вас от этого труда, — добавил Ла Дандинардьер, — будь моя голова в не столь плачевном состоянии. А теперь я даже не представляю, как мне подобрать для них какие-нибудь слова поприятнее.
— Не стоит спрашивать совета в таких делах, — сказал барон, — вы тронуты до глубины души и воодушевлены. Так начнем!
И он взял письменные принадлежности. Пока барон готовился, Ла Дандинардьер обдумывал содержание и грыз ногти. Вот что он надиктовал:
О Ваши зарешеченные высочества! Вы воспламеняете всех, кто Вас видит. Вы два солнца, коих лучи, упав на оптические кристаллы моих глаз, превращают мое сердце в пепел. Да, я — пепел, угли, камин, с того рокового и блаженного момента, как заметил Вас за решеткой, и мой бредящий рассудок испарился от желания принести Вам в жертву мое нежное сердце. Я сбился с пути, и Вы были виновными свидетельницами моего падения. Я пролил кровь у Ваших стен, и там же я оставил бы свою душу, если такая жертва была бы Вам приятна. Остаюсь Вашим самым покорным рабом, Жорж де Ла Дандинардьер, внук Жиля де Ла Дандинардьера, фаворита Карла VIII и его коннетабля[292] или кого-то в этом роде.
— Ага! — радостно воскликнул он, после того как несколько раз перечитал свое творение. — Вот письмо, которое, по правде сказать, не стоило мне особых усилий, но тем не менее великолепно. Вижу, не потерял я еще слог, так восхищавший всех при дворе и выделявший меня из серой массы.
— Меня так смутила та легкость, — сказал барон, — с какой вы сотворили этот подлинный шедевр, что сейчас я почти в ярости. Да, сударь, я бы скорее выпил чернила, съел перо и бумагу, чем смог бы написать такое даже за месяц. Какое счастье обладать остроумием.
— Хо! Хо! Хо! — засмеялся наш мещанин. — Не хвалите меня так, мой дорогой барон, а то я слишком возгоржусь. Тем не менее, признаю, мне чрезвычайно нравится сравнение с оптическим стеклом. Вот что называется новизной мысли.
— Еще и возвышенностью, — молвил барон.
— Вы чувствуете неуловимую игру слов: «зарешеченные», «за решеткой» — никакие другие слова не передадут ситуацию точнее, — продолжал коротыш Ла Дандинардьер. — Не скрою, в некоторых вещах я непревзойденный гений. Давайте же запечатаем письмо так, чтобы оболочка соответствовала его великолепному содержанию. Здесь нужен зеленый шелк и печатка; та, что лежит у меня в кармане, сюда прекрасно подойдет. На ней выгравирована женщина, облокотившаяся на якорь и вскармливающая грудью маленького Амура, девиз же гласит: Надежда питает Любовь.
— Припоминаю, — сказал г-н де Сен-Тома, — что у меня где-то была похожая.
— Откуда бы она к вам ни попала, эмблема эта всегда была моей, — отрезал Ла Дандинардьер. — Ею восхищался весь двор. Сам король приказал выгравировать ее, и все остальные печатки казались посредственными, если не были похожи на мою.
— Охотно вам верю, — продолжал барон. — В вас столько пылкости и воодушевления, что вы можете справиться с задачей куда более сложной. Однако сомневаюсь, чтобы у госпожи де Сен-Тома имелся обычный шелк.
— Не имеет значения, — заявил Ла Дандинардьер, — лишь бы он был зеленого цвета, мне этого достаточно.
Господин де Сен-Тома вышел от нашего мещанина и отправил на поиски шелка гасконца, который не осмеливался войти из страха, что Ла Дандинардьер узнает в нем своего злого духа.
Тот перерыл двадцать разных ящиков и наконец решил пойти в дом к дочерям барона. Гасконец объяснил, что раненый дворянин ищет зеленого шелка и воска, чтобы запечатать письмо. Молодые особы, обрадовавшись предлогу зайти к Ла Дандинардьеру, ответили:
— На нас не рассчитывайте. У нас нет ни шелка, ни воска.
Гасконец продолжил свои поиски, расспрашивая всех в господском доме, а две прекрасные девы меж тем прокрались за деревьями в саду, чтобы мать их не заметила. С собой они несли маленькую черепаховую шкатулку, инкрустированную изящными листьями из серебра, в которую положили воск, сверкающую пудру, золоченую бумагу и отрезы шелка всех цветов и оттенков. Они вошли в комнату Ла Дандинардьер а и приблизились к его кровати, прежде чем отец, стоявший спиной к двери, успел их заметить. Наш чудак тем не менее узнал сих особ с первого взгляда и, живо заворочавшись в кровати, принялся вопить:
— Дорогу! Дорогу принцессам!
Барон уже подумал было, что Ла Дандинардьер совсем тронулся умом, однако шорох заставил его обернуться. Увидев дочерей, он застыл в изумлении.
— А вот Виржиния и Мартонида, — наконец сказал он. — Пришли вас проведать. Наверняка узнали, что я у вас.
— Батюшка, — ответила старшая, — нам сообщили от вашего имени, что молодому гостю понадобился шелк, чтобы запечатать письмо. Мы принесли ткань.
Ла Дандинардьер молчал, сконфуженный такой любезностью. Тысячи мыслей роились в его голове. Он думал, что полюбил высочайшую особу, и вот теперь приходилось спуститься на несколько ступеней. Он сочинял письмо, обращаясь к Их Высочествам, но разве такое обращение приличествовало провинциальным барышням? Его снедало глубокое разочарование, что письмо не получит должных восхвалений. Он был так воодушевлен любовной интригой и тем, что отыскал себе наперсника среди знати, а обнаружилось, что последний приходится отцом его возлюбленной. Все это, по его мнению, теряло флер тайны и принимало другой оборот — впору было отчаяться. Ла Дандинардьер, однако, был страшно рад вновь увидеть очаровательных незнакомок. Поспешность, с которой они устремились к нему в комнату, весьма льстила его тщеславию и нежным чувствам. Все это так его взволновало, что он потерял дар речи.
Барон, с самого начала знавший, что письмо предназначалось его дочерям, теперь помог Ла Дандинардьеру выйти из затруднительного положения. Он радостно заявил, что более не сомневается в достоинствах Виржинии и Мартониды — столь прекрасными они ему показались, что он не хочет лишать своих дочерей возможности услышать самое галантное письмо из всех написанных за последнее столетие, ведь у них достаточно вкуса, чтобы почувствовать красоту пассажей. Прекрасные девы только и ждали мига, когда можно прийти в полный восторг от письма; восхитившись «оптическими кристаллами», они принялись наперебой восклицать:
— О! Как красиво! Какая глубина мысли! Какая утонченность! Возможно ли, право, так писать!
Все это время Ла Дандинардьер поправлял ночной колпак, сконфуженный тем, что лежит с перевязанной головой. Он вдруг схватил свой шлем, лежавший рядом на стуле, и хотел было его надеть, чтобы, как он выразился, выглядеть более пристойно в присутствии молодых особ. Барон не смог сдержать раскатистого смеха от этой новой причуды и не стал мешать нашему мещанину пытаться напялить на себя шлем, хотя голова явно не проходила в него из-за намотанных на нее бинтов.
— Примите, по крайней мере, мое почтение, — сказал тогда Ла Дандинардьер.
— Мы так вам признательны, сеньор, — ответила Виржиния. — Боюсь, мы вас стесняем, поэтому поспешим удалиться.
— О, прекрасные светила! — вскричал наш мещанин, снова принимаясь за свою галиматью. — Вы желаете погрузить мое обиталище во тьму своим затмением? Сеньор, — продолжил он, повернувшись к барону, — умоляю вас, уговорите сих богинь остаться.
— Нет, — отказался барон, — вам пришлось так долго напрягать голос, что я корю себя за это. Отдохните немного, вы ранены, и за вами нужен уход. А сейчас мы уйдем, и обещаю, что вы больше не увидите мэтра Робера: мы найдем другого лекаря.
Отец и дочери уже собирались выйти, но тут Ла Дандинардьер сказал:
— Не откажите мне хотя бы в нескольких книгах. Чтение облегчит боль от разлуки с вами, и я вполне здоров для такого занятия.
— Я вам пришлю, — молвила Мартонида, — сказку, которую сестра закончила вчера вечером. Она насчет…
— Счет? — возразил наш мещанин. — Нет, мне не нужен счет. Мои управляющие каждый день приносят мне много счетов…
— Но такого вы еще не слышали, господин рыцарь, — подхватила Виржиния. — Эти сказки нынче в моде, все их читают[293]. И я, провинциалка, претендуя на остроумие, не упускаю возможности отправить свои небольшие сочинения в Париж. Как бы я была рада, если бы сказка вам понравилась! Тогда бы не осталось сомнений, что люди знающие оценят ее.
— Я уже ценю вашу сказку, о прекрасная Виржиния, — отвечал наш коротыш Дандинардьер, поняв свою оплошность. — Завтра же прикажу отправить ее ко двору, если вы находите, что она удалась. Я знаком с пятью-шестью принцессами, которые позволяют мне им писать и восхвалять их в стихах.
— Ах! Что вы говорите? — воскликнула Мартонида. — Вы пишете стихи? Я без ума от стихов. Прочтите же что-нибудь!
— Это будет не сейчас, — уточнил барон, подталкивая дочерей к дверям, — вы только впустую болтаете и можете оказаться причиной смерти моего дорогого друга.
Они вернулись в домик в саду и тут же послали служанку отнести сказку странствующему рыцарю. Тот, польщенный их добротой, все-таки не смог долго читать из-за недомогания и поспешил послать за приором. Это немало всех взволновало — разнесся слух, что больному хуже, и каждый счел своим долгом его навестить. Он, однако, был так спокоен, что все решили — ложная тревога. Приор спросил, чего он хочет, и Ла Дандинардьер, показав принесенную ему тетрадь, попросил облегчить его страдания приятным чтением. Так приор начал читать эту сказку.
Пер. О. Л. Берсеневой
Белая Кошка[294]

Король призвал сыновей в свои покои и, милостиво поговорив с ними, добавил:
— Согласитесь, дорогие дети, что мой преклонный возраст уже не позволяет мне вершить дела государства столь же усердно, сколь в былые годы. Я боюсь, как бы это не причинило вреда моим подданным, и решил уступить корону одному из вас. Но, чтобы получить от меня такой дар, вы по справедливости должны постараться мне угодить и раздобыть что-нибудь такое, что порадует меня, когда я удалюсь в деревню. Думаю, что маленькая смышленая собачка меня могла бы развлечь, и потому, не отдавая предпочтения старшему сыну перед младшими, объявляю вам, что тот из вас, кто принесет мне самую красивую собачку, станет моим наследником.
Принцы удивились, что их отцу захотелось вдруг иметь собачку, но обоим младшим братьям такое предложение сулило выгоду, и они охотно согласились отправиться на ее поиски; а старший был слишком скромен, а может быть, слишком почтителен, чтобы отстаивать свои права. Принцы простились с королем, он оделил их деньгами и драгоценностями и добавил, что ровно через год, в тот же самый день и час, они должны явиться к нему с собачками.
Прежде чем отправиться в путь, братья встретились в замке, неподалеку от города. Они привели с собой ближайших наперсников и устроили там пиршество. Три брата поклялись друг другу в вечной дружбе и в том, что, выполняя просьбу отца, будут действовать без злобы и зависти и тот, кому выпадет удача, не забудет в своем счастье остальных. Наконец они пустились в путь, уговорившись по возвращении встретиться в этом же самом дворце, чтобы отсюда втроем отправиться к королю. Они не пожелали взять с собой провожатых и назвались вымышленными именами, чтобы не быть узнанными.
Каждый поехал своей дорогой, двое старших пережили множество приключений, но меня занимает только младший из братьев. Он был учтив, весел и находчив, отличался замечательным умом, благородным сложением, правильными чертами лица, ослепительной улыбкой и был на редкость искусен во всех подобающих принцу занятиях. Он приятно пел, брал за душу проникновенной игрой на лютне и теорбе, умел рисовать — словом, был во всех отношениях совершенством, а отвага его граничила с дерзостью.
Не проходило дня, чтобы принц не покупал собак, больших и маленьких, борзых, догов, ищеек, гончих, спаниелей, пуделей, болонок. Если ему попадалась красивая собака, а потом другая, еще красивей, он отпускал первую и оставлял вторую: не мог же он вести за собой свору из тридцати, а то и сорока тысяч собак, у него ведь не было ни свиты, ни лакеев, ни пажей. Принц шел все вперед и вперед, так и не решив, до каких пор будет идти, как вдруг заблудился в лесу, где его застигли дождь и гроза.
Он выбрал наугад одну из тропинок, долго шел по ней и наконец увидел, что впереди брезжит слабый огонек. «Верно, поблизости есть какое-нибудь жилье, где можно переждать непогоду до утра», — решил принц. Идя на огонек, он пришел к воротам дворца. Ворота были из чистого золота и украшены карбункулами, которые освещали все вокруг ярким и чистым светом. Этот-то свет и увидел издали принц. Стены были из прозрачного фарфора, и на них разноцветными красками изображалась история фей от сотворения мира до новейших времен. Не были тут забыты и знаменитые сказки об Ослиной Шкуре, о Вострушке, об Апельсиновом дереве, о Прелестнице, о Спящей красавице, о Зеленом Змее и бесчисленное множество других[295]. Принц очень обрадовался, увидев тут и портрет Принца-Духа[296], потому что тот приходился ему дальним родственником. Впрочем, дождь и непогода помешали ему и дальше рассматривать картины, и не только потому, что он вымок до костей, но и потому, что в тех местах, куда не достигал свет карбункулов, попросту ничего не было видно.
Принц возвратился к золотым воротам и на алмазной цепочке увидел лапку косули. Его удивила вся эта роскошь и то, как спокойно и беззаботно живут обитатели замка. «Ведь в конце концов, — подумал он, — кто может помешать вору срезать эту цепочку, выковырять карбункулы и стать богачом до конца своих дней?»
Принц потянул за лапку косули, и тут же зазвенел колокольчик, который, судя по звуку, был сделан из золота и серебра. Мгновение спустя дверь отворилась, но принц никого не увидел, только в воздухе показалось несколько рук и каждая держала факел. Принц так удивился, что не отважился переступить порог, но тут другие руки довольно решительно подтолкнули его вперед[297]. Он повиновался им в сильном смущении и на всякий случай взялся за эфес шпаги, но едва он вошел в прихожую, сверху донизу выложенную порфиром и лазоревым камнем, как два восхитительных голоса запели такую песенку.
Пугаться этих рук
вы стали бы напрасно:
Ничто здесь не враждебно вам,
Лишь дивное лицо опасно
Боящимся любви сердцам.
Принц решил, что его не могут так любезно приглашать во дворец, чтобы потом причинить ему зло, поэтому, когда его подтолкнули к двери из коралла, которая распахнулась при его приближении, он, не сопротивляясь, вошел в гостиную, выложенную перламутром, а потом и в другие покои, украшенные каждый по-своему таким множеством картин и драгоценностей, что принц был просто ослеплен. Тысячи огней, горевших в гостиной от пола до потолка, заливали светом и часть других комнат, хотя и в тех тоже не было недостатка в люстрах, жирандолях и полочках, на которых стояли свечи, — словом, великолепие было такое, что трудно верить собственным глазам.
Принц миновал шестьдесят комнат, и тогда наконец руки, указывавшие ему путь, остановили его, и он увидел большое удобное кресло, само подкатившееся к камину[298]. В камине тут же запылал огонь, и руки, которые показались принцу на редкость красивыми — белыми, маленькими, пухлыми и точеными, — раздели его: он ведь, как я уже сказал, промок до нитки, и надо было позаботиться о том, чтобы он не простудился. Руки невидимок принесли ему рубашку, такую красивую, что впору было надеть ее в день свадьбы, и затканный золотом халат, на котором мелким изумрудом был вышит его вензель. Потом руки пододвинули к принцу туалетный столик. Все туалетные принадлежности также были необыкновенной красоты. Руки ловко причесали принца, почти не прикасаясь к нему, так что он остался очень доволен их услугами. Потом его снова одели, но не в его собственный костюм — ему принесли куда более роскошный наряд. Принц молча дивился всему происходящему, хотя иногда слегка вздрагивал от испуга, который все-таки не мог подавить.
Напудрив, завив, надушив и нарядив принца так, что он стал прекрасней Адониса[299], руки отвели его в великолепную залу, украшенную позолотой и богато обставленную. Висевшие кругом картины рассказывали историю знаменитейших котов и кошек: вот Салоед, повешенный за ноги на совете крыс, вот Кот в сапогах, маркиз де Карабас, вот Ученый Кот, вот Кошка, превращенная в женщину, и Колдуны, превращенные в котов, а вот и шабаш со всеми его церемониями — словом, самые что ни на есть замечательные картины[300]. Огол был накрыт на два прибора, и возле каждого стоял золотой погребец; столик рядом был уставлен чашами из горного хрусталя и всевозможных редких камней — обилие их поражало глаз.
Пока принц гадал, для кого накрыли стол, он увидел вдруг, как в ограждении, предназначенном для маленького оркестра, рассаживаются коты; один из них держал в руках партитуру, исписанную диковинными нотами, другой — свернутый трубочкой лист бумаги, которым отбивал такт; в руках у остальных были крошечные гитары. И вдруг все коты принялись мяукать на разные голоса и коготками перебирать струны гитар: это была в высшей степени диковинная музыка. Принц, пожалуй, вообразил бы, что попал в преисподнюю, но дворец показался ему слишком прекрасным, чтобы допустить подобную мысль. Однако он все же зажал себе уши и расхохотался от души, видя, какие позы принимают и как гримасничают новоявленные музыканты.
Принц размышлял о чудесах, которые уже приключились с ним в этом замке, как вдруг увидел, что в зал входит крохотное существо, размером не больше локтя. Малютка была окутана покрывалом из черного крепа. Вели ее два кота, одетые в траур, в плащах и при шпагах, а за ними следовал длинный кошачий кортеж — некоторые коты несли крысоловки, набитые крысами, другие — клетки с мышами.
Принц не мог в себя прийти от изумления — он не знал, что и думать. Черная фигурка приблизилась к нему, и, когда она откинула покрывало, он увидел Белую Кошку, красивейшую из всех, какие когда-либо были и будут на свете. Кошечка казалась совсем молодой и очень грустной, она замурлыкала так нежно и очаровательно, что мурлыканье ее проникло в самое сердце принца.
— Добро пожаловать, сын короля, — сказала она принцу. — Мое Мурлычество очень радо тебя видеть.
— Госпожа Кошка, — ответил принц, — вы великодушно оказали мне самый любезный прием. Но мне кажется, вы — не обычный зверек: дар речи, которым вы наделены, и роскошный замок, которым вы владеете, красноречиво свидетельствуют об этом.
— Сын короля, — сказала Белая Кошка, — прошу тебя, не говори мне учтивостей. Мои речи безыскусны и обычаи просты, но сердце у меня доброе. Вот что, — продолжала она, — пусть нам подадут ужин, а музыканты пусть умолкнут, ведь принц не понимает смысла их слов.
— А разве они что-то говорят, государыня? — удивился принц.
— Конечно, — ответила Кошка. — У нас тут есть поэты, наделенные замечательным талантом. Если ты поживешь здесь, быть может, ты их оценишь.
— Мне довольно услышать вас, чтобы в это поверить, — любезно сказал принц. — Но все же, государыня, я вижу в вас кошку редкостной породы.
Принесли ужин, и руки, принадлежавшие невидимкам, прислуживали Белой Кошке и ее гостю. Сначала на стол поставили два бульона — один из голубей, другой из жирных мышей. Когда принц увидел второй из них, он поперхнулся первым, потому что сразу представил себе, что готовил их один и тот же повар. Но Кошечка, догадавшись по выражению его лица, что у него на уме, заверила, что ему готовят пищу отдельно, и он может есть все, чем его угощают, не боясь, что в еде окажутся мыши или крысы.
Принц не заставил себя просить дважды, уверенный в том, что Кошечка не станет его обманывать. Он обратил внимание, что на ее лапке висит портрет в драгоценной оправе, — его это очень удивило. Полагая, что это портрет мэтра Котауса[301], он попросил Кошечку показать ему его поближе. Каково же было его изумление, когда он увидел, что на нем изображен юноша такой красоты, что трудно было поверить в подобное чудо природы, и при этом так похожий на принца, будто портрет писан с него самого. Кошечка вздохнула и, еще больше загрустив, умолкла. Принц понял, что за этим скрывается какая-то необыкновенная тайна. Но расспрашивать он не осмелился, боясь разгневать или огорчить Белую Кошку. Он завел с ней разговор о тех новостях, которые ему были известны, и убедился, что она наслышана о делах, касающихся царствующих особ, и вообще обо всем, происходящем в мире.
После ужина Белая Кошка пригласила пришлеца в гостиную, где были устроены подмостки, на которых двенадцать котов и столько же обезьян исполнили балет. Коты были одеты маврами, обезьяны китайцами. Легко вообразить, как они скакали и прыгали, иногда впиваясь друг в друга когтями. Так закончился этот вечер. Белая Кошка пожелала гостю спокойной ночи, и руки, которые привели к ней принца, снова подхватили его и проводили в покои другого рода, нежели те, что он уже видел. Эти были не столько роскошны, сколько изысканны: стены их были сплошь покрыты крыльями бабочек, образующими узор в виде тысячи разнообразных цветов. Были здесь также и перья редкостных птиц, быть может, даже не виданных нигде, кроме этих мест. Ложе застелено бельем из газа, украшенного множеством бантов, зеркала тянулись от пола до потолка[302], а их резные золоченые рамы изображали множество маленьких амуров.
Принц лег спать, не говоря ни слова, ведь невозможно было поддерживать разговор с руками, которые ему прислуживали; спал он мало, и разбудил его какой-то смутный шум. Тотчас руки подняли его с постели и нарядили в охотничий костюм. Он выглянул во двор замка и увидел более пятисот котов — одни вели на поводке борзых, другие трубили в рог; затевался большой праздник — Белая Кошка выезжала на охоту и хотела, чтобы принц ее сопровождал. Услужливые руки подвели ему деревянного коня, который мог нестись во весь опор и идти медленным шагом. Принц сначала заупрямился, не желая на него садиться.
— Я ведь все-таки не странствующий рыцарь Дон-Кихот[303], — говорил он.
Но возражения ни к чему не привели, и его усадили на деревянного коня. Чепрак и седло на нем были расшиты золотом и алмазами. Белая Кошка села верхом на обезьяну невиданной красоты и великолепия. Вместо черного покрывала она надела лихо заломленную кавалерийскую шапку, которая придавала ей столь решительный вид, что все окрестные мыши перепугались. В мире не бывало еще такой увлекательной охоты; коты бегали куда быстрее зайцев и кроликов, и, когда они хватали добычу, Белая Кошка тут же отдавала им их долю на съедение. Забавно было при этом наблюдать за их ловкими ухватками. Птицы тоже не чувствовали себя в безопасности, потому что котята вскарабкивались на деревья, а красавица обезьяна возносила Белую Кошку даже до орлиных гнезд, отдавая в ее власть их высочеств орлят.
По окончании охоты Белая Кошка взяла рог длиной не больше пальца, но издававший такой громкий и чистый звук, что слышно было за десять лье. Она протрубила два или три раза, и к ней в мгновенье ока явились все коты ее царства. Одни прилетели по воздуху, другие приплыли в лодках по воде — словом, никто никогда не видал такого огромного кошачьего сборища. Одеты все были по-разному, и Кошка в сопровождении этой торжественной свиты отправилась в замок, пригласив принца следовать за ней. Он ничего не имел против, хотя ему казалось, что такое засилье кошек отдает нечистой силой и колдовством, но больше всего его удивляла сама Белая Кошка, говорящая человечьим языком.
Когда они вернулись во дворец, Кошечка снова надела свое длинное черное покрывало, потом они с принцем поужинали; он очень проголодался и ел с большим аппетитом. Подали напитки, принц с удовольствием выпил вина и тотчас забыл о маленькой собачке, которую должен был привезти королю. Теперь он хотел только одного — мурлыкать с Белой Кошкой, иными словами, не отходить от нее ни на шаг. Они проводили дни в приятных увеселениях, иногда занимались рыбной ловлей, иногда охотились, потом представляли балеты, устраивали состязания наездников и придумывали еще множество других забав. Белая Кошка к тому же часто сочиняла стихи и песенки, такие пылкие, что видно было: у нее чувствительное сердце; подобным языком говорит только тот, кто любит. Но у секретаря Белой Кошки, престарелого кота, был такой плохой почерк, что, хотя произведения ее сохранились, прочитать их невозможно.
Принц позабыл все — и даже свою родину. Руки, о которых здесь уже упоминалось, продолжали ему прислуживать. Иногда принц жалел, что не родился котом, тогда он мог бы всю жизнь проводить в этом приятном обществе.
— Увы, — говорил он Белой Кошке, — мне будет так грустно с вами расстаться. Я вас так люблю. Станьте же девушкой или превратите меня в кота.
Она благосклонно выслушивала его пожелания, но отвечала в туманных выражениях, так что он почти ничего не понимал.
Время летит быстро для того, кто не ведает ни забот, ни печалей, кто весел и здоров. Но Белая Кошка знала, когда принцу надлежит вернуться, и, так как принц о возвращении больше не думал, сама ему об этом напомнила.
— Знаешь ли ты, — спросила она его, — что тебе осталось всего три дня, чтобы найти собачку, которую хочет получить твой отец-король, и что твои братья уже нашли собачек, и притом очень красивых?
Принц опомнился и удивился собственной беспечности.
— Какое тайное чародейство, — воскликнул он, — заставило меня забыть о том, что для меня важнее всего на свете? Речь идет о моей чести и славе. Где найти собачку, которая поможет мне получить корону, и где найти такого быстрого коня, который одолеет дальнюю дорогу?
Принца охватило беспокойство, и он заметно приуныл.
— Сын короля, — нежно промолвила Белая Кошка, — не горюй, я твой друг, ты можешь остаться у меня еще на один день, отсюда до твоего королевства всего пятьсот лье, и славный деревянный конь доставит тебя туда меньше чем за полсуток.
— Спасибо, прекрасная Кошка, — отвечал ей принц. — Но мне мало вернуться к отцу, я должен привезти ему собачку.
— Возьми вот этот желудь, — сказала Белая Кошка, — в нем собачка, которая прекрасней Большого Пса Сириуса[304].
— Ох, госпожа Кошка, Ваше Величество изволит надо мной смеяться.
— Приложи желудь к уху, — посоветовала принцу Кошка, — и ты услышишь лай.
Принц повиновался, и тотчас собачка залаяла:
— Гав! Гав!
Он страшно обрадовался, ведь собачка, которая может уместиться в желуде, должна быть совсем крохотной. Принц хотел было расколоть желудь, так ему не терпелось ее увидеть; но Белая Кошка сказала, что собачка может простудиться в дороге и лучше ее не тревожить, пока он не предстанет перед своим отцом-королем. Принц рассыпался в благодарностях и нежно простился с Кошкой.
— Поверьте мне, — сказал он, — дни, что я провел рядом с вами, пролетели для меня так незаметно, что мне грустно вас покидать. И хотя вы — королева и ваши придворные коты куда остроумнее и учтивее наших, я все-таки прошу вас: поедемте со мной.
В ответ на это предложение Белая Кошка только глубоко вздохнула.
Они расстались. Принц первым прибыл в замок, где уговорился встретиться с братьями. Вскоре приехали и они и очень удивились, увидев во дворе деревянного коня, более резвого, чем все лошади, которых держали в школе верховой езды.
Принц вышел навстречу братьям. Они обнялись и расцеловались и стали рассказывать друг другу о своих путешествиях. Но наш принц не рассказал братьям о том, что с ним приключилось: показав им жалкую собачонку, которая прежде вращала колесо вертела, он уверил их, будто она показалась ему такой хорошенькой, что он решил привезти ее королю. Как ни дружили между собой братья, двое старших втайне обрадовались, что младший сделал такой плохой выбор. Они сидели в это время за столом, и один толкнул другого ногой, как бы говоря, что с этой стороны им нечего бояться соперничества.
На следующий день братья выехали все вместе в одной карете. Два старших принца везли в корзиночках двух собачек, таких красивых и хрупких, что страшно было до них дотронуться. А младший вез несчастную собачонку, вращавшую вертел, такую грязную, что все от нее шарахались. Принцы вошли в покои короля. Король не знал, какую из собачек выбрать, потому что обе собачки, привезенные старшими братьями, были почти одинаково хороши. Братья уже оспаривали друг у друга право наследовать королю, когда младший решил их спор, вынув из кармана желудь, подаренный Белой Кошкой. Он быстро его расколол, и все увидели крошечную собачку, которая лежала в нем на пушистой подстилке. Собачка могла бы прыгнуть сквозь обручальное кольцо, не задев его. Принц поставил ее на землю, и она тотчас стала танцевать сарабанду с кастаньетами так легко, как самая прославленная из испанских танцовщиц. Собачка переливалась всеми цветами радуги, а ее мягкая шерстка и уши свисали до самого пола[305]. Король был весьма смущен: песик был так хорош, что и придраться не к чему.
Однако ему вовсе не хотелось расставаться со своей короной. Самые мелкие ее украшения были ему дороже всех собак в мире. Поэтому он сказал сыновьям, что очень доволен их стараниями, но они так успешно исполнили первое его желание, что, прежде чем сдержать слово, он хочет еще раз испытать их усердие. Он дает им год на поиски полотна, столь тонкого, чтобы его можно было пропустить сквозь ушко самой тонкой вышивальной иглы. Все трое очень огорчились, что им снова придется отправиться на поиски. Но два принца, собачки которых уступали в красоте той, что привез младший, согласились. И каждый поехал своей дорогой, простившись уже не так дружелюбно, как в первый раз, потому что грязная собачонка, вращавшая вертел, несколько охладила их братские чувства.
Наш принц сел верхом на деревянного коня и, не желая помощи ни от кого, кроме Белой Кошки, на дружбу которой он надеялся, поспешно пустился в путь и вернулся в замок, где его однажды уже так хорошо приняли. Все ворота были распахнуты настежь, и замок, окна, крыша, башни и стены которого были освещены тысячами ламп, являл собой дивное зрелище. Руки, которые так хорошо прислуживали принцу раньше, снова встретили гостя и, взяв под уздцы великолепного деревянного коня, отвели его в конюшню, а принц тем временем отправился в покои Белой Кошки.
Она лежала в маленькой корзинке, на белой атласной подушечке, очень нарядной. Правда, ее ночной чепец был в беспорядке и сама она казалась грустной, но стоило ей увидеть принца, как она стала прыгать и резвиться, выказывая ему свою радость.
— Хотя у меня и были причины ждать, что ты вернешься, сын короля, — сказала она, — признаюсь тебе, я все-таки не решалась на это надеяться. Обыкновенно мне не везет и мои желания не исполняются, вот почему я так приятно удивлена.
Благодарный принц осыпал Кошечку ласками. Он рассказал, чем увенчалось его путешествие, хотя, судя по всему, ей все было известно даже лучше, чем ему самому. Рассказал он и о пожелании короля, чтобы ему доставили полотно, которое могло бы пройти в игольное ушко. По правде говоря, признался принц, он не верит, что эту прихоть короля можно исполнить, но все-таки решил попытать счастья, во всем положившись на ее дружбу и содействие. Белая Кошка задумалась и сказала, что это дело не из легких, но, к счастью, в ее замке среди кошек есть искусные пряхи, да она и сама приложит лапку к работе и поторопит прях, так что пусть принц не беспокоится и не ищет далеко то, что скорее найдет у нее, нежели в каком-нибудь другом месте.
Появились руки, они внесли факелы, и принц, следуя за ними вместе с Белой Кошкой, вошел в величественную галерею: она тянулась вдоль громадной реки, над которой зажигали удивительный фейерверк. В его огне должны были сгореть несколько кошек, которых сначала судили по всей форме. Их обвиняли в том, что они слопали жаркое, приготовленное на ужин Белой Кошке, сожрали ее сыр, выпили молоко и даже злоумышляли на ее особу в сговоре с Рубакой и Отшельником — крысами, весьма известными в округе, — таковыми их считает Лафонтен, а этот автор всегда говорит только правду[306].
Однако выяснилось, что дело не обошлось без интриг и многие свидетели подкуплены. Как бы то ни было, принц упросил, чтобы виновных помиловали. Фейерверк никому не причинил вреда, а таких прекрасных потешных огней не видывал еще никто в мире.
Потом подали изысканный праздничный ужин, который доставил принцу больше удовольствия, чем фейерверк, потому что он сильно проголодался, хотя деревянный конь примчал его очень быстро — с такой скоростью принцу еще никогда не приходилось скакать. Последующие дни прошли так же, как в прошлый раз, — во всевозможных празднествах, которыми изобретательная Белая Кошка развлекала своего гостя. Наверное, впервые смертный так весело проводил время с кошками, не имея вокруг никакого другого общества.
Правда, Белая Кошка была наделена живым, отзывчивым и на редкость разносторонним умом. И была такой ученой, какими кошки не бывают. Принц иногда просто диву давался.
— Нет, — твердил он ей, — тут что-то не так. У вас слишком много необыкновенных талантов. Если вы любите меня, прелестная Киска, откройте мне, каким чудом вы рассуждаете и мыслите так мудро, что вам впору заседать в академии среди самых великих умов?
— Перестань задавать мне вопросы, сын короля, — говорила она. — Я не имею права отвечать на них, а ты думай себе что захочешь, я спорить не стану. Будь доволен тем, что, когда я с тобой, я не выпускаю коготков и принимаю близко к сердцу все, что тебя касается.
Второй год пролетел так же незаметно, как первый. Стоило принцу чего-нибудь пожелать, и услужливые руки тотчас доставляли ему это — будь то книги, драгоценные камни, картины или античные медали. Ему довольно было сказать: «Я мечтаю заполучить такую-то драгоценность из собрания Великого Могола[307] или персидского шаха, такую-то коринфскую или греческую статую», — как предмет его желаний, откуда ни возьмись, появлялся перед ним, неизвестно кем доставленный. В этом была своя прелесть — ведь для разнообразия приятно оказаться владельцем прекраснейших в мире сокровищ.
Белая Кошка, ни на минуту не забывавшая об интересах принца, объявила ему, что день его отъезда приближается, но чтобы он не беспокоился о полотне, в котором у него нужда, — она приготовила ему чудеснейшую ткань.
— Но на этот раз, — добавила Кошка, — я хочу снарядить тебя в дорогу так, как подобает принцу столь высокого рождения. — И, не дожидаясь ответа, она заставила его выглянуть во двор замка. Там стояла открытая коляска из золота, расписанная алой краской и вся украшенная галантными изречениями, тешившими и глаз и ум. В коляску четверками была впряжена дюжина белоснежных коней в сбруе из алого бархата, расшитого алмазами и отделанного золотыми пластинами. Таким же бархатом была изнутри обита коляска, а за ней следовала сотня карет: в каждой, запряженной восьмеркой лошадей, сидели знатные вельможи в роскошных одеждах. Кроме них за коляской следовала еще тысяча гвардейцев-телохранителей в мундирах, покрытых такой богатой вышивкой, что даже не видно было, из какой материи они сшиты. И самое удивительное — повсюду были портреты Белой Кошки: и среди надписей на первой коляске, и в вышивке на мундирах гвардейцев; ее портреты висели также на лентах поверх камзолов, в которые были одеты вельможи, составлявшие свиту, — словно Белая Кошка наградила их этим новым орденом.
— Поезжай, — сказала принцу Кошка, — и явись ко двору твоего отца-короля так торжественно, чтобы, увидев все это великолепие, он не отказал тебе в заслуженной тобою короне. Вот тебе орех, но смотри разбей его не раньше, чем предстанешь перед королем, — в нем ты увидишь полотно, о коем просил меня.
— Милая Беляночка, — сказал ей принц, — я так тронут вашей добротой, что признаюсь вам: если бы вы согласились, я предпочел бы провести жизнь рядом с вами, чем гнаться за почестями, на которые я, может быть, вправе рассчитывать в другом месте.
— Сын короля, — отвечала Белая Кошка, — я уверена в том, что у тебя доброе сердце, а это товар редкий среди венценосцев. Они хотят, чтобы все их любили, а сами не любят никого. Но ты доказываешь, что нет правил без исключений. Я ценю твою преданность Белой Кошке, которая, правду сказать, годна только ловить мышей.
Принц поцеловал ей лапку и пустился в путь.
Если бы не знать, что деревянному коню понадобилось меньше двух дней, чтобы доставить принца за пятьсот лье от замка Белой Кошки, трудно было бы представить скорость, с какой мчался он на этот раз: та самая сила, что воодушевляла деревянного коня, так подгоняла теперешнюю упряжку принца, что он и его провожатые провели в дороге не более суток, — ни разу не сделав привала, они прибыли к королю, куда уже явились два его старших сына. Видя, что их младший брат не показывается, принцы порадовались его нерасторопности и шепнули друг другу:
— Вот тебе и счастливчик: наверно, заболел или умер, не бывать ему нашим соперником в важном деле, которое предстоит решить.
И они развернули привезенные ими ткани, которые и впрямь были такие тонкие, что проходили в ушко толстой иглы, — а вот в ушко тонкой они не прошли, и король, очень обрадованный тем, что нашелся предлог оспорить их права, показал им ту иглу, какую он имел в виду: по его приказу городские советники доставили ее из городской сокровищницы, где она хранилась под крепкими замками.
Этот спор вызвал большой ропот. Друзья принцев, в особенности старшего, чье полотно было красивее, говорили, что это пустая придирка и тут попахивает крючкотворством и плутнями. А приверженцы короля утверждали, что, поскольку условия не выполнены, король вовсе не обязан отказываться от трона. Конец препирательствам положили дивные звуки труб, литавр и гобоев — это со своей пышной свитой прибыл наш принц. И король, и оба его сына были поражены таким великолепием.
Почтительно поклонившись отцу и обняв братьев, принц извлек из шкатулки осыпанный рубинами орех и расколол его. Он надеялся увидеть в нем хваленое полотно, но там оказался лесной орешек поменьше. Принц разбил и этот орех и очень удивился, когда обнаружил в нем вишневую косточку. Окружающие переглянулись, король тихонько посмеивался: он потешался над сыном, который оказался таким простаком, что поверил, будто можно привезти кусок полотна в ореховой скорлупке. А почему бы ему, собственно говоря, было не поверить, если принцу уже случилось раздобыть собачку, которая умещалась в желуде? Итак, принц расколол вишневую косточку, в ней оказалось ядрышко вишни, тут в зале поднялся гул, все хором говорили одно — принца, мол, одурачили. Принц не ответил ни слова на насмешки придворных — он расщепил ядрышко, в нем оказалось зерно пшеницы, а в нем просяное зернышко. Ну и ну! Тут уж принц и сам начал сомневаться и сквозь зубы пробормотал:
— Ах, Белая Кошка, Белая Кошка! Ты посмеялась надо мной!
Но только он пробормотал эти слова, как почувствовал, что в руку ему впились кошачьи коготки и оцарапали до крови. Он не мог понять, для чего его царапнули — чтобы подбодрить или, наоборот, чтобы совсем уж лишить мужества. И все-таки он расщепил зернышко проса, и каково же было всеобщее удивление, когда принц извлек из него четыреста локтей полотна удивительной красоты — на нем были изображены все, какие только есть на земле, птицы, звери и рыбы, деревья, фрукты и растения; все морские редкости, ракушки и скалы, все небесные светила — солнце, луна, звезды и планеты. Были на нем также изображены короли и другие государи, правившие в ту пору в разных странах, а также их жены, возлюбленные, дети и все до одного подданные, так что не забыт был даже самый убогий оборвыш. И каждый был одет соответственно своему положению и по моде своей страны. Увидев это полотно, король побледнел так же сильно, как прежде покраснел принц, смущенный тем, что так долго ищет полотно. Принесли иглу и шесть раз протянули полотно сквозь ушко в одну и в другую сторону. Король и два старших принца угрюмо молчали, хотя полотно было такой редкостной красоты, что время от времени им все-таки приходилось признать, что свет не видывал ничего подобного.
Наконец король глубоко вздохнул и, обратившись к своим сыновьям, сказал:
— Нет у меня в старости большего утешения, нежели видеть вашу ко мне почтительность, и потому я хочу подвергнуть вас еще одному испытанию. Отправляйтесь странствовать еще на один год, и тот, кто по истечении этого срока привезет самую прекрасную девушку, пусть женится на ней и при вступлении в брак получит мою корону: ведь моему преемнику обязательно надо жениться. А я обещаю, я клянусь, что больше не стану медлить и вручу ему обещанную награду.
Конечно, это было несправедливо по отношению к нашему принцу. И собачка, и полотно, им привезенные, стоили не одного, а десяти королевств. Но у принца было такое благородное сердце, что он не стал перечить отцу и без дальних слов сел в свою карету. Вся его свита последовала за ним, и он возвратился к своей дорогой Белой Кошке. Она заранее знала, в какой день и час он прибудет, — весь его путь был усыпан цветами и повсюду, а в особенности во дворце, курились благовония. Белая Кошка сидела на персидском ковре под шитым золотом балдахином в галерее, откуда могла видеть, как принц подъехал ко дворцу. Встретили его те самые руки, что прислуживали ему и прежде. А все кошки повскакали на водосточные трубы и оттуда приветствовали его громогласным мяуканьем.
— Что ж, сын короля, — сказала Белая Кошка, — ты опять возвратился, не получив короны?
— Государыня, — ответил он, — ваши милости помогли мне ее заслужить, но мне кажется, королю так жалко с ней расстаться, что, если бы я ее получил, его горе было бы куда сильнее моей радости.
— Все равно, — возразила она, — надо сделать все, чтобы ее добиться. Я тебе в этом помогу, и, раз ты должен привезти ко двору отца прекрасную девушку, я найду ту, что поможет тебе заслужить награду. А пока давайте веселиться, я приказала устроить морское сражение между кошками и злыми окрестными крысами. Мои кошки, быть может, будут смущены, они ведь боятся воды, но в противном случае на их стороне были бы слишком большие преимущества, а надо по мере возможности соблюдать справедливость.
Принц был восхищен мудростью госпожи Киски. Он долго расточал ей похвалы, а потом они вместе вышли на террасу, обращенную к морю. Кошачьи корабли представляли собой большие куски пробковой коры, на которых кошки плавали довольно ловко. А крысы соединили вместе множество яичных скорлупок — это был их флот. Битва разыгралась жестокая, крысы не раз бросались вплавь, а плавали они гораздо лучше кошек, так что победа раз двадцать переходила то на одну, то на другую сторону. Но адмирал кошачьего флота Котаус поверг крысиную рать в отчаяние. Он сожрал их предводителя — старую опытную крысу, которая трижды совершила кругосветное путешествие на настоящих больших кораблях, но не в качестве капитана или матроса, а как обыкновенная любительница сала.
Но Белая Кошка не хотела, чтобы несчастные крысы были полностью разгромлены. Она была мудрым политиком и полагала, что, если в стране совсем не останется ни мышей, ни крыс, ее подданные предадутся праздности, которая может нанести ей урон. Принц провел этот год так же, как два предыдущие, то есть охотился, ездил на рыбную ловлю или сидел за шахматной доской, потому что Белая Кошка прекрасно играла в шахматы. Не в силах удержаться, он время от времени снова начинал ее расспрашивать, каким чудом она умеет говорить. Он хотел знать, уж не фея ли она, а может быть, ее колдовством превратили в кошку. Но поскольку Белая Кошка говорила всегда только то, что хотела сказать, она и отвечала лишь на то, на что хотела ответить; в этом случае она отделывалась ничего не значащими словами, и принц скоро понял, что она не хочет посвящать его в свою тайну.
Ничто не течет так быстро, как безоблачные и безмятежные дни, и если бы Белая Кошка не помнила о сроке, когда принцу пора было возвращаться ко двору, сам он, без сомнения, забыл бы о нем. И вот накануне того дня, когда ему надо было возвращаться, Кошка сказала принцу, что от него одного зависит, привезет ли он ко двору отца одну из самых прекрасных на свете принцесс, и настал миг разрушить чары злых фей, но для этого принц должен решиться отрубить ей голову и хвост и немедля бросить их в огонь.
— Как! — воскликнул принц. — Любимая моя Беляночка! Неужто я решусь на такое злодейство и убью вас! Нет, вы просто хотите испытать мое сердце, но, поверьте, оно никогда не изменит дружбе и признательности, какие питает к вам.
— Успокойся, сын короля, — возразила она. — Я вовсе не подозреваю тебя в неблагодарности, я знаю твою доблесть, но нашу судьбу решать не тебе и не мне. Сделай так, как я прошу, и мы оба будем счастливы. Клянусь честью благородной кошки, ты убедишься, что я твой истинный друг.
При мысли о том, что надо отрубить голову его милой Кошечке, такой прелестной и грациозной, слезы снова и снова навертывались на глаза принца. Он опять самыми нежными словами уговаривал ее избавить его от такого поручения, но она упорно твердила, что хочет погибнуть от его руки и что это единственный способ помешать его братьям получить корону. Словом, она так горячо убеждала принца, что он, весь дрожа, извлек шпагу из ножен и нетвердой рукой отсек голову и хвост своей милой подруге. И тут на его глазах совершилось дивное превращение. Тело Белой Кошки стало расти, и вдруг она превратилась в девушку, да в такую красавицу, что невозможно описать. Глаза ее покоряли сердца, а нежность удерживала их в плену. Осанка ее была величавой, весь облик благородным и скромным, она была и умна, и обходительна, словом — превыше всех похвал.
Принц, увидев ее, был поражен, но поражен так приятно, что решил, будто его околдовали. Лишившись дара речи, он глядел на прекрасную девушку и не мог наглядеться, но непослушный язык не в силах был выразить его изумление. Принц оправился только тогда, когда вдруг появилось множество дам и кавалеров, на плечи которых были накинуты шкурки котов или кошек, и все они простерлись ниц перед королевой, радуясь тому, что она снова обрела свой природный человеческий образ. Она отвечала им так ласково, что сразу видно было, какое у нее доброе сердце. Поговорив несколько минут со своими придворными, она приказала, чтобы ее оставили наедине с принцем, и тогда начала свой рассказ.
— Не подумайте, принц, что я всегда была Кошкой или что происхождение мое безвестно[308]. Отец мой был владыкой шести королевств. Он нежно любил мою мать и позволял ей делать все, что ей заблагорассудится. А она больше всего любила путешествовать, и вот, когда она была беременна мной, ей захотелось увидеть гору, про которую рассказывали всякие чудеса. На пути к этой горе королеве сказали, что неподалеку находится старинный замок, где живут феи, и что нет на свете замка красивее, по крайней мере, если верить дошедшему до нас преданию, потому что судить об этом никто не может, ибо туда не ступала нога человека; одно известно наверное — в саду у фей растут такие прекрасные плоды, сочные и нежные, каких никому и никогда не приходилось отведывать.
Королеву, мою мать, охватило вдруг такое неистовое желание попробовать эти плоды, что она повернула к замку. Она приблизилась к воротам великолепного жилища, которое сверкало золотом и лазоревым камнем, но напрасно она стучала в двери, никто не появлялся — казалось, замок вымер. Однако это препятствие только еще разожгло нетерпение моей матери, и она послала слуг принести веревочные лестницы, чтобы перелезть через ограду сада, и им бы это удалось, если бы стены не стали сами собой расти у них на глазах. Тогда слуги королевы привязали одну лестницу к другой, но лестницы обрывались под теми, кто пытался по ним взобраться, и люди падали на землю, ломая себе руки и ноги или разбиваясь насмерть.
Королева пришла в отчаяние: она видела ветви, гнувшиеся под тяжестью плодов, которые казались ей необыкновенно вкусными, и решила, что если она их не отведает, то умрет. И вот она приказала разбить возле замка роскошные шатры и полтора месяца прожила в них вместе со своей свитой. Она не спала, не ела, а все вздыхала и говорила только о плодах этого неприступного сада. Наконец она опасно занемогла, и никто не мог облегчить ее страдания, потому что неумолимые феи даже ни разу не показались королеве с тех пор, как она разбила шатры поблизости от их жилища. Все придворные были в страшном горе. В шатрах раздавались только плач да стоны, а умирающая королева просила у тех, кто ей прислуживал, принести плодов, но она желала только тех, в которых ей было отказано.
Однажды ночью, когда ей удалось ненадолго забыться сном, она, проснувшись, увидела, что у ее изголовья сидит в кресле маленькая старушка, безобразная и дряхлая. Не успела королева удивиться, почему придворные дамы разрешили незнакомке приблизиться к ее особе, как та вдруг сказала:
— Твое величество очень нам докучает, упрямо желая отведать плодов с наших деревьев. Но поскольку дело идет о твоей драгоценной жизни, мы решили уделить тебе столько плодов, сколько ты сможешь унести с собой и съесть здесь, на месте, однако за это ты должна сделать нам подарок.
— Ах, добрая матушка, — воскликнула королева, — говорите, я готова отдать вам мое королевство, мое сердце, мою душу, только бы поесть ваших плодов, мне за них ничего не жалко отдать.
— Мы хотим, — отвечала старуха, — чтобы ты отдала нам дочь, которую носишь в своем чреве. Как только она родится на свет, мы возьмем ее к себе. Мы сами ее вырастим, мы одарим ее всеми добродетелями, красотой и ученостью — словом, она станет нашим дитятей, мы сделаем ее счастливой, но помни, что Твое Величество увидит ее не раньше, чем она выйдет замуж. Если ты согласна на эти условия, я тотчас вылечу тебя и отведу в наш сад. Хотя сейчас ночь, тебе все будет видно как днем, и ты сможешь выбрать что захочешь. А если мои слова тебе не по нраву, спокойной ночи, госпожа королева, я иду спать.
— Как ни жестоки ваши условия, — отвечала королева, — я их принимаю, потому что иначе я умру: я чувствую, что не протяну и дня, а стало быть, погибнув сама, погублю и свое дитя. Вылечите меня, мудрая фея, — продолжала она, — и позвольте мне без промедления воспользоваться обещанным правом.
Прикоснувшись к королеве золотой палочкой, фея сказала:
— Да избавится Твое Величество от недуга, который приковывает тебя к постели, — и тотчас королеве показалось, будто ее тело освободили от сковывавших его тяжелых и грубых одежд, только кое-где она все-таки еще ощущала их прикосновение — должно быть, в этих местах болезнь поразила ее особенно глубоко.
Королева позвала своих дам и, улыбаясь, сказала им, что чувствует себя отлично, сейчас она встанет, перед ней наконец-то распахнутся крепко запертые, неприступные двери волшебного замка и она сможет поесть чудесных плодов и унести их с собой.
Дамы все до одной вообразили, что королева бредит и вожделенные плоды мерещатся ей в бреду. Не отвечая ей, они залились слезами и пошли будить врачей, чтобы те посмотрели, что с нею такое. А королева была в отчаянии от этого промедления. Она приказала, чтобы ей немедленно подали ее платье, — дамы отказывались, королева рассердилась, покраснела. Окружающие решили, что у нее лихорадка. Однако пришли врачи и, пощупав у нее пульс и вообще проделав все, что полагается в подобных случаях, должны были признать, что королева совершенно здорова. Придворные дамы, поняв, какую оплошность совершили из усердия, поспешили ее загладить, как можно скорее одев Ее Величество. Каждая попросила у нее прощения, все успокоилось, и королева поспешила вслед за старой феей, которая по-прежнему ее ждала.
Королева вошла во дворец, столь прекрасный, что никакой другой не мог с ним сравниться. Вы легко поверите мне, принц, — добавила Белая Кошка, — если я скажу вам, что это тот самый дворец, где мы с вами сейчас находимся. Две другие феи, моложе первой, встретили мою мать на пороге и любезно ее приветствовали. Она просила их тотчас проводить ее в сад, к шпалерам, где растут самые лучшие плоды. «Все они равно хороши, — отвечали феи, — и если бы не твое желание самой их сорвать, мы могли бы просто кликнуть их и они явились бы на наш зов». — «Умоляю вас, сударыни, — воскликнула королева, — дайте мне приятную возможность увидеть это чудо». Старшая из фей вложила в рот пальцы и три раза свистнула, а потом крикнула: «Абрикосы, персики, вишни, сливы, груши, черешни, дыни, виноград, яблоки, апельсины, лимоны, смородина, клубника, малина, явитесь на мой зов!» — «Но ведь те, кого вы зовете, — удивилась королева, — зреют в разное время года». — «В нашем саду не так, — отвечали феи. — Все плоды, растущие на земле, у нас круглый год бывают спелыми, сочными и никогда не гниют и не червивеют».
И в эту минуту явились все те, кого созвала фея, — они катились и прыгали все вперемежку, но при этом не мялись и не пачкались, и королева, горя нетерпением исполнить свое желание, кинулась к ним и схватила первые, какие подвернулись ей под руку. Она не съела, а жадно проглотила их.
Утолив немного свой голод, она попросила фей провести ее к шпалерам, чтобы полюбоваться плодами, прежде чем их нарвать. «Охотно, — ответили все три, — только не забудь про обещание, что ты нам дала, тебе уже нельзя от него отступиться». — «Я уверена, — сказала королева, — что жить у вас очень приятно, а дворец ваш так прекрасен, что, не люби я горячо моего супруга-короля, и сама бы охотно осталась с вами. Поэтому не бойтесь, я не нарушу свое слово». Феи, очень довольные, открыли королеве все калитки и ворота, и она оставалась в их саду три дня и три ночи, не желая уходить, — так ей понравились плоды. Она нарвала и про запас и, поскольку они никогда не портятся, приказала нагрузить ими четыре тысячи мулов, чтобы увезти их с собой. Феи дали королеве золотые корзины искусной работы, чтобы было куда положить подаренные ими плоды, и преподнесли ей много драгоценных редкостей. Они обещали королеве растить меня как принцессу, наделить всеми совершенствами и найти мне мужа, а королеву они, мол, уведомят о дне бракосочетания и надеются увидеть ее на свадьбе.
Король был счастлив, что королева наконец вернулась, радовался и весь двор, балы сменялись маскарадами, конными состязаниями, игрой в кольцо и всевозможными пиршествами, и на них, как особое лакомство, подавали плоды, привезенные королевой. Король предпочитал их всем другим угощениям. Он ведь ничего не знал о договоре, который королева заключила с феями, и часто спрашивал ее, в какой стране ей удалось найти такие удивительные плоды. Королева отвечала, что они растут на горе, почти неприступной, но в другой раз уверяла, что они растут в долинах, а потом, что в саду или в густом лесу. Король дивился ее противоречивым ответам. Он пытался расспросить ее спутников, тех, кто сопровождал королеву в путешествии, но она столько раз наказывала им молчать о ее приключении, что они не смели открыть рта. Однако, видя, что скоро ей придет срок родить, королева стала с беспокойством думать о том, что обещала феям, и впала в глубокую печаль. Она поминутно вздыхала и менялась на глазах. Король потерял покой. Он стал просить ее рассказать ему, что ее тревожит, и после мучительных колебаний она наконец призналась ему во всем, что произошло между нею и феями и как она обещала им отдать дочь, которую она родит. «Что я слышу! — воскликнул король. — У нас нет детей, вы знаете, как я о них мечтаю, и ради того, чтобы съесть несколько яблок, вы способны были обещать в дар свою дочь? Значит, вы совсем меня не любите». И он осыпал королеву такими жестокими упреками, что моя несчастная мать едва не умерла с горя. Но король этим не удовольствовался — он приказал запереть королеву в башню, а кругом поставил охрану, чтобы она не могла сноситься ни с кем, кроме тех, кто ей прислуживал, и притом удалил всех придворных, которые сопровождали королеву в замок к феям.
Разлад между королем и королевой поверг весь двор в страшное уныние. Вместо прежних богатых одежд все надели другие, выражавшие всеобщий траур. Король же был неумолим — он больше не желал видеть свою супругу и, едва я появилась на свет, повелел перенести меня к себе во дворец, чтобы я росла возле него, а моя несчастная мать оставалась пленницей. Феи, конечно, знали обо всем происходящем и разгневались — они хотели, чтобы я жила у них, и уже смотрели на меня как на свою собственность, посчитав, что меня у них украли. Прежде чем найти способ мест, соразмерный их гневу, они послали королю пышное посольство, предлагая ему освободить королеву из заточения, вернуть ей свою милость и прося также отдать меня послам, чтобы самим меня вырастить и воспитать. Но посланцы фей были такими крохотными и уродливыми — это были безобразные карлики, — что им не удалось убедить короля. Он грубо отказал им, и, не поспеши они уехать, быть может, им пришлось бы совсем плохо.
Узнав о том, как поступил мой отец, феи пришли в страшную ярость, и, обрушив на шесть его королевств страшные бедствия, чтобы их опустошить, наслали на них еще и ужасного дракона, который отравлял ядом все места, где проходил, пожирал взрослых и детей и своим дыханием губил деревья и растения.
Король был в отчаянии, он вопрошал всех мудрецов своего королевства о том, что ему делать, чтобы спасти подданных от обрушившихся на них несчастий. Мудрецы посоветовали ему созвать со всего мира самых умелых врачей и привезти лучшие лекарственные снадобья, а кроме того обещать жизнь осужденным на смерть преступникам, если те захотят сразиться с драконом. Королю понравился совет, и он ему последовал, но это не помогло. Люди продолжали умирать, а дракон сожрал всех тех, кто решился с ним сразиться, так что пришлось королю обратиться за помощью к фее, которая покровительствовала ему с ранних лет. Она была очень стара и почти не вставала с постели; король сам отправился к ней и принялся укорять, что она видит, как его преследует судьба, но не хочет ему помочь. «Я ничего не могу сделать, — сказала фея. — Вы разгневали моих сестер. Мы обладаем равной властью и редко действуем друг против друга. Лучше умилостивьте их, отдав вашу дочь, — маленькая принцесса принадлежит им. Вы посадили королеву в темницу, но чем провинилась перед вами эта славная женщина, что вы обошлись с ней так жестоко? Решитесь исполнить слово, которое она дала феям, и, поверьте мне, вы будете осыпаны благодеяниями».
Король, мой отец, нежно меня любил, но, не видя другого средства спасти свое королевство и избавить его от губителя-дракона, он сказал своей приятельнице-фее, что решил последовать ее совету и готов отдать меня феям, раз она уверяет, что меня будут холить и лелеять, как подобает принцессе моего происхождения; а еще он вернет во дворец королеву и просит фею сказать, кому следует поручить отнести меня в волшебную обитель фей. «Принцессу в ее колыбели надо отнести на вершину Цветочной горы, — отвечала фея, — вы можете даже остаться поблизости, чтобы стать свидетелем празднества, которое там разыграется». Тогда король сказал ей, что через неделю он вместе с королевой пойдет на эту гору и пусть, мол, фея предупредит своих сестер, чтобы они устроили все, как найдут нужным.
Едва король вернулся в замок, он послал за королевой и принял ее так же ласково и торжественно, как гневно и сурово отправлял ее в заточение. Она была удручена и так изменилась, что он с трудом узнал бы ее, если бы сердце не уверило его, что перед ним та самая женщина, которую он любил. Со слезами на глазах он просил ее забыть все горести, какие ей причинил, и заверил, что больше никогда в жизни ничем ее не огорчит. Она отвечала ему, что сама навлекла на себя эти горести, опрометчиво посулив феям отдать им свою дочь, и извинить ее может только то, что она была тогда в ожидании. Король сказал жене, что решил отдать меня феям. Тут уже королева стала противиться его намерению. Можно было подумать, что это какой-то рок и мне навеки суждено стать предметом несогласий между моими родителями. Моя мать долго стенала и плакала, но не добилась того, чего хотела (король видел, какие страшные последствия влечет за собой неповиновение феям, потому что наши подданные продолжали погибать, словно они были виноваты в прегрешениях нашей семьи); тогда наконец королева уступила и все было приготовлено для церемонии.
Меня положили в колыбель из перламутра, украшенную творениями самого изысканного искусства. Колыбель была вся увита живыми цветами и гирляндами из разноцветных драгоценных камней, которые под лучами солнца сверкали так ослепительно, что на них больно было смотреть. Роскошь моего наряда превосходила, если только это возможно, роскошь колыбели: свивальники мои скреплялись крупными жемчужинами. Несли меня на особых легчайших носилках двадцать четыре принцессы королевского рода, одетые по-разному, но в знак моей невинности им приказано было быть во всем белом. А за нами шествовали придворные — каждый на подобающем его званию месте.
Поднимаясь по склону горы, все услышали мелодичную музыку, которая приближалась. Наконец появились феи — их было числом тридцать шесть, потому что они созвали всех своих подруг. Каждая сидела в жемчужной раковине, больше той, на которой Венера явилась из морской пены[309]. Везли их морские кони, и по земле они ступали весьма неуверенно. Феи были наряжены роскошней, нежели первые среди земных королев — но при том они были старыми и безобразными. Они держали в руках оливковую ветвь, чтобы дать знать королю, что своим послушанием он заслужил их милость. И когда меня передали в их руки, они осыпали меня такими бурными ласками, что можно было подумать, будто отныне нет у них в жизни другой цели, как только сделать меня счастливой.
Дракон, мстивший по их повелению моему отцу, шествовал следом за ними на алмазной цепи. Феи передавали меня из рук в руки, ласкали, одарили меня множеством счастливых свойств, а потом начали бранль[310] фей. Это очень веселый танец: трудно даже представить себе, как резво скакали и прыгали старые дамы. Потом к ним подполз на коленях дракон, пожравший стольких людей. Три феи — те, кому моя мать обещала меня подарить, — уселись на него верхом, а мою колыбель поставили посредине, и едва они хлестнули дракона волшебной палочкой, как он расправил огромные чешуйчатые крылья, тоньше самого тонкого шелка. На этом драконе феи направились в свой замок. Моя мать, увидев, что меня водрузили на спину страшного чудовища, не удержалась от страшного крика. Но король утешил жену, сославшись на свою покровительницу-фею, которая заверила его, что мне не сделают ничего худого и печься обо мне будут так же, как пеклись бы в его собственном дворце. Королева успокоилась, хотя ей очень грустно было со мной расстаться на такой долгий срок, да еще по собственной вине, потому что, не захоти она отведать плодов из волшебного сада, я осталась бы в королевстве отца и на мою долю не выпали бы те горести, о каких мне предстоит вам рассказать.
Знайте же, сын короля, что мои стражницы выстроили для меня башню, в которой было множество красивых комнат — для каждого времени года свои, а в них дорогая мебель, интересные книги, но дверей в башне не было — проникнуть в нее можно было только через окна, расположенные очень высоко[311]. В башне был прекрасный сад с цветами, фонтанами и сводами зеленых аллей, защищавших от зноя в самый разгар жары. В этой башне феи вырастили меня, окружив заботой, большей даже, чем они обещали королеве. Одета я была всегда по самой последней моде и так роскошно, что, если бы кто-нибудь меня увидел, он решил бы, что на мне свадебный наряд. Меня учили всему, что положено знать особе моего возраста и происхождения. Я не доставляла феям хлопот — я усваивала все с неописуемой легкостью. Моя кротость была им по нраву, а поскольку я никогда никого, кроме них, не видела, то, может статься, и прожила бы в покое до конца моих дней.
Феи постоянно навещали меня, прилетая верхом на драконе, о котором я уже рассказывала. Они никогда не упоминали ни о короле, ни о королеве, называя меня своей дочерью, и я им верила. В башне со мной жили только попугай и маленькая собачка, которых феи подарили мне, чтобы те меня развлекали, потому что оба были наделены разумом и говорили человечьим языком.
Башня одной своей стороной выходила к оврагу, по дну которого тянулась дорога, вся в колдобинах и заросшая деревьями, вот почему, с тех пор как меня поместили в башню, я ни разу не видела, чтобы по ней кто-нибудь ехал. Но однажды, когда я стояла у окна, беседуя с попугаем и собачкой, я услышала шум. Я огляделась по сторонам и увидела молодого всадника, который остановился послушать наш разговор. До тех пор я видела мужчин только на картинах. Я вовсе ничего не имела против этой неожиданной встречи и, не подозревая о том, как опасно созерцать предмет, достойный любви, подошла ближе, чтобы получше разглядеть юношу, и чем больше я на него смотрела, тем больше удовольствия мне это доставляло. Он низко поклонился мне, не сводя с меня взгляда, и видно было, что он в затруднении ищет способа поговорить со мной: окно мое было расположено очень высоко и он боялся, что его могут услышать, а он знал, что я живу в замке у фей.
Стемнело совсем неожиданно, или, точнее сказать, мы просто не заметили, как стемнело: молодой человек несколько раз протрубил в рог, усладив мой слух его звуками, и скрылся. Но было так темно, что я даже не увидела, в какую сторону он ускакал. Я глубоко задумалась, мне уже не доставляла обычного удовольствия болтовня моего попугая и собачки. Между тем они говорили очень забавно, потому что волшебные животные наделены остроумием, но мысли мои были заняты другим, а притворяться я не умела. Попугай это заметил, но он был хитер и не подал виду.
Встала я с рассветом. И сразу бросилась к окну. Я была приятно удивлена, увидев у подножия башни молодого кавалера. На нем был роскошный наряд. «Наверно, он надел его ради меня», — подумала я и не ошиблась. Молодой человек говорил со мной через своеобразный рупор, который усиливает голос, с его помощью он сказал мне, что до сих пор был равнодушен к красавицам, которых ему пришлось встречать, но моя красота в мгновение ока так его поразила, что отныне ему просто необходимо видеть меня каждый день — иначе он умрет. Я была очень довольна его любезными словами, но огорчилась, что не смею ему ответить: ведь для этого мне надо было громко кричать, но и тогда меня скорее услышали бы феи, а не он. В руках у меня были цветы, я бросила их ему, он принял их как несказанную милость, осыпал поцелуями и стал меня благодарить. Потом он спросил, дозволю ли я ему каждый день в назначенный час приходить ко мне под окно и не соглашусь ли подарить ему что-нибудь на память. У меня на руке было бирюзовое кольцо, я сорвала его с пальца и торопливо бросила юноше, сделав знак, чтобы он немедля удалился, потому что услышала, как с другой стороны к башне на своем драконе приближается фея Злодейка, которая везет мне завтрак.
Первыми словами, какие она произнесла, оказавшись в моей комнате, были: «Я чую человечий голос![312] Ищи, дракон!» Что со мной сделалось! Я помертвела от страха при мысли, что дракон вылетит через другое окно, преследуя юношу, который был мне уже далеко не безразличен. «Вы, конечно, шутите, добрая моя матушка, — сказала я (старая фея требовала, чтобы я называла ее матушкой). — Вы шутите, когда говорите, будто чуете человечий голос. Разве голоса пахнут? Да и если это так, какой смертный решится подняться в эту башню?» — «Ты права, дочь моя, — отвечала она, — я очень рада, что ты так разумно рассуждаешь, просто моя ненависть к людям столь велика, что иногда мне кажется, будто они неподалеку». Она протянула мне мой завтрак и мою прялку. «Когда поешь, садись за работу, вчерашний день ты провела в праздности, — сказала она, — мои сестры будут сердиться». И в самом деле, я так много думала о незнакомце, что не притрагивалась к работе.
Как только фея улетела, я упрямо отбросила прялку и поднялась на террасу, чтобы видеть как можно дальше вокруг. У меня была отличная подзорная труба — все было доступно моему взору, я огляделась кругом и на вершине горы увидела моего незнакомца. Окруженный пышным двором, он отдыхал под сенью богатого, затканного золотом шатра. Я поняла, что это сын какого-нибудь короля, живущего по соседству с волшебным замком. Опасаясь, как бы страшный дракон не учуял юношу, если он снова придет к башне, я приказала попугаю лететь к этой горе; там он найдет того, кто со мной говорил, и пусть попросит его от моего имени больше не возвращаться, потому что я боюсь, как бы феи, зорко меня стерегущие, не сыграли с ним злой шутки.
Попугай исполнил мое поручение, как подобает умной птице. Придворные были очень удивлены, когда он, взмахнув крыльями, опустился на плечо принца и что-то зашептал ему на ухо. Принца это посольство и обрадовало, и огорчило. Ему было приятно, что я о нем беспокоюсь, но препятствия, мешавшие ему беседовать со мной, удручали его, хотя и не угасили решимость снискать мое расположение. Он засыпал попугая расспросами, а попугай в свою очередь засыпал расспросами принца, потому что от природы был любопытен. Принц просил гонца передать мне кольцо взамен моего бирюзового: кольцо принца тоже было из бирюзы, но гораздо красивее моего, оно было вырезано в форме сердца и усыпано алмазами. «По справедливости, — сказал принц попугаю, — я должен обойтись с вами как с послом. Вот вам мой портрет, не показывайте его никому, кроме вашей очаровательной госпожи». И он спрятал под крылом попугая свой портрет, а кольцо попугай нес в клюве.
Я ждала возвращения зеленого гонца с нетерпением, дотоле мне неведомым. Попугай объявил мне, что тот, к кому я его послала, — могущественный государь; что он принял его как нельзя лучше и я должна знать: отныне он живет и дышит только ради меня; пусть являться к башне грозит ему опасностью, но он готов скорее погибнуть, чем не видеться со мною. Эти новости повергли меня в страшную тревогу, я заплакала. Попугай и собачка стали наперебой меня утешать — ведь они меня горячо любили. Потом попугай отдал мне кольцо принца и показал его портрет. Признаюсь вам, возможность созерцать вблизи того, кого я видела только издали, доставила мне ни с чем не сравнимую радость. Принц понравился мне еще больше, чем прежде; в голове моей теснилось множество мыслей, и отрадных, и печальных, которые привели меня в необычное волнение. Феи, явившиеся меня навестить, тотчас это заметили. Они решили между собой, что я, как видно, затосковала и надо найти мне мужа из мира фей. Они перебрали многих женихов и наконец остановили свой выбор на короле-карлике Мигонне, чьи владения лежали в пятистах тысячах миль от их замка. Но фей это не смущало. Попугай подслушал, что говорилось на их благородном совете, и рассказал обо всем мне. «Ах, дорогая моя госпожа, — добавил он, — как мне вас жалко, если вам придется стать королевой Мигоннетой. Король — уродец, на которого страшно смотреть. Мне очень грустно вам это говорить, но, по правде сказать, принц, который вас любит, не взял бы его даже в лакеи». — «А разве ты видел его, попугай?» — «Еще бы, — отвечал он. — Мы выросли на одной ветке». — «То есть как это на ветке?» — переспросила я. «Ну, да, — сказал попугай. — На ногах у Мигонне орлиные когти».
Этот рассказ поверг меня в глубокое горе. Я глядела на портрет прекрасного принца, я понимала, что он подарил его попугаю только для того, чтобы я могла его видеть. И когда я сравнивала принца с Мигонне, я теряла вкус к жизни и готова была лучше умереть, чем выйти замуж за карлика.
Ночь я провела без сна. Попугай и собачка развлекали меня разговорами. Под утро я наконец задремала, и тут собачка, у которой был тонкий нюх, почуяла, что принц стоит у подножия башни. Она разбудила попугая. «Готова биться об заклад, — сказала собачка, — что принц стоит внизу». — «Замолчи, трещотка, — отвечал попугай. — Сама ты почти не смыкаешь глаз, и ушки у тебя на макушке, вот ты и не даешь спать другим». — «Побьемся об заклад, — настаивала добрая собачка, — я знаю, что он там!» — «А я уверен, что его там нет, — возразил попугай. — Разве я сам от имени нашей госпожи не запретил ему сюда являться?» — «Ну и насмешил ты меня своими запретами! — воскликнула собачка. — Да разве влюбленный станет слушать кого-нибудь, кроме своего сердца?» — И с этими словами песик с такой силой стал теребить крылья попугая, что тот рассердился. Крики обоих разбудили меня, они объяснили мне, из-за чего у них вышел спор, я бросилась или, лучше сказать, подлетела к окну и увидела принца — он протягивал ко мне руки и через свой рупор объявил мне, что более не может без меня жить и молит меня найти способ покинуть башню или впустить его внутрь, и он клянется всеми богами, небом, землей, огнем и водой, что тотчас назовет меня своей супругой и я стану одной из самых могущественных королев в мире.
Я приказала попугаю передать принцу, что его желание почти неисполнимо, но все же, полагаясь на его слова и клятвы, я постараюсь исполнить его просьбу, но умоляю его не приходить сюда каждый день, потому что его могут заметить, а феи не знают пощады.
Он ушел вне себя от радости, окрыленный надеждой, которую я ему подала, а я, обдумав то, что ему обещала, совершенно растерялась. Как выйти из башни, в которой нет дверей? Да притом не имея других помощников, кроме попугая и собачки. И к тому же я так молода и неопытна! И так боязлива. Я решила даже и не делать попытки предпринять то, в чем никогда не преуспею, и послала попугая передать это принцу. Принц хотел свести счеты с жизнью прямо на глазах у попугая и поручил ему уговорить меня прийти к нему, чтобы увидеть, как он умрет, или утешить его. «Государь! — вскричал крылатый посол. — Мою госпожу уговаривать не надо — она полна желания вас утешить, но это не в ее власти».
Когда попугай сообщил мне обо всем происшедшем, я стала горевать еще сильнее. Явилась фея Злодейка, она заметила, что глаза у меня покраснели и опухли, поняла, что я плакала, и сказала, что, если я не открою ей причину моих слез, она меня сожжет. Ее угрозы всегда были ужасны. Я, вся дрожа, отвечала, что устала сидеть за прялкой и мне хочется сплести сети, чтобы ловить птичек, расклевывавших плоды в моем саду. «Из-за этого плакать не стоит, дочь моя, — сказала она. — Я принесу тебе столько шнурков, сколько ты захочешь». И в самом деле она доставила мне шнурки в тот же вечер, но наказала поменьше работать и прихорошиться, потому что скоро явится король Мигонне. Я содрогнулась от этой горестной вести, но промолчала.
Как только она улетела, я села плести сеть, но на самом деле я плела веревочную лестницу, и она получилась отличной, хотя до тех пор мне не случалось видеть веревочных лестниц. Правда, тех шнурков, что принесла фея, мне не хватило, а она повторяла: «Дочь моя, твоя работа похожа на ту, что делала Пенелопа[313]: она не двигается. А ты все просишь новых шнурков». — «Как вам будет угодно, добрая матушка, — отвечала я, — но разве вы не видите, что я не знаю, как плетут сети, и только все порчу? Но, может, вы боитесь, что я разорю вас на этих шнурках?» Мое простодушие позабавило фею, хотя, вообще говоря, она была всегда хмурая и очень жестокая.
Я послала попугая передать принцу, чтобы он явился вечером под окно башни, где он увидит лестницу, а что делать дальше, я скажу ему, когда он придет. Я и в самом деле накрепко привязала лестницу к окну, решив бежать вместе с ним. Но, увидев лестницу, принц не стал ждать, пока я спущусь, а сам поспешил взобраться по ней и вошел в мою комнату в ту минуту, когда я уже приготовила все для своего бегства.
Я так обрадовалась его появлению, что даже забыла об угрожавшей нам опасности. Он возобновил свои клятвы и умолял меня, не откладывая, назвать его своим супругом. Свидетелями нашего бракосочетания стали попугай и собачка. Никогда еще свадьба двух таких знатных особ не была отпразднована столь скромно и незаметно, но не бывало при этом сердец счастливее наших.
Принц покинул меня еще до рассвета. Я открыла ему страшный замысел феи выдать меня за карлика Мигонне, описав внешний вид уродца, — принцу он внушил такой же ужас, как и мне. Едва мой супруг ушел, минуты потянулись для меня как годы. Я подбежала к окну, я старалась разглядеть его в темноте, но каково же было мое изумление, когда я увидела в воздухе огненную колесницу, влекомую крылатыми саламандрами, которые летели так быстро, что глаз едва успевал их различить. За колесницей верхом на страусах мчались телохранители. Я не успела рассмотреть чудовище, которое таким образом летело по воздуху, но сразу поняла, что это какая-нибудь волшебница или колдун.
А через некоторое время в мою комнату вошла фея Злодейка. «У меня для тебя добрые вести, — объявила она. — Несколько часов назад прибыл твой жених. Приготовься его принять. Вот твой наряд и драгоценности». — «Кто вам сказал, что я хочу выйти замуж? — воскликнула я. — У меня вовсе нет такого намерения. Отошлите прочь короля Мигонне, ради него я не приколю и лишней булавки: покажусь я ему красивой или уродиной, все равно ему меня не видать». — «Ого-го! — сказала, разозлившись, фея. — Экая бунтовщица! Экая безмозглая девчонка! Но я не шучу, я тебя…» — «А что еще вы можете мне сделать? — прервала я фею, покраснев от ее бранных слов. — Что может быть печальнее моей участи — влачить свои дни в башне в обществе попугая и собачки, по нескольку раз на дню любуясь устрашающим видом зловещего дракона?» — «Ах, негодница! — вскричала фея. — И зачем только мы холили тебя и лелеяли? Недаром я говорила сестрам, что нам отплатят черной неблагодарностью». И она пошла к сестрам и рассказала им о нашей ссоре. Все были разгневаны моим поведением.
Попугай и собачка стали горячо меня убеждать, что если я буду продолжать упрямиться, то навлеку на себя страшные беды. Но я так гордилась тем, что мне принадлежит сердце могущественного государя, что пренебрегла и гневом фей, и советами моих бедных маленьких приятелей. Я не стала наряжаться и нарочно причесалась кое-как, чтобы отвратить от себя Мигонне. Наше знакомство произошло на террасе. Он спустился туда на своей огненной колеснице. С тех пор как в мире появились карлики, никогда еще свет не видывал такого крошки. Он ступал по земле своими орлиными лапами и в то же время коленями, потому что ноги у него были без костей, да вдобавок ему еще приходилось опираться на алмазные костыли. Его королевская мантия, длиной всего в половину локтя, на треть волочилась по земле. Голова была размером с громадный бочонок, а нос такой длинный, что на нем сидела целая стая птиц — карлика забавлял их щебет; борода такая густая, что в ней свили гнезда канарейки, а уши на целый локоть торчали над головой, но это было почти незаметно, потому что карлик носил высокую остроконечную корону, чтобы казаться выше ростом. От пламени, что неслось за его колесницей, спеклись плоды, высохли цветы и иссякли родники в моем саду. Он двинулся ко мне, раскрыв объятья, а я застыла на месте как вкопанная. Первому конюшему пришлось приподнять карлика, но, едва он поднес его ко мне, я убежала к себе в комнату, заперла все окна, а Мигонне в страшном гневе отправился к феям.
Они снова и снова просили у него прощения за мою неучтивость и, чтобы умилостивить Мигонне, так как они его боялись, решили ночью, когда я буду спать, привести карлика в мою комнату и, связав меня по рукам и ногам, погрузить в его огненную колесницу, дав ему увезти меня с собой. Составив такой план, феи почти не стали меня бранить за мое поведение. И только сказали, что надо постараться искупить мою вину. Попугай и собачка очень удивились такой снисходительности. «Мое сердце чует недоброе, госпожа, — сказала мне собачка. — От фей можно ждать чего угодно, в особенности от Злодейки». Но я посмеялась над ее страхами и с нетерпением стала ждать своего дорогого супруга. Он, тоже сгорая от нетерпения, не замедлил явиться: я бросила ему веревочную лестницу в решимости бежать вместе с ним. Он легко взобрался в мою комнату и стал говорить мне такие нежные слова, что я и сейчас не решаюсь их вспоминать.
Мы беседовали так безмятежно, как если бы находились в его дворце, и вдруг кто-то вышиб окна моей комнаты и влетели феи на своем ужасном драконе. За ними в огненной колеснице следовал Мигонне, а за ним — его телохранители на страусах. Принц бесстрашно выхватил шпагу, думая только о том, как уберечь меня от самой страшной участи, какая только возможна, и… Что вам сказать, государь? Жестокосердые созданья натравили на принца своего дракона, и он сожрал его на моих глазах.
Обезумев от горя, я сама бросилась в пасть чудовища, желая, чтобы дракон проглотил и меня, как он только что проглотил того, кто был мне дороже всего на свете. Дракон и сам был не прочь меня сожрать, но этого не захотели феи, более жестокие, чем дракон. «Нет, — воскликнули они, — ее надо обречь на муки подольше, быстрая смерть — слишком мягкая кара для этой недостойной особы!» Они дотронулись до меня своей палочкой, и я вдруг превратилась в Белую Кошку. Они привели меня в этот замок. Они превратили в кошек и котов всех дам и кавалеров, подданных моего отца, а некоторых сделали невидимками, у которых видны только руки. Меня же оставили в том горестном виде, в каком вы меня нашли, и, открыв мне, кто были мои отец и мать, к тому времени уже покойные, объявили, что вернуть человеческий облик мне может только принц, как две капли воды похожий на супруга, которого они у меня отняли. Это вы, государь, оказались на него похожи, — продолжала она, — те же черты, те же манеры, тот же голос. Это поразило меня при первой же нашей встрече. Я знала обо всем, что должно случиться. Я и сейчас знаю, что меня ждет: мои мучения кончатся. — «А долго ли будут длиться мои, прекрасная королева?» — воскликнул принц, бросаясь к ее ногам. «Я уже полюбила вас больше своей жизни, государь, — отвечала королева, — но пора ехать к вашему отцу, посмотрим, как он меня примет и согласится ли на то, чего вы хотите».
Королева вышла, опираясь на руку принца, и села с ним в карету, куда более роскошную, чем те, что были у него прежде. Да и все остальное убранство их экипажа было под стать карете, а подковы у лошадей — изумрудные и подбиты алмазными гвоздями. Такого великолепного выезда, наверное, никто никогда больше не видел. Не стану пересказывать приятных бесед, какие вели между собой королева с принцем: никто не мог сравниться с ней не только красотой, но и умом, а молодой принц не уступал ей ни в чем, — немудрено, что им приходили в голову самые изысканные мысли.
Когда они оказались вблизи замка, где принца должны были ждать два его старших брата, королева спряталась в маленькой хрустальной скале; все грани хрусталя были усыпаны золотом и рубинами, сама скала — вся занавешена, чтобы королеву нельзя было увидеть, а несли скалу молодые люди, стройные и богато одетые. Принц, оставшись в карете, заметил братьев, которые прогуливались об руку с принцессами замечательной красоты. Узнав младшего брата, принцы тотчас подошли к нему и спросили, привез ли он невесту. Он ответил, что ему не повезло, за время путешествия он встречал только уродливых женщин, но зато он привез другую редкость — премиленькую Белую Кошку. Братья стали потешаться над его простодушием.
— Кошку, — сказали они, — вы что, боитесь, как бы мыши не опустошили наш дворец?
Принц ответил, что, пожалуй, и впрямь неразумно было привозить такой подарок отцу. И с этим все они направились в город.
Старшие братья вместе со своими принцессами сели в кареты из золота и лазоревого камня, лошади их были украшены султанами и эгретами. Блистательней этой кавалькады ничего нельзя было представить. Наш молодой принц следовал за братьями, а за ним несли хрустальную скалу, вызывавшую восхищение всех встречных.
Придворные поспешили сообщить королю о прибытии принцев.
— Привезли ли они прекрасных дам? — осведомился король.
— Таких прекрасных, что прекраснее быть не может.
Этот ответ раздосадовал короля. Старшие принцы поспешили явиться к отцу со своими удивительными принцессами. Король встретил их очень радушно и не мог решить, какой отдать предпочтение. Потом он взглянул на младшего сына и спросил:
— А вы на сей раз явились ни с чем?
— Ваше величество увидите в этой скале маленькую Белую Кошечку, — ответил принц. — Она так нежно мурлычет и у нее такие мягкие лапки, что она вам понравится.
Король улыбнулся и сам подошел к скале, чтобы ее открыть. Но едва он приблизился к ней, королева нажала пружинку, скала распалась на части, а она сама явилась, как солнце, до поры до времени скрывавшееся в тучах. Ее золотые волосы рассыпались по плечам и крупными локонами спускались до самого пола. На голове ее был венок из цветов, платье из легкого белого газа подбито розовой тафтой. Она сделала королю глубокий реверанс, а тот не мог сдержать восторга и воскликнул:
— Вот она, та, с которой никто не может сравниться и кто заслуживает моей короны.
— Государь, — отвечала она, — я явилась сюда не затем, чтобы отнять у вас королевство, которым вы правите так достойно. Мне от рождения принадлежат шесть королевств. Позвольте преподнести одно из них вам и по одному каждому из ваших сыновей. Взамен же я прошу у вас только подарить мне свою дружбу и дать в супруги этого молодого принца. А нам с ним хватит оставшихся трех королевств.
И король, и все его придворные долго восклицали от радости и изумления. Свадьбу младшего принца сыграли тут же, как и свадьбы двух его братьев, так что весь двор много месяцев подряд предавался увеселениям и удовольствиям. Потом каждый уехал к себе править своим государством. А прекрасную Белую Кошку до сих пор помнят в ее королевстве как за ее доброту и щедрость, так и за красоту и редкие добродетели.
* * *
Лишилось силы колдовство,
И в Кошечке наш принц увидел
совершенство —
Красавицу, что всех желанней для него,
Готовую делить и труд с ним, и блаженство.
Когда внушить любовь захочет чудный
взгляд,
Противятся не слишком яро,
А благодарность эти чары
Усиливает во его крат.
Забыть ли эту мать, что прихотью своею
На Кошечку удел накликала такой,
Желая плод отведать роковой?
Она свое дитя пожертвовала фее.
Сокровищем таким владеющая мать,
Безумию ее не вздумай подражать.
Пер. Ю. Я. Яхниной (проза), Н. Д. Шаховской (стихи)
Новый дворянин от мещанства
Продолжение

— Друг мой, вы на этом свете или на том?
Бедняга открыл глаза, пристально на него посмотрел и сказал:
— Я был так заворожен Белой Кошкой, что мне показалось, будто я на ее свадьбе или после ее приезда подбираю с земли алмазные гвозди и изумрудные подковы ее лошадей.
— Вам, стало быть, нравятся такого рода выдумки? — спросил приор.
— И вовсе это не выдумки, — возразил Ла Дандинардьер, — все это было когда-то и случится снова, опять войдет в моду. Ха! Будь я из того времени или будь сейчас то время, уж я бы сколотил себе хорошенькое состояние.
— Несомненно, — продолжил приор, — и женились бы на какой-нибудь фее.
— Не знаю, — ответил коротыш, — очень они уродливые. Уж если жениться, так чтобы сердцу было приятно.
— Это значит, — перебил приор, — что вам нужна невеста достойная, красивая, добродетельная и умная, и вы охотно простите ей ее бедность, будучи уверены в невозможности сочетания стольких качеств одновременно. Что ж, воздаю вам должное, отныне я стану вашим хвалителем.
— Вы меня неправильно поняли, — воскликнул Ла Дандинардьер. — Я хотел сказать, что та, на которой я женюсь, должна обладать всеми качествами внешности и ума, какие вы изволили перечислить, однако помимо этого она должна быть богатой, и во времена фей я бы изыскал способ жениться на королеве. Получается, не было ничего легче: всё решалось троекратным произнесением волшебных слов и взмахом волшебной палочки — какими-то пустяками. Не то, что теперь, когда нужно работать не покладая рук, притом часто безуспешно: О tempora, о mores![314] Что скажете, господин приор, — продолжал наш мещанин, — не так уж плоха эта латынь.
— Мое восхищение вами, — сказал приор, — не уступает вашему восхищению Белой Кошкой. Вы великолепны, в общении с вами всегда можно расширить границы познаний.
Наш герой был невероятно рад таким хвалебным речам в свой адрес, однако ему хотелось заслужить высшей похвалы, поэтому он тоже решил сочинить сказку. Он взмолился, чтобы приор дал знать Алену обо всем, что произошло, и велел ему незамедлительно явиться сюда. Горячо поблагодарив приора за любезность, которую тот оказал столь длительным чтением, Ла Дандинардьер притворился, что засыпает, дабы помечтать в одиночестве.
Он, и правда, стал мечтать, но все больше о Виржинии, нежели о феях.
— Какой возвышенный ум! — восклицал он. — Она выросла в провинции на берегу моря, таланта у нее должно быть не больше, чем у рыбы или устрицы, однако же она не уступает знаменитым авторам. У меня хороший вкус, а значит, если мне что-то нравится, то это превосходно. Мне нравится Белая Кошка, посему Белая Кошка превосходна, и я буду отстаивать сие мнение перед всем родом людским. Я вооружу своего слугу Алена с головы до ног, и он будет биться за меня, он будет держать оборону.
Его речи отчетливо отзывались в передней, производя больше шума, чем могла создать дюжина человек.
Об этом доложили барону де Сен-Тома, который перепугался, что падение с лошади вызвало у его подопечного горячечный бред. Он послушал Ла Дандинардьера и весьма удивился бессмыслице, которую тот нес. Явился Ален. Барон не позволил ему зайти к господину из страха, что поднимется еще больший шум, а чтобы слуга не волновался, ему велели прийти на следующий день. Всю ночь Ла Дандинардьер метался, снедаемый желанием начать сказку, не в силах уснуть и переживая, что рядом нет секретаря, который все бы записывал. Ни свет ни заря он попросил отправить какого-нибудь крестьянина к нему в замок, ибо во что бы то ни стало хотел видеть своего слугу. Барона разбудили, чтобы сообщить о нетерпении гостя, и он незамедлительно послал за верным Аленом.
Увидев слугу, Ла Дандинардьер пару раз подпрыгнул в кровати и протянул руки.
— Иди сюда, Ален, — воскликнул он, — иди сюда, мой друг. Хочу рассказать тебе удивительные вещи.
— Разрешите, — сказал Ален (он растрогался, увидев перевязанную голову господина), — разрешите спросить: как ваше здоровье? Мне кажется, сейчас это самое важное.
— Я мог бы чувствовать себя лучше, — отвечал Ла Дандинардьер, — но, увы! Истинная боль моя не в голове — я влюблен, Ален, и это самый ловкий выстрел Купидона, с тех пор как он пускает стрелы.
Ален ничего не ответил, он знал Купидона не лучше, чем Коран. Хотелось ему сказать что-нибудь приятное, но он побоялся сморозить очередную глупость.
— Ты ничего не говоришь? — спросил Ла Дандинардьер.
— Нет, господин, я слушаю, — ответил Ален.
— Послушай же тогда, что со мной произошло: я вручил свою свободу юной принцессе.
— И сколько она вам за нее заплатила? — перебил Ален.
— Вот дуралей! — вскричал Ла Дандинардьер. — Что это тебе, платье или украшение, что ли?
— Не знаю я, что и думать-то, — вздохнул Ален. — Вы со мной говорите такими словами, которых я раньше не слыхивал. Ну, где вы нашли принцессу в этих краях, если только после какого-нибудь кораблекрушения море не выбросило ее на берег?
— Ты здраво рассуждаешь, — заметил наш мещанин, — сия местность не изобилует принцессами, но та, что покорила мое сердце, достойна называться таковою, и, по мне, это все равно, как если бы она ею была. Ее зовут Виржиния, это древнеримское имя. За одно только это имя я уже люблю Виржинию.
Ален стоял с открытым ртом и хлопал глазами, дивясь учености своего господина. Он почтительно молчал, что позволяло раненому говорить без умолку. Однако, поняв наконец, что разговоры отвлекают его от сказки, которую он был решительно настроен написать, Ла Дандинардьер велел Алену возвратиться домой, погрузить все его книги на несколько телег и привезти их сюда.
— Так вы здесь будете жить? — с грустью спросил Ален.
— Нет, друг мой, — ответил наш больной, — я останусь здесь до тех пор, пока не оправлюсь от ран. Но я задумал написать великий труд, и мне нужно просмотреть книги лучших писателей. Беги, да поскорей, и смотри не задерживайся.
Выходя, Ален столкнулся с бароном, виконтом и приором. Он поспешно проскочил мимо, не глядя на них, и выбежал из дома. Барон, однако, несколько раз окликнул его, и слуга был вынужден вернуться.
— Скажи-ка мне, Ален, куда тебя послал твой господин? Мне интересно, что это ты так суетишься.
— Господин, — выдохнул Ален, — я спешу доставить сюда все его книги и ученые трактаты. Он хочет написать самую красивую вещь на свете. Думаю, он с радостью примет вашу помощь, если вы готовы ее оказать.
— Уверен в этом, — ответил барон. — Но тебе нет надобности никуда спешить, ибо у меня достаточно книг, чтобы ему угодить.
— О! Я не посмею его ослушаться, — сказал Ален, — ему всегда надо всего вчетверо больше, чем другим. Он меня бьет, когда рассердится. Уж как мне досталось с этой дуэлью!
— Постой-ка, — остановил Алена виконт. — Мы тебя не отпустим, пока не расскажешь нам, за что тебя побили.
Ален слишком любил поговорить, чтобы упускать столь благоприятную возможность. Он рассказал, как Ла Дандинардьер надел на него доспехи, чтобы выдать слугу за себя, как он его уговаривал совершить геройский поступок и сразиться на дуэли вместо него.
Господа переглянулись, дивясь причудам Ла Дандинардьера и простодушию Алена. Напрасно они старались отговорить слугу идти за книгами его господина: уверяя их, что пошел бы, даже если бы нужно было сбросить все книги в море, он поспешно убежал.
— Поистине, — спросил барон де Сен-Тома своих друзей, — могу ли я всерьез думать о Ла Дандинардьере как о партии для одной из моих дочерей? Судя по тем глупостям, что роятся и у них в голове, они просто созданы друг для друга, однако вряд ли такой брак будет удачен.
— Не стоит сразу отказываться от вашей затеи, — молвил виконт, — этот человек очень богат. Он немного Дон-Кихот, но его странности пройдут весьма быстро, ибо он не так смел, как Дон-Кихот, и вздрагивает при одном упоминании Вильвиля. Нелегко все время храбриться, когда на деле трясешься от страха.
— Прибавьте к этому, — продолжил приор, — что вы можете оставить их жить у себя и наставить их на путь истинный.
— Уж скорее мой собственный рассудок придет в расстройство, — улыбнулся барон, — чем мои внушения возымеют действие. Хватает с меня жены и двух дочерей, у каждой из которых свой талант. С ними Ла Дандинардьер окончательно свихнется.
— Не важно! — ответил приор. — Он располагает большими средствами. Я никогда не прощу вам, если вы его упустите. Кстати, пойду-ка его навещу: нужно узнать, что он там собирается писать.
Приор поднялся к Ла Дандинардьеру и, справившись о его самочувствии, сказал:
— Вчера я был для вас чтецом, а сегодня хочу предложить вам себя в качестве секретаря.
— О! Как вы меня обрадовали! — воскликнул наш мещанин, протягивая ему руки. — Правда, у меня есть Ален, но его почерк столь отвратителен, что кому-нибудь все равно потом пришлось бы разбирать его каракули, да притом еще и так глуп, что все доброе и прекрасное, о чем ему ни скажешь, уходит в небытие, ибо он ничего в этом не смыслит. А как можно записывать то, в чем не смыслишь?
— Словом, — заключил приор, — я готов быть вашим секретарем. По крайней мере, пока вы не поправитесь.
— Ах! — вновь воскликнул Ла Дандинардьер. — Я ваш слуга, ваш лакей, ваш должник!
— Мне вполне достаточно будет вашей дружбы, — перебил его приор. — Посвятите же меня в ваш замысел. Это будут стихи или проза?
— Все равно, — ответил наш мещанин, — лишь бы мне удалось написать сказку, способную убедить Виржинию, что у меня не меньше таланта, чем у нее. Однако меня огорчает, что я никогда не видел фей и даже не знаю, где они живут.
— Это не должно вас смущать, — заверил приор, — ведь на то я и здесь, чтобы вам помочь. И дабы вы не ломали себе голову, у меня с собой есть сказка, которую я недавно закончил, и ее никто еще не видел.
— О! — вскричал Ла Дандинардьер. — Не хотите ли продать ее мне, прежде поклявшись никогда не раскрывать своего авторства и пожертвовать мне всю славу? Я плачу вам четыре луидора.
— Это либо слишком много, либо слишком мало, — возразил приор, — лучше я отдам вам ее даром.
Тут он показал Ла Дандинардьеру толстую тетрадь, вид которой так восхитил нашего мещанина, что он хотел уже встать с кровати, чтобы броситься в ноги приору. Однако еще больше радовало его то, что он задешево купил вещь, по его мнению, бесценную.
Надо сказать, что сказка эта была украдена приором из покоев барышень де Сен-Тома. Они даже не заметили пропажи, ибо сочиняли так много, что большая часть сих творений оставалась неоконченной. Приор вовсе не собирался посвящать в это Ла Дандинардьера, ибо не хотел потерять лавры щедрейшего дарителя, и уже предвкушал весьма забавный спор, который должен был разгореться между подлинным автором и плагиатором. Заметив, однако, как не терпелось Ла Дандинардьеру услышать сказку, он поспешил начать чтение.
Пер. О. Л. Берсеневой
Белль-Белль, или Удачливый рыцарь[315]

Император приказал перевезти все драгоценности и убранство из королевского дворца в свой. Он увез с собой несметное число солдат, дев, лошадей и всего, что показалось ему полезным или пришлось по душе. Истребив почти все население королевства, он с триумфом вернулся на родину, где его радостно встретили жена-императрица и принцесса-дочь.
Тем временем потерпевший поражение король не сидел сложа руки, горюя о своих потерях. Он собрал оставшиеся войска в небольшую армию и, чтобы в короткое время пополнить ее ряды, издал указ, предписывавший всем дворянам лично явиться на службу к королю или прислать одного из своих детей, хорошо вооруженного, верхом и готового поддержать короля во всех его начинаниях.
В то время на границе жил старый дворянин восьмидесяти лет, человек мудрый и ясного ума. Некогда очень богатый, он теперь обеднел и прозябал в нищете, которую терпеливо сносил бы, не имей он трех красавиц дочерей. Все три были столь рассудительны, что никогда не роптали на невзгоды, а если и заговаривали о них с отцом, то лишь чтобы утешить его и тем умалить, а не усугубить его тяготы.
Не гонясь за роскошью, дочери жили вместе с отцом в деревенском доме. Но вот указ короля достиг слуха старика, и он, позвав их, с грустью сказал:
— Что делать нам? Король приказывает всем дворянам явиться к нему на службу, чтобы помочь в борьбе против императора, а если не явятся, будут приговорены к уплате подати. У меня нет денег, а посему меня ждет либо смерть, либо разорение.
Дочери, как и отец, опечалились, однако стали уговаривать его не падать духом, ибо верили, что смогут придумать, как выйти из беды.
На следующее утро старшая дочь увидела, что отец, удрученный, гуляет во фруктовом саду, за которым он сам же и ухаживал.
— Батюшка и господин мой, — обратилась она к нему, — прошу вас, разрешите мне пойти на службу в королевское войско. Я крепка, да и рост у меня подходящий. Надев мужскую одежду, я сойду за вашего сына. Пусть я не совершу подвигов, но хотя бы избавлю вас от тягот службы и от уплаты подати, а это в нашем положении уже немало.
Граф нежно обнял дочь и хотел было воспротивиться такому странному решению, но она с твердостью заявила, что не видит больше никакого выхода, и ему пришлось согласиться.
Теперь оставалось лишь найти одежду, подходящую для роли, которую ей предстояло сыграть. Отец дал старшей дочери оружие и лучшую лошадь из четырех, что пахали землю. Расставание было трогательным и грустным. И вот после нескольких дней пути случилось ей проезжать мимо поля за живой изгородью. Там увидела она старую пастушку, из последних сил пытавшуюся вытащить одного из своих баранов изо рва, куда тот угодил.
— Что случилось, добрая пастушка? — спросила девушка.
— Ох, — вздохнула старушка, — никак не вытяну своего барана, он уж почти утонул, а я так слаба, что ничего не могу поделать.
— Мне жаль вас, — ответила дочь дворянина и поскакала прочь, не предложив помощи.
— Прощай, переодетая красавица.
Не было предела изумлению нашей героини.
— Как? — воскликнула она. — Неужели меня так легко узнать? Стоило этой старой пастушке меня увидеть, как она тут же признала во мне переодетую девушку. Куда же я поеду? Если меня любой сможет разоблачить, то уж король и подавно, — и каковы же будут тогда мой позор и его гнев? Он подумает, что мой отец трус, который страшится отправиться на войну.
Поразмыслив, она решила вернуться назад.
Граф с дочерьми только о ней и толковали, считая дни с ее отъезда, как вдруг она вернулась и рассказала о своем приключении. Отец сказал ей, что предвидел такой исход, и если бы она его послушала, то никуда бы не поехала, ведь невозможно не узнать переодетую девушку. И снова семья не знала, как быть. Но тут средняя дочь решила поговорить с отцом.
— Моя сестра, — сказала она, — и на лошади-то никогда не ездила. Что ж удивляться, что ее разоблачили. Но если вы разрешите поехать мне, осмелюсь пообещать, что на сей раз об этом не пожалеете.
Хотя старик и не хотел соглашаться, да ничего у него не вышло — пришлось отпустить среднюю дочь. Она оделась иначе, взяла другое оружие и другую лошадь; уже в полном снаряжении обняла отца и сестер и отправилась в путь, полная решимости служить в войске короля. Однако, проезжая мимо того же поля, что и старшая сестра, она заметала ту же пастушку, все так же вытаскивавшую барана изо рва.
— Ох я горемычная! — восклицала та. — Полстада я так потеряла. Если б мне кто помог, я б спасла это бедное животное. Но все проходят мимо.
— Да ну?! Плохо же вы, верно, заботитесь о своих баранах, вот они и бросаются в воду.
И, не предложив более никакого утешения, средняя дочь дворянина пришпорила лошадь.
Старушка что было мочи прокричала ей вслед:
— Прощай, переодетая красавица!
Слова эта немало удручили нашу наездницу.
— Что за злой рок! — воскликнула она. — Меня разоблачили так же легко, как и сестру. Я оказалась не удачливее ее. Смешно будет даже и появляться в войске, раз во мне так легко узнать девушку.
И она тотчас вернулась домой, от души огорченная своим невезением.
Отец сердечно встретил ее и похвалил за осторожность. Однако печаль нахлынула с новой силой, ведь деньги, что пошли на ткань для двух нарядов и на другие мелочи, оказались потраченными впустую. Старик втайне горевал, стараясь не показывать свою душевную боль дочерям.
Наконец младшая обратилась к отцу с мольбами позволить и ей попытать счастья.
— Быть может, — молвила она, — слишком самонадеянно думать, что мне удастся то, в чем им не повезло, однако ж попытка не пытка. Ростом я выше сестер, каждый день езжу на охоту, а это весьма полезно в военном деле; к тому же неослабное желание облегчить ваши страдания вселяет в меня невероятное мужество.
Граф любил младшую дочь больше двух других. Она так заботилась о нем, что была ему единственным утешением: и книги ему вслух читала, чтобы отвлечь его немножко, и ухаживала за ним, когда ему нездоровилось, и отдавала всю дичь, какую удавалось подстрелить, посему старик принялся уговаривать ее отказаться от такого решения гораздо настойчивее.
— Неужто ты хочешь меня покинуть, моя милая? — говорил он младшей дочери. — Расстаться с тобой для меня смерти подобно. Если судьбе будет угодно послать тебе удачу и ты вернешься, увенчанная лаврами, я уже не смогу порадоваться вместе с тобой, ибо прежде преклонный возраст и разлука сведут меня в могилу.
— Нет, отец мой, — отвечала ему Белль-Белль (так он назвал младшую дочь), — я вернусь скоро, война обязательно закончится, и только бы мне найти какой-нибудь иной способ исполнить указ короля, а уж я воспользуюсь им. Осмелюсь также сказать, что наша разлука, с которой вам так тяжело смириться, мучает меня еще сильнее, чем вас.
В конце концов отец поддался уговорам. Белль сшила себе простой мужской наряд, ибо те, что были у сестер, стоили слишком дорого и средства старого графа не позволяли большего. Ей пришлось взять весьма норовистую лошадь, потому как двух других ее сестры почти покалечили. Это, однако, не лишило ее присутствия духа. Она обняла отца, с почтением приняла его благословение и, со слезами на глазах распрощавшись с ним и сестрами, отправилась в путь.
Проезжая мимо того же самого поля, она увидела на прежнем месте пастушку, которая все никак не могла вытащить своего барана, или то был уже другой баран, вновь угодивший в самую середину глубокого рва.
— Что поделываете, пастушка? — спросила Белль-Белль, осадив лошадь.
— Да ничего не делаю, господин, — ответила пастушка, — сразу, как рассвело, стала я возиться с этим бараном, и все понапрасну… Я так устала, что еле дышу. Ни дня без того, чтоб со мной не приключилась новая беда, и никто мне не поможет.
— Мне очень жаль вас, — молвила Белль-Белль, — и в знак моего сочувствия я вам помогу.
Она тотчас спрыгнула с лошади, которая стала столь послушной, что ее не нужно было даже привязывать, чтобы не убежала. Белль-Белль тем временем легко перепрыгнула через изгородь, оцарапавшись, однако, о жесткие прутья, и кинулась в ров. Она старалась изо всех сил, пока не вытащила барана.
— Довольно плакать, добрая женщина, — отдышавшись, сказала она пастушке, — вот ваш баран, и, по-моему, для барана, так долго пробывшего в воде, он весьма бодр.
— Не подумайте, что оказали услугу неблагодарной, — ответила пастушка, — я знаю вас, милая Белль-Белль, знаю, куда вы направляетесь и что задумали. Ваши сестры проезжали здесь, их я тоже хорошо знаю, от меня не укрылось, о чем они думали, однако они мне показались такими бесчувственными, а их манеры — столь грубыми, что я придумала, как их остановить. С вами все иначе; оперою вам, что я фея и привыкла щедро благодарить тех, кто того заслуживает. Я вижу, ваша лошадь такая тощая, что на нее страшно смотреть. Я дам вам другую.
И она дотронулась до земли своим посохом. В тот же миг Белль-Белль услышала ржание, донесшееся из-за кустов, и, приглядевшись повнимательнее, заметила коня, красивей которого не было на свете. Конь принялся резвиться в поле. Белль-Белль, очень любившая лошадей, с восхищением любовалась изумительным животным. Фея позвала прекрасного скакуна и, дотронувшись до него посохом, сказала:
— Верный Камарад, пусть у тебя будет снаряжение, с которым не сравнится упряжь лучших лошадей императора Матапы.
Тотчас на Камараде появился чепрак зеленого бархата, расшитый алмазами и рубинами, такое же седло и жемчужная уздечка, украшенная золотом, с позолоченными же удилами. Великолепие просто невообразимое.
— То, что вы видите, — молвила фея, — лишь малая часть достоинств этого коня. У него есть и другие ценные качества. Я вам о них сейчас расскажу. Прежде всего, он ест только раз в неделю. Его не нужно чистить, и ему известны прошлое, настоящее и будущее. Он давно уже мне служит и обучен всему, что может понадобиться.
Если пожелаете что-нибудь разведать или будет нужен совет, стоит только спросить его, и он ответит столь разумно, что любой властитель был бы счастлив иметь рядом с собой доверенного человека с таким умом. Посему относитесь к этому коню как к своему другу, а не как к животному. Кроме того, одежда ваша мне тоже не по нраву, сейчас я подберу то, что вам будет весьма к лицу.
И фея вновь ударила посохом оземь. Откуда ни возьмись появился большой сундук, обшитый восточным сафьяном и окованный золотом. На крышке красовался вензель Белль-Белль. В траве фея отыскала золотой же ключ, отлитый в Англии, и открыла сундук; внутри он оказался обит вышитой испанской кожей, а лежали в нем дюжина платьев, дюжина шейных платков, дюжина шпаг, дюжина плюмажей и множество других полезных вещей — каждой по двенадцать. Одежды были так обильно расшиты узорами и драгоценными камнями, что Белль-Белль едва могла их поднять.
— Выбирайте, что вам больше по душе, — сказала фея, — а остальное будет повсюду следовать за вами, нужно лишь топнуть ногой и сказать: «Сафьяновый сундук, явись ко мне полный одежды, сафьяновый сундук, явись ко мне полный белья и кружев, сафьяновый сундук, явись ко мне полный золотых монет и драгоценных камней», и он тотчас окажется рядом, где бы вы ни находились. Вдобавок вам нужно другое имя. Белль-Белль не годится для военного дела. Думается мне, вы можете называть себя рыцарь Фортунат, то есть Удачливый. И напоследок будет справедливо, чтобы вы знали мой истинный облик.
В тот же миг она сбросила старушечью кожу и оказалась столь прекрасна, что красота ее едва не ослепила Белль-Белль. На фее было платье синего бархата с горностаевой отделкой, в волосы вплетены нити жемчуга, а голову венчала роскошная корона.
Белль-Белль в благоговейном порыве пала к ногам волшебницы, чтобы выразить свое безграничное почтение и признательность. Фея подняла ее и, нежно обняв, велела надеть костюм из золотой с зеленым парчи. Та послушно переоделась, села на коня и продолжила путь, только и думая что о невероятных вещах, с нею приключившихся. Она никак не могла понять, что за нежданная удача позволила ей завоевать расположение столь могущественной феи.
— Ведь по прав де-то, — говорила она, — ей вовсе не нужна была моя помощь, чтобы вытащить своего барана. Один взмах волшебной палочки мог вернуть целое стадо, находись оно даже на другом краю света. Как я рада, что помогла ей. За пустяк я вознаграждена с такой щедростью. Она заглянула мне в душу, и ей там понравилось. Ах! Если бы отец видел меня сейчас, видел это великолепие и богатство, как бы он обрадовался! По крайней мере, я смогу поделиться с семьей дарами, полученными от волшебницы.
Размышляя так, она не заметила, как оказалась в красивом многолюдном городе. На нее пялились во все глаза, люди шли следом, окружая ее, и отовсюду слышалось:
— Никогда не видел рыцаря красивее, статнее и одетого богаче. А как грациозно он правит своим великолепным конем!
Горожане низко кланялись рыцарю, а он отвечал на приветствия с видом приветливым и учтивым. Когда захотел он подыскать себе какую-нибудь гостиницу, то сам губернатор, совершавший в то время прогулку и восхитившийся проезжавшим мимо рыцарем, послал одного из слуг, чтобы пригласить его погостить к себе в замок… Рыцарь Фортунат, как станем мы его теперь называть, ответил, что, не имея чести быть знакомым с губернатором, не может позволить себе подобную вольность, однако непременно навестит его, а сейчас молит лишь о том, чтобы ему дали одного из слуг, которому он мог бы доверить отнести нечто важное своему отцу. Губернатор тотчас прислал ему надежного человека. Фортунат взял с него слово, что тот зайдет вечером, ибо посылка еще не была готова.
Он заперся в своей комнате и, топнув ногой, произнес:
— Сафьяновый сундук, явись ко мне полный золотых монет и драгоценных камней.
Тотчас рядом возник сундук, однако у рыцаря не оказалось ключа. Где его было найти? Как жаль было разбивать искусно расписанный золотой замок! Но и к мастеру тут не обратишься, — чего доброго, возьмет да все и разболтает, а стоит ему проговориться о сокровищах рыцаря, как явятся грабители, чтобы его обокрасть, а может, и убить.
Принялся Фортунат повсюду искать золотой ключ. Однако чем дольше искал, тем больше отчаивался.
— Что за невезение! — восклицал он. — Я не смогу ни сам воспользоваться дарами феи, ни поделиться ими с отцом!
Поразмышляв, он решил, что вернее всего будет спросить совета у коня. Он спустился в конюшню и тихо сказал:
— Прошу тебя, Камарад, подскажи, где смогу я найти ключ к сафьяновому сундуку.
— В моем ухе, — ответил конь.
Фортунат заглянул в ухо коню и заметил зеленую ленту, потянул за нее и вытащил желанный ключ. Рыцарь вернулся к себе в комнату и открыл сафьяновый сундук. Там оказалось больше золота и драгоценных камней, чем вместил бы бочонок из-под вина. Фортунат доверху заполнил три шкатулки — одну для отца, а две другие для сестер — и отдал их человеку, которого к нему прислал губернатор, попросив гонца не останавливаться ни днем, ни ночью, пока тот не предстанет перед графом.
Посланник мчался как ветер. Когда он передал старику, что явился от имени его сына-рыцаря и привез весьма тяжелую шкатулку, граф подивился, что же могло находиться внутри: ведь рыцарь-то уехал почти без денег и не мог не то что купить что-либо, но и заплатить тому, кто доставил его подарок. Сперва старик прочел письмо дочери, а увидев содержимое шкатулки, чуть не задохнулся от радости: золото и драгоценные камни не позволяли усомниться в правдивости написанного. Но вот удивительно — обе сестры Белль-Белль, открыв предназначенные им шкатулки, обнаружили там лишь стекляшки да фальшивые монеты. Облагодетельствовать их фея не пожелала. Сестры меж тем решили, что Белль-Белль задумала посмеяться над ними, и преисполнились невыразимой досады. Граф же, видя, как они рассержены, отдал им большую часть того, что ему предназначалось, однако стоило им лишь дотронуться до сокровищ, как те превратились в бесполезные стекляшки да железо. Посему решили сестры, что тяготеет над ними некая неведомая злая сила, и попросили отца сберечь оставшееся для себя одного.
Прекрасный Фортунат не стал дожидаться возвращения гонца, ибо торопился исполнить указ короля. Он отправился, как и обещал, к губернатору. Весь город собрался полюбоваться на него — так приятны были всем его изящество и учтивость, что невозможно было им не восхищаться. Он никого не задевал своими речами, а толпа вокруг него все росла, и он не знал, чему приписать такое диковинное множество людей, ибо в провинции, где он жил прежде, никогда не бывало столько народу.
Он продолжил путь на своем великолепном коне, занимавшем его рассказами о том, что в мире нового, или о самых примечательных событиях древней истории.
— Любезный мой господин, — говорил конь, — я счастлив быть у вас в услужении, я знаю, что вы искренни и благородны. Многие люди, с которыми мне приходилось жить, вызывали у меня такое отвращение, что не мил становился белый свет — столь невыносимо было их общество. Встретился мне однажды человек, который холил меня и лелеял, превознося выше Пегаса и Буцефала[316]. Но то, когда он был рядом со мной. За глаза же он меня величал клячей да дрянным конем и имел обыкновение хвалить мои недостатки, тем самым давая мне повод приобретать новые, еще большие. Как-то раз, устав от его лести, которая была, по сути, предательством, я так сильно его ударил копытом, что выбил ему почти все зубы, чему, признаться, был рад. Я не видел его с тех пор, как сказал ему со всей прямотой: «Несправедливо, если рот, пригодный лишь для возведения хулы на тех, кто ничего плохого не сделал, будет столь же пригожим, сколь остальные рты».
— Хо! Хо! — засмеялся рыцарь. — Ты весьма вспыльчив. Ты не испугался, что тот человек, разгневавшись, проткнет тебя шпагой?
— Это не имеет значения, господин, — ответил Камарад, — ведь я бы заранее знал о том, что он задумал.
Так за дружеской беседой они въехали в густой лес. Камарад сказал рыцарю:
— Господин, в этом лесу живет человек, который мог бы нам сослужить хорошую службу. Он дровосек и был одарен.
— Что значит одарен? — перебил Фортунат.
— Это значит, он получил один или несколько даров от фей, — ответил конь, — и вам нужно уговорить его пойти с нами.
И вот они уже оказались там, где работал дровосек. Юный рыцарь подошел поближе и осторожно стал расспрашивать того о лесе: водятся ли здесь дикие животные, разрешено ли охотиться. Дровосек на все отвечал как человек рассудительный. Наконец Фортунат спросил, куда ушли все те, кто помогал ему повалить столько деревьев. Дровосек на это сказал, что один срубил все деревья всего за несколько часов и что надобно повалить еще больше, чтобы было что унести домой.
— Как! Неужели вы собираетесь унести все с собой сегодня? — удивился рыцарь.
— О господин, — ответил Силач (так звали дровосека), — сила моя удивительна.
— Стало быть, вы выручаете немало денег? — поинтересовался Фортунат.
— Совсем немного, — молвил дровосек, — в этих местах все бедные. Здесь каждый делает свою работу и не просит соседа о помощи.
— Раз ваш край так суров, нужно перебраться в другой. Пойдемте со мной, у вас ни в чем не будет недостатка, а когда захотите вернуться, я дам вам денег на дорогу.
Дровосек решил, что лучше и не придумаешь. Он отложил топор и последовал за новым господином.
Выехав из леса, Фортунат заметил на открывшейся перед ним равнине человека, так крепко связывавшего самому себе ноги, что он едва мог идти. Камарад остановился и сказал своему господину:
— Вон еще один, он тоже был одарен. Он вам пригодится. Нужно взять его с собой.
Фортунат подъехал поближе и с непритворной любезностью поинтересовался, зачем связывать себе ноги.
— Это потому, — ответил человек, — что я готовлюсь к охоте.
— Вот как? — улыбнулся рыцарь. — Думаете, вам будет легче бежать, если свяжете себя покрепче?
— Нет, господин. Думаю, я буду бежать медленнее, но в этом весь смысл, ибо нет на свете оленя, косули или зайца, которых я с большим запасом не обогнал бы со свободными ногами. Вот и получается, что они остаются позади и от меня укрываются, а мне добычи не видать как своих ушей.
— Сдается мне, что вы человек исключительный, — молвил Фортунат. — Как зовут вас?
— Меня величают Скороходом, — ответил охотник, — и хорошо знают в этих местах.
— Если хотите повидать другие края, — предложил Фортунат, — я с удовольствием возьму вас с собой. У вас не будет таких трудностей, и деньгами я не обижу.
Скороход обрадовался и охотно согласился, а Фортунат поехал дальше еще с одним слугой.
На следующий день он увидел на краю болота человека, завязывавшего себе глаза. Конь сказал хозяину:
— Господин, послушайте моего совета: возьмите к себе в услужение и его.
Фортунат подъехал и спросил, зачем тот завязывает себе глаза.
— Дело в том, — ответил человек, — что мое зрение слишком острое. Я замечаю дичь за четыре лье и одним выстрелом убиваю больше, чем мне нужно. Поэтому я и завязываю глаза. Однако, даже смутно различая все вокруг, я могу истребить всех куропаток и мелких птиц в этом краю так, что и пары часов не пройдет.
— Ловкости вам не занимать, — заметил Фортунат.
— Поэтому меня и прозвали Непромахом, — ответил человек. — И ничто на свете не заставит меня бросить это занятие.
— И все же я хочу предложить вам поехать со мной, — молвил рыцарь. — Это, между тем, не помешает вам совершенствовать свое мастерство.
Однако Непромах призадумался, и Фортунату нелегко оказалось убедить его отправиться с ним: такие обычно дорожат своей свободой. Однако ж в конце концов и он дал себя уговорить и вылез из болота.
Несколько дней спустя, проезжая лугом, Фортунат заметил человека, лежавшего в траве на боку. Камарад сказал рыцарю:
— Господин, этот человек одарен. Предвижу я, что вам без него не обойтись.
Фортунат направился к нему и попросил рассказать, чем тот занят.
— Мне нужно несколько лечебных трав, — ответил тот, — посему я слушаю траву, что должна прорасти, чтобы посмотреть, не та ли это, какую я ищу.
— Как! — воскликнул рыцарь. — Ваш слух так тонок, что вы можете слышать травы под землей и догадаться, какая из них вырастет?
— За это меня и зовут Слухачом, — ответил Слухач.
— Что ж, Слухач, — спросил Фортунат, — не угодно ли и вам последовать за мной? Я дам вам хорошее содержание, у вас не будет причин для недовольства.
Слухач обрадовался выгодному предложению и без колебаний присоединился к остальным.
Рыцарь продолжил путь и вскоре увидел у дороги человека, стоявшего надув щеки и свернув губы трубочкой. Вдалеке, не меньше чем в двух лье, высилась большая гора, на которой виднелись пятьдесят или шестьдесят ветряных мельниц. Конь сказал господину:
— Вот еще один из тех, кто был одарен. Не упустите возможности взять его с собой.
Фортунат, который мог любого расположить к себе одним своим появлением или едва заговорив, подъехал к новому незнакомцу и спросил, что он делает.
— Дую немного, господин, чтобы вон те мельницы мололи.
— Мне кажется, вы от них далековато, — заметил рыцарь.
— Напротив, — ответил человек, — я стою слишком близко, и если б вполовину не сдерживал дыхания, то повалил бы мельницы, а быть может, и гору, на которой они стоят. Сколько же я причиняю неприятностей, сам того не желая! Скажу вам, господин: будучи влюблен и не найдя взаимности у возлюбленной, я был так удручен, что ушел повздыхать в леса. Так вот, вздохи мои с корнем вырывали деревья и наносили ужасный урон. С тех пор меня в этих краях иначе как Неистовым и не называют.
— Если люди считают, что вы здесь не к месту, — молвил Фортунат, — и если вы не прочь пойти со мной, то вот те, кто составит вам компанию, они тоже обладают недюжинными способностями.
— Я столь любопытен до всего необычного, — ответил Неистовый, — что соглашусь на ваше предложение.
Обрадованный Фортунат отправился дальше. Проехал он весь лес, и вот взгляду рыцаря открылся пруд, в который впадало несколько источников, а на берегу стоял человек и внимательно смотрел на воду.
— Господин, — сказал Камарад хозяину, — вот человек, которого вам недостает, не лишним будет уговорить его последовать за вами.
Рыцарь подъехал к человеку у пруда.
— Не скажете ли, — спросил он, — что вы здесь делаете?
— Сейчас увидите, господин, — ответил человек. — Я подожду, пока пруд наполнится до краев, а потом выпью его залпом. Хоть я уже два раза осушил его, меня все еще мучит жажда.
Тут он и правда наклонился и выпил из пруда всю воду, ни капли не оставив даже для самой маленькой рыбки.
Фортунат удивился не меньше, чем все, кто его сопровождал.
— Полноте! — воскликнул он. — Неужто вы всегда так хотите пить?
— Отнюдь, — молвил человек, — я так много пью, только если съем что-нибудь соленое или поспорю с кем-нибудь. Меня все знают как водохлеба, так меня и прозвали.
— Присоединяйтесь ко мне, Водохлеб, — предложил рыцарь. — У меня на службе вы будете пить вино, уж оно-то получше, чем вода из пруда.
Такое обещание пришлось по душе человеку, обладавшему даром фей, и он тотчас присоединился к остальным.
Фортунат уже видел место, где должны были собраться все подданные короля, как вдруг заметал человека, который так жадно ел, что хотя перед ним лежало еще шестьдесят тысяч булок, он, казалось, был полон решимости не оставить от них ни крошки. Камарад сказал хозяину:
— Господин, вам теперь не хватает лишь этого человека. Прошу, уговорите его пойти с нами.
Рыцарь с улыбкой обратился к новому встречному:
— Прав ли я, что вы решили съесть весь этот хлеб на завтрак?
— Точно так, — был ответ, — вот только жаль, что его так мало. Пекари все такие лентяи, их нимало не тревожит, голоден кто иль нет.
— Коли вам каждый день надобно столько хлеба, — молвил Фортунат, — вы любое королевство заставите голодать.
— О господин! — возразил Едок, ибо так звали этого человека. — Большая обуза — иметь такой аппетит, на него не хватит средств ни у меня, ни у всех моих соседей. Я лишь время от времени так себя потчую.
— Едок, друг мой, — сказал Фортунат, — присоединяйтесь ко мне. Я обещаю хорошо вас кормить, вы останетесь довольны, будучи у меня в услужении.
Камарад, как всегда умный и предусмотрительный, предупредил рыцаря, что нужно строго наказать всем слугам помалкивать про их невероятные способности. Фортунат немедля созвал их и сказал:
— Слушайте, Силач, Скороход, Непромах, Слухач, Неистовый, Водохлеб и Едок! Хотите мне услужить — храните в строжайшем секрете дарования, коими обладаете, и тогда обещаю заботиться о вашем благополучии, так что у вас не будет повода для недовольства.
Каждый клятвенно пообещал, что не ослушается приказа. Вскоре рыцарь, ослеплявший более своею красотой и доброжелательностью, нежели великолепными одеждами, въехал в столицу верхом на превосходном скакуне в сопровождении добрых слуг. Фортунат заказал для них ливреи, расшитые золотом и серебром, купил им лошадей и, поселившись в лучшей гостинице, стал дожидаться дня, на который был назначен смотр. Все в городе только о нем и говорили; доложили и королю, и он тоже с нетерпением ожидал дня, когда увидит такого славного рыцаря.
Вот войска собрались на широкой равнине, куда явился и король со своей сестрой, вдовствующей королевой, и всем двором, все еще пышным, несмотря на невзгоды, обрушившиеся на государство. Фортунат был потрясен такой роскошью, однако всех собравшихся не меньше поразила его собственная несравненная красота. Всякий спрашивал, кто этот юный всадник, столь ладный и пригожий. Король же, проезжая недалеко от Фортуната, знаком подозвал его к себе.
Рыцарь тотчас спрыгнул с коня и низко поклонился Его Величеству. Он не удержался и покраснел, увидев, как пристально властитель смотрит на него. От этого лицо его стало еще румянее.
— Я хотел бы, — молвил король, — из ваших уст услышать, кто вы и как вас зовут.
— Меня зовут Фортунат, но имя мое, увы, обманчиво, ибо отец мой, граф де Кордон, живет в глубокой нищете, хотя при рождении он имел и состояние, и благородное происхождение.
— Фортуна, давшая вам имя, — ответил король, — сослужила хорошую службу, приведя вас сюда. Я чувствую к вам особое расположение, припоминая, что ваш отец оказал моему неоценимые услуги, и посему хочу отблагодарить за них его сына.
— Это будет справедливо, — добавила вдовствующая королева, до того не произнесшая ни слова, — а поскольку я старше вас, брат мой, и лучше осведомлена обо всем, что сделал для королевства граф де Кордон за те годы, что состоял на службе у нашего отца, то прошу возложить на меня заботу о вознаграждении этого юного рыцаря.
Фортунат не мог выразить, как благодарен королю и королеве за столь теплый прием. Он, однако, не решился чересчур долго говорить о своей признательности, решив, что почтительнее вовремя замолчать, чем сказать слишком много. Те немногие слова, что он произнес, оказались так верны и столь к месту, что отовсюду раздались аплодисменты. Фортунат тем временем сел на коня и смешался с толпой придворных, сопровождавших короля, однако королева беспрестанно подзывала его и задавала множество вопросов, а потом тихо спрашивала свою любимую фрейлину Флориду:
— Что ты думаешь об этом рыцаре? Может ли быть на свете человек красивее и благороднее? Признаюсь, никогда не встречала никого приятнее.
С легким сердцем соглашалась с нею Флорида, еще и сама расточая ему похвалы, ибо рыцарь был ей по душе не меньше, чем ее госпоже.
Фортунат же глаз не сводил с короля. Правитель был очень красив и любезен, и Белль-Белль, оставаясь девушкой и в мужских одеждах, начинала чувствовать к нему искреннюю привязанность.
После смотра король признался Фортунату, что опасается кровопролитной войны и потому решил взять его в свою личную гвардию. Присутствовавшая при этом вдовствующая королева воскликнула, что у нее возникла иная мысль: не нужно подвергать его опасности в затяжной военной кампании, а поскольку у нее свободно место первого дворецкого, то она предлагает его Фортунату.
— Нет, — возразил король, — я хочу, чтобы он стал моим обер-шталмейстером.
Долго они спорили, в какой чин произвести юного рыцаря, но наконец королева испугалась, что откроются ее тайные сердечные волнения, и уступила королю.
Ни дня не проходило, чтобы Фортунат не вызывал сафьяновый сундук и не брал из него новый наряд. Несомненно, он затмевал собою любого принца при дворе. Королева порою спрашивала рыцаря, как его отцу удается покрывать столь огромные расходы, а иногда и вовсе донимала его.
— Скажите правду, — говорила она, — у вас есть возлюбленная, и это она присылает вам все эти прекрасные вещи.
Фортунат заливался румянцем и учтиво отнекивался от расспросов.
Он превосходно справлялся со своими обязанностями и, отдавая должное заслугам короля, помимо своей воли все больше и больше привязывался к нему.
«Что у меня за судьба? — сокрушался он. — Я люблю великого короля, не имея надежды ни на взаимность, ни хоть на то, что он поймет, как я страдаю».
Король, в свою очередь, осыпал рыцаря милостями и только Фортунатом и бывал всегда полностью доволен, а королева, введенная в заблуждение его одеждой, всерьез изыскивала возможность тайно сочетаться с ним браком[317]; заботило ее лишь неравенство их происхождения.
Не она одна питала нежные чувства к Фортунату: в него влюблялись самые красивые придворные дамы. Его засыпали любовными записками, предложениями о встрече, подарками и ухаживаниями, но он был ко всему этому столь равнодушен, что никто не сомневался: у него в родных краях есть возлюбленная. На празднествах он, вовсе не желая выделяться, выигрывал все турниры, дичи убивал на охоте больше всех, на балах танцевал изящнее и искуснее любого придворного. Что и говорить: только лишь видеть и слышать его уже было удовольствием.
Королева стыдилась признаться рыцарю в своих чувствах и потому поручила Флориде дать ему понять, что неспроста Ее Величество, такая юная и прекрасная, проявляет к нему столь явную благосклонность. Флорида была весьма сконфужена таким заданием, ведь и ее не минула участь всех, кто видел Фортуната: слишком он нравился ей, и нелегко было сладить со своими чувствами ради госпожи. Посему каждый раз, как королева просила ее занять рыцаря беседой, фрейлина говорила не о красоте и достоинствах Ее Величества, а лишь о ее дурном настроении, и как плохо приходилось фрейлинам от ее несправедливости, и еще о том, что она злоупотребляла верховной властью, незаконно захваченной ею в королевстве. После таких слов она рассказывала о себе:
— Я не рождена королевой, но достойна была бы ею стать, ибо великодушие и щедрость моей души так велики, что я стремлюсь помочь всем вокруг. Ах! Будь мое положение столь высоким, как счастлив был бы прекрасный Фортунат! Если б даже он не любил меня по своей охоте, так любил бы из благодарности.
Юный рыцарь, теряясь от таких речей, не знал, что сказать, и старательно избегал оставаться с фрейлиной наедине. Королева меж тем в нетерпении выспрашивала у Флориды, имело ли успех воздействие на чувства Фортуната.
— Он, кажется, не понимает, насколько вы к нему благосклонны, госпожа, — говорила фрейлина, — и к тому же так скромен, что не верит моим рассказам про ваши чувства или притворяется, что не верит, ибо уже в кого-то влюблен.
— Видимо, так оно и есть, — отвечала встревоженная королева. — Но возможно ли, чтобы он не воспользовался такой удачей?
— А почему это, госпожа, — возразила Флорида, — для завоевания его сердца вам так важна корона? Когда вы так молоды и прекрасны и наделены столькими достоинствами, — нужен ли царский венец для достижения цели?
— Нужно использовать все возможные средства, — вскричала королева, — если хочешь покорить мятежное сердце.
Флорида поняла, что не сможет избавить госпожу от этой навязчивой идеи.
Королева тем временем все ждала, когда наконец хлопоты ее наперсницы окажутся успешными. Заметив, однако, что сия тактика не приносит никаких плодов, она решила сама поговорить с Фортунатом. Зная, что каждое утро ни свет ни заря он шел в рощу, что была у него под окнами, она встала при первых проблесках дня, пошла в эту рощу и, нетерпеливо осмотревшись, вскоре увидела его, грустного, бесцельно бредущего меж деревьев. Королева тотчас подозвала Флориду:
— Да, по-видимому, правда то, о чем ты упоминала лишь вскользь: без сомнения, Фортунат влюблен в какую-то придворную даму или красавицу из его родных мест. Только взгляни, как он печален.
— Я замечала это каждый раз, как с ним говорила, — ответила Флорида. — Госпожа, если вам это по силам, лучше забыть о нем.
— Слишком поздно. — И королева глубоко вздохнула. — Смотри, он направляется в беседку, пойдем, я хочу, чтобы ты была рядом.
Фрейлина не осмелилась остановить ее, хотя сильно того желала из страха, что Фортунат все же полюбит ее госпожу, а иметь в соперницах королеву куда как опасно.
Сделав несколько шагов по направлению к беседке, королева услышала, как рыцарь напевает на модный мотив необычайно приятным голосом:
Ах, никогда не будешь
Спокойно жить, когда
всем сердцем любишь;
Чуть счастье окрылит,
Я потерять его боюсь безмерно,
Вовеки мне не знать утехи, верно,
И от того душа моя скорбит.
Фортунат сочинил эти несколько строк, чтобы выразить свои чувства к королю, к полученным от него милостям, свой страх быть разоблаченным и вынужденным покинуть двор, где ему было лучше всего на свете. Королева же, услышав его, ощутила невыносимую боль.
— К чему мне так стараться? — тихо сказала она Флориде. — Что значит для этого неблагодарного честь нравиться мне, — он счастлив, у него уже есть возлюбленная, он пренебрег мною ради другой.
— Он в том возрасте, — молвила Флорида, — когда рассудок еще не властен над чувствами. Если позволите дать вам совет, Ваше Величество, то позабудьте этого ветреника, не способного понять свое счастье.
Королева ожидала иных слов от своей наперсницы и, бросив на фрейлину взгляд, полный ярости, направилась прямо в беседку, где отдыхал рыцарь. Она притворилась, что удивлена, обнаружив его там, и испытывает неловкость от того, что одета в утреннее платье, хотя на самом деле ее одежды были великолепны.
Фортунат хотел было удалиться, чтобы не причинять неудобств, но королева велела ему остаться и прогуляться с ней под руку.
— Этим утром, — молвила она, — я была разбужена пением птиц. Свежесть и прохлада поманили меня сюда, чтобы лучше их слышать. Как счастливы они! Им неведомы удовольствия, но и печали не омрачают их жизнь.
— Мне кажется, госпожа, — возразил Фортунат, — что и они полностью не ограждены от забот и волнений. Им приходится избегать смертельных пуль и силков охотников. Этим маленьким пташкам угрожают не только хищные птицы: когда лютая зима сковывает льдом землю и покрывает ее снегом, они умирают, не способные прокормить себя, и каждый год их ждет трудность в поиске новой любви.
— Значит, рыцарь, — улыбнулась королева, — вы считаете, что это трудность? А ведь есть такие, кто за год дюжину раз меняет предмет своих воздыханий. О боже! Вы, кажется, удивлены? Да неужто ваше сердце не столь непостоянно и до сих пор принадлежит лишь одной?
— Мне нечего ответить вам, госпожа, ибо я никогда не был влюблен; однако осмелюсь предположить, что коли это случится, то уж будет на всю жизнь.
— Вы никогда не были влюблены? — воскликнула королева, глядя на бедного Фортуната так пристально, что лицо его залила краска. — Никогда не влюблялись? И вы говорите это королеве, уже успевшей прочесть по вашему лицу и в ваших глазах, что вы томитесь по кому-то, и мгновение назад слышавшей, как вы пели модную ныне песню, изменив в ней слова?
— Это правда, госпожа, — ответил рыцарь, — я сам сочинил этот куплет, но правда также и то, что я не вкладывал в него определенного смысла. Друзья все время просят меня написать для них застольные песни, и хотя я пью лишь воду, но есть ведь и те, кто поступает совсем иначе. Для них я воспеваю и Амура, и Бахуса[318], сам не будучи ни влюбленным, ни пьяницей.
Королева слушала его в таком волнении, что едва могла держаться на ногах. Слова Фортуната зажгли в ее сердце огонек надежды, которую едва не отняла Флорида.
— Если б я могла вам верить, — сказала она, — я бы удивилась, что до сей поры никто при дворе не пришелся вам по сердцу.
— Госпожа, — ответил Фортунат, — я всецело поглощен исполнением долга на службе, у меня нет времени на сердечные дела.
— Значит, вы не любите никого? — с вызовом спросила королева.
— Это не так. Я не принадлежу к числу дамских угодников. Я скорее мизантроп, ценящий свою свободу и не желающий ни за что на свете ее потерять.
Королева сочувственно поглядывала на него.
— Есть цепи столь прекрасные и величественные, — молвила она, — что счастьем будет сковать себя ими. Если судьба преподносит вам подобные оковы, я советую отказаться ради них от свободы.
Слова эти сопровождались столь красноречивым взглядом, что рыцарь, имевший уже весьма основательные подозрения, окончательно уверился в том, что они верны.
Опасаясь, что разговор зайдет слишком далеко, Фортунат достал часы и, подвинув стрелку немного вперед, сказал:
— Прошу у Вашего Величества разрешения отправиться во дворец. Сейчас время утреннего выхода короля, он приказал мне явиться вовремя.
— Скупайте, бесчувственный красавец, — со вздохом сказала королева. — Вы имеете все основания стараться угодить моему брату, но помните, что не ошибетесь, если сможете и мне иногда услужить.
Она проводила рыцаря взглядом, потом опустила глаза и, поразмыслив над тем, что произошло, покраснела от гнева и стыда. Ее досада еще возросла оттого, что Флорида была всему свидетельницей и на ее лице была заметна радость, казалось, пенявшая ей, что лучше бы она послушалась советов и не заводила беседы с Фортунатом. Подумав еще немного, королева взяла письменные принадлежности и написала стихи, которые потом велела переложить на музыку своему придворному Люлли[319]:
Ах, как же тяжелы мои страданья,
Злой победитель сердце мне разбил,
Моя любовь подверглась осмеянью,
Терпеть сей стыд уж нету больше сил;
Как больно мне его надменность видеть
И ненависть, от коей стынет кровь;
Должна его в ответ я ненавидеть,
Но я могу лишь чувствовать любовь.
Флорида прекрасно справилась со своей ролью утешительницы, постаравшись возродить в королеве надежду, в которой та нуждалась, чтобы не отчаяться.
— Фортунат слишком далек от вас, госпожа, — говорила фрейлина, — и потому не понял того, что вы хотели донести до него. Но ведь он заверил вас, что вообще никого не любит, а одно это уже хорошо.
Человеку столь свойственно предаваться иллюзиям, что в конце концов королева немного воспрянула духом. Она и не догадывалась: коварная Флорида была уверена в том, что рыцарь не испытывает к королеве любви, и теперь собиралась устроить ему новый разговор со своей госпожой, чтобы его безразличие причинило еще большие страдания ее венценосной хозяйке.
Фортунат же, в свою очередь, находился в крайне затруднительном положении. Он сокрушался о жестокости судьбы и, не колеблясь, покинул бы двор, не удерживай его вопреки воле роковое чувство к королю. Рыцарь теперь виделся с королевой, лишь когда она в окружении фрейлин шествовала в свите монарха. Королева же, не преминув заметить эту перемену в поведении, несколько раз давала Фортунату повод поухаживать за ней и не получала ничего в ответ. Но вот однажды она, решив прогуляться по саду, увидела Фортуната, который пересек широкую аллею и направился прямиком в свою излюбленную рощу. Она окликнула его, и он, сперва собираясь притвориться, что не услышал ее, все же побоялся нанести ей обиду и с почтительным видом подошел.
— Рыцарь, — обратилась королева к Фортунату, — припоминаете ли вы разговор, что состоялся меж нами в беседке?
— Как могу я, госпожа, забыть об оказанной мне столь высокой чести.
— Не сомневаюсь, — продолжала королева, — что вопросы мои задели вас, ибо с того дня вы еще не пришли в себя и не готовы отвечать на новые.
— То была счастливая случайность, — молвил рыцарь, — и было бы дерзостью с моей стороны искать встреч.
— Признайтесь лучше, неблагодарный, — возразила королева, покраснев, — что вы намеренно меня избегали, ибо прекрасно осведомлены о моих чувствах.
Фортунат опустил глаза с видом сконфуженным и скромным, не решаясь ответить, поэтому королева произнесла:
— Я вижу, вы в растерянности. Ступайте же, не затрудняйте себя поиском подходящих слов. Я знаю, что вы скажете, притом знаю об этом лучше, чем того хотела бы.
Она, возможно, высказала бы больше, если бы не заметила короля, который тоже вышел прогуляться.
Она тотчас направилась к нему и, увидев, что он чем-то опечален, попросила поведать ей причину.
— Меня известили, — ответил король, — что вот уж месяц невероятных размеров дракон опустошает наши края. Полагая, что его можно убить, я отдал необходимые распоряжения, но все попытки оказались тщетными: дракон продолжает истреблять моих подданных, их стада и все, что встречается у него на пути. Он отравляет реки и источники с питьевой водой, жжет траву и деревья.
Пока король говорил, разозленная королева перебирала в уме все возможные способы отомстить Фортунату.
— Печальные эти новости, — молвила она наконец, — уже известны мне. Фортунат, которого вы только что видели рядом со мной, доложил мне обо всем. И, брат мой, вы удивитесь тому, что я скажу, но он горячо упрашивал меня, чтобы я уговорила вас разрешить ему сразиться с ужасным драконом. Он и правда несказанно ловок и так умело владеет оружием, что я не удивлена его самонадеянностью. Кроме всего прочего, он поведал мне, что знает секрет, как усыпить самых буйных чудовищ. Но что говорить? Вряд ли он сможет достойно проявить себя.
— Как бы он себя ни проявил, — возразил король, — если ему удастся в этом деле преуспеть, он прославится, да и нам будет полезен. Я, однако, боюсь, как бы его рвение не оказалось чересчур безрассудным и не стоило ему жизни.
— Не стоит переживать, брат мой, — заверила королева. — Фортунат открыл мне удивительные вещи. Вы ведь знаете, что он от природы искренен, более того, безрассудную гибель он почитает для себя за честь! И, наконец, я так горячо пообещала ему исполнить его желание, что он умрет, если вы ему откажете.
— Я соглашусь на вашу просьбу, — сказал король, — но признаюсь, с крайней неохотой. Что ж, позовем его.
И, знаком подозвав Фортуната, он как можно любезнее сказал ему:
— От королевы я узнал о вашем желании сразиться с драконом, и оно огорчает нас. Это столь отважное решение, что, мне кажется, вы не вполне осознаете всю его опасность.
— Я уже говорила ему, — заявила королева, — но его рвение услужить вам и желание прославиться столь велики, что его никак не отговорить. Полагаю, нам стоит возлагать на него большие надежды.
Фортунат в изумлении слушал, что говорили ему король и королева. Он был слишком умен, чтобы не догадаться о злом умысле последней, однако по доброте душевной промолчал, предоставив ей говорить и ограничившись лишь низкими поклонами, которые король принял за новые просьбы позволить ему то, чего он желал.
— Поезжайте, — молвил король со вздохом, — поезжайте, куда зовет вас слава. Мне известно, как вы ловки во всем, за что ни принимаетесь, особенно в обращении с оружием, и, быть может, это чудовище не сможет уклониться от ваших атак.
— Ваше Величество, — ответил рыцарь, — как бы ни окончился для меня этот бой, я останусь доволен: я либо избавлю вас от ужасного бедствия, либо умру за вас. Только окажите мне одну милость, которая будет мне бесконечно дорога.
— Просите, чего пожелаете, — сказал король.
— Я осмелюсь попросить ваш портрет.
Король был несказанно благодарен за то, что в столь тяжелые времена, когда было много других неотложных дел, рыцарь обратился с такой простой просьбой. Королева же закусила губы с досады, что Фортунат не попросил ее портрета. Однако сколько же доброты надо иметь в душе, чтобы захотеть портрет столь злобной особы?
Король возвратился во дворец, королева направилась в свои покои, а Фортунат, смущенный, отыскал своего коня и сказал ему:
— Милый мой Камарад, вот уж у меня новости так новости.
— Они мне уже известны, господин.
— Что же нам делать теперь? — спросил Фортунат.
— Нужно отправляться в путь немедля, — ответил конь. — Возьмите у короля приказ, в котором он повелевает вам сразиться с драконом, и мы исполним наш долг.
Слова эти утешили юного рыцаря. На следующее же утро он явился к королю, в походной одежде, такой же ладной, как и всё, что находил в сафьяновом сундуке.
Король воскликнул, едва заметив его:
— Как! Вы уже собрались ехать?
— Дело не терпит отлагательств, если речь идет о выполнении вашего приказа, — ответил Фортунат. — Я пришел проститься с вами.
Король расчувствовался при виде рыцаря столь юного, столь прекрасного, столь совершенного и притом подвергавшего себя самой большой опасности.
Он обнял Фортуната и отдал ему свой портрет, украшенный крупными алмазами. Рыцарь принял его с величайшей радостью. Благородство и великодушие короля так его тронули, что равного своему повелителю для него уже никого не было на свете. Если он и страдал, покидая его, то не столько боясь быть поверженным драконом, сколько из-за того, что лишался возможности видеть дорогого сердцу человека.
Король пожелал, чтобы его особый приказ, повелевавший Фортунату сразиться с драконом, также предписывал всем подданным помогать рыцарю и прийти ему на выручку, если это понадобится. Откланявшись королю, Фортунат, не желая быть заподозренным в странной невежливости, отправился проститься с королевой, которая занималась своим туалетом в окружении множества фрейлин. Едва увидев его, она изменилась в лице — ведь ей было в чем упрекнуть себя. Он почтительно поприветствовал ее и спросил, не желает ли она удостоить его чести исполнить какой-либо ее приказ, ибо он уезжает. Эта слова вконец смутили королеву, а Флорида, не ведавшая о том, какие интриги плела ее госпожа против Фортуната, весьма растерялась, ибо хотела поговорить с ним наедине. Он, однако, избегал столь неловких бесед.
— Я молю Бога, — сказала наконец королева, — чтобы он помог вам победить и вернуться с триумфом.
— Ваше Величество оказывает мне слишком большую честь, — ответил рыцарь. — Вам, как, впрочем, и мне самому, слишком хорошо известна опасность, коей я подвергаюсь. Несмотря на это, я полон веры и, быть может, в этих обстоятельствах остаюсь единственным, кто продолжает надеяться на лучшее.
Королева прекрасно поняла, что хотел ей сказать рыцарь, и непременно ответила бы на этот скрытый упрек, не будь никого рядом.
Наконец рыцарь вернулся к себе. Он приказал своим семерым необыкновенным слугам сесть на лошадей и следовать за ним, ибо пришло время испытать их способности. Не оказалось ни одного, кто бы не изъявил радость сослужить добрую службу. Уже через час они были готовы отправляться в путь и заверили, что сделают все возможное, дабы угодить своему господину. И действительно, стоило им оказаться за городом, где их никто не видел, как каждый показал свою ловкость: Водохлеб выпивал воду из прудов и добывал самую вкусную рыбу на обед, Скороход на бегу ловил оленей и хватал за уши зайцев, какими бы хитрыми они ни были, Непромах не щадил ни куропаток, ни фазанов, а когда набиралось достаточно дичи, мяса и рыбы, наставал черед Силача. Слухач тоже пригодился: он слушал, где и когда из земли появятся трюфели, сморчки, шампиньоны, салат и пахучие травы. Фортунату почти не приходилось раскрывать свой кошель. Он бы с большим интересом наблюдал за происходившими вокруг чудесами, если бы сердце его не тосковало по тому, что он покинул. Его не оставляли мысли как о великодушии короля, так и о злобе королевы, столь сильной, что Фортунат не мог не испытывать к ней ненависти.
Так ехал он, погруженный в глубокую задумчивость, как вдруг до него донеслись пронзительные людские крики. То были несчастные крестьяне, подвергшиеся нападению дракона. Рыцарь увидел нескольких, которым удалось спастись, ибо они бежали изо всех сил. Он окликнул их, но они не остановились, тогда он последовал за ними и, расспросив, понял, что чудовище недалеко. Фортунат поинтересовался, как крестьянам удавалось узнавать о его приближении, и те рассказали, что вода в этих краях была редкостью, которую получали лишь милостью дождя. Они вырыли пруд, собиравший дождевую воду, и дракон стал прилетать, чтобы утолить жажду. При приближении он громко ревел, и крестьяне, едва заслышав его, в испуге прятались по домам, запирая окна и двери.
Фортунат остановился в трактире не столько, чтобы отдохнуть, сколько для того, чтобы посоветоваться со своим добрым конем. Едва оставшись один, он спустился в конюшню и спросил:
— Камарад, как нам одолеть дракона?
— Господин, — ответил конь, — сегодня ночью я что-нибудь придумаю, а утром дам вам ответ.
Наутро, когда Фортунат вновь явился к нему, конь сказал:
— Думаю, Слухач услышит, если дракон поблизости.
Тотчас Слухач приложил ухо к земле и услышал рев дракона, хотя тот находился за семь лье. Узнав об этом, конь продолжил:
— Велите Водохлебу выпить всю воду из большого пруда, а Силач пусть принесет столько вина, чтоб вновь его наполнить. Вокруг нужно разбросать изюм, перец и все, что может вызвать жажду. Прикажите жителям запереться в домах, и сами вы, господин, не выходите со слугами из дома, который выберете для укрытия. Вскоре дракон прилетит к пруду, вино придется ему по нраву, и вы увидите, что из этого выйдет.
Едва Камарад закончил давать указания, каждый поспешил выполнить свою часть плана. Рыцарь выбрал дом, окна которого выходили на пруд. Едва он туда вошел, как появился ужасный дракон. Он полакомился приготовленным для него завтраком, а потом выпил столько, что опьянел. Не в силах сделать ни шагу, он лег на бок, склонил голову и закрыл глаза. Увидев это, Фортунат понял, что нельзя терять ни минуты. Он выхватил шпагу и с отчаянной храбростью набросился на чудовище. Дракон, почувствовав, что со всех сторон на него сыплются удары, хотел было подняться, чтобы всей мощью обрушиться на рыцаря, однако у него уж не хватило сил — столько крови он потерял. Фортунат, обрадованный, что одолел дракона, велел слугам связать его веревками и заковать в цепи: удовольствие и славу победителя, наносящего смертельный удар, он хотел оставить королю. Поэтому, ничего более не опасаясь, они волокли чудовище до самой столицы.
Фортунат ехал во главе своего небольшого кортежа. Когда были они уже недалеко от дворца, рыцарь послал Скорохода, чтобы тот передал королю добрые вести. Однако в столь нежданный успех все смогли поверить, лишь увидев само поверженное чудовище, прикованное к наспех сколоченной повозке на колесах.
Король вышел навстречу, обнял Фортуната и сказал ему:
— Господь даровал вам эту победу. И не так я рад видеть ужасного дракона, сокрушенного вами, как рад вновь видеть вас, мой дорогой рыцарь.
— Ваше Величество, — молвил Фортунат, — вы можете нанести ему решающий удар, только для этого я привез его сюда.
Тогда король вынул из ножен шпагу и добил одного из самых жестоких своих врагов, а отовсюду неслись радостные крики и одобрительные возгласы толпы, опьяненной столь неожиданной удачей.
Флорида, пребывавшая в непрестанном волнении, одной из первых узнала о возвращении прекрасного рыцаря и тотчас поспешила с этим известием к королеве, которая была как громом поражена и до того измучена любовью и ненавистью, что не смогла сказать ни слова в ответ. Она тысячу раз корила себя за то, как обошлась с Фортунатом, но предпочла бы видеть его мертвым, нежели равнодушным, и потому не могла понять, обрадована она или раздосадована, что он вернулся ко двору, где его присутствие будет тревожить ее спокойную жизнь.
Королю не терпелось рассказать сестре об успехе столь необычайной кампании, и он вскоре явился к королеве под руку с рыцарем.
— Вот человек, одолевший дракона, — сказал он ей, — он сослужил мне службу, большую, чем я мог желать от верного подданного. С вами, сестра, он первым заговорил о своем желании сразиться с этим чудовищем. Надеюсь, вы сознаете, какой опасности он подвергался.
Королева, изобразив любезную улыбку, милостиво приветствовала его и удостоила многих похвал. Она нашла его еще краше, чем в день отъезда, и, лишь взглянув на него, поняла, какая рана и обида все еще живет в ее сердце.
Она всячески старалась скрывать свои чувства и поэтому, охотясь как-то вместе с королем, притворилась, что не может следовать за собаками из-за недомогания, и, повернувшись к скакавшему рядом Фортунату, сказала:
— Мне будет приятно, если вы останетесь рядом, ибо я хочу остановиться и отдохнуть немного. Поезжайте, — махнула она сопровождавшим ее слугам, — не отставайте от моего брата.
После этого она в сопровождении Флориды вышла из кареты, села на берегу ручья и некоторое время хранила глубокое молчание, обдумывая, в какое русло повернуть разговор.
Наконец она взглянула на рыцаря и сказала ему:
— Добрые намерения не всегда очевидны, поэтому, я думаю, вы не вполне поняли причины, по которым я настояла, чтобы король отправил вас сразиться с драконом. Дело в том, что предчувствие, меня никогда не обманывающее, подсказало мне, что вы явите пример мужества, в присутствии коего сомневались ваши завистники, осведомленные о том, что вы никогда не служили в войске, а посему лишь столь блестящая победа могла заставить их замолчать. Быть может, мне следовало передать вам, как о вас судачат, однако я опасалась, что ваша обида приведет к нежелательным последствиям. Поэтому я решила, что лучшим способом остановить злые языки будет отправить вас на опасную битву, чем окружить милостями, — ведь они свидетельствовали бы о том, что вы лишь фаворит, но не воин. Теперь вы видите, рыцарь, — продолжала она, — что в той славе, что снизошла на вас, есть большая доля моей заслуги, и вы глубоко заблуждаетесь, если все еще думаете по-другому.
— Расстояние, что лежит между нами, госпожа, — скромно ответил Фортунат, — так велико, что я не достоин ни ваших разъяснений, ни тех хлопот, что вы взяли на себя, подвергая опасности мою жизнь, чтобы устроить мое счастье. Небеса защитили меня лучше, чем могли опасаться мои враги, и я всегда буду рад исполнить любую волю короля и вашу и рискнуть своей жизнью, которая значит для меня гораздо меньше, чем многим угодно думать.
Учтивый упрек Фортуната привел королеву в замешательство, ибо она поняла скрытый смысл его слов, однако он слишком нравился ей, чтобы одним язвительным ответом навлечь на себя опалу. Напротив, она притворилась, что поняла его чувства, и вновь похвалила ловкость, с которой он победил дракона. Фортунат же вовсе не собирался никому открывать, что не справился бы без помощи своих слуг, а, наоборот, стал хвастать, что вышел прямо навстречу чудовищному врагу, и только ловкость и даже немного безрассудная отвага помогли ему одержать победу. Однако королева, почти не слушавшая его, перебила рыцаря, чтобы спросить, по-прежнему ли он убежден в том, что в этом приключении без нее не обошлось. Разговор принимал неприятный оборот, но Фортунат сказал:
— Госпожа, я слышу звук рога, это возвращается король. Не желает ли Ваше Величество сесть на лошадь, чтобы поехать ему навстречу?
— Нет, — ответила королева с видом, полным досады, — достаточно, если поедете вы.
— Госпожа, — продолжал настаивать рыцарь, — король рассердится на меня, если я оставлю вас там, где может подстерегать опасность.
— Я освобождаю вас от этой заботы, — безоговорочно заявила королева. — Езжайте, ваше присутствие докучает мне.
Услышав такой приказ, Фортунат низко поклонился, вскочил на коня и поскакал прочь, обеспокоенный тем, какие плоды могла принести новая затаенная обида. Он не преминул обратиться к коню:
— Поведай мне, Камарад, подыщет ли сия королева, слишком чувствительная и злобная, для меня еще какое-нибудь чудовище.
— Этим чудовищем остается только она сама, — ответил добрый конь, — но, увы, она страшнее побежденного вами дракона и не устанет испытывать ваши терпение и мужество.
— Возможно ли, что она очернит меня в глазах короля? — вскричал Фортунат. — Это единственное, чего я боюсь.
— Я не могу открыть вам будущее, — произнес Камарад, — достаточно того, что я всегда настороже.
Больше он ничего не сказал, потому как из-за поворота показался король. Фортунат подъехал к нему и сообщил, что королеве нездоровилось, и она попросила его остаться рядом с ней.
— Мне кажется, — с улыбкой молвил король, — что вы у нее в большой милости и откроете свое сердце скорее ей, чем мне. Ведь я не забыл, что вы предпочли обратиться к ней с просьбой дать вам возможность прославиться, сразившись с драконом.
— Ваше Величество, — ответил рыцарь, — не смею опровергать ваши слова, но смею заверить, что для меня существует большое различие между вашей благосклонностью и благосклонностью королевы. И если бы подданному было дозволено взять государя в доверители, я бы с великой радостью поведал все свои чувства вам.
Король, однако, перебил его, спросив, где он оставил королеву.
Пока Фортунат встречал короля, королева жаловалась Флориде на безразличие рыцаря.
— Один его вид мне отвратителен! — восклицала она. — Пусть он покинет двор, или мне придется уехать! Я не в силах больше терпеть неблагодарного, осмелившегося выказать мне такое пренебрежение! Найдется ли смертный, который не счел бы себя счастливцем, придись он по сердцу всемогущей королеве? Нет! Только он один на такое способен! Небеса нарочно послали его смутить мой покой.
Флорида была весьма довольна тем, как королева досадовала на Фортуната, и не только не пыталась ее утешить, но еще сильнее разжигала в ней злобу, напоминая о тысяче случаев, королевой, быть может, давно позабытых. Терзания ее госпожи все росли, и, чтобы погубить рыцаря, она решила испробовать новый план.
Когда появившийся наконец король выразил беспокойство о ее здоровье, она сказала ему:
— Я и правда чувствовала сильное недомогание, но присутствие Фортуната исцелит любого. Он весел, у него интересные взгляды. Кстати, он просил меня умолить Ваше Величество о новой милости. Он со всей смелостью просит позволить ему попытать счастья в самом что ни на есть безрассудном предприятии.
— Не может быть! — воскликнул король. — Неужто появился новый дракон и он хочет биться с ним?
— На этот раз не с одним, а с несколькими, — ответила королева, — и притом уверяет, что сможет их всех победить. Он, кроме того, хвастает, что в одиночку, без всякой армии, сможет заставить императора вернуть все наши богатства.
— Как печально, — вздохнул король, — что столь сумасбродные идеи захватили разум этого бедного юноши!
— После битвы с чудовищем, — продолжала королева, — его привлекают лишь грандиозные замыслы. Чем рискуете вы, давая согласие на то, чтобы он вновь сослужил вам службу?
— Я рискую его жизнью, а она дорога мне, — ответил король. — Я не вынесу, если он погибнет с моей легкой руки.
— Как бы дело ни повернулось, гибель Фортуната неизбежна, ибо его желание возвратить ваши сокровища столь велико, что, не получи он вашего согласия, он станет лишь изнывать от тоски.
Король от этих слов впал в глубокое уныние.
— Не могу представить, — молвил он, — кто навязывает ему все эти безумства, мне больно видеть его в таком состоянии.
— Но ведь победил же он дракона, — возразила королева. — Быть может, и на этот раз ему улыбнется удача. Порою мои предчувствия оказываются верны, сердце подсказывает мне, что ему повезет. Будьте милостивы, брат, не препятствуйте его рвению.
— Нужно позвать его, — сказал король, — и попытаться объяснить, сколь рискован его замысел.
— Это верный способ привести его в отчаяние, — воспротивилась королева. — Он подумает, что вы не желаете отпускать его. Уверяю, никакие доводы касательно опасности, которой он подвергается, не смогут его остановить, ибо я уже сказала ему все, что только можно придумать при таких обстоятельствах, но безуспешно.
— Что ж! — воскликнул король. — Пусть едет. Даю свое согласие.
Королева, обрадовавшись, позвала Фортуната.
— Рыцарь, — сказала она ему, — поблагодарите короля. Он позволяет вам то, чего вы столь страстно желаете — отыскать императора Матапу и заставить его во что бы то ни стало вернуть сокровища, которые он у нас похитил. Собирайтесь в путь с той же расторопностью, с какой отправились биться с драконом.
Обескураженный Фортунат, услышав такие речи, понял, как зла на него королева, однако он ощутил и радость, что сможет отдать свою жизнь за дорогого ему монарха; а посему, ни слова не возразив, лишь преклонил колено и поцеловал руку короля, растроганного таким жестом. Королева же почувствовала слабый укол совести, увидев, с каким почтением рыцарь принимает приказ предстать пред лицом смерти. «Может ли быть такое, — спрашивала она себя, — что я не безразлична ему, и поэтому вместо того, чтобы выдать меня и мою роль в этом спектакле, он готов безропотно стерпеть мою злую шутку. Ах! Будь это так, как бы корила я себя за то зло, что сама ему уготовала!»
Король же, помолчав, сел на коня, а королева вернулась в карету, притворяясь, что ей все еще нехорошо.
Фортунат сопровождал короля, пока они не выехали из леса, а потом повернул обратно, чтобы поговорить со своим конем.
— Верный мой Камарад, — молвил он, — все кончено, пришла моя погибель. Королева измыслила для меня такое задание, какого я никогда от нее не ожидал.
— Любезный мой господин, — ответил конь, — не тревожьтесь. Хоть я при том и не присутствовал, да обо всем знаю. Ехать с посольством не так страшно, как вы думаете.
— Ты, видно, не ведаешь, — продолжал рыцарь, — что император этот самый злобный на свете, и, если я предложу ему вернуть все, что он отобрал у короля, он тут же повелит привязать мне на шею камень и бросить в реку.
— Мне известно о его жестокости, — возразил Камарад, — но пусть это не мешает вам собрать своих слуг и отправиться с ними в путь. Если вы погибнете, то и нам не уцелеть. Я, однако, надеюсь на более благополучный исход.
Рыцарь немного воспрянул духом. Он вернулся к себе, отдал необходимые распоряжения и отправился к королю, чтобы услышать его указания и получить верительные грамоты.
— От моего имени вы скажете императору, — молвил король, — что я требую вернуть моих подданных, которых он держит у себя в рабстве, моих пленных солдат, моих лошадей, на которых он ездит, убранство моего дворца и все мои сокровища.
— Что предложу я ему в обмен на все это? — спросил Фортунат.
— Ничего, кроме моей дружбы, — ответил король.
Юному послу нетрудно было запомнить такие указания. Он отправился в путь, не повидавшись с королевой, этим весьма рассерженной, однако Фортунату до нее было мало дела: что за зло мог ему причинить ее гнев, какого не содеяло еще ее дружеское расположение? Милости Ее Величества страшили Фортуната более всего на свете. Флорида же, узнав обо всем, возненавидела свою госпожу за желание погубить лучшего из рыцарей.
Фортунат взял из сафьянового сундука всё, что могло пригодиться в путешествии. Он не только сам облачился в великолепные одежды, но пожелал, чтобы и слуги его выглядели подобающе. У всех были быстроногие кони, а Камарад, тот и вовсе скорее летел над землей, чем скакал по ней, посему в скором времени они уже прибыли в столицу императора Матапы, которая была больше Парижа, Константинополя и Рима, вместе взятых, а люди тут жили даже на чердаках и на крышах.
Фортунат изумился при виде такого необычайно огромного города. Он попросил аудиенции у императора и без труда получил ее. Однако, когда рыцарь изложил Матапе цель своего посольства, несмотря на все изящество его манер, император не сдержал улыбки.
— Если бы вы стояли во главе пятисоттысячного войска, — молвил он, — я бы послушал вас, но мне доложили, что с вами всего семеро.
— Ваше Величество, — ответил Фортунат, — я стремлюсь заставить вас исполнить волю моего государя не силой, но смиреннейшими увещеваниями.
— Что бы там ни было, — сказал император, — вы не добьетесь своего, если не исполните поручение, которое я только что для вас придумал. Найдите мне человека, который на завтрак смог бы съесть весь свежий хлеб, испеченный для жителей этого огромного города.
Такая просьба и несказанно удивила, и обрадовала Фортуната, но поскольку он молчал, император разразился смехом.
— Видите ли, — сказал он, отдышавшись, — вполне естественно ответить нелепостью на нелепость.
— Ваше Величество, — ответил Фортунат, — я готов исполнить то, о чем вы просите. Завтра я приведу человека, который съест не только весь свежий, но и весь черствый хлеб в этом городе. Прикажите, чтобы хлеб принесли на главную площадь, и будете иметь удовольствие увидеть, как он съест все до последней крошки.
Император ответил согласием. До конца дня только и было разговоров, что о безумстве нового посла, а Матапа решил, что казнит рыцаря, если тот не сдержит слово.
Вернувшись в гостиницу, Фортунат позвал Едока и сказал ему:
— Ты должен быть готовым съесть хлеб, от этого зависит жизнь всех нас.
И рыцарь рассказал о данном императору обещании.
— Не стоит волноваться, господин, — ответил Едок, — я съем столько, что они заскучают, прежде чем я смогу насытиться.
Фортунат, все-таки сомневаясь в способностях слуги, запретил ему ужинать, с тем чтобы к завтраку у него лучше разгулялся аппетит. Это, однако, оказалось лишним.
Император, императрица и их дочь-принцесса расположились на балконе, чтобы лучше видеть происходящее. Фортунат явился в сопровождении своей небольшой свиты. Он невольно побледнел, увидев на главной площади шесть гор хлеба, по высоте превосходивших Пиренеи. Однако Едок и бровью не повел, с удовольствием предвкушая, как съест весь этот вкусный свежий хлеб, и еще и поинтересовался, не утаили ли где какой-нибудь кусочек, ибо даже мышам ничего не хотел оставлять. Император со своим двором посмеивались над безрассудством Фортуната и его слуг. Но тут Едок нетерпеливо потребовал начать испытание, о чем не замедлили возвестить пением труб и боем барабанов. В тот же миг он набросился на одну из хлебных гор и съел ее за четверть часа. Столько же времени ему потребовалось, чтобы проглотить каждую из остальных.
Изумлению толпы не было предела, люди спрашивали друг друга, не обман ли это зрения, и шли прикоснуться к земле, где еще недавно лежал хлеб. В тот день всем жителям города, от императора до последней кошки, пришлось обедать без хлеба.
Фортунат, бесконечно обрадованный такой удачей, подошел к императору и с глубочайшим почтением спросил, не соблаговолит ли тот сдержать слово. Император же, рассердившись, что его обвели вокруг пальца, ответил:
— Господин посол, негоже есть всухомятку. Пусть вы или кто-нибудь из ваших людей выпьет всю воду из городских фонтанов, каналов и водоемов, вместе со всем вином, что найдется в погребах.
— Ваше Величество, — сказал Фортунат, — вы желаете, чтобы ваш приказ оказался для меня невыполнимым. Однако я все же не перестану испытывать судьбу, если это единственная надежда вернуть моему королю то, что я у вас попросил от его имени.
— Я так и сделаю, — молвил император, — если вы и на сей раз преуспеете.
Рыцарь осведомился, будет ли Его Величество присутствовать при этом, и император, ответив, что не обойдет своим вниманием случай столь редкий, уселся в великолепную карету и направился к Львиному фонтану. Из открытых пастей семи мраморных львов били воды. Сливаясь, они образовывали реку, по которой можно было проплыть на гондоле через весь город.
Водохлеб подошел к фонтану и, не переводя дыхания, выпил все до последней капли, будто воды там никогда и не было. Рыбы в реке призывали возмездие на его голову. То же произошло и со всеми другими фонтанами, каналами и водоемами. Водохлеб осушил даже море — так сильно его мучила жажда. Теперь уж император почти не сомневался, что вино будет выпито с такой же легкостью. Никто из горожан не захотел им поделиться; однако Водохлеб во всеуслышание принялся жаловаться на несправедливость, заявив, что у него болит живот и для облегчения весьма кстати придется вино, да и ликеры будут не лишними. Матапа испугался, что его посчитают скупцом, и потому согласился; Фортунат же, улучив удобный момент, стал молить императора вспомнить о данном ему обещании. Император нахмурился и ответил, что ему нужно подумать.
На самом же деле он собрал совет и объявил на нем, в сколь неприятное положение попал, пообещав юному послу вернуть все, что захватил у короля. Император признался, что поставил условия, которые заведомо считал невыполнимыми, однако ж теперь нужно думать, какой дать ответ, чтобы избежать нежелательных последствий. Принцесса, его дочь, девица исключительной красоты, сказала, выслушав отца:
— Отец, вам известно, что до сей поры никто не смог обогнать меня в беге. Нужно сказать послу, что, если он быстрее меня доберется до означенной цели, вы больше не станете уклоняться от своего обещания.
Император обнял дочь, сочтя ее совет блестящим, и на следующий день великодушно принял Фортуната.
— Есть еще кое-что, о чем я хочу вас просить, — заявил император. — Вам или одному из ваших слуг надобно побежать наперегонки с принцессой, моей дочерью. Клянусь всеми стихиями: коли она проиграет, я выполню все, чего требует ваш король.
Фортунат, не колеблясь, принял вызов. Тотчас Матапа объявил, что состязание состоится через два часа. Он предупредил дочь, которая с малых лет упражнялась в беге, чтобы она была готова. Она явилась туда, откуда начиналась апельсиновая аллея, тянувшаяся на три мили и усыпанная песком столь мелким, что не было там песчинки толще кончика иголки. На принцессе было платье из легкой розовой тафты, усыпанной вышитыми золотом и серебром звездами. Ее прекрасные волосы были забраны назад лентой и свободно падали на плечи. На ноги она надела изящные плоские сандалии. Пояс из драгоценных камней подчеркивал ее талию, тоньше которой не было на свете. Сама Аталанта[320] не осмелилась бы с ней состязаться.
Фортунат явился в сопровождении Скорохода и остальных слуг. Император со всем двором расположился поблизости. Рыцарь объявил, что Скороходу выпала честь бежать против принцессы. Благодаря сафьяновому сундуку на слуге были одежды из голландской ткани, отделанной английским кружевом, оранжевые шелковые чулки, такого же цвета перья и изысканное белье. В таком виде он пришелся принцессе по душе, и она согласилась бежать с ним наперегонки. Однако перед самым началом состязания ей подали напиток, придавший сил — теперь она могла бежать еще быстрее. Тогда Скороход воскликнул, что, дабы шансы были равны, ему тоже должны дать отведать напитка.
— Охотно, — ответила принцесса, — я слишком справедлива, чтобы вам отказать.
Тотчас она приказала подать Скороходу бокал, но тому никогда еще не приходилось пробовать столь крепкого напитка, и он ударил ему в голову. Ступив несколько шагов, Скороход упал под апельсиновым деревом и уснул.
Тем временем сигнал к началу состязания повторили уже трижды. Принцесса благодушно ждала, пока Скороход проснется. Наконец она решила, что сейчас важнее всего вызволить отца из затруднительного положения, и потому пустилась бежать с несравненной грацией и легкостью. Между тем Фортунат, ждавший в конце аллеи со своими слугами и не ведавший о том, что произошло, вдруг увидел принцессу, бегущую в одиночку, в то время как до цели оставалось всего пол-лье.
— О милосердные боги! — вскричал он. — Мы погибли! Я не вижу Скорохода!
— Господин, — сказал Камарад, — пусть Слухач прислушается, быть может, он скажет нам, что поделывает Скороход.
Слухач бросился на землю и, хотя находился в двух лье от Скорохода, услышал, как тот храпит.
— Право же, — сказал Слухач, — он и не думает бежать, он спит, как младенец.
— Что! Как же нам теперь быть? — вновь вскричал Фортунат.
— Господин, — молвил Камарад, — Пусть Непромах пустит Скороходу стрелу в кончик уха, чтобы его разбудить.
Непромах взял в руки лук и выстрелил так точно, что проколол кончик уха Скорохода. Боль от укола вывела того из забытья. Он открыл глаза и увидел принцессу, которая была уже почти у цели. Позади себя он слышал лишь радостные возгласы и аплодисменты. Поначалу удивившись, он быстро сообразил, что сон едва не лишил его победы. Казалось, сам ветер нес его — он летел так быстро, что взгляд не мог за ним уследить. Скороход прибежал первым, со стрелой, все еще торчавшей из уха, — вытаскивать ее он не стал, чтобы не терять времени.
Император был поражен событиями, произошедшими со времени прибытия посла. Он поверил, что сами небеса покровительствовали юному рыцарю, и потому не мог больше откладывать исполнение своего обещания.
— Подойдите, — сказал он Фортунату. — Заявляю, что я согласен отдать вам столько моих сокровищ, сколько вы или один из ваших слуг сможет унести на себе. Но не просите у меня большего и не сомневайтесь: солдат, подданных и лошадей вашего короля я не отпущу никогда.
Посол отвесил императору низкий поклон, сказав, что это слишком милостиво с его стороны, и любезно попросил отдать необходимые распоряжения.
Раздосадованный Матапа поговорил со своим казначеем и удалился в загородный дворец, располагавшийся недалеко от столицы. Между тем Фортунат испросил разрешения побывать со слугами везде, где хранилась мебель, редкости и сокровища императора. От него не укрыли ничего — но при единственном условии, что все, что сможет, унесет лишь один человек. Тут и настал черед Силача. С его помощью посол унес всю мебель из императорского дворца, пятьсот гигантских золотых статуй, кареты, колесницы и еще великое множество вещей; при этом Силач шел с такой легкостью, что, казалось, его ноша не тяжелее книги.
Императорские министры с ужасом увидели, что дворцы опустошены — не осталось ни стула, ни сундука, ни кастрюли, ни кровати. Со всех ног бросились они предупредить владыку. Каково же было его удивление, когда он узнал, что все утащил один-единственный человек. Вскричав, что не потерпит этого, император приказал своей гвардии и мушкетерам сесть на коней и пуститься в погоню за похитителями сокровищ. Хотя Фортунат был уже в десяти лье от императорской столицы, Слухач предупредил его, что за ними во весь опор скачет кавалерия, а Непромах, обладавший прекрасным зрением, увидел императорских солдат. Фортунат со слугами были уже на берегу реки. Рыцарь обратился к Водохлебу:
— У нас нет лодок. Попей немножко, и мы сможем перейти реку вброд.
Водохлеб исполнил просьбу господина, который не хотел терять ни минуты, чтобы уйти как можно дальше. Тогда Камарад сказал ему:
— Не волнуйтесь, пусть враги подойдут поближе.
Вскоре и кавалерия достигла реки. Солдаты, зная, где рыбаки оставляют лодки, забрались в них и стали грести изо всех сил. Но тут Неистовый глубоко вдохнул и стал дуть на лодки. Поднявшаяся бурливая волна перевернула их, и все небольшое войско императора утонуло. Не осталось никого, кто бы мог передать ему эту весть.
Маленький отряд обрадовался столь счастливому повороту событий. Каждый из слуг теперь думал лишь о вознаграждении, считая самым достойным себя. Все семеро желали сделаться хозяевами захваченных богатств, которые несли, и тут разразился жаркий спор о дележе.
— Если бы я не выиграл забег, — заявил Скороход, — ничего бы у нас не было.
— Где бы мы были, если б я не услышал, как ты храпишь? — возражал Слухач.
— Вы тут пререкаетесь, как я погляжу, — вставил свое слово Силач, — а за меня никто и словечка не замолвит, а ведь это я все нес. Без моей помощи вам и спорить было бы не о чем.
— Ну уж нет! Это я всех выручил! — воскликнул Водохлеб. — Что бы вы делали, если бы я не выпил реку, словно бокал лимонада?
— Все обернулось бы по-другому, не переверни я лодки, — высказался Неистовый.
— Я до сих пор молчал, — перебил Едок, — но ведь это я положил начало нашему успеху и последовавшим великим событиям. Оставь я хоть одну корочку хлеба, все бы пропало.
— Друзья, — непререкаемым тоном заговорил Фортунат, — вы все совершили чудеса, но наш долг — оставить за королем право решать, как вознаградить наши заслуги. Я приму благодарность лишь из его рук и ничьих других. Вверим себя его воле. Он возложил на нас задачу вернуть его сокровища, а не украсть их. Сама мысль об этом столь позорна, что лучше навсегда позабыть о ней. Если вдруг случится, что король оставит вас без внимания, уверяю: я сам отблагодарю вас так, что вам не придется ни о чем жалеть.
Семеро одаренных[321] феями смутились от укора своего господина. Они бросились к его ногам и поклялись, что лишь его воля будет для них законом. Так закончилось их путешествие. Однако чем ближе была столица, тем больше терзали доброго Фортуната несчетные тревоги. Радость, что сослужил хорошую службу своему королю, к которому чувствовал нежную привязанность, надежда вновь увидеть его, быть благосклонно принятым — все это грело его сердце. Однако страх вновь прогневить королеву, опять испытать на себе ее злобу и коварство Флориды повергал его в страшное уныние. Наконец рыцарь въехал в столицу. Ликующий люд, увидев несметные богатства, что он вез с собой, провожал его приветственными возгласами, которые достигли самого дворца.
Король не мог поверить в такое чудо и поспешил сообщить о нем королеве; она же поначалу полностью утратила присутствие духа, но, мгновение спустя придя в себя, молвила:
— Вот видите, боги хранят его. Он и в этом преуспел. Ничуть не удивлена, что он берется за то, что другим не под силу.
Едва закончив говорить, она увидела Фортуната, который сообщил Их Величествам об успехе своего посольства и добавил, что сокровища находятся в парке, ибо золота, драгоценных камней и мебели столько, что нигде больше они не поместились. Легко представить, как благодарен был король столь верному, усердному и достойному подданному.
Возвращение рыцаря и одержанные им победы вновь разбередили любовную рану в сердце королевы. Фортунат теперь привлекал ее как никогда ранее, и едва ей предоставлялась возможность свободно поговорить с Флоридой, как она возобновляла свои обычные жалобы.
— Чего я только не делала, чтобы его погубить, — говорила она. — Только так могла я его позабыть, да какой-то злой рок всякий раз возвращает его обратно. У меня есть тысячи причин презирать человека, чье положение беспримерно ниже моего и который черной неблагодарностью отвечает на мое чувство, но я все еще люблю его и не оставляю надежды тайно сочетаться с ним браком.
— Сочетаться браком, госпожа?! — воскликнула Флорида. — Возможно ли это? Да не ослышалась ли я?
— Да, — повторила королева, — таков мой замысел, и я хочу, чтобы ты помогла мне его осуществить. Поручаю тебе сегодня вечером привести Фортуната в мои покои. Я хочу сама объявить ему, как далеко простирается моя доброта.
Флорида пришла в отчаяние, едва услышав, что должна содействовать тайной свадьбе госпожи и ее возлюбленного. Всеми силами попыталась она отговорить королеву от встречи с рыцарем, предостерегала, как разгневается король, коли узнает о подобной интриге: возможно, он прикажет казнить рыцаря и уж точно приговорит его к вечному заточению и королева его больше никогда не увидит. Однако красноречие ее было напрасно: она заметила, что королева начинает сердиться, и потому ей не оставалось ничего другого, кроме как повиноваться.
Флорида нашла Фортуната в дворцовой галерее, где он следил за расстановкой золотых статуй, привезенных от Матапы. Она передала, что королева хочет сегодня вечером видеть его у себя. Этот приказ заставил рыцаря вздрогнуть. Флорида поняла его чувства.
— О боги всемогущие! — вздохнула она. — Как мне вас жаль! Почему должно было случиться так, что она вас полюбила? А ведь я знаю еще кое-кого не столь опасного, кто не решается открыть вам свое сердце.
Рыцарю вовсе не хотелось новых объяснений, печалей ему и без того хватало. Он не желал понравиться королеве и потому оделся весьма небрежно, дабы не давать ей повода гадать о его намерениях; но если драгоценные камни и вышивку отбросить легко, то куда денешь природное обаяние? Ведь при его-то любезности он был великолепен всегда и везде: каким бы ни было его настроение, никто не мог сравниться с ним.
Королева же всячески постаралась подчеркнуть свою красоту блеском необыкновенного наряда и с удовлетворением заметала, что Фортуната это удивило.
— Видимость, — молвила она, — иногда столь обманчива, и я рада, что могу сейчас оправдаться и опровергнуть то, что вы, без сомнения, подумали о моих чувствах, когда я склонила короля отправить вас к императору. Я, казалось бы, жертвовала вами. Однако, прекрасный рыцарь, я заранее знала обо всем, что случится, и хотела лишь одного — обеспечить вам бессмертную славу.
— Госпожа, — ответил Фортунат, — ваше положение слишком высоко по сравнению с моим, чтобы вы опускались до объяснений. Я же, не пытаясь разобраться в причинах, побудивших вас действовать так, а не иначе, лишь с готовностью исполняю волю короля.
— Значит, мои объяснения не представляют для вас интереса, — заключила королева, — однако пришло наконец время вам убедиться в моей доброте. Подойдите, Фортунат, подойдите и примите мою руку и сердце в залог моей искренности.
Несчастный рыцарь никогда не оказывался в столь затруднительном положении. Много раз он уже был готов открыть пред королевой свое истинное лицо, но так и не решался, и теперь, отвечая на ее дружеское расположение предельной холодностью, стал объяснять, как разгневается король, когда узнает, что его подданный прямо у него под носом без его одобрения заключил столь важный союз. Королева попыталась было увещеваниями избавить Фортуната от страха, что, казалось, терзал его, но, увидев, что все напрасно, изменилась в лице; впав в ярость, она стала сперва угрожать и оскорблять его, затем драться и царапаться, а потом, обратив гнев на себя саму, принялась рвать на себе волосы, до крови разодрала лицо и грудь, принялась за одежду и кружева и наконец завопила:
— Ко мне, стража, ко мне!
Прибежавшим в ее покои стражникам она приказала отвести рыцаря в темницу, а сама побежала к королю, прося примерно наказать столь жестокое чудовище.
Она рассказала брату, что сей рыцарь давно уж осмелился открыть ей свою страсть; она же, надеясь, что разлука и суровое обращение исцелят его от этого чувства, не упускала возможности удалить его от двора. Однако ничто не помогало — ныне король-де сам видит, до каких крайностей дошел Фортунат в обращении с ней[322]. Посему она желала суда над ним, а если король ей в этом откажет, она найдет способ восстановить справедливость сама.
Тон ее испугал короля, знавшего неистовый нрав сестры, ее властолюбие и опасавшегося, что при случае она поднимет все королевство на восстание; да и дерзость Фортуната требовала примерного наказания, ибо все уже знали о случившемся и королю следовало самолично отомстить за оскорбление. Но, увы! Кого же тут пришлось бы покарать? Рыцаря, подвергавшегося самым страшным опасностям на его службе, кому он, король, был обязан своим покоем и возвращенными богатствами и к которому, кроме того, испытывал особую привязанность. Он отдал бы полжизни, чтобы спасти дорогого Фортуната, и потому попытался объяснить королеве, как необходим ему этот рыцарь, как велики его заслуги перед королевством, твердя, что так сложились обстоятельства и простительной виной всему его юность; но она ничего не слушала, требуя казнить его. Посему король не мог более уклоняться от суда над Фортунатом. Тогда он назначил самых мягких и жалостливых судей, надеясь, что те его оправдают.
Но он ошибся: судьи пожелали упрочить свою репутацию, погубив бедного рыцаря; они самым суровым образом ополчились на Фортуната, не соизволив даже выслушать его. Наконец рыцаря приговорили к казни тремя ударами кинжала в сердце, ибо именно оно — сердце — и было всему виною.
Король устрашился так, точно на смерть осудили его самого. Судей, вынесших такой вердикт, он тотчас сослал далеко-далеко, однако уже не мог спасти дорогого Фортуната, а королева ликовала в предвкушении мук, что предстояли рыцарю, и ее кровожадные взгляды так и требовали расправы. Король не оставлял попыток образумить ее, но этим лишь больше разжигал в ней злобу. Наконец настал день страшной казни. Рыцаря вывели из темницы, где он до того пребывал в полном одиночестве. Он не ведал даже, в каком злодеянии его обвиняют, и думал, что его карают за то, что он опять проявил полное равнодушие. Однако больней всего ему было то, что и король поддерживал жестокие выходки своей сестры.
Флорида, безутешная от того, что собирались сделать с ее любимым, решилась прибегнуть к последнему средству — отравить королеву, а потом отравиться самой, если Фортунату суждено умереть смертью столь жестокой. Едва узнав о приговоре, она пришла в отчаяние и теперь думала лишь об осуществлении своего замысла. Однако добытый ею яд действовал медленнее, чем ей хотелось бы. Поэтому даже после того, как она дала его королеве, та, не чувствуя еще его смертоносного действия, приказала привести прекрасного рыцаря на главную дворцовую площадь, чтобы своими глазами увидеть исполнение приговора. Жестокие палачи вытащили Фортуната из темницы и повели его, словно кроткого ягненка на заклание.
Тут, едва подняв взгляд, он сразу увидел королеву на колеснице — она так и норовила подъехать поближе, чтобы на нее брызнули капли крови осужденного. Король же заперся в своих покоях, чтобы никто не мешал ему оплакать судьбу дорогого рыцаря.
Меж тем на привязанном к столбу Фортунате разорвали камзол, чтобы проткнуть ему сердце. Каково же было изумление всех собравшихся на зрелище казни, когда их взору открылась белоснежная грудь прекрасной Белль-Белль. Все признали, что то была дева и, стало быть, несправедливо обвиненная. Королева же, у которой от потрясения и смущения яд начал стремительно действовать, рухнула наземь и забилась в конвульсиях, прерывавшихся словами жгучего раскаяния. Тем временем люди из толпы, искренне любившие Фортуната, помогли ему освободиться от пут. Кто-то побежал сообщить невероятные вести королю, в одиночестве предававшемуся глубочайшей печали. Когда же тот узнал о случившемся, тоска в его сердце уступила место великой радости. Он поспешил на площадь, где с восхищением воззрился на преображенного Фортуната.
Последние вздохи королевы охладили было его восторг, однако, вспомнив ее жестокость и злобу, он не стал о ней жалеть. Король решил жениться на Белль-Белль, чтобы короной отблагодарить ее за все, что она для него сделала, и не замедлил сказать ей об этом. Легко представить счастье Белль-Белль, — и радовалась она больше всего не тому, что станет королевой, а возможности быть рядом со столь достойным королем, к которому она всегда питала бесконечно нежные чувства.
Назначили день свадьбы, и Белль-Белль, облаченная в женское платье, была еще прекраснее, чем в одежде рыцаря. Она расспросила своего коня о том, какие ее ждут еще приключения, и Камарад пообещал ей лишь приятные. За верную службу она приказала построить ему отдельную конюшню и отделать ее черным деревом и слоновой костью, а спал он теперь на атласных подушках. Слуги, выручившие ее из беды, получили богатое вознаграждение.
Однако верный Камарад исчез. Узнавшую об этом Белль-Белль охватила глубокая печаль, и она приказала во что бы то ни стало найти его. Три дня продолжались безрезультатные поиски. На четвертый Белль-Белль так встревожилась, что, встав ни свет ни заря, спустилась в сад и прошла рощей к широкому лугу, беспрестанно восклицая:
— Камарад, добрый мой Камарад, что стало с тобою? Неужто ты меня покинул? Что буду делать я без твоих мудрых советов? Вернись, прошу тебя!
Тут вдруг она увидела еще одно солнце, всходившее на западе, и остановилась, чтобы полюбоваться на это чудо. Но каково же было ее изумление, когда она поняла, что светило приближается к ней и что то было не солнце, а ее конь в сбруе, сплошь усыпанной драгоценными камнями, а за ним следовала колесница из жемчугов и топазов, влекомая двумя дюжинами баранов: руно их сияло, ибо было оно золотым, на упряжи из темно-красного атласа блестели изумруды, а рога были рубиновыми. В колеснице же Белль-Белль увидела свою фею-покровительницу, а рядом с ней отца и сестер, которые что-то ей кричали и хлопали в ладоши, поздравляя со свадьбой. От радости Белль-Белль лишилась дара речи и только и могла что сама сесть к ним в колесницу, и сей роскошный экипаж въехал во дворец, где все уже было готово к величайшему празднеству во всем королевстве. Так король связал свою судьбу с судьбой своей возлюбленной, а история эта, переходя из века в век, дошла и до нас.
* * *
Затравленная, раненая львица,
За коей мчат охотники толпой,
Вовек по силе гнева не сравнится
С отвергнутой красой;
Кинжал иль яд — достойное оружье,
Чтоб ревность усмирить
И боль от той обиды утолить;
Немало крови и страданья нужно,
Чтоб в сердце снизошел покой.
Наш рыцарь, чья невинность безоружна,
Уж видел ад разверстый пред собой.
И только в миг преображенья
Нежданно весь народ оторопел,
Когда он в витязе с недоуменьем
Переодетую красавицу узрел.
Коварная ж наказана жестоко,
Ведь Небо не приемлет зла,
И за крушением порока
Приходит торжество добра.
Пер. О. Л. Берсеневой (проза), Е. Ю. Шибановой (стихи)
ТОМ ТРЕТИЙ
Новый дворянин от мещанства
Продолжение

— Что с вами? — спросил он. — Вы, кажется, весьма тронуты.
— Ах! Как и любой бы на моем месте! — воскликнул наш чудак. — А вот у вас, видно, сердце тверже камня, коли не чувствуете вы, сколько здесь печали.
— Если бы Белль-Белль погибла, — ответил приор, — мне действительно было бы жаль ее, а вы скорбите невпопад; уж лучше бы разделили ее радость по случаю свадьбы с королем.
— Возрадуемся же, — предложил Ла Дандинардьер, вытирая глаза, — ибо у меня есть для этого повод — ведь вы преподносите мне великодушный дар, отдавая эту восхитительную сказку. Я перед вами в долгу и могу расплатиться лишь жизнью.
— О! Ну, это уж слишком, — возразил приор, — за свою услугу я прошу лишь одного — удовольствия любоваться блеском вашей славы среди прочих сказочников. Так солнце светит ясным днем. Я сейчас же сообщу очаровательным Виржинии и Мартониде, что вы превзошли их в сем литературном жанре и будете иметь честь сами убедить их в этом, если они соблаговолят явиться к вам в комнату.
— Я от вас в восторге, — ответил наш мещанин, крепко стиснув приора в объятиях, — уверен, это произведение меня обессмертит. Не могу не беспокоиться о том, сколь огорчены будут прекрасные девы, когда поймут, что я во сто крат талантливее их.
— Им нужно запастись терпением, — добавил приор, — но прощайте, от долгого чтения у меня разыгрался аппетит.
— Я тоже утомился, долго слушая, — подхватил Ла Дандинардьер, — придется дать немного отдыха моей бедной голове.
Приор вышел и, зайдя к дочерям барона, сообщил им, что Ла Дандинардьер сочинил шедевр и приглашает их его послушать.
— И правда, — отметила Мартонида, — у него такое умное лицо. Стоит лишь его увидеть, как тут же понимаешь, что он может все.
— Сие есть особое счастье, — добавила Виржиния, — что такой человек, всю жизнь пребывавший в огне и кровавых сражениях, сыгравший столь важную роль в великих войнах Европы, при этом сохранил чувствительность, присущую литераторам, не покидающим своих рабочих кабинетов.
Приор давился от хохота, слушая, как серьезно говорили они о том, что Ла Дандинардьер был неустрашимым полководцем, а вся армия боялась его и восхищалась им. Он, тем не менее, отнюдь не стал разубеждать их, ведь это шло бы вразрез с желанием барона женить того на одной из своих красавиц дочерей. Однако, оставив их, приор поведал виконту де Бержанвилю, что еще до конца дня разразится жестокая война между мещанином и барышнями де Сен-Тома за сказку о Белль-Белль.
— Возможно ли такое, — воскликнул виконт, — да ведь вы хотите их рассорить, пока мы тут серьезно думаем о заключении между ними вечного союза.
— Это было опрометчиво, — ответил приор, — но я подумал, что будет забавно послушать, как они доказывают друг другу свое авторство, как бранятся, представляют свидетелей, и был не в силах сдержаться.
— Должен сказать вам, — заявил виконт, — что, вместо того чтобы расположить их к взаимной симпатии, вы предпочли посеять между ними неприязнь, которая, быть может, не исчезнет до конца их дней.
— Ах! Как же быть? — вздохнул приор. — Рукопись сказки лежит у него под подушкой, теперь из него легче душу вынуть, чем отобрать эту небольшую тетрадь.
— Есть у меня одна идея, — молвил виконт. — Если она у него под подушкой, то, пока ему будут делать перевязку, я вытащу ее.
— Это верный способ вывести его из себя, — вскричал приор. — Его не заботит ничто, кроме желания убедить возлюбленную в своем таланте. Представьте его ужас, когда все соберутся послушать сказку, а ему будет нечего читать!
— Единственное решение, какое только приходит мне на ум, — сказал виконт, — это отправить кого-нибудь ко мне домой и попросить у моей жены тетрадь, присланную ей одной подругой. В конце концов, он не слишком внимательно следил за сюжетом и легко перепутает сказки, лишь бы там были феи.
— Согласен, — одобрил приор. — Только бы все так и получилось, иначе не сносить вам головы.
Виконт спешно послал слугу. Путь был недалек, и тот вернулся быстро, а его господин ловко произвел задуманную подмену.
Приор в нетерпении поспешил к барышням де Сен-Тома.
— Я знал, — сказал он им, — что господин Ла Дандинардьер отважнее Александра и Цезаря[323], но не подозревал, что ум его столь всеобъемлющ. Только что он закончил произведение, которое станет предметом жгучей зависти всех сказочниц. Принимая во внимание, что это его литературный дебют, можно представить, как далеко он пойдет.
После таких слов он принялся вращать выпученными глазами и строить загадочные гримасы, точно лицо у него сводили судороги. Виржиния и Мартонида, потрясенные такой важной новостью, хранили глубокое молчание. Меж тем приор снова заговорил, без конца твердя, словно отвечая своим мыслям:
— Да, он далеко пойдет, он гений, да, да и еще раз да.
Виржинии это весьма понравилось.
— Ах, сударь, — молвила она, — как вы умело его восхваляете! И как тонко! Вы, должно быть, почитатель сего величайшего из людей, — я имею в виду господина Ла Дандинардьера.
— Постойте, — перебила Мартонида сестру, — неужели мы не сможем иметь удовольствие услышать чтение этого блестящего произведения?
— Несомненно сможете, — ответил приор, — я как раз пришел просить вас об этом от его имени.
— Ах! Как замечательно, сестрица! — воскликнули обе разом. — Нам нужно приодеться по такому случаю.
Они облачились в охотничьи камзолы, которые сами сшили из зеленой муаровой юбки, и в капоры[324] из потрепанного бархата, скорее серого, чем черного. Сей головной убор был украшен павлиньими перьями. На каждой — по старому кружевному шарфу из поддельных золотых нитей, изящно перекинутому через плечо, а к поясу подвешен охотничий рог, в который ни одна, ни другая не умели трубить. Такое великолепие не могло не произвести фурора во владениях барона де Сен-Тома.
Видно, так в тот день сошлись созвездия, что, не сговариваясь, странно нарядились и наши героини, и наш низкорослый герой. В предвкушении визита барышень он подыскал себе одеяние, подобающее случаю. Показаться им с повязками на голове совсем не хотелось, но без них вышло бы еще хуже, и он решил намотать поверх свой серый камзол. Получилось некое подобие тюрбана, по сторонам свисали рукава, шею прикрывал наполовину проржавевший стальной воротник от доспехов, на руках — латные рукавицы. В таком виде возлежал он на груде подушек. Разве что мизантроп не покатился бы со смеху, увидев такое зрелище, однако божественные Виржиния и Мартонида не смогли сдержать восхищения.
Барышни поужинали с никого не удивившей умеренностью, ибо все знали, что потребность в еде они расценивали как природный изъян и пытались исправить его путем настойчивого ему сопротивления. Из-за этого они весьма часто падали в обморок. Едва все поднялись из-за стола, приор предложил госпоже де Сен-Тома пойти проведать выдающегося раненого, который обещал прочитать свою сказку. Баронесса весьма обрадовалась, подумав, что ее приглашают послушать глубокомысленное произведение. Степенным шагом направилась она в комнату умирающего, а за ней последовали ее дочери, походившие на провинциалок, переодетых амазонками. Мужчины подали им руки. Стоило Ла Дандинардьеру их увидеть, как он обрадовался так, что, совсем потеряв разум, сотню раз порывался спрыгнуть с кровати, чтобы оказать им знаки гостеприимства.
После приветствий все расселись, и наш сумасброд напыщенно заговорил:
— Прошу прощения, милостивые государыни, что осмелился пригласить вас сюда. Вы имеете все основания заявить, что ожидали пения соловья, а услышали лишь уханье филина.
— Не такие уж мы тут простофилины, — возразила госпожа де Сен-Тома, которой нравилось изобретать да перекраивать слова и говорить чуднó[325]. — И потом, мы знаем, что Ваше Соловейшество держится молодцом.
— Мне бы тоже хотелось похвалить вас следом за моей матушкой, — молвила Виржиния. — Мне кажется, я могла бы при этом не оскорбить вашей скромности, однако то нетерпение, с каким хочу я услышать написанную вами сказку, заставляет меня умолкнуть.
— Ха-ха-ха! Сударыня, — рассмеялся Ла Дандинардьер, — вы меня избалуете, если я потеряю бдительность. Похвалы, срывающиеся с ваших алых губок, волнуют меня.
— Надеюсь, они не слишком утомят вас, — сказала Мартонида, — ибо столь блестящим заслугам, как ваши, не укрыться от восхвалений.
— Вы осыпаете меня знаками расположения, милые создания! — воскликнул наш мещанин. — В таком случае моим ответом будет молчание, в продолжение которого приор де Ришкур прочитает мое произведение. Я сочинил его, как говорится, на скорую руку. Я с такой стремительностью бросаюсь в литературные дебри, что меня самого это страшно смущает.
— Вот уже час, — перебила его госпожа де Сен-Тома, — как я с восхищением слушаю ваши возвышенные и непринужденные речи. Надо признать, в придворных есть нечто, превозносящее их над остальными смертными.
— О сударыня, — отвечал Ла Дандинардьер, — двор двору рознь. Тот, при котором я вырос, столь утончен, что не потерпит ни единого грубого слова: за грубость там будет изгнан любой. Изъясняйся возвышенно или проваливай ко всем чертям.
Виржиния с сестрой и матерью день напролет слушали бы раненого не перебивая, ибо были в восторге от его высокопарных речей, как вдруг со двора донесся страшный шум. То был Ален с телегой и тремя осликами, навьюченными книгами своего хозяина. Слуга вступил в кулачный бой с возчиком, которого обвинял в краже книги для пения на клиросе. Крестьянин, возмущенный такой напраслиной, схватил Алена за волосы. Так и мелькали кулаки схлестнувшихся драчунов, колотивших друг друга то в голову, то в живот.
Ла Дандинардьер спрыгнул с кровати, завернувшись в простыню, словно покойник; подбежав к окну в таком виде, он с восхищением стал наблюдать за геройством верного Алена. Однако, сообразив вдруг, сколь неподобающе одет, наш мещанин поспешил обратиться к дамам с извинениями.
— Признаюсь, — сказал он, — у меня есть неприятная черта характера, с которой я не в силах совладать. Едва я слышу лязг оружия, как меня охватывает волнение. Я участвовал в сотне баталий с тем лишь, чтобы иметь удовольствие извлекать этот звук.
И он пустился в бахвальство, кое-как прикрывшись простыней, с криво нахлобученным тюрбаном, нимало не заботясь о том, что выставляет напоказ голые ноги. Наконец госпожа де Сен-Тома попросила его вернуться в постель. Ла Дандинардьер послал разнять возчика и Алена, который уже обдумывал план достойного отступления, ибо его противник на один удар отвечал шестью, да и собственная шкура была ему дороже всей господской библиотеки.
— Забирай себе наш требник, — прохрипел он возчику, — только пусти меня.
— Ну уж нет, — ответил тот, — уворовал мою честь, так отворуй мне ее назад, или ты не жилец.
Тут подоспела подмога от госпожи де Сен-Тома, и как раз вовремя, чтобы вырвать Алена из хватки разбушевавшегося возчика. Ссора, однако, разгорелась с новой силой, когда пришло время платить и Ален стал настаивать на скидке в десять су в качестве возмещения за то, что противник нанес ему больше ударов, из-за которых у него теперь текла кровь, а под глазами красовались синяки.
Наконец все решилось миром, тележка и ослики отправились восвояси, а книги грудой остались лежать на траве. Тут как раз начался сильнейший ливень, и как ни старались слуги уберечь книги от воды, спасти их не удалось. Причитания Ла Дандинардьера развеселили тех, кто знал, сколь далеко заходило его невежество.
— О, греческие тексты, — восклицал он, — что скрашивали мое одиночество! Ах, книги на иврите! А я было взялся за труднейший перевод одной из них! Ох! Поэзия на латинском! Ай! Моя алгебра! Вы все утопли! О, погибни вы хоть в пучине морской иль сгори в городском пожаре, а может, от удара молнии, — достойной была бы ваша смерть и не столь мучительной — моя боль. Но от ничтожного дождя посреди двора! Нет, не будет мне вовеки утешения!
Виржиния, до глубины души тронутая горем ученейшего Ла Дандинардьера, молила его прекратить стенания, если он не хочет ее смерти, пообещав всем миром высушить его несчастных промокших авторов, чтобы те еще не раз послужили ему приятными собеседниками. Мартонида горячо поддержала сестру, приведя свои доводы, и наш удрученный герой решил, что будет неправ, если не утешится, коль скоро этого так желают самые очаровательные особы на свете. Он несколько раз тряхнул головой и произнес:
— Тоска, черная тоска, хочу, чтоб ты исчезла.
От этого с него слетел тюрбан, что явилось новой причиной для досады. Тогда приор, решив прервать череду неприятностей, попросил внимания присутствующих, чтобы начать чтение сказки, о которой им говорил. Все смолкли, и он начал так:
Пер. О. Л. Берсеневой
Голубь и Голубка[326]

Королева народила много детей, однако из всех осталась у нее одна лишь дочь, да такая красавица, что если мать и могла утешиться от стольких потерь, то лишь прелестью ее единственного выжившего ребенка. Они с королем растили ее так, словно в ней была вся их надежда, но счастье монаршего семейства было недолгим. Однажды король поехал на охоту, его лошадь, услышав выстрелы и шум, испугалась и понесла, молнией сорвавшись в галоп. Оказавшись у края обрыва, король попытался остановить ее, однако лошадь стала на дыбы и опрокинулась на спину. Падение было столь неудачным, что король погиб еще до того, как подоспела помощь.
Скорбная весть привела королеву в полное отчаяние: боль оказалась слишком жестокой, чтобы хоть чем-нибудь ее утихомирить. Она теперь думала лишь о том, как позаботиться о дочери, чтобы уйти из этого мира хоть с малой толикой покоя в сердце. У нее была подруга-фея, которую называли Владычицей, ибо она обладала большим влиянием во всех империях и была очень умна. Слабеющая королева написала ей, что хотела бы умереть у нее на руках и просила поспешить, чтобы застать ее еще живой, ибо ей нужно сообщить нечто очень важное.
Хоть и была фея очень занята, но оставила все дела, села на своего огненного верблюда, скакавшего быстрее ветра, и поспешила к королеве, с нетерпением ожидавшей ее. Та рассказала Владычице обо всем, что касалось управления делами королевства, и попросила взять под свою опеку маленькую принцессу Констанцию.
— Тревогу за дочь, которую я оставляю сиротой в столь нежном возрасте, способно умалить только одно — надежда, что вы будете ей таким же другом, каким всегда были мне, что в вас она найдет мать, лучше меня способную даровать ей счастье, и что вы найдете ей мужа, которого она сможет полюбить от всего сердца и на всю жизнь.
— Твои желания справедливы, великая королева, — молвила фея, — я сделаю для твоей дочери всё, о чем ты просишь. Однако я прочитала ее будущее по звездам. Кажется, сама Судьба разгневалась на природу, одарившую принцессу всеми достоинствами, и поэтому решила заставить ее страдать. А сколь неумолимы приговоры Судьбы, Ваше Королевское Величество знает, — как и то, что их невозможно избежать.
— Но, если уж нельзя предотвратить ее мучения, — взмолилась королева, — то прошу хотя бы постараться смягчить их. Ведь даже от больших невзгод можно спастись, если быть очень осторожным.
Владычица пообещала всё исполнить, и королева, обняв на прощание любимую Констанцию, почила с покоем в душе.
Фея умела читать по звездам с той же легкостью, с какой в наши дни читают новые сказки, каждый день выходящие в свет[327]. Она увидела, что принцессе грозит опасность из-за роковой любви к ней великана, владевшего соседними с Пустынным королевством землями. Владычица, постаравшись во что бы то ни стало избежать этого, не придумала ничего лучше, чем спрятать свою воспитанницу на краю земли, столь далеком от королевства великана, что его появление там и представить было невозможно.
Фея назначила министров, способных управлять государством, которое она собиралась им доверить, и издала законы столь справедливые, что все греческие мудрецы не смогли бы измыслить подобных; потом однажды ночью, зайдя в спальню Констанции и не разбудив ее, посадила принцессу на спину огненного верблюда и поскакала в благодатный край, где люди не знали ни жажды власти, ни иных забот: настоящую Темпейскую долину[328]. Там жили лишь пастухи да пастушки в хижинах, которые строили себе сами.
Владычица знала, что если Констанцию уберечь от влюбленного великана до ее шестнадцатилетия, то она сможет победоносно возвратиться в свое королевство, в противном же случае ее ждут большие несчастия; и поэтому фея старательно подыскивала принцессе надежное убежище, а чтобы скрыть ее красоту, одела ее пастушкой. Лицо девушки скрывала тень от большого чепца, всегда надетого на голову, но, подобно тому как солнце пронизывает лучами набежавшее облако, очарования принцессы все-таки нельзя было не заметить, и все вокруг, несмотря на хлопоты феи, о Констанции говорили не иначе как о совершенном творении небес, заставлявшем сердца трепетать от восторга.
Однако красота являлась отнюдь не единственным достоинством принцессы. Владычица одарила ее необычайно красивым голосом и талантом играть на любом музыкальном инструменте, да так, что Констанция, никогда не обучавшаяся музыке, могла давать уроки музам и самому божественному Аполлону[329].
Итак, зажила принцесса беспечно. Фея все же поведала ей, почему вынуждена воспитывать ее тайно. Констанция, обладавшая острым умом, отнеслась к этому столь рассудительно, что Владычице оставалось лишь удивляться, как, будучи еще ребенком, можно проявлять такую покорность и понимание. Уже несколько месяцев не появлялась фея в королевстве Пустынном, ибо не желала оставлять принцессу, однако пора было уже туда и наведаться — ведь министры, без нее не вполне справлявшиеся с делами, ждали ее приказов. Уезжая, Владычица строго наказала воспитаннице запереться дома до ее возвращения.
У прекрасной принцессы был маленький барашек, которого она очень любила. Она плела ему венки из цветов, иногда украшала бантами, а назвала его баран Хитрован, ибо он был весьма сообразителен и, стоило хозяйке только приказать, все послушно выполнял.
— Хитрован, — говорила она ему, — принеси мое веретено.
Барашек бежал в ее комнату и приносил оттуда веретено. Он радостно скакал вокруг принцессы, ел лишь ту траву, что она собирала для него, и скорее умер бы от жажды, чем выпил воды не из ее ладони. Еще он умел запирать дверь, отбивать ритм, когда она пела, и блеять в такт. Барашек любил хозяйку, а она любила его, говорила с ним без умолку и холила его да лелеяла.
Однако ничуть не меньше самой принцессы нравилась Хитровану очаровательная соседская овечка. Баран есть баран, и в его глазах самая жалкая овца прекраснее матушки Амуров[330]. Констанция же неустанно осуждала его заигрывания.
— Маленький распутник, — говорила она, — ты что же, бросить меня хочешь? Ты мне так дорог, что из-за тебя я не слежу за отарой, а ты ради меня не хочешь забыть эту паршивую овцу.
Она сажала его на привязь, сплетенную из цветов, однако разозленный этим барашек начинал скакать то в одну, то в другую сторону, и в конце концов ему удавалось вырваться.
— Вот как! — восклицала разгневанная Констанция. — Сколько раз твердила мне фея, что все мужчины такие же своенравные, как ты, и обращаются в бегство, едва лишь почуяв стеснение собственной свободе, и вообще что они самые строптивые животные на свете. Раз хочешь быть на них похож, упрямец Хитрован, иди к своей красавице овце, но смотри же: если тебя съест волк, значит, так тому и быть, и даже мне, быть может, тебя не спасти.
Влюбленный барашек не прислушался к словам Констанции. Как-то раз он гулял со своей овечкой неподалеку от домика, где работала одинокая принцесса, и вдруг заблеял так пронзительно, что не приходилось сомневаться — его похождениям настал печальный конец. Взволнованная принцесса выбежала во двор и увидела, что бедного маленького Хитрована уносит волк. Позабыв о наказе феи, она бросилась в погоню, крича:
— Волк, ловите волка!
Погнавшись за зверем, она кидала в него камни, но тот никак не отпускал добычу. Так вбежали они в рощу, как вдруг из-за деревьев выскочил еще один волк: а это и был великан. При виде столь устрашающего гиганта принцесса оцепенела от страха и принялась молиться, прося землю разверзнуться и поглотить чудовище. Однако мольбы ее остались без ответа: таково было наказание за то, что она ослушалась фею.
Великан расставил руки, загораживая ей путь, однако его ярость утихла, едва он увидел, как красива принцесса.
— Ты которая из богинь? — Голос его звучал оглушительнее громовых раскатов. — Не думай, что я обознался: ты не из смертных. Назови мне свое имя — уж не дочь ли ты Юпитера[331]? А может, его жена? Кто твои братья? А сестры? Давно уже я ищу богиню себе в жены и вот наконец-то нашел, на свое счастье.
От страха принцесса потеряла дар речи и не могла произнести ни слова.
Не услышав ответа, великан прогрохотал:
— Ты хоть и богиня, но ума у тебя с горошину.
Ничего более не сказав, он сграбастал Констанцию и бросил ее в свою огромную суму.
И что же увидела она на дне сумы? Злого волка и бедного барашка. Схватить их на бегу для великана было лишь забавою.
— Мы умрем вместе, мой милый Хитрован, — сказала она, обнимая его, — но малое же это утешение, лучше бы нам вместе спастись.
И она горько заплакала.
Принцесса рыдала, Хитрован блеял, а волк выл. От этого проснулись до сей поры спавшие там же пес, кот, петух и попугай и тоже принялись реветь и лаять на все лады. Вот шум-то поднялся в великановой суме! Вконец устав слушать, гигант хотел было всех убить, но передумал: только завязал суму в узелок и забросил на верхушку дерева, сделав на нем зарубку, чтобы знать, куда возвращаться, ведь он шел биться с другим великаном, а тут такой ор — еще бы это его не раздражало.
Принцесса хорошо знала: шаг великана так широк, что он уже ушел далеко, ведь, даже пойди он медленно, его не догнать и лошади, скачущей во весь опор. Она достала ножницы и разрезала суму, выпустив сначала Хитрована, за ним пса, кота, петуха и попугая, а потом выбралась сама, оставив внутри только волка, чтобы неповадно ему было есть беззащитных барашков. Кругом уже совсем стемнело, и так страшно было оказаться одной в лесу, не зная, в какую сторону направиться, не различая, где небо, а где земля, и каждый миг боясь наткнуться на великана.
Принцесса шла так быстро, как только могла, рискуя споткнуться и упасть — однако животные, освобожденные ею, в благодарность сослужили хорошую службу в пути. У кота глаза горели так ярко, что все вокруг освещалось словно факелом. Пес был за караульного и лаем предупреждал об опасности. Петух кукарекал, отпугивая львов. Попугай громко тараторил, чтобы казалось, что одновременно говорят двадцать человек. Поэтому разбойники предпочли держаться подальше от всей честной компании, и наша прекрасная путешественница была избавлена от опасностей. Барашек, оберегая ее от падения в лесные ямы, шел впереди и проваливался в них сам — выбираться ему приходилось с большим трудом.
Констанция шла куда глаза глядят, вверив свою судьбу в руки доброй феи, на помощь которой по-прежнему надеялась, хотя и корила себя за ослушание. Не раз она пугалась, что фея оставила ее, а ведь ей так хотелось найти дорогу к дому, где она тайно воспитывалась. Но она понимала, что помочь тут может разве только счастливый случай.
С первыми проблесками дня принцесса вышла к берегу реки, что несла свои воды через самый прекрасный на свете луг. Она огляделась — и не увидела ни пса, ни кота, ни петуха, ни попугая: с ней остался один Хитрован.
— Где же я? — спросила она. — Эти места мне вовсе не знакомы. Что станется со мной? Кто обо мне позаботится? Ах, барашек! Вот цена за твое спасение! Если б я не побежала за тобой, была бы я сейчас у феи Владычицы и не боялась бы ни великана, ни других напастей.
Понуро стоял рядом с нею баран Хитрован — он так дрожал, что, казалось, все понимал и стыдился своей вины. Наконец удрученной и усталой принцессе надоело бранить его. Она села на берегу реки и, укрывшись от жаркого солнца под сенью деревьев, смежила веки, опустилась на мягкую траву и уснула глубоким сном.
Верный барашек, ее единственный страж, вдруг подбежал к хозяйке, теребя ее за рукав и блея так громко, что наконец разбудил ее. Каково же было ее удивление, когда она увидела молодого человека, наблюдавшего за нею, укрывшись за кустом. Его статность, красота, благородный облик, великолепие одежд поразили принцессу; она тут же вскочила, решив поскорей уйти. Однако неведомые чары остановили ее, и она не смогла сделать ни шагу, лишь бросая испуганные взгляды на незнакомца: даже великан не внушал ей такого страху. Да ведь страх страху рознь, и эти двое уже обменивались взглядами, полными совсем иных чувств.
Быть может, они еще долго бы стояли так, разговаривая одними глазами, если бы принц не услышал приближавшееся пение охотничьих рогов и собачий лай. Заметив, как испугана принцесса, он сказал:
— Не бойтесь, прекрасная пастушка, вам не сделают ничего плохого в этих угодьях; и дай-то бог, чтобы тем же мог похвалиться любой, кто встретится вам по дороге!
— Господин, — ответила она, — прошу вашего покровительства; я бедная сирота, которой не досталось другого удела, кроме как быть пастушкой. Дайте же мне стадо, я буду заботиться о нем.
— Счастливы же те бараны, — улыбнулся юноша, — которых вы будете водить на выпас. Что ж, милая пастушка, коли вы того желаете, я поговорю с моей матерью — она королева — и с этой минуты всегда буду рад услужить вам.
— Ах, господин, — воскликнула Констанция, — прошу прощения за свою дерзость. Я бы не смела просить вас, знай я, кто вы.
Принц слушал ее с возрастающим удивлением. Она была умна и учтива; да и необыкновенная красота ее тоже казалась несовместимой с простой одеждой и ремеслом пастушки. Принц стал ее уговаривать:
— А что, если вы останетесь совсем одна в лесу или в поле, а рядом никого, кроме кротких овечек? А замеченная мною тонкость ваших манер, — как примирить ее с пребыванием в глуши? Молва о такой очаровательной пастушке разнесется в этом краю, и вам не скрыться от докучливого люда. Да я и сам, прелестная пастушка, готов последовать за вами, а уж будьте уверены, за мною последует и весь мой двор.
— Ах, господин, не льстите мне похвалами, коих я не заслуживаю. Я родилась в деревне и не видела ничего, кроме сельской жизни; смею лишь надеяться, что смогу мирно пасти стада королевы, коли Ее Величество соизволит мне их доверить, отдав меня по нижайшей просьбе моей в обучение пастушке поопытнее, от которой не отойду ни на шаг, и потому скучать мне не придется.
Принц не успел ничего ответить, ибо на холм выехали его ловчие.
— Я покидаю вас, очаровательная незнакомка, — сказал он поспешно, — ибо счастье, которое я обрел, увидев вас, — это счастье для немногих. Пройдите весь этот луг до конца и увидите дом. Скажите, что пришли от меня, и найдете там благословенный приют.
Констанция, смущенная беседой со столь знатной особой, поспешила направиться, куда указал ей Констанцио (так звали принца).
Он же, проводив ее взглядом, тихо вздохнул и, вскочив на коня, поехал к ловчим, однако так и не продолжил охоту. Явившись к матери, он нашел ее весьма разгневанной на старую пастушку за то, что та плохо заботилась о ягнятах. Королева отчитала старушку и велела больше не показываться ей на глаза.
Такое положение дел благоприятствовало замыслу Констанцио. Он рассказал матери, что повстречал девушку, которая старательна и бескорыстна и к тому же страстно хочет служить ей. Королеве пришелся по душе сыновний совет, и она согласилась взять пастушку, даже не взглянув на нее и сразу же велев принцу приказать отвести девушку на королевские пастбища. Констанцио же обрадовался, что ей не придется идти во дворец, ибо втайне опасался соперников, при том что ему не было равных по положению и достоинствам. По правде говоря, больше высокородных дворян его беспокоили простолюдины — принц полагал, что она скорее выберет пастуха, нежели принца, наследовавшего трон.
Трудно передать, что думал и чувствовал Констанцио, сколько упреков обрушил он на свое сердце, доселе никого не любившее, ибо не находило оно достойного предмета для любви; и что же — вот и полюбил он девушку столь низкого происхождения, что никогда не сможет признаться в своих чувствах не краснея. Он хотел побороть свою страсть, убеждая себя, что разлука — лучшее лекарство, особенно для едва зарождающегося чувства, и потому избегал новой встречи с пастушкой. Во время охоты или придворных увеселений, стоило ему лишь заметить поблизости отару, он тотчас поворачивал назад, словно бежал от ядовитых змей. Наконец оскорбительное для него чувство стало терять свою остроту. Но вот как-то в очень знойный летний день, утомившись после долгой охоты, Констанцио спешился у реки. Он шел по берегу в тени рябин, чьи ветви, зеленым пологом сплетаясь с ветвями ив, защищали его от ярких солнечных лучей. Принц, в одиночестве погрузившись в глубокую задумчивость, совсем позабыл даже, что его ждут при дворе, как вдруг услышал голос, столь прелестный, что показался ему неземным. Он остановился и был немало удивлен, услышав такие слова:
Увы, я поклялась презреть любовь,
Но вот готова клятву я нарушить;
Душевный жар мою терзает душу,
Я о Констанцио мечтаю вновь.
На берегу реки неподалеку
Явился мне красавец удалой:
Он отдыхал, главу склонив к потоку,
Укрывшись под живительной листвой.
Ах, не видала я мужей таких красивых
И замерла, приблизиться не в силах;
Амур пронзил меня своей стрелой,
И вот душа немыслимо страдает.
Как муки эти сладостны порой,
Пожар любви в груди моей пылает,
Не излечиться мне от раны той.
Любопытство взяло верх над удовольствием слушать прекрасное пение, и принц устремился навстречу голосу. Упоминание имени Констанцио поразило его, ведь именно так звали его самого; однако так же могли звать и любого пастуха, посему он не мог знать, ему или же кому другому предназначались слова песни. Едва он поднялся в рощицу на холме, как увидел внизу прекрасную Констанцию. Она сидела на склоне холма, у самого берега ручья, журчащего так мелодично, что ей, кажется, хотелось подпевать ему. Ее верный Хитрован, — как-никак любимец, — возлежал на травке рядом с нею, пока остальные паслись неподалеку. Констанция же то ребячески похлопывала его посохом, то нежно гладила; барашек же лизал ей руку, поглядывая на нее умными глазами.
— Ах! Как бы ты был счастлив, — прошептал принц, — понимай ты цену этим ласкам! Как! Пастушка стала еще прекраснее с той поры, как я ее повстречал! Амур, чего хочешь ты от меня? Должен ли я любить ее или могу еще воспротивиться? Я так старался избегать ее, — ведь я знал, что мне опасно ее видеть! О великие боги, как теперь откликается во мне след, оставленный первым движением сердца! Разум пытался уберечь меня, и я бежал от своей любви. Увы! И вот, вновь найдя ее, я слышу, как она поет об ином избраннике — и этот счастливец простой пастух!
Так рассуждал он сам с собою, а девушка тем временем поднялась, чтобы собрать отару и отвести ее на луг, где пасли овец другие пастушки. Принц, испугавшись, что больше не будет случая поговорить с нею, поспешил спуститься с холма.
— Милая пастушка, — молвил он, — позвольте спросить: довольны ли вы той небольшой услугой, что я оказал вам?
При виде его Констанция покраснела, что лишь подчеркнуло свежесть ее лица.
— Господин, — ответила она, — я бы обязательно пришла выразить вам мою глубочайшую благодарность, если бы пристало бедной девушке искать встречи с принцем. Но, хоть я и не сделала этого, призываю небо в свидетели, что меня нельзя упрекнуть в неблагодарности, ибо я молю богов ниспослать вам вечное счастье.
— Констанция, — сказал принц, — если правда, что мои благие намерения растрогали вас, вам легко будет выразить свою признательность.
— О! Что я могу сделать для вас, господин? — И она учтиво поклонилась ему.
— Вы могли бы поведать мне, — предложил принц, — кому это вы сейчас пели песню.
— Слова песни сочинила не я, — ответила Констанция, — и потому не могу ничего вам сказать.
Пока она говорила, принц пристально наблюдал за нею, и она смутилась, покраснела и опустила глаза.
— Зачем таить от меня свои чувства, Констанция? — спросил он. — Ваша тайна написана на вашем лице — вы влюблены.
И принц посмотрел на нее еще внимательнее.
— Господин, — сказала она, — то, что важно для меня, совсем неинтересно принцу, ведь я просто тихо пасу своих овечек; а посему молю простить меня за то, что не отвечу вам.
И она ушла так быстро, что он не успел ее остановить.
Порою ревность служит факелом, разжигающим любовь. Страсть же принца разгорелась в тот миг с такой силой, что ей уже не суждено было погаснуть. Он нашел в прекрасной пастушке тысячу новых прелестей, не замеченных им при первой встрече. Ее поспешное бегство вместе с услышанной им песней убедили принца, что она неравнодушна к какому-то пастуху. Глубокая печаль охватила его, он не осмелился преследовать ее, хотя очень хотел продолжить беседу, и просто прилег на траву там, где только что сидела Констанция. Он постарался припомнить слова песни и даже записать их; потом внимательно прочел.
— А ведь этого ее Констанцио, — рассуждал он, — она и увидела-то совсем недавно. И надо было случиться, что я ношу то же имя, но так далек от ее благосклонности! Как холодно она смотрела на меня! Сегодня, кажется, она ко мне еще равнодушней, чем в первую нашу встречу. Только и думала, как бы поскорее уйти.
Эти мысли привели его в еще большее уныние, ибо он не мог уразуметь, как простая пастушка могла оставаться столь безразличной к самому принцу.
Возвратившись во дворец, он послал за своим юным слугой. Тот был благородного происхождения и приятной наружности. Принц приказал ему переодеться пастухом, найти себе стадо и каждый день пасти его на королевских пастбищах, а самому проследить за Констанцией так, чтобы она ни о чем не догадалась. Миртэн (так звали юношу) слишком сильно желал угодить своему господину, чтобы упустить случай, по-видимому, столь важный для принца. Он пообещал на совесть выполнить приказ и на следующий же день отправился на пастбища; стража пустила его туда лишь после того, как он показал указ, подтверждавший, что новый пастух отвечает за баранов принца.
Тотчас Миртэну было дозволено присоединиться к другим пастухам. Учтивостью он без труда завоевал симпатию пастушек. Однако, сразу заметив, как гордо держит себя среди них Констанция, он подивился тому, что с ее красотою, умом и благородством живет она простой сельской жизнью. Напрасно он следил за нею — она лишь любила уединяться в густой роще и петь, и никто из пастухов не смел приблизиться к ней. Миртэн же, решив попытать счастья, с самым смиренным видом попался ей навстречу; тут-то он и сам понял, что она не желала ни с кем обручаться.
Каждый вечер он шел с докладом к принцу, а того новые известия лишь приводили во все большее отчаяние.
— Не стоит обманывать себя, господин, — сказал как-то раз Миртэн, — эта красавица влюблена, и, должно быть, возлюбленный остался в ее родном краю.
— Коли это правда, — возразил принц, — неужто не желала бы она туда вернуться?
— Что мы о ней знаем? — продолжал Миртэн. — Быть может, есть причины, мешающие ей возвратиться на родину? Быть может, она прогневалась на своего любимого?
— Ах! — вздохнул принц. — Слишком нежно пела она те слова, что я услышал.
— И то правда, — согласился Миртэн, — их именами исписаны все деревья. А раз ничего ей не нравится здесь, значит, ей дорого нечто в других краях.
— Испытай ее чувства ко мне, — сказал принц, — то хвали меня, то ругай, — так ты сможешь узнать, что она думает.
На следующий день Миртэн изыскал возможность поговорить с Констанцией.
— Что с вами, прекрасная пастушка? — спросил он. — Вы грустны, а ведь вам больше пристало радоваться, чем другим.
— Какой повод к веселью нашли вы для меня? — спросила она в ответ. — Мне приходится пасти овец вдали от дома, не получая вестей от родных. Это ли приятно?
— Нет, — ответил Миртэн, — но вы самая очаровательная девушка на свете, умны, восхитительно поете, и с вашей красотой ничто не сравнится.
— Да обладай я и вправду всем тем, что вы сказали, — произнесла она с глубоким вздохом, — немного же это бы для меня значило.
— Ах, вот оно что! — воскликнул Миртэн. — Так вы честолюбивы, жалеете, что не родились королевой и что в ваших жилах не течет кровь богов! Оставьте эти заблуждения. Я приближенный принца Констанцио; разумеется, я ему не ровня, но иногда говорю с ним, изучаю его, пытаюсь проникнуть в то, что у него на душе, и потому знаю, что он вовсе не счастлив.
— Ах! Да что же не дает ему покоя? — спросила принцесса.
— Роковая страсть, — отвечал Миртэн.
— Он влюблен? — взволнованно переспросила она. — Ах, как мне жаль его! Но что я говорю? Он слишком хорош, чтобы быть нелюбимым.
— Он сам не столь в этом уверен, прекрасная пастушка. Коли хотите его успокоить, так вашим словам он поверит куда охотнее, чем, например, моим.
— Не пристало мне, — молвила Констанция, — вмешиваться в дела великого принца, да еще в такие личные, чтобы я посмела даже помыслить, что приму в них участие. Прощайте, Миртэн, — добавила она, вдруг заторопившись уходить, — и, прошу вас, никогда более не говорите со мной ни о своем принце, ни о его любви.
Она удалилась взволнованная, ибо принц не был ей безразличен, и ей не удавалось позабыть об их первой встрече. Не будь она под действием тайных чар, — несомненно, отправилась бы на поиски Владычицы; удивительно, однако, что ученая, знавшая обо всем на свете фея сама не искала принцессу. Но тут уж Констанция ничего не могла поделать. После встречи с великаном ей оставалось лишь уповать на Судьбу: ведь предначертанное свыше непременно должно случиться, вот и приходилось фее навещать принцессу в образе солнечного лучика, в котором та, конечно, не смогла бы ее разглядеть.
Меж тем прелестную пастушку терзала досада — ведь принц, казалось, совсем о ней не думал, так что, не услышь он случайно ее пения, она бы никогда больше его и не увидела. От души укоряя себя за нежные чувства к нему, она, коль скоро можно и любить и ненавидеть разом, ненавидела его за то, что сама же слишком сильно любила. Сколько слез втайне пролила она! Их свидетелем был лишь Хитрован, коему часто поверяла она свои тревоги, как будто он мог понять ее. Когда он резвился в полях с овечками, Констанция кричала ему:
— Берегись, Хитрован! Берегись, как бы любовь не опалила тебя, ибо из всех бед эта — самая страшная. Что будешь делать ты, несчастный маленький барашек, если твоя любовь окажется безответной?
Устав от этих мыслей, она принималась осыпать себя упреками за свои чувства к равнодушному принцу. Изо всех сил стараясь забыть о нем, она вдруг однажды набрела на него самого, удобно прилегшего под деревом: здесь он мечтал о пастушке, от которой бежал; и когда его наконец сморил сон, появилась Констанция. Стоило ей лишь вновь увидеть его, как любовь ее разгорелась с новой силой; ведь в прошлый раз она не сдержала слов, заставивших принца встревожиться. Но как же опечалилась она, узнав от Миртэна, что Констанцио влюблен; и вот, как ни старалась, а не смогла она скрыть залившего ее щеки румянца. Миртэн, у которого были свои причины внимательно следить за нею, тотчас же отправился к своему господину и радостно сообщил ему об этом.
Однако принца, в отличие от слуги, это отнюдь не воодушевило. Ему по-прежнему казалось, что пастушка равнодушна к нему. А виноват в этом некий счастливец Констанцио, которого она любит. На следующий день он искал встречи, но, едва увидев его, Констанция поспешно скрылась, будто увидев льва или тигра, единственным спасением от коего было бегство. После беседы с Миртэном она поняла, что принца придется во что бы то ни стало вырвать из своего сердца, а самое для этого верное средство — всячески избегать его.
Что же сталось с Констанцио, когда он увидел, что прекрасная пастушка бросилась от него прочь? Он сказал Миртэну, стоявшему рядом:
— Видишь, каков результат всех твоих стараний. Констанция ненавидит меня, а я не решаюсь сам спросить о ее чувствах.
— Слишком уж вы обходительны с этой деревенской девушкой, — возразил Миртэн. — Если хотите, господин, я от вашего имени прикажу ей самой явиться к вам.
— Ах, Миртэн! — воскликнул принц. — Велика же разница между влюбленным и наперсником! Я-то думаю лишь о том, как бы ей понравиться, — ведь я заметил, что она весьма учтивая особа, которой никак не подобает твоя грубая тактика. Лучше уж страдать, чем огорчать ее.
И он удалился с видом столь печальным, что вызвал бы жалость у любого, не говоря уж о Констанции.
Едва принц исчез из виду, как она вернулась.
— Здесь он остановился, — говорила она, — а здесь взглянул на меня. Увы! Вот здесь я поняла, что ему безразлична; он приходит сюда помечтать о той, которую любит. Да ведь мне-то на что сетовать? Как может он любить девушку столь низкого происхождения?
Порою ей хотелось поведать ему о своих приключениях, но ведь Владычица строго-настрого запретила ей рассказывать об этом, и посему послушание до сего времени брало верх над желанием открыться: Констанция хранила молчание.
Несколько дней спустя принц вновь явился, и опять она постаралась избежать его общества. Он огорчился и велел Миртэну упрекнуть ее в этом; тогда Констанция отвечала, что ни о чем таком и не помышляла, но, коли уж он соизволил заметить это, впредь обещает быть внимательнее. Обрадованный Миртэн передал ее слова господину, и на следующий день принц снова отправился к ней. Озадаченная его визитом, она еще больше удивилась, когда он открыл ей свои чувства. Как ни хотелось ей поверить, но боялась она обмануться, сомневаясь, а не хочет ли он просто позабавиться над ее простотою, ослепив признанием в любви такую бедную пастушку. Раздраженная этой мыслью, она приняла высокомерный вид и так холодно приняла его заверения в любви, что он убедился в справедливости всех своих подозрений.
— Вы обижены, — сказал он ей, — другому удалось очаровать вас. Но клянусь богами, если я узнаю, кто он, уж я его не пощажу.
— Я ни для кого не прошу у вас милости, господин, — ответила она, — когда-нибудь вы узнаете, сколь далеки мои чувства от тех, кои вы мне приписываете.
Тут в сердце принца затеплилась было надежда, но она тотчас погасла, когда красавица пастушка принялась уверять его, что никогда не сможет полюбить. Эти слова причинили ему невероятную боль, и он едва сдержался, чтоб не обнаружить ее перед нею.
Следствием его терзаний, или, быть может, страсти, которую лишь распаляли стоявшие на его пути препятствия, стал недуг принца. Да такой тяжелый, что не понимавшие его причин врачи не надеялись уже спасти его жизнь. Миртэн, по его приказу не отходивший от Констанции, сообщил ей горестные известия, которые она выслушала с невыразимой тревогой.
— Не знаете ли вы лекарства, — спросил у нее Миртэн, — от жара и от сильных болей, головных и сердечных?
— Мне знакомо одно средство, — ответила она, — цветущая целебная трава. Все дело в том, как ее применить.
— Не соизволите ли вы явиться для этого во дворец?
— Нет, — сказала она, краснея, — я слишком боюсь неудачи.
— Неужто вы пренебрежете возможностью спасти принца! — воскликнул Миртэн. — Ах, а ведь я знал, что вы жестоки, но вот уж не думал, что настолько.
Констанции понравилось, что Миртэн осыпал ее упреками; обрадовалась она и тому, как молил он прийти навестить принца, ибо для того-то она и придумала, что знает подходящее лекарство, хотя это было совсем не так.
Миртэн же, вернувшись к принцу, рассказал ему, с каким жаром пастушка пожелала его выздоровления.
— Ты пытаешься подбодрить меня, — молвил Констанцио, — я прощаю тебя за это, ведь мне и самому хочется верить, что эта девушка питает ко мне симпатию. Ступай к королеве и скажи ей, что одна из ее пастушек обладает чудодейственным умением и сможет меня исцелить. Получи позволение привести ее. Беги, лети, Миртэн, ибо даже минута сейчас кажется мне вечностью.
Королева еще не видела пастушку и, когда Миртэн заговорил о ней, заявила, что не верит маленьким невеждам, которые хвастают своими знаниями, — все это, дескать, чистой воды безумие.
— Ваша правда, госпожа, — согласился Миртэн, — однако случается и такое, что травы исцеляют там, где бессильны все книги Эскулапа[332]. Принц так плох, что желает испробовать средство, о котором известно этой девушке.
— Пусть будет так, — молвила королева, — но, если она его не вылечит, я обойдусь с ней столь сурово, что она не дерзнет больше лгать.
Миртэн возвратился к своему господину и сообщил, что королева в дурном расположении духа, и он боится за Констанцию.
— Пусть лучше даст мне умереть! — вскричал принц. — Поди назад и скажи матери, что я прошу оставить эту милую девушку подле ее баранов. Какова плата за ее старания! Боль моя становится нестерпимой при мысли об этом!
Миртэн вновь поспешил к королеве, чтобы от имени принца просить ее не посылать за Констанцией. Однако ту, особу весьма вспыльчивую, такая непоследовательность лишь рассердила.
— Я уже отправила за ней, — сообщила она, — пусть вылечит моего сына, если сможет — и тогда я награжу ее, но уж если нет — сделаю с ней все что захочу. Вы же возвращайтесь к принцу и постарайтесь его развеселить, его тоска огорчает меня.
Послушный Миртэн, вернувшись, не сказал господину о гневе его матери, побоявшись, что принц умрет от беспокойства о своей пастушке.
Королевские пастбища лежали недалеко от города, и принцесса быстро пришла ко дворцу — ведь она словно бы летела туда на крыльях любви. Когда Констанция явилась, королеве тотчас доложили; однако она не удостоила ее встречи, лишь передав, что, коли не удастся пастушке исцелить принца, ее зашьют в мешок и бросят в реку. Услышав такую угрозу, принцесса побледнела, кровь застыла у нее в жилах.
«Увы! — подумала она. — Поделом мне будет за ложь — ведь никакого средства я не знаю. Слишком безрассудным было мое желание увидеть Констанцио, чтобы рассчитывать на помощь богов».
Она покорно опустила голову, и слезы покатились по ее щекам.
Все, кто видел это, взирали на нее с восхищением; она показалась им неземным созданием.
— Чего боитесь вы, прекрасная пастушка? — спрашивали они. — Один взор ваш способен даровать жизнь и отнять ее, и вы можете спасти принца, лишь посмотрев на него. Ступайте же в его покои, осушите слезы и без страха примените ваши целебные травы.
С ней говорили так любезно, а увидеть принца так хотелось, что она, почувствовав себя уверенней, попросила провести ее в сад, чтобы самой собрать все необходимое. Она сорвала мирт, клевер, другие травы и цветы, одни были посвящены Купидону, другие — его матери; потом, взяв перья голубки, пролила на них несколько капель крови голубя, воззвав к покровительству всех божественных сил и фей[333]; затем, дрожа сильнее, чем горлица при виде коршуна, объявила, что готова идти к принцу. Он лежал в постели, бледный, с тоской в глазах, но едва заметил Констанцию, как щеки его окрасил слабый румянец, что несказанно обрадовало принцессу.
— Господин, — сказала она ему, — вот уже несколько дней, как я молюсь о вашем выздоровлении. Сгоряча обмолвилась я одному из ваших пастухов, что мне известно целебное средство, которое могло бы облегчить ваши страдания. Однако королева пригрозила, что, если небеса покинут меня в моем начинании, она прикажет казнить меня, утопить, коли вы не поправитесь. Судите же сами, господин, каково мне приходится, а все ж не сомневайтесь, что ваше спасение волнует меня сильнее, чем мое собственное.
— Не бойтесь ничего, милая пастушка, — ответил ей принц, — молитвами вашими жизнь вернется ко мне и будет стократно дороже, чтобы ни дня более не проходило без пользы. Но, увы! Суждены ли мне дни счастливые? Ведь я помню, как вы пели о Констанцио; роковые слова той песни вместе с вашей холодностью и повергли меня в то плачевное состояние, в каком вы меня видите. Однако, прекрасная пастушка, велите мне жить — и я буду жить лишь для вас.
С большим трудом скрыла Констанция, как обрадовало ее столь обязывающее признание; опасаясь, однако, что их могли подслушивать, она спросила разрешения надеть ему на голову венок, а на запястья — браслеты из собранных ею трав. Принц протянул ей руки с такой нежностью, что она слишком поспешно закрепила травяной браслет, боясь, как бы кто не догадался о том, что меж ними происходит. Тут принц, церемонно обратившись к придворным, объявил, что ему лучше и боль утихла. Это было правдой: послали за лекарями, и те изумились было столь быстрой чудодейственности целебного средства, но, едва увидев пастушку, на своем ученом языке признали, что в одном лишь ее взгляде больше силы, чем во всех их лекарствах.
Пастушку так мало трогали расточаемые ей похвалы, что не знакомые с нею люди почли глупостью то, что объяснялось совсем иначе. Она уединилась в уголке, словно стараясь спрятаться, и выходила лишь затем, чтобы потрогать лоб принца и пощупать его пульс; тут-то и успевали они наговорить друг другу множество нежностей, продиктованных скорее сердцем, чем разумом.
— Надеюсь, господин, — сказала Констанция принцу, — что мешок, который велела сшить королева, не станет зловещим орудием смерти и столь ценное для меня ваше здоровье к вам вернется.
— Все зависит лишь от вас, милая Констанция, — ответил он, — немного вашего участия — и я обрету покой и возвращусь к жизни.
Принц поднялся с ложа и направился в покои королевы, которая не поверила своим ушам, когда ей доложили о его приходе. Бросившись ему навстречу, она с изумлением столкнулась с ним в дверях.
— Как! Дорогой сын мой, да вы ли это! — воскликнула она. — Кому же я обязана вашим чудесным исцелением?
— Лишь своей доброте, госпожа, — ответил принц. — Вы прислали мне самого искусного лекаря на свете, и теперь я молю вас вознаградить ее соразмерно помощи, что она мне оказала.
— Не к чему торопиться, — сурово отрезала королева. — Пусть всю жизнь пасет моих овец и будет счастлива.
Тут в покои принца как раз явился король, уже оповещенный о его выздоровлении. Стоило ему войти, как он сразу же глаз не смог оторвать от Констанции; красота ее, сиявшая тысячью солнц, так ослепила его, что он даже не сразу спросил придворных, что за чудесное создание предстало его взору и давно ли во дворце поселились богини. Наконец, овладев собою, он подошел к ней, и, догадавшись, что это и есть волшебница, исцелившая его сына, обнял ее, галантно шепнув, что подчас тоже болеет и молит ее вылечить и его тоже.
Не мешкая, король повел к супруге Констанцию, которую королева доселе не видела. Когда же встреча произошла, — изумлению ее не было предела: она упала в изнеможении, испустив громкий крик и не спуская с пастушки гневного взгляда. Констанция и Констанцио застыли в страхе, да и король с придворными не знали, чему приписать столь резкое недомогание. Наконец, когда королева овладела собой, король спросил, что явилось причиной ее неожиданной слабости; она развеяла его беспокойство, объяснив все духотой; однако принца, хорошо знавшего свою мать, не покидала тревога. Но королева весьма доброжелательно обошлась с пастушкой и велела ей остаться подле себя, чтобы ухаживать за ее цветником. Принцесса обрадовалась тому, что сможет жить во дворце, где каждый день будет видеть Констанцио.
Король же, оставшись с королевою наедине, несмотря на все ее заверения, вновь с нежностью спросил, что же ее так расстроило.
— Ах, ваше величество! — воскликнула она. — Мне приснился ужасный сон. Я никогда раньше не видела эту пастушку, но тотчас узнала ее: в том сне она выходила замуж за нашего сына. Не сомневаюсь, что эта несчастная крестьянка причинит мне немало страданий.
— Ну, зря вы так беспокоитесь; уж это и вовсе сомнительно, — отвечал ей король. — Послушайте моего совета: не стоит воспринимать все так серьезно. Отошлите пастушку сторожить ваши стада и не печальтесь.
Эти слова разозлили королеву; не послушав его, она постаралась получше разузнать о чувствах своего сына к Констанции.
Принц же не упускал возможности повидаться с ней, заходя в сад, где она ухаживала за цветами; казалось, стоит ей только прикоснуться к ним, как они становятся пышнее и прекраснее. Хитрован был с ней неразлучен. Иногда она рассказывала ему о принце, как будто барашек мог понять ее; но стоило тому появиться самому, как она тотчас терялась — ведь глаза выдавали тайну ее сердца, и тогда счастливый принц говорил ей слова, на которые способна вдохновить лишь самая нежная любовь.
Тем временем королева, встревоженная своим сновидением и необычайной красотой Констанции, лишилась сна совсем. Встав затемно и притаившись за зелеными изгородями или укрывшись в гроте, она всячески старалась подслушать разговоры сына с красавицей пастушкой. Однако и он, и она осмотрительно перешли на шепот, так что королеве оставалось лишь подозрительно качать головою. От этого ее охватывало еще большее беспокойство и на сына она теперь поглядывала с презрением: ведь ее неотступно преследовала мысль, что однажды эта пастушка взойдет на трон.
Как ни старался Констанцио быть осторожным, однако, несмотря на это, все заметили, что он влюблен в Констанцию; хвалил ли он ее с неподдельным восхищением, бранил ли для отвода глаз, — но было ясно, что он неравнодушен к Констанции, которая тоже не могла удержаться, чтобы не рассказать о нем своим подругам. Она часто пела песню, сочиненную ею для принца, и королева, слушая ее, изумилась красоте и голоса, и слов.
— Чем, боги милосердные, прогневала я тебя? — вопрошала она. — За что наказываешь ты меня тем, что мне всего мучительнее? Ах! Я хотела женить сына на своей племяннице, но — вот же досада! — привязался он к этой пастушке, а ведь она наверняка заставит его воспротивиться моей воле.
Пока она терзалась, придумывая тысячи жестоких способов наказать девицу за ее красоту и очарование, страсть наших молодых влюбленных все разгоралась. Констанция же, уверившись в искренности принца, открыла ему и благородство своего происхождения, и свои чувства. Нежное признание и ее исключительное доверие так очаровали его, что он готов был тотчас броситься ей в ноги, но пришлось сдержаться — ведь они гуляли в саду королевы. И без того уж не желая сопротивляться своей страсти, он еще больше полюбил Констанцию-пастушку, узнав, что она высокого рода. Если он и поверил без труда в невероятное — что прекрасная принцесса скитается по белу свету, служа то пастушкой, то садовницей, то лишь потому, что в те времена подобные приключения были делом обычным, к тому же манеры Констанции казались ему лучшим ручательством ее искренности.
Принц, полный любви и почтения, поклялся принцессе в вечной верности, получив от нее ответную клятву; они пообещали друг другу пожениться, как только получат согласие тех, от кого зависели. Королева поняла силу этой зарождающейся любви. Ее наперсница, изо всех сил старавшаяся разузнать что-нибудь в угоду госпоже, однажды рассказала королеве, что каждое утро Констанция отправляла Хитрована в покои принца; барашек нес две корзинки, полные цветов, а вел его Миртэн. Тут королева потеряла всякое терпение; выследив, каким путем ходил баран, она подстерегла его и, несмотря на мольбы Миртэна, отвела в свои покои. Там она разодрала корзинки вместе с цветами на мелкие кусочки, найдя в одной еще не раскрывшейся гвоздике клочок бумаги, весьма ловко упрятанный туда Констанцией. Это была записка, в которой она мягко упрекала принца, что тот почти каждый день подвергался большой опасности на охоте, причем в стихах:
Когда идете в лес вы на охоту,
Тревог моих вовек вам не понять.
Какая, принц мой, право, вам забота,
В чащобах зверя лютого пугать?
Останьтесь, не ходите за ворота,
Пускай медведь в своей берлоге спит
И вам жестокой смертью не грозит.
Пока королева неистовствовала, Миртэн поспешил рассказать своему господину о несчастье, приключившемся с барашком. Встревоженный принц прибежал в покои матери, но она уже была у короля.
— Видите, Ваше Величество, — говорила она, — вот каковы они, благородные наклонности вашего сына. Он влюблен в эту несчастную пастушку, которая убедила нас, будто знает верное средство исцелить его. Ах! Амур и правда научил ее слишком многому. Она вернула ему здоровье лишь затем, чтобы причинить великое зло. Если мы не предотвратим грозящей нам беды, мой сон обернется явью.
— Вы всегда уж слишком суровы, — ответил король. — Все хотите, чтобы сын ни о ком и не мечтал, кроме принцессы, выбранной для него вами, да только не так это легко. Будьте же хоть немного снисходительней к его возрасту.
— Не могу стерпеть, что вы на его стороне и никогда его не браните, — вскричала королева. — Я прошу вас только отослать его на время, ибо разлука будет действеннее всех моих уговоров.
Король был миролюбив и согласился с женой. Тотчас она вернулась к себе и увидела, что принц ждет ее, пребывая в великом волнении.
— Сын мой, — начала она, даже не дав ему заговорить, — только что король показал мне письма от своего брата-короля, который молит его отправить вас к нему, дабы познакомить с принцессой, предназначенной вам в жены с самого детства; пусть она увидит вас, — ведь будет только справедливо, если вы сможете оценить ее и полюбить еще прежде, чем соединитесь навеки?
— Я не желаю для себя особых прав, — ответил ей принц. — Не в обычае монархов, госпожа, выбирать себе нареченных по зову сердца; нет — заключая брак, нужно заботиться об интересах государства, и, будь выбранная вами для меня невеста хоть красавицей, хоть уродиной, умной ли или глупой, я не стану вам ни в чем перечить.
— Ах, негодяй! — неожиданно вспылила королева. — Да ведь я знаю, что ты влюблен в недостойную пастушку и не хочешь с нею расставаться. Брось ее — а не то прикажу казнить ее на твоих глазах. Но если ты без колебаний уедешь и хорошенько постараешься ее забыть, я оставлю ее подле себя и буду любить так же сильно, как сейчас ненавижу.
Принц, побледнев так, словно он уже расставался с жизнью, раздумывал, как поступить, и видел надвигавшиеся отовсюду невыносимые страдания. Зная, что его мать — самая жестокая и мстительная королева на свете, он боялся, что сопротивление разозлит ее, и первой, кто от этого пострадает, окажется его возлюбленная. Наконец, принужденный дать ответ, он согласился уехать, — но так, словно принимал чашу смертоносного яда.
Выйдя от матери, принц тут же отправился к себе; сердце у него щемило так, что он едва не умер. Он поведал о своей печали Миртэну; ему не терпелось рассказать обо всем и Констанции, и он нашел ее в гроте — там она скрывалась в часы, когда солнце в цветнике палило особенно нещадно. На ложе из травы, у ниспадавших со скал водных потоков, она расплела косы, и белокурые локоны нежнее шелка заструились по плечам. Она опустила босые ноги в воду и от усталости погрузилась в сон под приятное журчание ручейка. Не слабело очарование даже закрытых глаз ее, ибо ресницы, длинные и темные, подчеркивали белизну кожи. Казалось, вокруг нее порхают грации и амуры, а скромность и нежность лишь придавали ей еще больше привлекательности.
Такой и застал ее влюбленный принц, вспомнив, что и в первую их встречу она спала так же, как и сейчас; однако с тех пор его чувства преисполнились такой нежности, что он охотно отдал бы полжизни, чтобы другую половину прожить с нею. Он немного полюбовался ею, и наслаждение смягчило тоску. Окинув взором ее прелести, он увидел ножку, белее снега. Принц не мог не умилиться; подойдя, он опустился на колени и взял ее за руку. Она тотчас пробудилась и, смутившись оттого, что он смотрит на ее босые ноги, прикрыла их платьем, при этом покраснев, словно алая роза, что распускается с первыми лучами солнца.
Увы! Румянец недолго продержался на ее щеках: она увидела в глазах принца смертельную грусть.
— Что с вами, сударь? — спросила она испуганно. — Я вижу в вашем взгляде такую печаль…
— Ах! Да как же мне не печалиться, милая принцесса! — тяжко вздохнул он, и слезы, которые он был не в силах сдержать, покатились по его щекам. — Нас разлучают. Или мне придется уехать, или вам — испытать на себе всю жестокость королевы. Она знает о моей любви к вам и даже видела вашу записку: мне сказала об этом одна из ее фрейлин. Не имея ни малейшего желания понять мою боль, она посылает меня к королю, брату моего отца.
— О чем вы, принц? — воскликнула Констанция. — Покинуть меня, по-вашему, означает спасти мою жизнь? Как могли вы даже подумать такое? Да мне легче умереть на ваших глазах, чем жить вдали от вас.
Речи столь проникновенные, как и следовало, часто прерывались всхлипываниями и рыданиями; влюбленные, не предвидевшие разлуки и еще не изведавшие ее тягот, страдали от этого еще сильнее. Они тысячу раз поклялись друг другу не изменять своим чувствам, и принц пообещал Констанции вернуться как можно скорее.
— Я еду лишь затем, — сказал он ей, — чтобы рассердить дядю и его дочь. Тогда он больше не захочет отдавать мне ее в жены. Я всячески постараюсь не понравиться ей и преуспею в этом.
— В таком случае, не показывайтесь ей, — взмолилась Констанция, — ибо, как ни старайтесь, а наверняка придетесь ей по душе.
Оба плакали так горько, прощаясь с такой трогательной тоской и клянясь в любви столь пылко, что одни лишь простые заверения в том, что их нежные чувства никогда не угаснут, служили им настоящим утешением.
Время за нежной беседой пролетело быстро, уже настала глубокая ночь, а они не могли и подумать о том, чтобы расстаться. Королева, однако, желала спросить, какого мнения принц о том экипаже, что повезет его. Миртэн поспешил за ним и нашел сидящим у ног возлюбленной, чью руку он сжимал в своих ладонях. Заметив Миртэна, влюбленные крепко обнялись и умолкли. Слуга же передал господину, что королева хочет его видеть; пришлось повиноваться, и принцесса отпустила Констанцио.
Королева нашла принца печальным и переменившимся. Она с легкостью догадалась, что было тому причиной, но не желала более говорить об этом. Нужно было лишь отослать его. К отъезду подготовились так быстро, что тут, казалось, не обошлось без фей. Принц же только и думал, что о своей любви. Повелев Миртэну остаться при дворе, чтобы самому каждый день получать от него весточки о принцессе, он оставил ему самые красивые драгоценные камни на случай, если они понадобятся Констанции. В столь важном деле принц проявил чрезвычайную предусмотрительность. Наконец пришло время уезжать. Отчаяние наших влюбленных не описать словами; надежда вскоре увидеться вновь — лишь она одна могла умалить его. Расставаясь, Констанция осознала, как она несчастна: дочь короля, владычица обширных земель, оказалась в руках жестокой королевы, которая отсылает своего сына, опасаясь, что он полюбит пастушку, — а ведь принцесса ни в чем не уступала ему, и, распорядись по-иному ее судьба, величайшие правители на свете могли бы добиваться ее руки.
Королева осталась весьма довольна, что сын уехал: теперь ей оставалось лишь перехватывать адресованные ему письма, из которых она узнала, что доверенным лицом его был Миртэн, и приказала схватить его по ложному обвинению. Его сослали в один из замков, где заточили в темнице. Принц, немало рассерженный известиями об этом, тут же написал королю с королевой письмо с требованием освободить своего фаворита, однако просьбы его остались без ответа; но не только от этого намеревались заставить его страдать.
Однажды, поднявшись вместе с зарей, принцесса направилась в сад, чтобы собрать цветов, которыми обычно украшали одеяние королевы. Хитрован забежал далеко вперед, но вдруг неизвестно почему вернулся, дрожа от страха. Констанция пожелала разузнать, что его так напугало; но пока она шла вперед, барашек все тянул ее за платье, не пуская, ибо был весьма умен. Тут принцесса услышала тонкое змеиное шипение, и ее в мгновение ока окружили жабы, гадюки, скорпионы, аспиды; бросаясь на нее, чтобы ужалить, они почему-то каждый раз падали в нескольких шагах, так и не дотянувшись до Констанции, словно окруженной невидимой стеной.
Несмотря на охвативший ее ужас, Констанция подивилась такому чуду, которое могла объяснить лишь тем, что ее защитило подаренное возлюбленным кольцо. А ядовитые твари поднимались отовсюду, куда ни повернись, — они ползли по дорожкам аллей, под деревьями, висели на цветах. Прекрасная принцесса не знала, что и делать, как вдруг в окне дворца заметила королеву, посмеивавшуюся над ее испугом; на ее помощь нечего было и надеяться.
— Настал час моей смерти, — отважно сказала Констанция, — эти чудовища приползли сюда не сами, их доставили по приказу королевы, — уж очень хочется ей поглядеть, как я расстанусь с жалкой жизнью, коей вовсе не дорожу — так несчастна я была до сей поры, что если и не желаю умирать, то сами боги, справедливые боги знают, кто единственный дорог мне в этом мире.
С этими словами она пошла прямо в клубок змей, но твари расползались во все стороны, давая ей дорогу, чему она сама удивилась не меньше королевы, — ведь та приказала собрать всех опасных змей, чтобы они умертвили пастушку укусами; вот-де умерла она от причин естественных, так что королевскому сыну нечему удивляться и некого в этом винить. Однако, видя, что план ее не удался, королева решила прибегнуть к другому средству.
На лесной опушке жила одна фея, и владения ее были неприступны, ибо лес охраняли ее слоны, отличавшиеся столь завидным аппетитом, что поедали всех без разбору — и несчастных путешественников, и их коней, и даже их доспехи. Королева условилась с волшебницей, что если вдруг, чудом, кто из слуг ее доберется до дворца в лесу, то фея даст этому человеку что-нибудь смертоносное, якобы чтобы передать государыне, на самом же деле чтобы погубить гонца.
Потом она послала за Констанцией и велела ей отправляться в путь. Принцесса слышала от товарок, сколь опасно ходить в этот лес; одна старая пастушка рассказывала, что ее однажды спас в этом лесу маленький барашек — ибо какими бы разъяренными ни были слоны, но стоит им увидеть ягненка, как они становятся такими же кроткими. Еще старушка добавила, что посылали ее в лес за огненным поясом для королевы, а она, испугавшись, стала обвязывать им деревья: на какое дерево повяжет — то и сгорит; а самой пастушке сей пояс, вопреки желаниям королевы, никакого вреда не причинил.
Когда принцесса слушала эту сказку, она и вообразить не могла, что все это ей когда-нибудь пригодится; но, услышав приказ королевы (да еще и отданный таким непререкаемым тоном, что о возражениях говорить не приходилось), она взмолилась, прося о помощи богов и отправившись в лес вместе с Хитрованом. Королева же торжествовала.
— Ну вот, — говорила она королю, — больше мы не увидим сей постыдный предмет любви нашего сына — я отправила ее туда, где тысячи таких, как она, слонам хватит на один зуб.
— Слишком уж вы мстительны, — ответил король, — а я вот поневоле жалею такую красавицу — я за всю жизнь подобной ей не видывал.
— Что ж, дело! — молвила королева. — Вот и любите ее, оплакивая ее кончину, как недостойный Констанцио оплакивает разлуку с нею.
Тем временем Констанция вступила в лес, и ее тут же окружили ужасающе огромные слоны. Но едва эти гиганты увидели барашка, шагающего смелее своей хозяйки, как принялись гладить его своими грозными хоботами так же нежно, как могла бы погладить своей ручкой ласковая пастушка. Принцесса, боясь, что к ней-то слоны не проявят такой же благосклонности, взяла Хитрована на руки, хотя тот и был весьма тяжел; стараясь, чтобы слоны не упускали его из виду, она потихоньку приближалась прямо ко дворцу недосягаемой волшебницы.
Она пришла туда, дрожа от страха и усталости. Места, как показалось ей, тут были дикие и запущенные; под стать им была и жившая там фея, которая тщетно пыталась скрыть свое удивление, — ведь уже давным-давно ни одна живая душа не добиралась сюда.
— Что тебе надобно, красавица? — спросила она.
Принцесса смиренно передала ей наставления королевы и от ее имени попросила пояс дружбы.
— Я выполню ее просьбу, — ответила фея, — но знай: пояс конечно же предназначен тебе.
— Этого я не знаю, — сказала Констанция.
— Ну, зато я-то уж знаю наверняка.
Из шкатулки фея достала синий бархатный пояс с длинными шнурками для кошеля, ножниц и ножа и протянула его Констанции.
— Держи, — сказала она, — в нем ты будешь просто ослепительна; но только надень его сразу, как снова будешь в лесу.
Поблагодарив ее, Констанция ушла, взяв на руки Хитрована; сейчас он был ей особенно необходим; потому-то слоны, несмотря на свою кровожадность, обрадовались им и дали дорогу. Принцесса не забыла, что пояс надо повязать на дерево — и оно тут же сгорело, да так, словно вокруг заполыхал вселенский пожар. Тогда она стала повязывать его на другие деревья, пока не сожгла их все, а потом, совсем изможденная, вернулась во дворец.
Королева, увидев ее, не смогла скрыть изумления:
— Обманщица! Вы не ходили к моей подруге фее?
— Прошу прощения, госпожа, — ответила прекрасная Констанция, — но я принесла вам от нее пояс дружбы, который попросила от вашего имени.
— Что ж вы сами-то его не надели? — спросила королева.
— Он слишком дорогой для бедной пастушки, — молвила Констанция.
— Вовсе нет, — возразила королева, — я дарю его вам за ваши труды, обязательно наденьте и носите. Но расскажите же, кого повстречали вы по дороге?
— Я видела слонов, столь разумных да обходительных, что в любом краю иметь таких почли бы за счастье; в лесу они живут точно у себя в королевстве, и есть среди них господа и слуги.
Раздосадованная королева промолчала в ответ, надеясь, что пояс спалит пастушку и ей уж тогда не поможет никто на свете.
— Коли даже слонам, и тем ты понравилась, — прошептала она еле слышно, — уж пояс-то это исправит; узнаешь ты, чего стоит моя дружба и какова расплата за то, что мой сын полюбил тебя.
Констанция удалилась в свою каморку, где принялась плакать от разлуки с милым принцем. Она не осмеливалась писать ему, зная, что по всей округе полно соглядатаев королевы и они перехватывают гонцов, — так к королеве попадали письма ее сына.
— Увы! Констанцио, — говорила принцесса, — скоро до вас дойдут печальные известия обо мне. Зачем только вы уехали, оставив меня на расправу вашей матушке, вместо того чтоб защитить или хоть услышать мой последний вздох; а теперь я полностью в ее власти, и нет мне утешения.
На заре она, как всегда, отправилась работать в сад, где ее вновь поджидали ядовитые твари, но кольцо надежно защищало ее. Надела она и пояс из синего бархата. Когда королева увидела, что принцесса как ни в чем не бывало собирает цветы, точно повязав на талию простую нитку, она пришла в отчаяние.
— Что за неведомая сила помогает этой пастушке? — вскричала она. — Моего сына она просто околдовала; вылечила его простыми травами; змеи и аспиды ползают у ее ног и не могут ужалить, слоны становятся обходительны и ласковы, пояс, который должен был ее сжечь силой своих чар, для нее лишь украшение. Придется поискать средства понадежнее!
Тотчас она отправила преданного капитана своей гвардии в порт, чтобы тот узнал, какие корабли готовы к отплытию в самые дальние края. Нашлось одно судно, которое ночью отчаливало. Несказанно обрадованная королева приказала переговорить с капитаном, предложив ему купить самую красивую на свете рабыню, на что тот с радостью согласился. Он явился во дворец, чтобы взглянуть на ни о чем не подозревающую Констанцию. Увидев ее в саду, капитан изумился ее неподражаемой красоте, и королева, умевшая из всего извлечь выгоду, продала ее задорого, ибо отличалась еще и превеликой жадностью.
Констанция ведать не ведала о поджидавших ее новых злоключениях. Она поскорее вернулась к себе в каморку, — ей хотелось побыть одной, помечтать о Констанцио и ответить на одно из его писем, все-таки дошедшее до нее. Она читала и перечитывала его, не в силах оторваться, как вдруг вошла к ней сама королева, у которой были ключи от всех дверей во дворце; за нею следовали двое немых и капитан гвардии. Немые засунули кляп Констанции в рот, связали ее и понесли прочь; барашка Хитрована, бросившегося было вслед за любимой хозяйкой, королева схватила и зажала под мышкой, боясь, как бы его блеяние не привлекло народ, — ведь все произошедшее должно было оставаться в тайне. Так Констанцию, которой неоткуда было ждать помощи, доставили на корабль, только и ждавший ее, чтоб отчалить, и сразу же вышедший в открытое море.
Вот какая горькая выпала ей судьбина — плыть на этом корабле, и даже фея Владычица не могла тут ничем помочь, разве только повсюду следовать за принцессой, скрываясь в темном облаке, где никто не мог ее распознать. Тем временем принц Констанцио, поглощенный своей страстью, оказался весьма несдержан с принцессой, выбранной ему в жены. Столь учтивый по природе, он позволял себе с нею много резкостей. Та жаловалась своему отцу, и он бранил племянника, а свадьба все откладывалась и откладывалась. Как-то королева написала принцу, что Констанция при смерти. Испытав невыносимую боль, он, не думая больше ни о чем, кроме опасностей для жизни как ее, так и своей, с молниеносной быстротой собрался в путь.
Поспешность не помогла — он приехал слишком поздно. Королева, предвидевшая его возвращение, несколькими днями ранее распространила слух, что Констанция больна: фрейлины, рта не раскрывавшие без ее приказаний, теперь разнесли молву, что пастушка умерла и погребена; похоронили же вместо нее восковую куклу. Во что бы то ни стало желавшая заставить сына поверить в это королева приказала выпустить из темницы Миртэна, а ему — присутствовать на похоронах, и вскоре все узнали о прискорбном событии; осталось лишь оплакать прекрасную деву. Королева же всюду появлялась с печальным лицом — уж она-то умела придавать своим чертам любое выражение, какое только захочет.
Принц же, в невообразимой тревоге, едва въехав в город, спросил у первого же прохожего, каковы вести о Констанции. Не зная, что это принц, ему просто сказали: девушка умерла. Услышав известие столь горестное, он не мог более превозмогать скорбь и, бездыханный, упал с коня. Вокруг собрался народ, кто-то признал в нем принца, и люди отнесли его во дворец едва живого.
Королю было до глубины души жаль сына; мать же, готовая к такому повороту дела, полагала, что со временем он исцелится от своих любовных надежд. Но горе безутешного принца росло с каждой минутой. Два дня он провел в уединении, не желая никого видеть и ни с кем говорить, а потом, бледный, в слезах, пришел к королеве и, обвинив ее в гибели своей милой Констанции, пообещал скорое наказание; он же сам, чувствуя приближение смерти, просит показать, где похоронена его возлюбленная.
Королева решила сама проводить его в кипарисовую рощу, где по ее приказу возвели надгробие, раз уж не удалось отговорить его. Оказавшись там, где вечным сном спала его любовь, принц оплакивал ее так нежно и страстно, что даже жестокосердая мать не сдержала слез. Не меньше него горевали и Миртэн, и все, кто слышал его. И вдруг исступленный принц, выхватив шпагу, вскочил на мраморное надгробие, под которым лежала прекрасная принцесса. Не удержи его за руку королева с Миртэном — он бы покончил с собой.
— Ничто на свете, — воскликнул он, — не помешает мне умереть и воссоединиться с моей милой принцессой.
Удивленная тем, что он назвал принцессой простую пастушку, королева подумала, что сын ее бредит, но все же спросила, почему он так сказал о Констанции. Принц ответил, что его избранница — королевна, что королевство ее называется Пустынное, и она осталась единственной его наследницей; не сказал бы он этого, да теперь уж нет причин скрывать правду.
— Ах! Сын мой, — молвила королева, — коли Констанция вам ровня, — утешьтесь, ибо она жива. Признаюсь вам, чтобы умалить вашу боль, — ведь я продала ее в рабство, и ее увезли на корабле.
— Вы говорите так, — воскликнул принц, — чтобы не дать мне покончить с собой, но я твердо решил, и ничто не остановит меня.
— Так убедитесь же сами, — сказала королева.
И она тотчас приказала откопать восковую фигуру. Только лишь взглянув на нее, он подумал, что это его возлюбленная принцесса, и упал без чувств. С большим трудом удалось вывести его из беспамятства, и теперь уж напрасно уверяла его королева, что Констанция жива, — после той злой шутки, что она с ним сыграла, он не мог ей верить. Только Миртэн, подтвердивший ее слова, убедил его, ибо принц знал: слуга так привязан к нему, что не мог солгать.
Ему стало чуть легче, ведь смерть — самое страшное из всех несчастий, а теперь он еще мог надеяться вновь увидеться с возлюбленной. Но где искать ее? Никто не знал ни торговцев, что ее купили, ни куда отплыло их судно. Трудности были велики — но истинная любовь преодолевает все на свете, и потому принц предпочел погибнуть в поисках похитителей возлюбленной, чем жить без нее.
Осыпав мать упреками в беспощадной жестокости и напророчив, что время покаяния в злодействах для нее еще впереди, он добавил, что уедет навсегда — ибо королева, решив умертвить одну, погубила обоих. Тогда, в слезах бросившись сыну на шею, она принялась заклинать его преклонными годами отца и своей любовью не покидать их; лишась его, они скоро умрут, ведь без него королевство захватят враги — владыки соседних земель. Принц выслушал холодно и почтительно, думая лишь о том, как была жестока королева с Констанцией; не будь этого, не напало бы на них ни одно королевство на свете. И он с неожиданной твердостью подтвердил решение уехать на следующий день.
Понапрасну уговаривал его остаться и король. Принц провел ночь в хлопотах, отдавая распоряжения Миртэну, поручив его же заботам и верного Хитрована; с собою взял он множество драгоценных камней, а оставшиеся поручил беречь ему же, строго наказав хранить все в тайне: так ему хотелось, чтобы мать испытала все муки тревоги.
День еще не забрезжил, а нетерпеливый Констанцио уже вскочил на коня, отдав себя в руки судьбы и моля ее быть благосклонной и помочь отыскать возлюбленную. Зная лишь одно, — что ее увезли на корабле, — он решил в ее поисках и сам сесть на какое-нибудь судно. Долго ли, коротко ли, но прискакал принц в самый большой порт, где, без слуг и никому не известный, порасспросил о том, где самый далекий край земли, и обо всех побережьях, лагунах и портах, где останавливаются отплывавшие отсюда корабли. Разузнав, что нужно, он взошел на борт; он думал: уж его-то любовь столь сильна и чиста, что ей не может не сопутствовать удача.
Когда корабль проходил мимо каких-нибудь земель, принц в шлюпке доплывал до берега и, сойдя, кричал:
— Где же вы, где, о прекрасная Констанция? Тщетно я ищу и зову вас. Долго ли нам еще быть в разлуке?
Ветры разносили его стенания, а ему оставалось лишь возвращаться на судно с тяжелым сердцем и глазами, полными слез.
Однажды вечером корабль бросил якорь за высокой скалой, а принц, как обычно, поплыл на берег. Это были места совсем дикие, к тому же наступила темная ночь; никто не захотел пойти с принцем из страха погибнуть здесь. Он же, отнюдь не дороживший жизнью, смело пошел вперед, спотыкаясь и падая во тьме, но поднимаясь и продолжая идти. Наконец он увидел яркий свет; ему показалось, что неподалеку горит костер. Подходя ближе, он все отчетливей слышал звук, похожий на удары молотов. Ничуть не испугавшись, он ускорил шаг и вскоре увидел кузницу прямо под открытым небом, горн в которой был растоплен до такого жара, будто сияло солнце. Тридцать одноглазых великанов-циклопов ковали здесь оружие.
— Если вы, окруженные огнем и железом, хоть немного способны и к состраданию, — молвил, подойдя к ним, Констанцио, — ответьте же мне, не сходила ли в этих краях на берег прекрасная Констанция, пленница работорговцев, и где мне теперь найти ее; за одно только слово я отдам вам все, что у меня есть.
Едва он окончил свою речь, как стук, прекратившийся было с его появлением, возобновился с новой силой.
— Увы! — воскликнул принц. — Вас не трогает мое горе, жестокосердные! Мне нечего ждать от вас помощи.
Он уже повернулся, чтобы уйти, как вдруг услышал нежную мелодию и повернулся взглянуть на горн, — и увидел прекрасного ребенка, светившегося ярче того пламени, из коего он и появился. Подивившись его красоте, он заметил у него на боку лук и стрелы, а на глазах — повязку, и уже не сомневался более, что перед ним сам Купидон. Мальчик же, — а это и в самом деле был Купидон, — воскликнул:
— Постой, Констанцио, огонь в твоем сердце столь чист, что я не могу отказать тебе в помощи. Меня зовут Амур-Добродетельная Любовь, и это я пустил ту стрелу, что зажгла в тебе любовь к Констанции; я же защищаю ее от великана, который ее преследует. Фея Владычица — мой близкий друг, мы вместе бережем принцессу для тебя; однако, прежде чем ты узнаешь, где она, я должен испытать твою любовь.
— Приказывай, Амур, — вскрикнул тут принц, — приказывай, что пожелаешь! Я все выполню, ни от чего не откажусь!
— Вот пламя; прыгни в самую средину его, — ответил мальчик, — и если твоя любовь неискренна и непостоянна, ты сгоришь.
— Мне нечего бояться!
Едва сказав это, Констанцио бросился в огонь. Он потерял сознание и более не понимал, кто он и где находится.
Тридцать часов прошло, прежде чем он пришел в себя и увидел, что обернулся самым прекрасным голубем на свете, и теперь не в страшном горне, а в гнезде, свитом из роз, жасмина и жимолости. Изумлению его не было предела: мохноногий, с разноцветными перьями и горящими глазами, он рассматривал свое отражение в водной глади ручья и уже хотел было громко посетовать на судьбу, но обнаружил, что потерял дар речи, хотя разум был оставлен ему.
Превращение это явилось вершиной всех бед несчастного принца.
«Ах, коварная Любовь, вероломный Амур, — думал он, — вот как вознаградил ты преданнейшего из влюбленных! Что ж — значит, нужно быть ветреным и переменчивым, чтобы снискать твою милость? Много я повидал таких, кого ты увенчал, — зачем же заставляешь ты так страдать тех, кто воистину верен: ибо чего теперь ожидать мне в таком необычном обличье? Если б мог я, голубь, изъясняться столь же красиво, как Синяя птица[334], сказку о которой я любил с детства, — я взмыл бы под самое небо и отправился в дальние края искать возлюбленную. Я спрашивал бы о ней у всех встречных и непременно нашел бы. Но я даже не волен произнести ее имя. Все, что мне осталось, — броситься в пропасть и умереть».
Погруженный в такие печальные думы, он прилетел на вершину горы и хотел кинуться вниз, но крылья держали его вопреки его воле. Он подивился, ибо ранее не бывал голубем и не знал, на что способны перья. Тогда он решил вырвать их все до единого и принялся безжалостно себя ощипывать.
Оставшись без единого перышка, он хотел было вновь броситься со скалы, как вдруг увидел двух совсем юных девушек. Одна говорила другой:
— Что с этим бедным голубем? Быть может, он вырвался из острых когтей хищной птицы или из пасти ласки?
— Что с ним случилось, про то я не знаю, — ответила младшая, — но его дальнейшая судьба мне доподлинно известна.
И, бросившись к безобидной птице, она попыталась схватить ее рукой.
— Он составит компанию, — продолжала она, — своим пятерым сородичам, которых я хочу запечь в пирог для феи Владычицы.
Услышав эти слова, Принц, вовсе не желая спасать свою жизнь, подошел к девочке, надеясь, что та смилостивится и поскорее убьет его. Он думал, что настала его погибель; девочкам же, напротив, он теперь показался таким милым и ручным, что они решили оставить его в живых. Та, что была краше, посадила его в корзинку с крышкой, где хранилось ее рукоделие, и обе продолжили прогулку.
— Вот уж сколько дней, — говорила одна, — наша госпожа не позволяет себе ни минуты отдыха: только садится на своего огненного верблюда и дни и ночи напролет кружит по всему земному шару.
— Умей ты хранить секреты, — отвечала ее спутница, — я бы рассказала тебе о причине, ибо фея мне ее доверила.
— Ну же, я никому не скажу, — воскликнула первая, — открой мне эту тайну.
— Знай же, — сказала вторая, — что принцессу Констанцию, ту самую, которую так любит наша фея, утащил великан и хочет взять ее в жены. Он заточил принцессу в башне, а фее теперь придется прибегнуть к самым необычайным уловкам, чтобы помешать этой свадьбе.
Принц, уже было подумавший, что умножить его муки невозможно, услышав сей разговор из корзинки, понял, как ошибался: глубочайшее отчаяние охватило его: сколь сильно ни любил он, а в образе голубя ничем не мог помочь принцессе, когда она более всего в этом нуждалась. Его богатое воображение, в довершение всех страданий, рисовало Констанцию, заточенную в башне, беспрестанно осаждаемую упорным, жестоким и гневливым великаном. Принц опасался, что она, испугавшись, согласится стать его женою. Мгновение спустя его уже мучила мысль, что она может и бесстрашно умереть в лапах этого чудовища. Кошмар, в котором он пребывал, не поддается описанию.
Тем временем девица с корзинкой вместе со спутницей возвратились во дворец феи, которой служили. Их госпожа прогуливалась по тенистой аллее сада. Пав перед ней ниц, они сказали:
— Великая королева, взгляните на голубя, которого мы случайно нашли. Он добрый и ручной, а будь у него еще и перья, был бы к тому же очень красив. Мы решили оставить его у себя, но вам стоит лишь пожелать — и тогда он может иногда радовать и вас.
Фея же, достав из корзинки голубя и только лишь взглянув на него, тотчас же задумалась о том, как преходяще в этом мире величие — так удивительно было видеть принца Констанцио в обличье птицы, которую могут и поджарить, и сварить, хотя сие превращение и было делом ее рук и все, что вершилось, вершилось по ее приказу. Как ни старалась она облегчить его муки, но слишком тяжела оказалась принцу его доля. Фея погладила голубя, а принц, дабы понравиться ей, по-голубиному поклонился, согнув одну лапку, и нежно уткнулся клювом ей в ладонь — ибо он хоть и был голубком совсем неопытным, а воспитан был лучше, чем многие мудрые и почтенные голуби.
Фея Владычица отнесла его к себе в покои, заперла дверь и сказала:
— Принц, нынешнее печальное твое положение не мешает мне узнать тебя и полюбить, ибо моя дочь Констанция столь же неравнодушна к тебе, сколь и ты к ней. В своем превращении винить тебе надобно одну лишь меня: ведь это я заставила тебя прыгнуть в огонь, чтобы проверить искренность твоей любви, и увидела, как она чиста и сильна. Ты с честью прошел испытание.
Голубь трижды почтительно склонил голову.
— Стоило лишь твоей матушке-королеве увидеть золото и драгоценные камни, — вновь заговорила она, — как она тут же безжалостно отдала ее в руки работорговцев. Едва Констанция оказалась на корабле, он отплыл в Индию, где можно выгодно продать тот перл, чьи слезы и мольбы ничуть не тронули сердец злодеев. Напрасно она уверяла, что Констанцио отдаст все, что у него есть, и выкупит ее: это лишь еще больше убеждало работорговцев, как дорого стоит их добыча; они торопились, опасаясь, что явится узнавший обо всем принц.
Наконец корабль, проплыв полсвета, попал в страшную бурю. Принцесса, измученная горем и тяготами жизни на море, умирала. Боясь утратить ее, работорговцы укрылись в первом же порту, но едва сошли на берег, как увидели, что им навстречу идет необычайно громадный великан; за ним следовали и другие его собратья, заявившие, что желают унести все ценное, что есть на корабле. Великан поднялся на борт, и первой, кого он увидел, была принцесса; они тотчас узнали друг друга.
— Ха! Вот ты где, маленькая злодейка! — воскликнуло чудовище. — Стало быть, небесам, справедливым и сострадательным, угодно было вновь предать тебя в мои руки. Помнишь день, когда я тебя нашел, а ты сбежала, разрезав мою суму? Ну, нет, уж теперь шалишь…
Он схватил ее, как орел цыпленка, и, не обращая никакого внимания на ропот и мольбы работорговцев, стремительно понес в свою огромную башню.
А башня эта стоит на высокой горе. Возводившие ее волшебники постарались на славу. Ее алмазные стены, сверкающие на солнце, несокрушимы; дверей в них нет[335], а окна, через которые только и можно попасть внутрь, находятся очень высоко от земли. Словом, она превосходит все самое великое, что могут вместе создать мастерство и природа. Принеся туда прекрасную Констанцию, великан сказал, что хочет на ней жениться и сделать ее самой счастливой на свете; обещав, что будет нежно любить ее и сделает хозяйкою всех своих сокровищ, он даже не сомневался в том, как она рада столь щедрому подарку судьбы. Однако принцесса все рыдала и сетовала, давая ему понять глубину своего горя, я же меж тем тайно управляла событиями вопреки судьбе, предсказавшей Констанции гибель. Это я внушила великану чувство нежности, доселе ему незнакомое, и потому он, не осерчав на принцессу, обещал целый год быть с ней добрым; однако если она и потом откажется выйти за него замуж, он все равно женится на ней, а потом убьет; вот пусть сама и решает, как ей лучше. После столь зловещего заявления он запер ее вместе с самыми красивыми девушками на свете, чтобы они развеивали тоску, заполнявшую ее сердце, а сторожить башню приказал великанам, да так, чтобы ни одна живая душа не могла к ней подступиться; если кто и решался на подобное безрассудство, то наказание следовало незамедлительно — так эти чудовища были свирепы и жестоки.
И теперь несчастная принцесса, которой неоткуда ждать помощи, собирается броситься с башни в море — ведь до окончания срока, назначенного великаном, остается лишь день. Вот, господин Голубь, до чего ее довели; а средство помочь лишь одно — если вы сумеете принести ей в клювике вот это кольцо; надев его, она тоже обернется голубкой; вот вам и чудесное спасение.
Голубь в нетерпении хлопал крыльями, стараясь, чтобы фея поняла, как он хочет лететь к возлюбленной; то он теребил манжеты и оборки на ее платье, то, подлетая к окнам, стучал клювом по стеклам; на голубином языке сие означало: «Молю вас, госпожа, поскорее отправьте меня с волшебным кольцом вызволить нашу прекрасную принцессу».
Фея поняла его воркование.
— Летите же, милый Голубь, — молвила она, — а вот и кольцо, что укажет вам путь. Смотрите же, не потеряйте его, ибо Констанцию не в силах спасти никто, кроме вас.
Но, как мы уже сказали, перья-то принц-Голубь в порыве беспросветного отчаяния все повырывал; пришлось фее натирать его волшебным эликсиром, от которого они снова отросли, да еще прекраснее, чем у голубей самой Венеры. Несказанно обрадованный новым оперением, принц взмахнул крыльями и полетел; на вершину башни он сел уже с первым лучом солнца. Ее алмазные стены сверкали так, что даже полуденное солнце не сравнилось бы с этим блеском. На верхней площадке располагался сад, а посреди него росло апельсиновое дерево, усыпанное цветами и плодами. Принц-Голубь рад был бы полюбоваться столь невиданным зрелищем, не будь у него дел поважнее и неотложнее.
Он опустился на ветку апельсинового дерева, держа кольцо в клюве. Страшное волнение охватило его, когда в сад вошла принцесса. На ней было длинное белое платье, а голова покрыта черной шалью с позолотой, скрывавшей лицо и ниспадавшей до земли, так что влюбленному Голубю впору было усомниться, она ли это; но он узнал ее по благородству осанки, какого не было больше ни у кого на свете. Когда же принцесса села на скамью под апельсиновым деревом и вдруг откинула шаль, ее красота точно ослепила его.
— О сожаления, о печали, — воскликнула она, — к чему вы теперь! Целый год сердце мое терзалось страхом и надеждой, но вот срок наступил. Еще всего несколько часов — и мне придется погибнуть или стать женой великана. Ах! Да возможно ли, чтобы фея Владычица и принц Констанцио покинули меня? В чем провинилась я перед ними? Но что теперь вспоминать об этом! Пришло время исполнить задуманное.
Она поднялась, полная решимости кинуться вниз; однако, привыкшая пугаться каждого шума, насторожилась, услышав, как заволновался сидевший на дереве голубь, и взглянула на него. В тот же миг голубь слетел к ней на плечо и бросил ей за пазуху спасительное колечко. Принцесса подивилась ласкам прекрасной птицы и великолепному оперению, а ещё сильнее — полученному подарку. Рассматривая кольцо, она заметила начертанный на нем загадочный символ, как вдруг, откуда ни возьмись, в саду появился великан.
Девушки-прислужницы Констанции успели поведать влюбленному чудовищу о том, что принцесса в отчаянии готова скорее покончить с собой, чем выйти за него замуж. Узнав, что она рано утром поднялась на вершину башни, великан перепугался, что случится непоправимое. Сердце его, прежде способное лишь на жестокости, так околдовали прекрасные глаза этой милой девушки, что он нежно полюбил ее. О, боги! Но что же сталось с ней, едва она его увидела! Она была в ужасе, что он не даст ей умереть. Не на шутку испугался столь грозного гиганта и бедный голубь. Но тут принцесса, дрожа от волнения, надела на палец кольцо и, — о чудо! — превратившись в голубку, тут же улетела вместе с верным голубем. Изумлению великана не было предела. Глядя на свою невесту в образе порхающей в воздухе голубки, он сперва постоял в полном ошеломлении, а затем разразился такими воплями, которые сотрясли окрестные горы и стихли, только когда прервалась и его жизнь, ибо он бросился в море и утонул; да оно ведь и справедливей, чем если бы утонула принцесса, которая меж тем улетала все дальше и все быстрее вместе со своим провожатым. Отлетев уже довольно далеко от башни, пара голубей села отдохнуть на мягкую траву и прекрасные цветы, в сумрачном густом лесу. Констанция еще не поняла, что Голубь и есть ее любимый принц. Он же горевал оттого, что не может ей об этом сказать, как вдруг чья-то невидимая рука словно бы развязала ему язык. Обрадованный, он тотчас обратился к принцессе:
— Прекрасная Голубка, неужто сердце не подсказало вам, что рядом Голубь, чье сердце продолжает гореть огнем, который вы же в нем и зажгли?
— Сердце мое желало этого, — отвечала она, — но не осмеливалось льстить себя надеждой. Ах! Кто бы мог подумать? Я была готова погибнуть под ударами изменчивой судьбы, но вы пришли вырвать меня из лап чудовища, которого страшилась я больше смерти.
Принц-Голубь обрадовался, что Голубка заговорила и осталась такой же нежной, какой он ее полюбил. Он произнес самые утонченные и пылкие слова, на которые могла вдохновить любовь, рассказав обо всем, что с ним случилось, пока ее не было, — и об Амуре в кузнице, и о фее во дворце. Радостно было принцессе узнать, что ее лучшая подруга непрестанно охраняла ее.
— Полетим же к ней, мой милый принц, — сказала она Констанцио, — и поблагодарим за все, что она для нас сделала. Она вернет нам прежний облик, и мы отправимся назад — в твое королевство или в мое.
— Если вы любите меня так же сильно, как я вас, — молвил Констанцио, — осмелюсь предложить вам нечто, чему одна лишь любовь придает смысл. Но, милая принцесса, боюсь, вы скажете, что я сумасброд.
— Не стоит беречь репутацию вашего ума в ущерб сердцу, — ответила принцесса. — Говорите же, ничего не опасаясь, — я с удовольствием выслушаю вас.
— Я думаю, — сказал Констанцио, — что мы могли бы остаться такими, как сейчас: вы — Голубкой, а я — Голубем, и пусть в сердцах наших горит тот же самый огонь, что пожирал Констанцио и Констанцию. Поверьте же мне: стоит нам лишь освободиться от бремени забот о наших королевствах, прекратив то и дело держать советы, вести войны, давать аудиенции, перестав без устали играть одну и ту же роль в этом великом театре мира[336], — и как легко станет нам жить друг для друга в столь очаровательном уединении.
— Ах! — восхитилась Констанция. — Как тонок и великодушен ваш замысел! Ведь я еще так молода, — а на мою долю, увы, уже выпало столько невзгод! Судьба, завидуя моей чистой красоте, так настойчиво преследовала меня, что я буду счастлива отказаться от всех ее благ и жить лишь для вас. Да, мой милый принц, я согласна. Мы найдем край по душе и проведем там счастливейшие дни, живя праведно, в устремлениях и желаниях, исходящих только от чистой любви.
— А путь вам укажу я, — воскликнул Амур, спускаясь с головокружительных высот Олимпа[337]. — Столь нежный замысел достоин моего покровительства.
— И моего тоже, — молвила внезапно появившаяся фея Владычица. — Я пришла сюда, чтобы поскорее иметь удовольствие увидеть вас.
Голубь и Голубка были столь же изумлены, сколь и счастливы.
— Мы отдаем себя в ваши руки, — сказала Констанция фее.
— Не покидайте нас, — попросил Амура Констанцио.
— Летите в Пафос[338], — сказал Амур, — там еще почитают мою мать и всегда будут рады ее священным птицам.
— Нет, — возразила принцесса, — мы не ищем людского общества, счастлив тот, кто может от него отказаться. Нам нужно лишь уединение.
Тотчас фея коснулась земли волшебной палочкой, а Амур дотронулся до нее золотой стрелой. Тогда предстало их очам самое красивое и безлюдное место на земле, с прекраснейшими лесами, цветами, лугами и источниками.
— Да продлится ваше пребывание здесь многие тысячелетия! — воскликнул Амур. — Поклянитесь же друг другу в вечной верности перед этой дивной феей.
— Клянусь моей Голубке! — воскликнул Голубь.
— Клянусь моему Голубку! — воскликнула Голубка.
— Амур, заключивший ваш брак, — молвила фея, — как никто другой из богов способен сделать его счастливым. Я, однако же, обещаю: если вам надоест этот облик, я всегда помогу вам вернуть прежний.
Голубь и Голубка поблагодарили фею, но заверили, что на их долю уже хватило бедствий, так что уж за этим они никогда к ней не обратятся, а только попросили вернуть им Хитрована, если тот еще жив.
— Он был заколдован, — сказал Амур, — это я превратил его в барашка. Однако мне стало жаль его, и я вернул его на трон, откуда прежде сверг[339].
Вот тут-то Констанция и перестала удивляться, что баран Хитрован был так умен и многое умел. Она попросила Амура рассказать о приключениях барашка, столь ей дорогого.
— Я еще вернусь, чтобы поведать их вам, — ответил он любезно, — а сегодня меня ждут и желают видеть в стольких местах, что не знаю, куда прежде отправиться. Прощайте, счастливые и нежные супруги, и можете без ложной скромности считать себя самыми мудрыми из влюбленных.
Фея Владычица еще немного побыла с молодоженами, неустанно восхваляя их безразличие к земной власти, — несомненно, они приняли наилучшее решение и теперь заживут спокойно. Вскоре и она покинула их, но вести от нее и от Амура говорят, что принц-Голубь и принцесса-Голубка так навсегда и остались друг другу верны.
* * *
Что до любви, то дарит нам она
Тревоги и сомнения сполна;
И чашу ту страданий безутешных
Влюбленные должны испить до дна,
Когда дорога на двоих одна,
Когда душа полна желаний нежных.
Кто любит, тот надеждой окрылен,
И пусть жесток сей мир порой бывает,
Из уст влюбленных исторгая стон,
Любовь — она всё терпит, всё прощает,
Кто любит, будет ею награжден.
Пер. О. Л. Берсеневой (проза), Е. Ю. Шибановой (стихи)
Новый дворянин от мещанства
Продолжение

— Браво! Браво! Превосходное произведение!
Дандинардьер, нарочно приняв скромный вид, обратился к ним с просьбой пощадить его, ибо сказка никак не могла быть хороша, принимая во внимание ту чрезвычайную поспешность, с какой была написана.
— Я говорю чистую правду, — добавил он, — ибо у меня даже не было времени ее прочитать, и теперь я нахожу некоторые расхождения с тем, что первоначально задумывал. Да вот хоть заглавие — бьюсь об заклад, что сперва сказка называлась «Белль-Белль, или Удачливый рыцарь». И вдруг про каких-то воробьев…
— Вы хотите сказать, про Голубя и Голубку, — поправил его приор.
Ла Дандинардьер поздно спохватился, что память его подвела, и, оправдываясь, воскликнул:
— Я всех пернатых зову воробьями, будь то утка, индюк, куропатка, курица иль цыпленок, и не собираюсь брать на себя труд различать их.
— Вы правы, — согласилась госпожа де Сен-Тома, которой сказка пришлась весьма по душе. — Не стоит такому просвещенному человеку, как вы, обращать внимания на столь незначительные мелочи.
— О госпожа, — продолжал наш мещанин, — я всячески этого избегаю, ибо не хочу быть похожим на других. Если все станут говорить одинаково, называя кошку — кошкой, а волка — волком, то в чем будет отличие человека ученого от невежды?
— Ах, господин, — вздохнула Мартонида, — как рада я отметить, что даже здесь, где так недостает утонченной беседы и примеров для подражания, меня и саму тоже посещали подобные мысли. Моя матушка-баронесса может подтвердить, что я еще в пеленках не желала говорить, как все, «кормилица», — нет, я говорила «няня».
— Как мило! — воскликнул Ла Дандинардьер. — Будь вы при дворе, вам ставили бы памятники, в вашу честь воздвигали бы храмы.
— Фи, — поморщилась госпожа де Сен-Тома, — мои дочери не язычницы и не желают себе ни храмов, ни истуканов.
— Матушка, не воспринимайте все так буквально, — сказала Виржиния, — мы согласны на храмы, о которых он говорит.
— Вы и правда странны, сударыня, — ответила баронесса, надувшись. — Уж не собираетесь ли вы учить меня, что и как следует понимать.
Видя, что вот-вот между матерью и дочерью разгорится ссора, Мартонида перебила их, обратившись к Ла Дандинардьеру:
— Меня поразило, что вы подумали, будто ваша сказка называется «Белль-Белль».
— Не знаю, как такое могло случиться, — ответил он, — несомненно, здесь не обошлось без фей, ибо в моей сказке точно упоминался Едок, а еще Силач, и еще…
— Не было их в вашем повествовании, — встрял приор, испугавшись, что Мартонида узнает свое творение и заявит об этом. — Просто я говорил вам об этой сказке, и она еще свежа в вашей памяти.
Наш мещанин согласился с ним, и Мартонида ни о чем не догадалась.
Ален к тому времени уже привел себя в порядок после драки. Он вошел в комнату запыхавшись, ибо нес на спине большую корзину, полную книг.
— Моя добрая матушка, — заявил он, — уверяла меня, что мысли так же легки, как ветер. Будь она еще жива, я бы знал, что ей ответить, ибо вот они у меня на плечах и, ей же богу, потяжелей будут, чем кулаки окаянного возчика, от которого мне ох уж и досталось же!
— Замолчи, трус! — закричал наш мещанин. — Мне так стыдно было смотреть, как ты дерешься, что я уж хотел вступить в бой на его стороне, чтоб ты понял: нигде на свете слуга важного господина вроде меня не должен давать себя поколотить такому негодяю, как этот возчик.
— И правда, — слегка распаляясь в ответ, ответил Ален, — имущество-то ваше ни единой затрещины не стоило: всего-то книга, да и ту вы хотите продать церковному старосте нашего прихода. Я подумал, что возчик украл ее, и хотел заставить вернуть. Но он сильнее меня, и если я оказался в этом деле пострадавшей стороной, то тому виной вы. А теперь вы меня же и браните, вместо того чтобы благодарить. И я, я…
— Молчать, болтун бессовестный, — вновь закричал Ла Дандинардьер, пунцовый от гнева. — Не будь тут прекрасных дам, ты бы у меня получил, что тебе причитается; но ничего, твое от тебя не убежит.
— Ну нет, господин, — сказал Ален, — пусть уж лучше убежит, или мне самому придется обратиться в бегство. Я не так глуп, чтобы ждать ударов палки; уже получил от вашей милости больше, чем достаточно, и заявляю, что либо уйду со службы, либо вы при свидетелях пообещаете меня не трогать.
Наш мещанин терял последнее терпение. Увидев, что Ален решил воспользоваться моментом, когда рана вынуждала его проявить снисходительность (которую он, впрочем, не считал своим недостатком), он сильно вспылил, ибо хотел снискать глубокое уважение госпожи де Сен-Тома и ее дочерей. Дабы загладить грубость слуги, Ла Дандинардьер сам совершил еще большую, вскочив с кровати и бросившись на него с кулаками. — Ален же благодаря многолетнему опыту знал несколько способов избежать града затрещин и решил воспользоваться одним из них. Он встал прямо перед хозяином. Обрадованный коротыш Ла Дандинардьер занес кулаки, чтобы опустить их в аккурат на голову Алена. Однако слуга увернулся, и наш мещанин со всего размаху ничком упал на пол, да так, что тюрбан, стальной воротник и даже латные рукавицы — все, что было на нем надето, — разлетелись по разным углам.
Не дожидаясь следующей атаки, Ален улизнул, пока остальные помогали его несчастному господину подняться. Не перегороди его тело дверей, госпожа де Сен-Тома поспешила бы уйти, прихватив дочерей, но тогда им пришлось бы переступить через лежащего Ла Дандинардьера. В столь затруднительном положении им ничего не оставалось, кроме как смотреть в окно.
Наконец нашего забияку уложили в постель, и виконт попросил дам подойти, чтобы утешить Ла Дандинардьера, оказавшегося в столь неловком положении. Баронесса не имела к этому ни малейшего желания.
— Как! — говорила она. — Господин де Бержанвиль, вы считаете, что я потерплю непочтительность? Я желаю ему сообщить, что в моем роду женщины никогда не спускали подобных оскорблений. Неужто я буду единственной, кто отступится от столь похвальной традиции? Нет, уж лучше сдохнуть.
Она все больше распалялась. Ла Дандинардьер же сначала с тревогой прислушивался к ее ворчанию, потом принялся молить приора извиниться за свою неразумную горячность, и тот при поддержке барышень де Сен-Тома успешно добился прощения баронессы при условии, что и Ален, в свою очередь, тоже будет помилован. Заключить эти мирные договоры оказалось делом одинаково сложным. Мещанин чувствовал себя весьма уязвленным поведением слуги и никак не мог смириться со своим падением. Однако его любовь к Виржинии была столь сильна, что лишь ради удовольствия вновь увидеть ее у своего изголовья он пообещал баронессе простить Алена.
Меж тем слугу мучила совесть из-за той злой шутки, что он сыграл со своим господином. Он укрылся в амбаре, спрятавшись в стоге сена, и там уже почти задохнулся, когда один из посланцев барона отыскал его, чтобы сообщить хорошую новость: ему даровали прощение и просили явиться. Ален немного поколебался, не зная, что делать, и послал слугу к барону де Сен-Тома просить совета: вернуться ли ему в комнату или убежать подальше. Наконец его заверили, что можно вернуться. Мгновение спустя он уже стоял в изножье кровати с умоляющим видом. Его поза растрогала присутствующих, а баронесса предложила даже не делать ему внушение. Коротыш Дандинардьер любил широкие жесты и ответил госпоже де Сен-Тома, что всегда исполнит любое ее веление, в этом пусть уж не изволит и сомневаться.
— Дабы смягчить последствия ссоры, — молвила Виржиния, — прошу вашего внимания, ибо тоже хочу прочесть сказку. Надеюсь, вы найдете ее занятной, хоть она и весьма длинна.
— Если ее написали вы, очаровательная Виржиния, — сказал Дандинардьер, — то, я уверен, она придется по душе всем присутствующим здесь.
— Кто автор, я вам не скажу, — ответила девушка, — но, чтобы сразу исключить вашу пристрастность в мою пользу, заявляю: ее написала не я.
— Чья же она в таком случае? — воскликнул наш мещанин, напуская на себя вид знатока. — Уверяю вас, барышни, мне по нраву лишь ваши творения. Я пойду на край света, чтобы их услышать.
— Как приятно! — сказала Виржиния. — Вы любезны, как никто. Однако нельзя не признать и того, в каком изобилии приходят именно к вам самые красивые слова, самые благородные выражения, самые тонкие и значительные мысли, — вам же остается лишь труд выбрать из них лучшие, и вы всегда выбираете правильно.
— Ах! Ах! Моя принцесса! Вы сразили меня наповал, — ответил Дандинардьер. — Как точны ваши удары! Вы наносите их золотыми стрелами, но раны от того не менее тяжки. Прошу у вас пощады, прекрасная амазонка, я ранен, убит или близок к тому, но лишь от восхищения, от переполняющей меня признательности. Я…
— Довольно, мой друг, — рассмеялся барон. — Мы все очарованы любезностями, которыми вы тут обмениваетесь, однако беседа принимает слишком серьезный оборот.
— Чтобы сделать ее повеселей, — сказал виконт, — я предлагаю господину де Ла Дандинардьеру подумать о женитьбе.
— Я желаю, — заявил наш мещанин, выпятив грудь и состроив недовольную гримасу, при виде которой трудно было сдержать смех, — я хочу в жены девушку красивую и юную, богатую и благородную, но, самое главное, такую умную, чтоб она стала предметом восхищения нашего века и всех веков грядущих, ибо мне смертельно скучно будет в обществе персоны заурядной.
— Поведайте же нам, — попросил приор, — что можете вы сами предложить взамен стольких достоинств?
— Не пристало мне хвалиться, — ответил Ла Дандинардьер, — но, коли вы так настаиваете, я любезно отвечу, что в вопросе доблести и происхождения не уступлю дону Иафету Армянскому[340].
После такого заявления вся серьезность графа мигом улетучилась.
— Какое великолепное сравнение! — воскликнул он. — Я всегда считал, что лучше не придумать.
— Раз вас вполне устраивают два этих моих достоинства, — вновь заговорил Дандинардьер, — то вы не будете разочарованы и моим имущественным положением, ибо я могу вам доказать, что доходы мои чисты и честны. А вот насчет моего ума и характера мне не позволяет ответить скромность.
— И то правда. Положительных качеств у вас предостаточно, — сказал виконт, — но один-единственный недостаток способен испортить все, и недостаток этот — корысть. Не место рядом с отвагой, благородным происхождением, тонкостью чувств и манер, какую только можно желать, гнусной страсти к материальным благам. Это бросает тень на все достоинства и пятнает ваш облик.
— Да, господин, — пылко ответил Дандинардьер. — Но я считаю, что, если не помышлять о материальном, нечего будет есть. Посмотрите на выдающихся мудрецов, которые знают, что один плюс один будет два. Они вовсе не так глупы, чтоб жениться, не получив при этом изрядного состояния. Я хочу достичь того же или умереть в стремлении к этому.
— Господин Дандинардьер, — воскликнул барон, — да этак вы на всю жизнь останетесь холостяком! И очень жаль, ведь молодцы вроде вас ценятся на вес золота. Проникнитесь же любовью к добродетели, откажитесь от страсти к стяжательству.
— О! Вы судите, — сказал наш опечаленный мещанин, — с точки зрения провинциального дворянина, ставящего идею великодушия превыше идеи хлеба насущного. Но повторюсь: если я не встречу особу, равную мне по положению, так что обед будет за мой счет, а ужин — за ее, то любовь сделает меня банкротом.
Столь откровенное признание изумило всех. Дандинардьер же смеялся как сумасшедший, хлопал в ладоши, подпрыгивая в кровати, чему обе прекрасные барышни дивились от души.
— Вы радуетесь, — предположила баронесса, — что у вас такой тонкий вкус?
— Э-э! Вовсе нет, госпожа, — ответил он, — но если галантный человек знает, как устроен свет, он защищен от блуждающих огоньков, что поднимаются от смрадных испарений земли. Вы должны понимать, насколько точно это сравнение.
— Если б мы не понимали, — воскликнула Виржиния, — это означало бы, что мы глупы.
— Значит, я глуп, — заметил приор, — ибо открыто заявляю, что никогда не слыхал ничего бестолковее.
— Вы так говорил; от злобы или от зависти, — возразила Мартонида. — Как тут не понять, что под блуждающими огоньками подразумеваются безрассудные устремления сердца, которые поднимаются в среднюю область головы подобно тому, как настоящие огоньки поднимаются в воздух, и что все это говорит об исключительном уме господина Дандинардьера?
— Да, ум, — подхватила Виржиния, — но ум его подлунен, ибо сияет ярче звезд.
Бедный барон де Сен-Тома с великим трудом сносил бредовый разговор, в коем живейшее участие принимали его дочери. Он пожимал плечами и поглядывал на виконта и приора с мрачным видом, так что ясно было, как мучительно ему видеть этих троих, по которым явно плакал сумасшедший дом.
Приору к тому времени порядком наскучило слушать эти вульгарные речи, поэтому он обратился к нашему мещанину:
— Я было задумал предложить вам руку самой очаровательной особы на свете, но с вами все слишком сложно. Разве что король Сиама позаботится прислать вам свою монаршую сестру или Великий Могол[341] — одну из дочерей, иначе не видать нам счастия плясать на вашей свадьбе.
— Скажу не шутя, господин приор, — молвил Дандинардьер, — что по происхождению и доблестям вполне могу рассчитывать на лучшие партии во Франции. Однако, при всей моей утонченности, готов с удовольствием выслушать и ваши предложения, впрочем, скорее из чистого человеколюбия.
— Прошу вспомнить, однако, — перебила их Виржиния, — что всякий разговор отменяется, пока не будет прочитана сказка, о которой я имела честь вам сообщить.
— В качестве епитимьи за то, что позволил себе заговорить на посторонние темы, — сказал приор, — предлагаю ее наконец послушать.
Все затихли, приглашая приора начинать. Виржиния передала ему бумажный свиток, исписанный мелко-мелко, ибо автором была дама, и он тотчас приступил к чтению.
Пер. О. Л. Берсеневой
История принцессы Ясной Звездочки и принца Милона[342]
Начало

Однажды, в такой прелестный денек, какие редко в году выдаются, зашла к принцессе одна старушка, очень усталая с виду. Она опиралась на палку, сама сгорбленная, все лицо в морщинах.
— Я пришла, — сказала она, — чтобы вы мне приготовили вкусный обед, ибо, перед тем как уйти в мир иной, я хочу насладиться пребыванием в этом.
Она взяла соломенный стул, уселась поближе к огню и велела принцессе поторапливаться. Увидела принцесса, что одной ей не справиться, и позвала на помощь дочерей: старшую — Медновласку, среднюю — Темновласку и младшую — Златовласку; так мать называла их — по цвету волос. Они были одеты в крестьянские платья, в разноцветные корсеты и юбки. Младшая была самой красивой и доброй. Мать велела одной принести голубей из вольера, другой забить цыплят, а третьей испечь пирог. Мгновение — и они уже поставили перед старушкой чистый прибор: белейшую салфетку, глазурованную глиняную посуду, которую несколько раз меняли во время трапезы. Подали доброго вина, к нему принесли лед, и самые изящные ручки на свете все подливали и подливали в бокал; а добрая старушка знай себе ела с хорошим аппетитом, и премного, а пила еще больше. От вина она стала словоохотлива и наговорила много такого, что принцесса, слушавшая с неподдельным интересом, нашла очень мудрым.
Трапеза завершилась так же душевно, как и началась. Встав из-за стола, старушка сказала:
— Голубушка, будь у меня деньги, я заплатила бы вам, но я давно уже разорилась; мне так нужно было найти вас, чтобы вкусно поесть; но могу пообещать лишь прислать к вам посетителей поудачливей меня.
Принцесса заулыбалась и учтиво ответила:
— Не переживайте, матушка, мне неплохо платят за мои старания.
— Мы с радостью поухаживали за вами, — молвила Златовласка, — а если пожелаете остаться на ужин, то будем вдвое расторопнее.
— Ах! — воскликнула старушка. — Какое счастье родиться с таким великодушным сердцем! Не думайте, что ваша доброта не будет вознаграждена. Будьте уверены, — продолжала она, — первое желание, которое вы загадаете, не вспомнив обо мне, будет исполнено.
В тот же миг она исчезла, и ни у кого не осталось и тени сомнения, что это была фея.
Мать и дочери долго изумлялись всему, что произошло: они никогда раньше не видели фей и весьма испугались. Пять или шесть месяцев прошло, а они все еще напоминали друг другу о случившемся. Стоило кому-то из них чего-нибудь захотеть, как они сразу думали о фее. Но ничего не происходило, и тогда они сильно на нее злились. Но вот как-то раз король отправился на охоту и решил заехать к поварихе, чтобы проверить, правду ли говорят об ее умении вкусно готовить. Три сестры, собиравшие клубнику в саду, услышали, как во двор с шумом входит его свита.
— Ах! — вздохнула Медновласка. — Если бы мне выпало счастье выйти замуж за адмирала, я бы спряла столько ниток, а из ниток соткала бы столько полотна, что ему не нужно было бы больше покупать ткань на паруса для своих кораблей.
— А я, — молвила Темновласка, — если б благосклонная судьба сделала меня женой брата короля, сплела бы столько кружев, что заполнила бы ими весь его дворец.
— А я, — сказала Златовласка, — если б на мне женился король, через девять месяцев родила бы двух красивых мальчиков и столь же прекрасную девочку, волосы бы их спадали локонами, и с них сыпались бы драгоценные камни. Во лбу горела бы яркая звезда, а на шее висела бы роскошная золотая цепочка.
Один из фаворитов короля, поскакавший вперед, чтобы известить хозяйку о прибытии столь важной персоны, услышал голоса, доносившиеся из сада, и остановился послушать. Его немало удивила беседа трех девушек. Сей же миг он поехал к королю, чтобы повеселить его рассказом. Король и правда рассмеялся и велел привести девиц к нему.
Тотчас они предстали перед ним, грациозные и прекрасные, приветствовав его со скромной почтительностью. Когда же он спросил, правда ли желают они себе таких мужей, сестры залились румянцем и опустили глаза. Король настаивал, и они признались ему, ответив утвердительно. Тогда он воскликнул:
— Не знаю, что за неведомая сила управляет мною, но я шага не слуплю, покуда не женюсь на прекрасной Златовласке.
— Ваше Величество, — молвил брат короля, — а я прошу вашего согласия взять в жены очаровательную Темновласку.
— Окажите и мне такую милость, — сказал адмирал, — ибо сердце мое воспылало любовью к Медновласке.
Королю понравилось, что его примеру последовали самые важные люди в королевстве, посему он одобрил их выбор и спросил у матери, дает ли она свое согласие. Та же ответила, что это величайшая радость, какую она только могла пожелать. Король обнял ее, а за ним и принц с адмиралом.
Когда король был готов отобедать, из печной трубы вдруг появился стол, а на нем — семь золотых приборов и самые изысканные блюда. Но король не решался приняться за еду. Он боялся, не ведьмы ли зажарили на своем шабаше эти куски мяса, ведь весьма подозрительно, когда стол падает прямо из дымохода.
Тут появились и закуски; а блюда и чаши были сплошь золотые, да такой тонкой работы, что самого золота краше. В тот же миг появился рой пчел в хрустальном улье и зажужжал самую приятную музыку на свете. И налетело тут в комнату полным-полно шершней, мух, ос, всевозможных насекомых и мошкары, так и вертевшейся над столом, прислуживая королю с невообразимой ловкостью. Три или четыре шмеля подносили ему вино, да еще столь искусно, что ни один из них не посмел в нем искупаться, что свидетельствовало об удивительной умеренности и дисциплине. Принцесса и ее дочери поняли, что происходящее было делом доброй старушки, и благословили день, когда повстречали ее.
После трапезы, продолжавшейся так долго, что уже наступила ночь, когда Его Величество немного устыдился, ибо казалось, что на этой свадьбе Бахус занял место Купидона[343], король поднялся и произнес:
— Закончим же праздник тем, чем он должен был начаться.
Он снял с пальца кольцо и надел его на палец Златовласке. Так же поступили и принц с адмиралом. Пчелы зажужжали вдвое громче, и все весело пустились в пляс. Свита явилась поприветствовать новоиспеченных королеву и принцессу. А вот жена адмирала такого внимания не удостоилась. Она почувствовала досаду, ибо была старше Темновласки и Златовласки, а замуж вышла не столь удачно, как они.
Король отправил обер-шталмейстера к своей матери-королеве с вестями о свадьбах и с просьбой прислать лучшие кареты за королевой Златовлаской и ее сестрами. Королева-мать же была самой жестокой и вспыльчивой женщиной на свете. Узнав, что сын женился ее не спросясь, да еще на девушке низкого происхождения, и его примеру к тому же последовал и принц, она пришла в такую ярость, что испугала весь двор. Она спросила обер-шталмейстера, что могло заставить короля заключить столь недостойный брак. Тот ответил, что причиной всему обещание Златовласки через девять месяцев родить ему двоих сыновей и дочь, у которых будут длинные вьющиеся волосы, звезда во лбу и по золотой цепочке на шее, и что эти невероятные посулы короля-то и пленили. Такая доверчивость сына вызвала у нее лишь презрительную усмешку; затем она разразилась проклятиями, до того была разгневана.
Меж тем кареты подали к маленькому домику. Король позвал с собою и мать трех красавиц, обещая, что к ней будут относиться с должным почтением, но она помнила, что двор подобен бурному морю, и потому ответила:
— Ваше Величество, я слишком много знаю о том, как устроен этот мир, чтобы отказаться от спокойной жизни, которой добилась с таким трудом.
— Как! — воскликнул король. — Вы хотите, как и прежде, содержать трактир?
— Нет, — ответила она, — если вам будет угодно помочь мне в средствах.
— Позвольте хотя бы, — предложил он, — предоставить вам экипаж и слуг.
— Благодарю вас, — молвила она, — но, когда я одна, рядом нет и врагов, которые мучили бы меня. Я боюсь вновь обрести их в лице собственных слуг, ведь при дворе без них нельзя.
Король восхитился разумом и умеренностью женщины, мыслившей с рассудительностью истинного философа.
Пока король уговаривал свою новую родственницу поехать с ним, адмиральская жена Медновласка велела спрятать в своей карете всю богатую утварь и золотые вазы из буфета, намереваясь забрать их себе. Однако фея, незаметно подглядывавшая за нею, подменила их на глиняные кувшины. Когда же Медновласка приехала в новый дом и пожелала отнести сокровища в свои покои, то не обнаружила среди них ничего ценного.
Король же с королевой нежно обняли мудрую старую принцессу и заверили, что она может по своему желанию распоряжаться всем их добром. Так покинули они сельский дом и отправились в город, а об их приближении возвещало далеко разносившееся пение труб, гобоев, литавр и барабанов. Преданные слуги королевы-матери посоветовали ей скрывать свое недовольство, дабы не обидеть короля и не вызвать неприятностей; а посему она держала себя в руках и была с невестками очень дружелюбной: подарила им самоцветы и расточала похвалы, что бы они ни делали, хорошо или плохо.
Королева Златовласка и принцесса Темновласка были очень дружны. А вот адмиральша Медновласка смертельно ненавидела обеих.
— Посмотрите-ка, — возмущалась она, — как благосклонна судьба к моим сестрам. Одна королева, другая принцесса благородных кровей, мужья души в них не чают, а я, старшая, во сто крат красивее их, оказалась женой какого-то адмирала, который даже не любит меня так, как я этого заслуживаю.
Из-за зависти к сестрам она сблизилась с королевой-матерью; да ведь всем было ясно, что доброта последней к своим невесткам — одно притворство: она лишь ждала подходящего мига, чтобы с удовольствием навредить им.
Королева и принцесса ожидали первенцев, когда неожиданно разразилась страшная война и королю пришлось встать во главе войска. Молодая королева и принцесса, не пожелав остаться в подчинении у жестокой королевы, попросили его позволить им вернуться к своей матери, чтобы найти у нее утешение, пока его не будет. Король предпочел не согласиться и попросил жену остаться во дворце, уверяя, что его мать будет хорошо с нею обращаться и заботиться о ней. Еще он добавил, что ничто так его не обрадует, как появление на свет их прекрасных детей, и он с беспокойством будет ждать об этом известий. Злобная королева, с торжеством в душе от того, что сын доверил ей жену, пообещала ему думать лишь о ее благополучии и заверила, что он может ехать со спокойной душой. Король отправился в поход с таким страстным желанием поскорее вернуться, что в каждом сражении рисковал своим войском. Но ему сопутствовала удача, и безрассудная его отвага каждый раз вознаграждалась победой. Однако, как ни спешил он домой, а королева родила еще до его возвращения. У ее сестры-принцессы в тот же день появился на свет очаровательный мальчик, а сама она умерла сразу после родов.
Медновласка же только и думала, как бы насолить королеве. Своих детей у нее не было; а увидев новорожденных, она воспылала ненавистью еще сильнее и решила немедля поговорить с королевой-матерью, ибо нельзя было терять ни минуты.
— Госпожа, — обратилась она к ней, — для меня огромная честь, что Ваше Величество не забывает обо мне в своей милости, и потому я ничего не прошу для себя, а хочу лишь всячески помогать вам. Я понимаю, как огорчило вас то, что король и принц избрали столь недостойные их партии. Четверо детей, появившихся на свет, увековечат совершенную ими ошибку. Наша мать всего лишь бедная селянка, которую отчаянная нужда заставила стать поварихой. Поверьте мне, госпожа, из всех этих младенцев надо сделать рагу, лишить их жизни, пока они вас не опозорили.
— Ах, моя дорогая, — молвила королева, обнимая ее, — вот за что я тебя и люблю — за твою справедливость и готовность разделить все мои невзгоды. Я уж и сама так порешила, осталось лишь придумать, как это исполнить.
— Пусть вас это не тревожит, — ответила Медновласка, — моя собака недавно родила трех щенков того же пола, что и дети королевны. У каждого во лбу звезда, а вокруг шеи отметина, похожая на цепочку. Нужно убедить Златовласку, что она разродилась этими щенками, а ее двух сыновей и дочь, да сына принцессы в придачу выкрасть и умертвить.
— Твой замысел мне очень по душе, — воскликнула злобная королева, — я уже отдала нужные распоряжения Фальши, фрейлине Златовласки. Дело лишь за щенками.
— Они здесь, — сказала Медновласка, — я принесла их с собою.
Открыв котомку, все это время стоявшую у ее ног, она достала оттуда трех щенков бульдога, которых вместе с королевой закутала в пеленки, расшитые золотом и кружевами, как и подобало королевским детям. Заговорщицы положили щенков в корзину с крышкой и направились в покои Златовласки.
— Я пришла поблагодарить вас, — сказала злобная королева, — за тех прекрасных наследников, что вы подарили моему сыну. Взгляните же на них: вот головы, поистине подходящие для корон! Теперь понятно, почему вы пообещали мужу двух сыновей и дочь со звездами во лбу, с длинными волосами и золотыми цепями на шее. Итак, кормите их сами, ибо не нашлось женщины, готовой дать свою грудь собакам.
Несчастная королевна, изнуренная болью, испытанной во время родов, едва не умерла, увидев трех бульдожьих щенков, которые теперь лежали у нее на кровати и жалобно скулили. Она горько заплакала и, сложив руки в мольбе, проговорила сквозь слезы:
— Ох, госпожа, не добавляйте новых упреков к моей муке, ибо она уже не может быть сильнее. О, если бы небеса прибрали меня, прежде чем я испытала такой позор, став матерью этих маленьких чудовищ, — я сочла бы себя слишком счастливой. Но увы! Что же мне делать теперь? Король возненавидит меня так же сильно, как любил.
Тут от слов она перешла к стонам и рыданиям — у нее больше не было сил говорить; торжествующая же королева-мать, сев у ее изголовья, еще битый час с удовольствием осыпала ее проклятиями.
Наконец она ушла. Медновласка же, притворившись, что сочувствует сестре, призналась ей: королевна не первая, на чью долю выпало такое несчастье. Сразу видно, что это дело рук старой феи, наобещавшей им столько чудес. Однако с королем ей теперь встречаться опасно, а потому лучше собраться и уйти к их матери, прихватив трех детей-щенков. Королевна, ничего не отвечая, лишь заливалась слезами пуще прежнего. Только каменное сердце могло не разжалобиться, видя, что сотворили с бедняжкой злобная королева и Медновласка. В отчаянии королевна дала грудь мерзким щенкам, поверив, что это ее дети.
Настоящих же младенцев Златовласки королева-мать приказала Фальши выкрасть и, вместе с сыном принцессы, задушить и закопать так, чтобы ни одна живая душа не узнала. Фрейлина, уже готовая исполнить приказ, завязала на веревке смертоносную петлю, когда вдруг, взглянув на детей, поразилась их дивной красоте; столь чудесны были отметины в виде звезд, горевших у них во лбу, что она не осмелилась запятнать свои преступные руки августейшей кровью.
Она пришла к морю, подтащила к воде шлюпку, поставила в нее колыбель с четырьмя младенцами и положила рядом несколько драгоценных ожерелий. Если судьба приведет их к человеку достаточно милосердному, чтобы их прокормить, то он тотчас будет вознагражден.
Шлюпка, подгоняемая сильным ветром, отплыла от берега так быстро, что Фальшь вскоре потеряла ее из виду. Тут море заволновалось, солнце спрягалось, а над водами сгустились тучи. Засверкала молния, и в небе загремели громовые раскаты. Не приходилось сомневаться, что лодчонка утонула, — и фрейлина обрадовалась, что бедные младенцы погибли, ибо опасалась, как бы не спасло их какое-нибудь чудо.
Король, непрестанно тревожившийся о том, как там его дорогая жена, заключил временное перемирие и спешно вернулся во дворец. Он приехал через двенадцать часов после родов. Узнав об этом, королева-мать явилась к нему со страдальческим лицом, бросилась обнимать, оросила слезами его лицо, притворяясь, будто боль не дает ей заговорить. Король дрожал, не решаясь спросить, что произошло, ибо понимал: случилось что-то очень страшное. Наконец она, овладев собою, сказала, что его жена родила трех щенят. В тот же миг Фальшь показала их королю, а Медновласка, рыдая, бросилась ему в ноги и стала молить не убивать королеву, а лишь отослать ее обратно к матери, ибо она уже была и на это согласна как на великую милость.
Король был так потрясен, что едва дышал. Взглянув на бульдожьих щенков, он с изумлением заметил звезды у них во лбу и некое подобие цепочки вокруг шеи, отличавшейся по цвету от остальной шерсти. В изнеможении он упал в кресло, не в силах принять твердое решение. Однако королева-мать так настаивала, что он согласился изгнать ни в чем не повинную Златовласку. Тотчас ее посадили в носилки вместе с тремя щенками и, нимало не заботясь о том, каково ей приходится, отправили к матери, до которой она добралась едва живая.
Небеса же сжалились над лодкой с тремя принцами и принцессой; покровительствовавшая им фея превратила проливной дождь в молоко, и они не остались голодными. Никакого вреда не причинила им и страшная буря. Семь дней и ночей плавала лодка по морю, а младенцы в открытом море были спокойны, словно на пруду. Но вот их заметило проходившее мимо корсарское судно. Капитан издалека увидел яркий блеск звезд, горевших во лбу у младенцев, и, уверенный, что уловил сияние драгоценных камней, направил корабль навстречу шлюпке. И правда — в ней он обнаружил сокровище, но всего удивительней была для него красота четверых младенцев. Он пожелал взять их себе и потому приказал плыть домой, чтобы отдать детей жене: ведь своих у них не было, а жена хотела их больше всего на свете.
Она встревожилась, что муж так быстро вернулся, ибо тот отбыл в длительное плавание. Но как же обрадовалась она, увидев обретенное им диво дивное: вместе полюбовались они на диковинные звезды, на золотые цепочки, что невозможно было снять, и на длинные волосы. А когда жене вздумалось причесать младенцев, случилось настоящее чудо, ибо с их волос каждый миг падали то жемчуга, то рубины, то алмазы, то изумруды разной величины и без малейшего изъяна. Она рассказала об этом мужу, и тот изумился не меньше ее.
— Я устал, — молвил он, — от ремесла корсара. Если впредь волосы этих детей будут для нас источником богатств, так нечего мне больше и по морям плавать — ведь я и так стану богачом, как все великие капитаны.
Это обрадовало жену корсара, чье имя было Корсарина, и она еще сильнее полюбила четверых детей. Принцессу она назвала Ясной Звездочкой, ее старшего брата — Солнышком, среднего — Счастливцем, а сына принцессы — Милоном. Он был намного красивее двух других мальчиков, так что, хоть и не было на нем ни звезды, ни цепочки, Корсарина любила его больше всех.
Материнского молока у нее не было — вот и попросила она мужа, любившего поохотиться, поймать ей маленьких оленят. Их домик стоял в большом лесу, так что он выполнил ее просьбу без труда. Корсарина оставила оленят рядом с домом с наветренной стороны, а оленихи, учуяв их запах, прибежали их покормить. Тогда Корсарина спрятала оленят, а вместо них положила младенцев, которым пришлось по вкусу оленье молоко. Дважды в день четыре лани приходили к дому Корсарины и кормили принцев и принцессу, принимая их за своих оленят.
Так прошло младенчество монарших детей: и корсар, и его жена самозабвенно любили их, о них одних только и заботились. Корсар был человеком весьма благовоспитанным; ремесло свое выбрал он по прихоти судьбы более, чем сам того желая. Он женился на Корсарине, когда та была фрейлиной у одной принцессы, где получила хорошее воспитание; она знала свет и даже в местах столь диких, где прокормить их могли только морские набеги мужа, все-таки не забыла, как подобает жить. С радостью покончили они с корсарским промыслом, полным опасностей, — ведь теперь им незачем было заботиться о пропитании: каждые три дня с волос принцессы и ее братьев падали драгоценные камни, которые Корсарина продавала в ближайшем городе, а на вырученные деньги всегда покупала детям подарки.
Когда те подросли, Корсар принялся обучать их, развивая способности, коими щедро одарили их небеса, и уж не сомневаясь, что их происхождение окутано большой тайной. В благодарность за сей дар богов он решил научить их всем наукам и, надлежащим образом обустроив свой дом, пригласил достойных учителей. Дети обучались с легкостью, удивлявшей сих почтенных господ.
Корсар и его жена никому не рассказывали, как дети попали к ним, выдавая их за своих собственных, хотя и было заметно, что малыши эти рода куда более знатного. Они были очень дружны, а держались всегда непринужденно и учтиво; однако принц Милон испытывал к принцессе Звездочке более глубокие и пылкие чувства, чем двое других принцев. Стоило ей чего-нибудь захотеть, как он всячески старался исполнить ее желание. Всегда рядом, он сопровождал ее и на охоте, а дома находил предлог, чтобы подольше с нею побыть, никуда не отлучаясь. Солнышко и Счастливец хотя и приходились ей братьями, но никогда не говорили с ней так нежно и уважительно. Звездочка заметила это и тоже полюбила Милона.
А пока росли они, возрастала и их взаимная привязанность, что поначалу приносило им лишь радость.
— Мой дорогой братец, — говорила Звездочка, — будь моих желаний достаточно, чтобы сделать вас счастливым, вы стали бы величайшим королем на земле.
— Ах, сестрица, — отвечал он, — не отнимайте у меня простого счастья находиться подле вас. Я предпочту один час рядом с вами всем высотам, какие только вы мне желаете.
Но она говорила то же самое своим братьям, которые всегда отвечали, что были бы этому рады; а потом добавляла, чтобы испытать их:
— Да, пусть бы вы заняли лучший престол на свете, даже если я никогда больше не увижу вас.
И они тотчас отвечали:
— Вы правы, сестрица, это невысокая цена.
— Так, значит, вы согласны, — спрашивала она, — больше никогда меня не увидеть?
— Конечно, — говорили они, — вы же будете присылать иногда весточки, нам этого хватит.
Уединяясь, она размышляла над тем, сколь разными бывают взгляды на любовь, и понимала, что и ее сердце чувствует то же самое. Солнышко и Счастливец были дороги ей, однако она вовсе не стремилась всю жизнь провести рядом с ними. Но стоило ей лишь подумать, что отец может отправить Милона разбойничать на море или служить в войске, как глаза ей застилали слезы. Так любовь, пока еще скрытая под маской доброты, возросла в этих молодых сердцах. Но вот Звездочке исполнилось четырнадцать лет — и вдруг ее начала мучить совесть: теперь ей казалось, что любить братьев разной любовью несправедливо. Она вообразила, будто виной всему те ласка и забота, какие всегда проявлял к ней Милон, и запретила ему впредь добиваться ее любви.
— Вы уж и так в этом слишком преуспели, — говорила она ему добродушно, — видите, насколько лучше я отношусь к вам.
С какой радостью слушал он эти речи! Его предупредительность не только не уменьшалась, но, напротив, возрастала, и каждый день он находил новый способ выразить ей свою привязанность.
Они еще не знали истоков взаимной нежности, не ведали о ее природе. Но вот однажды Звездочке привезли несколько новых книг. Она взяла первую попавшуюся — это была история двух юных сердец, полюбивших друг друга, хотя они считались братом и сестрой; потом настоящая родня признала их, и они поженились после долгих мытарств. Милон прекрасно читал вслух, умея слушать и сам, и удерживать внимание тех, кто слушал его; поэтому Звездочка попросила его почитать ей, пока она закончит ткать полотно.
Читая сие произведение, он не без волнения заметил, сколь похожи его чувства на описанные в книге. Звездочка была удивлена не меньше. Казалось, автор заглянул прямо к ней в душу. Чем дальше Милон читал, тем больше повествование трогало его; принцесса же, слушая его, все больше умилялась. Как ни старалась она сдержать слезы, но они все же потекли по ее щекам. Старания Милона справиться со своими чувствами оказались столь же тщетны. Он то бледнел, то краснел, голос его срывался. Оба безмерно страдали.
— Ах, сестрица! — воскликнул наконец Милон, выпустив книгу из рук и обратив на Звездочку взор, полный печали. — Как счастлив был Ипполит, когда узнал, что не приходится братом Юлии[344].
— Увы! Не будет нам подобного утешения! Неужели мы меньше заслуживаем его?
Тут она поняла, что сказала слишком много, и смутилась; принца же если что и могло утешить, то лишь смущение Звездочки. С тех пор глубокая грусть овладела ими; тут и слов никаких не нужно было — просто им открылась частица происходящего в их сердцах. От всех они прятали общую тайну, сами не желая осознавать ее и не смея говорить о ней между собою. Но ведь людям свойственно обольщаться, и потому принцесса частенько подумывала о том, что лишь у одного Милона не было звезды во лбу и цепочки на шее. Зато и с его длинных волос тоже падали жемчужины, как и у его кузенов.
Однажды трое принцев отправились на охоту, а Звездочка заперлась в маленькой комнатке: ей очень нравилось мечтать там в полумраке. Притихнув, она сидела, слыша все, что в соседней комнатке, за тоненькой стенкой, говорила мужу Корсарина:
— Пора Ясной Звездочке замуж. Знай мы, кто она, — уж постарались бы найти ей ровню. А коли окажется, что эти молодые люди-то ей вовсе и не братья, — так разве не лучше найти ей в мужья которого-нибудь из них?
— При них не было ничего, что могло бы рассказать об их происхождении, — молвил корсар, — хотя драгоценности, лежавшие в их колыбельках, свидетельствуют, что эти дети из богатой семьи. Но поистине необыкновенно то, что все они, вероятно, близнецы и одногодки, и их целых четверо.
— Думается мне, — сказала Корсарина, — что Милон не родной их брат, ибо у него нет ни звезды, ни цепочки на шее.
— И то правда, — согласился ее муж, — но алмазы падают с его волос, как у остальных. После всех богатств, что мы скопили благодаря этим милым детям, мне хочется лишь одного — узнать, кто же они такие.
— Предоставим это небесам, — молвила Корсарина, — ведь они послали нам этих детей и, когда придет время, несомненно, откроют то, что сейчас от нас сокрыто.
Звездочка внимательно слушала разговор. Несравненную радость доставила ей мысль, что она, возможно, знатного происхождения: ведь ей, хотя и почитавшей названых родителей, тяжело было считать себя дочерью корсара. Но еще больше обрадовало ее, что и Милон, быть может, ей вовсе не брат; сгорая от нетерпения, она тотчас решила поведать всем троим столь нежданную новость.
Она села на буланого коня, на черной гриве которого бриллианты висели гроздьями, ибо стоило ей только раз провести по своим волосам, как с них падало столько драгоценных камней, что украсить ими можно было целый охотничий отряд. Бархатный чепрак был расшит алмазами и рубинами. Скорее помчалась она в лес искать братьев; поскакала туда, откуда доносились звуки охотничьих рожков и собачий лай, и вскоре увидела их. Тут и Милон, едва заметив ее, один устремился навстречу.
— Нежданно и приятно! — воскликнул он. — Наконец-то и вы, Звездочка, развлечете себя охотой, — а то ведь ни на минуту не желали отвлечься от того удовольствия, какое вам доставляет обучение музыке и наукам.
— Мне столько нужно вам сказать наедине, — ответила она, — ведь я приехала сюда искать вас.
— Ах, сестрица, — вздохнул Милон, — и отчего вздумалось вам искать меня именно сегодня? А ведь мне казалось, что вам давно от меня уже ничего не нужно.
Она опустила глаза, покраснев и ничего не ответив, грустно и задумчиво скача рядом с ним. Тут подоспели двое других братьев. Увидев их, она словно пробудилась от глубокого сна, спешилась и устремилась вперед; все трое последовали за ней. Дойдя до лужайки в тени раскидистых деревьев, Звездочка промолвила:
— Остановимся здесь; послушайте, что я узнала.
И она в точности пересказала им разговор корсара с женой, из которого следовало, что они не их дети. Нет нужды говорить, сколь велико было удивление принцев; они тут же принялись обсуждать, что делать дальше. Один решил сразу уехать, никому не сказав ни слова; другой вовсе не хотел уезжать, а третий возражал, что если уж уезжать, то надо об этом предупредить. Первый же стоял на своем, утверждая, что корсар и его жена их не отпустят — ведь они разбогатели-то, расчесывая им волосы. Второй отвечал, что и рад бы уехать, да не знает, куда именно, а жить скитальцем радости немного. Последний добавлял, что неблагодарно покинуть корсара и Корсарину без их согласия; а совсем уж глупо так и стоять в лесу, где им точно никогда не узнать, кто они есть; так что лучше всего рассказать обо всем названым родителям и получить у них согласие на отъезд. Когда все с этим согласились, то сразу же вскочили на коней и поспешили к корсару и Корсарине.
Сердце Милона немного успокоилось — так надежда способна чуть утихомирить тревоги влюбленного страдальца. Любовь озарила ему частичку грядущего: поскольку он больше не считал себя братом Звездочки, страсть его тотчас воспарила, а воображение рисовало тысячи пленительных образов. Они предстали перед назваными родителями и обрадованные, и встревоженные.
— Мы пришли не для того, — начал Солнышко (ибо он говорил за всех), — чтобы отказать вам в должных с нашей стороны дружбе, признательности и уважении, хотя нам и стало известно, как вы нашли нас в море и что вы не родные наши отец и мать. Вы, милосердные, спасли нас, вы дали нам прекрасное воспитание, вы заботились о нас с беспримерной добротою — и мы навсегда сохраним привязанность к вам. Посему, решив искренне поблагодарить вас, мы умоляем рассказать нам все, что вам известно о столь необычайном деле, и дать совет о дальнейшем, дабы мы руководствовались вашей мудростью и не могли себя ни в чем упрекнуть.
Корсар и Корсарина поразились, что открылась правда, которую они столь тщательно скрывали.
— Теперь вы знаете слишком много, — сказали они, — и потому мы не можем больше утаивать, что вы не наши дети и попали к нам лишь по воле судьбы. Нам ничего не известно о вашем происхождении, однако в вашей колыбели лежали драгоценности: стало быть, настоящие родители ваши или высокородные дворяне, или очень богатые люди. Вот и все, что мы знаем — что же можем мы вам посоветовать? Если вы цените нашу привязанность, то, без сомнения, останетесь и скрасите нашу старость. Если же вам не по душе замок, что мы построили в этих краях, и вы тяготитесь жизнью в глуши, — мы пойдем с вами, куда пожелаете, кроме королевского двора. Житейская мудрость внушила нам неприязнь к нему. Быть может, и вам он будет не по вкусу, случись вам лучше узнать его непрестанную суету, дрязги, притворство, обманы, зависть, неравенство, лживость слов и неприкрытость зла. Мы могли бы сказать еще многое, да ведь вы упрекнете нас в пристрастности, — и вполне справедливо: ибо — да, дети, мы хотели бы удержать вас в этом мирном краю, хотя вы и вольны покинуть его, когда пожелаете. Но не забывайте: здесь-то вы словно в гавани, а жаждете выйти в бушующее море, где трудностей всегда больше, чем удовольствий; жизнь коротка и, случается, обрывается в лучшие дни свои, ослепительный блеск величия столь же притягателен, сколь и обманчив, и самое верное из благ — умение ограничивать себя, наслаждаться спокойствием и набираться мудрости.
Корсар еще не закончил свои напутствия, когда принц Счастливец прервал его.
— Мой дорогой отец, — возразил он, — мы слишком сильно хотим узнать что-нибудь о нас самих, чтобы оставаться в этой глуши. Вы соизволили дать нам ценные назидания; надеюсь, что нам удастся им следовать. Однако судьба зовет нас. Позвольте же нам осуществить то, что нам предназначено, и тогда, вернувшись к вам, мы расскажем о своих приключениях.
Услышав это, корсар и его жена заплакали, сильно растрогав этим принцев и особенно Звездочку, такую чувствительную и нежную; ей бы и в голову не пришло покидать этакую глушь, будь она уверена, что с нею здесь навсегда останется принц Милон.
Решившись отправиться странствовать, принцы теперь только и ждали мига отплытия, ибо полагали, что именно море откроет им желанную тайну. На небольшом корабле нашлось место и для их четырех коней; они долго и прилежно расчесывали волосы и, набрав для Корсарины побольше жемчужин и каменьев, попросили отдать им те украшения, что лежали в их колыбельках. Она же, принеся драгоценности из тайника, где все это время заботливо хранила, привязала их все к одежде Звездочки, непрестанно целуя ее и орошая ее лицо слезами.
Столь печального расставания еще не было на свете; корсар и его жена едва не умерли от терзаний, природа коих вовсе не была корыстной — ведь сокровищ они уже накопили столько, что большего и желать нельзя. Солнышко, Счастливец, Милон и Звездочка взошли на корабль, который корсар построил очень прочным и красивым: мачты из черного дерева и кедра, снасти из обшитого золотом зеленого шелка, паруса тоже из зеленого с золотом сукна; к тому же судно было великолепно раскрашено. Сами Антоний с Клеопатрой, а то и гребцы прекрасной Венеры, восхитились бы отплывавшим кораблем[345] — так прекрасен он был. Принцесса сидела на корме, под богатым балдахином; оба ее брата и кузен стояли рядом, сияя ярче звезд небесных; а от тех звезд, что горели у них во лбу, расходился ослепительный свет. Они решили отправиться туда, где корсар нашел их, и вскоре прибыли на место. Там они собирались принести жертвы богам и феям, дабы те оказали им покровительство, указав путь к месту их рождения. Поймав горлицу, они хотели было уж зарезать ее; однако принцессе стало жаль красивую птицу, и, отпуская ее на волю, она промолвила:
— Лети, священная птица Венеры[346], и, если однажды ты понадобишься мне, вспомни, что я сделала тебе добро.
Горлица улетела; на том жертвоприношение и закончилось: тут все четверо заиграли на музыкальных инструментах, да столь дивно, что, казалось, сама природа затихла, чтобы их послушать: стихли и шум волн, и вой ветра, лишь Зефир[347] играл волосами принцессы и колебал полы ее платья. Тут вдруг из волн морских показалась сирена[348], да так чудесно запела, что принцесса и ее братья замерли в восхищении. Сирена же, пропев несколько мелодий, обернулась к ним лицом и крикнула:
— Не тревожьтесь более, пустите ваш корабль по воле волн и сойдите на берег там, где он остановится; а любовь пусть цветет, и да здравствуют любящие.
Звездочка и Милон несказанно обрадовались, ничуть не сомневаясь, что сирена обращалась к ним. Они тайком переглянулись, и сердца их заговорили друг с другом на языке влюбленных, так что Солнышко и Счастливец ничего не заметили. Корабль плыл по воле ветра и волн; ничто не омрачало пути — и погода была ясной, и море спокойным. Плыли они так три полных месяца, и все это время принц Милон часто беседовал с принцессой.
— Сколько сладостных надежд я лелею, милая Звездочка, — сказал он ей однажды. — Ведь я не брат вам, а над моим сердцем властны лишь вы и никто иной; однако в нем нет места злодеянию, а ведь таковым являлась бы моя любовь к вам, будь вы моей сестрой. Но милостивая сирена своим советом подтвердила и все мои догадки.
— Ах, братец, — возразила она, — не будем верить темным речам, смысл коих нам недоступен. Что станется с нами, коли мы прогневаем богов чувствами, которые им не по душе? Ведь сирена поведала нам так мало, — как знать, не чрезмерное ли воображение причиной нашей преждевременной радости?
— Вы отпираетесь, жестокая, — опечалился тогда принц, — и не столько из почтительного страха перед богами, сколько из неприязни ко мне.
Ничего не отвечая ему, Звездочка лишь подняла глаза к небу и глубоко вздохнула, что Милон воспринял как знак ее благосклонности.
Была пора, когда дни стоят длинные и жаркие; вечером принцесса с братьями поднялись на верхнюю палубу, чтобы полюбоваться закатом на море. Звездочка села, братья встали рядом; взяв музыкальные инструменты, все восхитительно заиграли на них. Между тем корабль, подгоняемый легким ветерком, казалось, быстрее заскользил по волнам, торопясь обогнуть небольшой мыс, за которым располагался прекраснейший из городов на свете, внезапно открывшийся нашим мореплавателям. Вид его восхитил путешественников: мраморные дворцы с золотыми крышами, а остальные дома — из тончайшего фарфора; великолепие красок оттеняла глазурь листвы вечнозеленых деревьев. При виде такой роскоши Звездочка и ее братья пожелали бросить якорь в здешнем порту, однако тут могло не найтись места для их корабля — столько судов уже стояло в гавани, что их мачты походили на плавучий лес.
Сказано — сделано: но стоило им только сойти с корабля, как на берегу столпилось множество людей, привлеченных великолепным видом новоприбывшего судна, красотой превосходившего даже то, которое аргонавты построили для поисков Золотого руна[349].
Дивная краса детей со звездами во лбу очаровала всех, и о них тотчас доложили королю; тот, не поверив, сам поспешил на просторный балкон, выходивший прямо на море. Он увидел, как принцы Солнышко и Милон, взяв принцессу на руки, спустили ее на землю, затем вывели коней, чья богатая сбруя была под стать остальной роскоши. Солнышко вскочил на черного как смоль, Счастливец — на серого, конь Милона был белоснежным, а у принцессы — ее верный буланый. Король залюбовался четверкой всадников, скакавших так гордо, что никто не мог даже близко к ним подойти.
Принцы, заслышав, как люди говорят: «Смотрите, вон король», — взглянули вверх и, увидев его во всем блеске, тотчас отвесили низкий поклон и чинно прошествовали мимо, не отводя от него взора. Король тоже смотрел на них — красота принцессы поразила его так же, как и пригожесть юных принцев. Он велел своему обер-шталмейстеру предложить гостям королевское покровительство и позаботиться о них — ведь в этом краю они, вероятно, чужестранцы. Наши же путешественники, с почтением и признательностью приняв оказанную честь, попросили дать им лишь дом, где они поселились бы все вместе, и хорошо бы он находился в нескольких лье от города, ибо они любили прогулки. Тотчас обер-шталмейстер распорядился приготовить для них один из лучших домов, где они удобно расположились со всем своим скарбом.
Короля так восхитили четверо юных путешественников, что он немедля явился в покои своей матери-королевы и рассказал ей о дивных звездах, что сияли у них во лбу. Та сперва застыла в изумлении, а затем с притворным равнодушием поинтересовалась, сколько им может быть лет. Король ответил, что пятнадцать, а может быть, и шестнадцать. Она ничем не выдала своей тревоги, но ужасно испугалась: выходило, что Фальшь предала ее. Тем временем король, широко шагая взад-вперед, все твердил:
— Счастлив же, должно быть, отец, у которого столь блестящие сыновья и такая красивая дочь! Я же, несчастный правитель, — отец трех щенков. Ничего не скажешь — прекрасные наследники! Будущее моей короны весьма многообещающе.
С каждым его словом росла тревога королевы-матери. Сверкающие во лбу звезды и возраст незнакомцев до того напоминали ей принцев с их сестрой, что теперь она была почти уверена в предательстве Фальши, все больше убеждаясь, что та не убила королевских детей, а, наоборот, спасла. Однако, овладев собою, она ничем не выдала смятения и в тот день даже не отправила никого разузнать о них побольше. Зато на следующее утро королева-мать велела своему секретарю пойти к ним и, якобы исполняя приказ короля о благоустройстве их дома, рассмотреть как следует эти самые звезды, горевшие во лбу у юных странников.
Секретарь незамедлительно отправился выполнять поручение. Он застал принцессу за утренним туалетом. В те времена торговцы еще не продавали краску для волос на каждом углу, и поэтому светлое оставалось светлым, а темное ничем нельзя было осветлить. Посланник королевы увидел, как принцессе расчесывают распущенные волосы, ниспадавшие до пола золотыми локонами. Вокруг стояло несколько корзин, чтобы не растерять падавшие драгоценные камни. Звезда во лбу сверкала так, что больно смотреть, а золотая цепочка на шее была столь же поразительной, как и алмазы, падавшие прямо в корзины. Секретарь не верил глазам своим, когда принцесса выбрала самую большую жемчужину и попросила его сохранить ее как памятный дар: а это была та самая жемчужина, которая теперь является достоянием испанских монархов и известна под названием Перегрина[350], что значит «Паломница», ибо досталась от путешественницы.
Секретарь поприветствовал троих принцев, побеседовав с ними и разузнав все что нужно, и откланялся, смущенный столь великой щедростью. Вернувшись во дворец, он доложил обо всем королеве-матери, и та еще больше утвердилась в своих подозрениях. Секретарь сказал ей, что у Милона звезды не было, но драгоценные камни падали с его волос, как и у его братьев, и что, по его мнению, он самый красивый из них; а явились они все из далеких краев, откуда отец и мать отпустили их ненадолго, дабы увидели они чужеземные страны. Королева, теперь немного сбитая с толку, уж начала подумывать, что это вовсе не дети короля.
Так металась она между страхом и надеждой, а король, весьма любивший охоту, тем временем как-то проезжал мимо дома наших юных путешественников. Обер-шталмейстер, сопровождавший его, указал, где по его приказанию устроили Звездочку и ее братьев.
— Королева не хотела, чтобы я навестил их, — молвил король, — она боится, что в их краях свирепствует чума и кабы они заразу к нам не привезли.
— Эта юная незнакомка, — сказал первый шталмейстер, — и вправду очень опасна. Но я, Ваше Величество, боялся бы скорее очарования ее глаз, чем какой бы то ни было заразы.
— Поистине, — ответил король, — я с вами согласен.
И он уже было подстегнул коня, как вдруг услышал из распахнутых окон просторной гостиной музыку и пение; нежная мелодия была так сладка, что он спешился и пошел к дверям.
Принцев же шум и лошадиное ржание заставили выглянуть из окна. Увидев короля, они почтительно поклонились и с радушным видом поспешили навстречу; братья в знак покорности обняли его колени, а принцесса целовала ему руки; все словно бы признавали в нем родного отца. Король, взволнованный и растроганный, приласкал их, но не мог понять, отчего сам так расчувствовался. Он попросил их непременно явиться во дворец, где с радостью представит новых друзей королеве-матери; они же, поблагодарив за такую честь, заверили, что дело лишь за готовностью их одежд и экипажей, и вскоре они обязательно приедут к нему на поклон.
Король же после охоты прислал им половину добычи, а другую половину отвез матери.
— Как! — воскликнула она. — Ваша добыча столь скудна? Обычно вы убиваете в три раза больше дичи.
— Верно, — ответил король, — но я отдал часть прекрасным чужестранцам. Я чувствую к ним столь необычайную привязанность, что сам немало удивлен. Если бы вы так не боялись заразы, я бы давно уже распорядился поселить их во дворце.
Королева-мать, сильно разозлившись, осыпала его обвинениями в недостаточном почтении и упреками в опасном легкомыслии.
Едва король ушел, она послала за Фальшью и уединилась с нею в своих покоях. Там она схватила фрейлину одной рукой за волосы, а другой поднесла к ее горлу кинжал.
— Несчастная, — прошипела она, — не знаю, какие остатки доброты мешают мне принести тебя в жертву моему праведному гневу. Ты предала меня. Ты не убила четверых младенцев, которых я отдала тебе, чтобы ты от них избавилась. Признайся же в своем преступлении, только так, быть может, я пощажу тебя.
Фальшь, едва живая от страха, кинулась к ней в ноги и рассказала, что случилось в ту давнюю ночь, когда разыгралась буря. Она уверяла, что дети не могли тогда выжить, ибо непогода была такой страшной, что ее саму чуть не забил град. Теперь же она просит у королевы-матери лишь немного времени, чтобы найти иной способ отделаться от этих детей одного за другим, и притом так, что в этом не заподозрит ее никто на свете.
Королева, желавшая лишь их смерти, немного смягчилась и приказала статс-даме не терять ни минуты. Старуха Фальшь понимала, какой опасности подвергается, и пустилась во все тяжкие. Она выждала, когда трое принцев отправились на охоту, а сама с гитарой в руках уселась под окном принцессы и затянула:
Всё в мире побеждает красота,
Красивым быть — вот каждого мечта.
Но с возрастом все краски выцветают,
Вчерашние красотки увядают
И тусклыми становятся черты,
Уж нет следов от прежней красоты.
Бедняжки тщетно воротить мечтают
Те прелести, что навсегда ушли,
Но только бесполезны все старанья,
И гложет душу разочарованье,
Когда навек все вёсны отцвели.
Спешите красоты плоды вкусить,
Пока вы молоды, спешите полюбить.
Ведь с возрастом все краски выцветают,
Вчерашние красотки увядают
И тусклыми становятся черты,
Уж нет следов от прежней красоты.
Бедняжки тщетно воротить мечтают
Те прелести, что навсегда ушли,
Но только бесполезны все старанья,
И гложет душу разочарованье,
Когда навек все вёсны отцвели.
Звездочке такие стихи пришлись по душе, и она вышла на балкон посмотреть, кто поет. Едва она показалась, как Фальшь, нарядно одетая, низко ей поклонилась; тогда и принцесса в свою очередь поприветствовала фрейлину, шутливо поинтересовавшись, не о себе ли самой та только что пела.
— Да, красавица, — ответила Фальшь, — эти слова прямо-таки как будто для меня и написаны; а вот, чтобы они никогда не касались вас, я дам вам совет, которым вы непременно должны воспользоваться.
— Что же это за совет? — спросила Звездочка.
— Я скажу, как только позволите мне подняться к вам в комнату, — молвила Фальшь.
— Вы можете войти, — сказала принцесса.
Старуха, не мешкая, вплыла в дом с видом придворной дамы, — а вид этот, однажды побывав при дворе, уже невозможно утратить.
— Красавица, — заговорила Фальшь, не теряя ни минуты (ибо боялась, что им могут помешать), — небеса одарили вас неземной прелестью. Помимо яркой звезды во лбу, про вас рассказывают и другие чудесные вещи. Но одного-то, самого необходимого, вам как раз и недостает. Как жаль!
— Чего же у меня нет? — спросила принцесса.
— Танцующей воды, — ответила злобная фрейлина. — Будь такая вода у меня — вы не увидели бы ни единого седого волоска на моей голове, ни морщинки на лбу, у меня были бы самые красивые зубы на свете и моя девическая прелесть очаровала бы вас. Увы! Я узнала этот секрет слишком поздно, когда время уже стерло всю мою красоту. Учитесь же на моих ошибках, милое дитя, пусть хоть это утешит меня, ибо я чувствую к вам необъяснимую нежность.
— Но где же я найду эту танцующую воду? — вновь спросила Звездочка.
— Ее можно найти в Светлом лесу, — ответила Фальшь. — У вас есть трое братьев. Хотя бы один из них должен любить вас настолько, чтобы отправиться за ней туда. Неужели они не дорожат вами? А ведь с этой водой вы могли бы оставаться прекрасной еще сто лет после смерти.
— Мои братья любят меня, — сказала принцесса, — но один из них точно ни в чем мне не откажет. Если эта вода и вправду столь чудесна, как вы говорите, я вознагражу вас соразмерно вашим заслугам.
Коварная старая фрейлина поспешно удалилась, обрадованная таким скорым успехом. Напоследок она обещала Звездочке обязательно навестить ее.
Пер. О. Л. Берсеневой (проза), Е. Ю. Шибановой (стихи)
Новый дворянин от мещанства
Продолжение

— Позвольте перебить вас и самому почитать, ибо, думаю, вы будете мне за это благодарны.
— Охотно, — ответил приор, — дамам ваше чтение придется больше по душе, чем мое.
— Ну, это еще не известно, — молвила баронесса. — Вы остановились, как раз когда еще сильнее разожгли наше любопытство.
— Вы слишком любезны, госпожа, — молвил Дандинардьер, — никогда бы не подумал, что произведение столь незначительное, к тому же весьма небрежно написанное — да в нем и ценности-то никакой нету, — и вот оно так благосклонно принято.
— Уверяю вас, — воскликнула Виржиния, — что оно полностью завладело моим вниманием. Никогда бы не разлучалась с Ясной Звездочкой.
— А я с принцем Милоном, — добавила Мартонида. — Его сомнения в своем происхождении — причина стольких бед, что я поистине разделяю все его тревоги.
— Ну-ну! Вовсе нет, вовсе нет, сударыни! — не согласился Дандинардьер. — Finis coronat opus[351].
— О, Боже! — рассердилась вдруг баронесса. — Это еще что вы такое сказали? Белиберда пополам с тоскою! Позвольте заметить, что наши уши столь же нежны, как и у придворных дам, и подобные речи вовсе не для них.
Дандинардьеру, не вполне уверенному, что он изрек все правильно, оставалось лишь предположить, будто госпожа де Сен-Тома поняла афоризм не в пример лучше него; потому он рассыпался в извинениях за свою неудачную шутку, признав, что удивлен ее столь глубокими познаниями в латыни.
— Ах, сударь, — молвила она, — женщины в наше время столь же мудрены, сколь и мужчины. Они учатся, и способности их безграничны. Какая жалость, что им нельзя занимать всякие посты в государстве. Парламент, полностью состоящий из женщин, был бы милейшим на свете. Можно ли вообразить что-нибудь приятнее смертного приговора, произнесенного очаровательными алыми губками прекрасной дамы?
— Несомненно, — согласился Дандинардьер (всячески старавшийся поскорее изгладить из памяти свой неудачный Finis coronat opus), — несомненно и еще раз несомненно. Я бы не переживал, что меня повесят, если бы приговор мне вынесла столь очаровательная особа, как вы, баронесса.
— Вы слишком любезны, — ответила госпожа де Сен-Тома. — Но окончим же чтение сказки. Ведь она лучше всего, что мы можем тут наговорить.
Приор тотчас продолжил читать:
Пер. О. Л. Берсеневой
История принцессы Ясной Звездочки и принца Милона
Окончание

Милон, ни на минуту не перестававший наблюдать за ней, очень скоро заметил это.
— Что с вами, милая Звездочка, — спросил он, — или этот край вам не по душе? Если так, уедем отсюда немедля. А быть может, выезд наш недостаточно хорош, или обстановка не очень красива, или еда не слишком вкусна? Ответьте, прошу вас, чтобы я смог первым исполнить ваше желание и других заставить сделать то же самое.
— Доверие, которое вы мне оказываете, прося меня рассказать вам, что происходит у меня в душе, — ответила она, — обязывает меня признаться: я не смогу жить, если у меня не будет танцующей воды. Найти ее можно в Светлом лесу, и с ней я не буду больше страшиться жестокого течения времени.
— Не печальтесь, милая Звездочка, — молвил Милон, — я тотчас отправлюсь за ней и либо принесу ее вам, либо смертью своей докажу, что добыть ее невозможно.
— О нет! — воскликнула Звездочка. — Я лучше откажусь от неувядающей красоты и стану уродливой, чем решусь рисковать вашей жизнью, — так она мне дорога. Я заклинаю вас не думать больше о танцующей воде, я запрещаю вам, если мое слово хоть что-то значит для вас.
Принц притворился послушным, но, как только она успокоилась, тотчас вскочил на своего белого коня, умевшего скакать быстрее ветра, захватив с собою денег и богатую одежду. Драгоценные камни были ему без надобности — ведь стоило только трижды расчесать волосы гребнем, как с них нападало бы бриллиантов на целый миллион. Правда, надо признаться, что камешков-то падало то много, а то и не очень, ибо на это влияли и настроение принцев с принцессой, и их самочувствие. Милон никого не взял себе в спутники, чтобы располагать большей свободой и в случае опасности рискнуть, не слушая предостережений доброго и пугливого слуги.
Но вот пришло время ужина; тут-то принцесса, не увидев за столом Милона, так встревожилась, что не смогла ни есть, ни пить и приказала повсюду искать его. Двое принцев, знать не знавших ничего о танцующей воде, принялись успокаивать ее, говоря, что он где-то неподалеку, наверняка гуляет по лесу в глубокой задумчивости, в которую, как она хорошо знала, впадал он частенько. Однако к полуночи она совсем потеряла всякое самообладание и в слезах поведала братьям, что Милон уехал из-за нее, ибо она призналась ему в страстном желании обладать танцующей водой из Светлого леса. Туда он, без сомнения, и отправился. Услышав это, двое принцев решили послать на его поиски слуг; принцесса же велела передать ему, что заклинает его вернуться.
Тем временем злобной Фальши не терпелось узнать, подействовал ли ее совет. Прослышав, что Милон уже в пути, она несказанно обрадовалась, ибо не сомневалась, что теперь его никому не догнать и, значит, с ним приключится беда. Она поспешила во дворец, гордая своею удачей, и рассказала обо всем королеве-матери:
— О да, госпожа, сомнений нет: это они, те самые трое принцев и их сестра: у них во лбу звезды, цепочки на шее, а с волос невиданной красоты падают бриллианты. Принцесса носит украшения в виде тех самых драгоценностей, что я когда-то положила младенцам в колыбель, а на те, что падают с ее волос, даже и внимания не обращает. Теперь я ни капли не сомневаюсь, что это те самые дети, хотя я и постаралась, чтобы о них никогда больше не услышали. Я обещаю избавить вас от них, госпожа. Все о чем я прошу, — ибо это единственный способ загладить свою вину, — это дать мне время. Вот уже один из принцев отправился на поиски танцующей воды — там он неминуемо погибнет, и такая же участь ждет остальных.
— Посмотрим, — молвила королева, — оправдаются ли ваши ожидания. Не сомневайтесь — только ваши успехи спасут вас от моего праведного гнева.
Фальшь удалилась, испуганная пуще прежнего, перебирая в уме все способы избавления от монарших детей.
Послать принца Милона за танцующей водой — лучше и придумать было нельзя, ибо отнюдь не так уж просто было ее зачерпнуть. Не было человека, не знавшего к ней дороги, но множество слухов ходило о том, сколько бед принесла она нашедшим ее. Без устали скакал Милон и без пощады гнал белого коня своего, дабы поскорее вернуться и преподнести Звездочке то, чего она так желала. Восемь дней и ночей кряду мчался он, лишь изредка отдыхая под лесными деревьями, подкрепляясь лишь плодами, что удавалось сорвать по дороге, и скрепя сердце отпуская коня пощипать траву, ибо это отнимало драгоценное время. Наконец он оказался в краю, где его стал мучить невыносимый жар. Нет, солнечные лучи не палили тут горячее, — и принц, размышляя, в чем причина, взошел на вершину горы и вдруг увидел внизу Светлый лес. Деревья в нем горели вечным огнем, не сгорая, зато на месте обезлюдевшей деревни была выжженная земля. Из леса же доносились шипение змей и рычание львов, чему принц немало удивился, ибо в таком пекле могла бы выжить разве что саламандра[352].
Потрясенный столь жутким зрелищем, Милон спустился с горы, размышляя, что же делать дальше. Уже не раз он готов был проститься с жизнью. Чем ближе подъезжал он к пылающему лесу, тем сильнее чувствовал жажду. Наконец он увидел, как прямо из скалы бьет источник, чьи воды падают в мраморный бассейн. Спрыгнув с коня, он подошел и наклонился, чтобы наполнить маленькую золотую чашу, которую взял с собой в надежде привезти в ней танцующую воду для принцессы. Тут он заметил, что в водах бассейна тонет горлица; ее перья вымокли, и она, совсем выбившись из сил, уже погружалась на дно. Милону стало жаль ее. Он вытащил птичку, взяв ее за лапки, чтобы вытекла вода, которой она наглоталась, затем согрел и вытер ей крылья тонким платком. Помощь его пришлась так кстати, что не прошло и минуты, как бедная горлица воспрянула и защебетала еще веселее, чем прежде того, как ей едва не пришлось утонуть.
— Государь мой Милон, — тихо и нежно проворковала она, — из всех птичек-невеличек, что обитают в лесу, я — самая признательная. И благодарность моя вам за спасение не сравнится ни с чьей. Уже не в первый раз ваше семейство оказывает мне подобную милость, и я тоже рада буду услужить, ибо мне известна цель вашего путешествия, — что и говорить, дерзкая цель, ведь погибшим здесь несть числа. Танцующая вода — восьмое чудо света для дам. Она дарит красоту, молодость, очарование. Однако вы не сможете до нее добраться, не расскажи я вам, как найти ее, ибо вскипает она лавою в глухой лесной чаще и потом низвергается в пропасть. Дорога туда усыпана горящими ветвями, падающими с деревьев, а посему, полагаю, иного способа добраться туда, кроме как по воздуху, не существует. Отдохните здесь и ни о чем не тревожьтесь, а я сделаю все, что надобно.
Тотчас горлица взмахнула крыльями и принялась летать, то поднимаясь, то опускаясь и вновь взмывая под самое небо. На закате она сказала принцу, что все готово. Милон взял в руки услужливую птичку, поцеловал ее, погладил перья, поблагодарил и, отпустив ее, поехал на своем прекрасном белом коне следом за ней. Не проскакав и сотни шагов, он увидел норных зверей и подземных насекомых, выстроившихся в две строгие шеренги: тут были лисицы, барсуки, кроты, улитки, муравьи — такое их множество, что принцу было невдомек, какая сила собрала их всех вместе.
— По моему велению, — сказала ему горлица, — вы видите здесь этих маленьких подземных жителей. Все они хорошо потрудились для вас, причем в большой спешке. Мне будет приятно, если вы их за это поблагодарите.
Принц с поклоном ответил, что желает им более плодородного места для обитания и с радостью предоставит им таковое. Все зверушки остались довольны.
Тут Милон, оказавшись у входа в пещеру, спешился и оставил коня, а сам вошел внутрь и, согнувшись в три погибели, последовал за доброй горлицей, которая благополучно привела его к источнику. Вода так шумно бурлила, что принц наверняка бы оглох, если б птица не дала ему два своих белых пера, чтобы заткнуть уши. Он несказанно удивился, что вода эта танцевала так же ловко, как Фавье и Пекур[353]. Правда, танцы были лишь старинные — бокан, марье и сарабанда[354]; мелодии же напевали порхавшие в воздухе птицы. Принц, до краев наполнив золотую чашу, сам дважды отпил и стал вдруг во сто крат красивей, чем был, да притом так освежился, что и жар самого горячего места на земле — Светлого леса — замечать перестал.
Назад он вернулся той же дорогой, которой пришел; конь умчался было, но, заслышав зов хозяина, тотчас галопом прискакал назад. Принц легко вспрыгнул на него, гордый, что достал танцующую воду.
— Милая горлица, — обратился он к птице, держа ее в ладонях, — мне неведомо, каким чудом у вас такая власть в этих местах; я так поражен этим и столь признателен вам, что хочу возвратить вам свободу, ибо она есть величайшее из благ, а я тем самым желаю отплатить вам добром.
С этими словами он отпустил горлицу, которая пугливо полетела прочь, словно оставалась с ним против воли.
«Какое непостоянство! — подумал тогда Милон. — В тебе больше от человека, чем от горлицы. Ведь переменчивы люди, а не птицы».
Горлица же, паря в воздухе, спросила его:
— Да знаете ли вы, кто я?
Принц удивился, что горлица словно ответила на его мысль; рассудив, что она очень умна, он горько пожалел, что отпустил ее.
«Она могла бы помочь мне, — сказал он себе, — и научить тому, как обрести покой в жизни».
Однако он рассудил, что никогда не нужно жалеть об оказанном благодеянии, тем более что он был в долгу перед ней: ведь ей пришлось преодолеть столько препятствий, чтобы помочь ему достать танцующую воду. Меж тем золотой его кувшинчик был надежно закупорен, вода в нем не могла ни пролиться, ни испариться, и Милон уже предвкушал радость Звездочки и свою собственную, когда он вновь увидит ее, как вдруг, откуда ни возьмись, появилось несколько всадников, скакавших во весь опор. Они не заметали бы его, не окликни он их, и тогда принялись живо показывать на него друг другу. Принц ничуть не испугался, ибо от природы был отважен и мало тревожился об опасности, но огорчился из-за непредвиденной задержки в пути. Он побыстрее поскакал им навстречу и приятно удивился: то были слуги, показавшие ему записки, а лучше сказать — приказы, которые прислала ему принцесса: она просила, чтобы он не подвергал себя опасности в Светлом лесу. Милон поцеловал строчки, написанные рукой Ясной Звездочки, и несколько раз вздохнул. Вскоре он уже был дома и только своим появлением смог унять ее несказанную тревогу.
Он нашел ее сидящей под деревьями; увидев его живым и здоровым, она, в смятении, не знала, что сказать ему. Ей хотелось и отругать его за то, что уехал, ослушавшись ее, и поблагодарить за привезенный ей необыкновенный дар. Наконец нежность пересилила, и она обняла любимого брата, осыпав его упреками, впрочем, без тени обиды.
Неусыпно следившая за нею старуха Фальшь от соглядатаев узнала и о возвращении Милона, и о том, что он стал еще краше прежнего, а принцесса, едва лишь оросив лицо танцующей водой, так несказанно похорошела, что невозможно стало выдержать даже самый мимолетный ее взгляд, не потеряв рассудок.
Фальшь испытывала и удивление, и досаду, ибо рассчитывала, что принц погибнет в столь опасном предприятии. Однако унывать было некогда. Она выждала, когда принцесса отправилась одна в храм Дианы, подошла к ней и сказала с самым дружелюбным видом:
— Как я рада, госпожа, что мой совет оказался столь полезен. Стоит лишь взглянуть на вас, чтобы понять, что вы являетесь счастливой обладательницей танцующей воды. Если позволите, я посоветую вам еще кое-что. Постарайтесь достать поющее яблоко. Это яблоко не простое: заполучив его, человек становится таким умным, что не остается на свете ничего такого, чего бы он не умел. Хочешь внушить свои убеждения, — стоит лишь вдохнуть аромат яблока. Желаешь ли стать оратором, сочинять стихи, писать прозу, развлекать, заставлять смеяться или плакать — яблоку подвластно все, оно поет так искусно и звонко, что его нужно слушать не иначе как лишь за восемь лье, а то потеряешь слух.
— Вовсе оно мне не нужно! — воскликнула принцесса. — Вы нарочно рассказали про танцующую воду, чтобы погубить моего брата. Ваши советы слишком опасны.
— Как же так, госпожа? — возразила Фальшь. — Вы не хотите стать самой ученой и умной особой на свете? Признайтесь, что кривите душой…
— Ах! Что бы сталось со мною, — продолжала Звездочка, — если бы мне принесли моего дорогого брата при смерти или мертвым?
— Он больше никуда не пойдет, — сказала старуха. — Теперь за другими черед служить вам, к тому же это дело вовсе не такое уж рискованное.
— Как бы не так, — ответила принцесса, — я не намерена подвергать их опасности.
— Мне все же жаль вас, — заявила Фальшь, — ибо вы упускаете столь благоприятную возможность. Подумайте все-таки хорошенько. Прощайте, госпожа.
И старая фрейлина удалилась, с тревогой перебирая в уме, все ли правильно сделала. Звездочка же так и стояла в нерешительности у ног мраморной Дианы, не зная, как поступить: и братьев-то она любила, и себя потешить хотелось — а ничто другое ее бы так не обрадовало, как поющее яблоко.
Вздыхала она, вздыхала и наконец заплакала. Солнышко возвращался с охоты и услышал всхлипывания, доносившиеся из храма. Войдя туда, он заметил, как принцесса поспешно закрывает вуалью лицо, ибо ей было стыдно, что глаза ее наполнились слезами. Но принц стал заклинать поведать ему причину; тогда Звездочка призналась, что ей стыдно из-за такого печалиться. Но, чем больше она пыталась скрыть правду, тем сильнее Солнышко хотел ее узнать.
Наконец она рассказала ему, что все та же старушка, прежде уговорившая ее отыскать танцующую воду, поведала ей о поющем яблоке, которое было еще чудеснее, ибо делало человека на диво умным. Принцесса добавила, что отдала бы полжизни за такое яблоко, однако поиски его слишком опасны.
— Ну, уж за меня-то вы не бойтесь, — улыбнулся ей брат, — ибо я и не намерен оказывать вам такую услугу. Как, вы ли не достаточно умны? Полно, полно, сестрица, не огорчайтесь из-за такой ерунды.
Звездочка пошла домой следом за ним, раздосадованная его словами и тем, что ей не видать поющего яблока. Потом все четверо сели ужинать, но принцесса не могла проглотить ни кусочка. Милон, любезный Милон, только на нее и смотревший, стал угощать ее самыми вкусными яствами.
Но едва она откусила, как по щекам потекли слезы, и, рыдая, она выбежала из-за стола. Боже, как встревожился Милон: Звездочка расплакалась! Он стал спрашивать, что с нею, и Солнышко рассказал ему все, еще и обидно насмехаясь над сестрой. Принцессу это так задело, что она заперлась у себя и не выходила весь вечер.
Едва Солнышко и Счастливец легли спать, Милон оседлал своего белоснежного скакуна. Никому не сказал он, куда держит путь, лишь оставил письмо для Звездочки с просьбой передать его, когда она проснется. Ночь была долгая, и он помчался куда глаза глядят и знать не зная, где искать поющее яблоко.
Утром принцессе принесли письмо от него. Легко представить, как встревожилась она и как была растрогана: тотчас кинулась в комнату братьев, чтобы прочесть им его, и они столь же забеспокоились — ведь все четверо были так дружны. Сразу же вдогонку отправили почти всех слуг, дабы те вернули его домой, отговорив от поистине опасного предприятия.
Меж тем король вовсе не позабыл о прекрасных детях, уединенно живших в лесу. Сердце непреодолимо влекло его к ним. Проезжая мимо, он каждый раз мягко упрекал их, что они так и не приехали во дворец погостить. Они же, сперва ссылаясь на неисправность экипажей, теперь отговорились отсутствием брата и заверили Его Величество, что по его возвращении непременно воспользуются данным позволением и смиренно засвидетельствуют королю свое почтение.
Принц же Милон мчался во весь опор — так подгоняла его любовь. На рассвете он увидел красивого юношу: тот читал книгу, лежа под деревьями. Милон учтиво обратился к нему:
— Позвольте прервать вас, чтобы осведомиться: не известно ли вам, где можно найти поющее яблоко?
Юноша взглянул на него и, милостиво улыбаясь, спросил:
— Вы так желаете отыскать его?
— Да, если мне это по силам, — ответил принц.
— Ах, господин, — вздохнул незнакомец, — значит, вы не ведаете обо всех грозящих вам опасностях, о которых как раз и написано в этой книге, да так, что страшно читать ее.
— Это не важно, — молвил Милон, — опасности меня не остановят, скажите только, где его найти.
— В книге говорится, — сказал юноша, — что оно в бескрайней Ливийской пустыне, его пение слышно за восемь лье, а стерегущий его дракон уже съел пятьсот тысяч таких же вот дерзких храбрецов, как вы.
— Значит, я буду пятьсот тысяч первым, — ответил принц, тоже улыбнувшись в ответ.
И, поклонившись юноше, он поскакал в Ливийскую пустыню. Его прекрасный конь зефирской породы, ибо происходил от Зефира[355], летел быстрее ветра.
Навострил принц ушки, да все напрасно — не слышно было никакого пения яблока, и тут после долгой и бессмысленной дороги охватила Милона глубокая грусть. Вдруг он увидел бедную горлицу: та упала прямо к его ногам, чуть живая. Принц, не видя никого, кто мог ее ранить, уж подумал, что птичку, прежде служившую Венере, но вырвавшуюся из клетки, догнала стрела расшалившегося Амура. Как бы то ни было, Милон пожалел птицу: спрыгнув с коня, он взял ее в ладони, стер алую кровь с белых перышек и, достав из кармана пузырек с чудодейственным бальзамом, смочил им рану горлицы. Едва он сделал это, как птица открыла глаза, подняла голову, взмахнула крылышками и молвила:
— Здравствуйте, любезный Милон. Видно, судьбой вам предназначено спасать меня; а моя участь — приносить вам пользу. Вы приехали за поющим яблоком. Дело хотя и достойное вас, но непростое, ибо яблоко это стережет ужасный трехголовый и шестикрылый дракон с дюжиной лап и телом из бронзы.
— Ах, милая горлица, — сказал принц, — как приятно снова встретить тебя — и как раз тогда, когда я больше всего нуждаюсь в твоей помощи. Прошу, не откажи мне в ней, прекрасная птичка, ибо я умру от стыда, если вернусь без поющего яблока. Ты сумела достать для меня танцующую воду, — не придумаешь ли и теперь что-нибудь такое, чтобы мое предприятие увенчалось успехом.
— Вы растрогали меня, — ласково молвила горлица, — следуйте за мной, а я полечу вперед. Надеюсь, все будет хорошо.
Принц отпустил ее. Целый день они провели в пути, а на закате остановились у высокой песчаной дюны.
— Нужно выкопать здесь яму, — сказала горлица.
Тотчас принц взялся за работу, действуя то руками, то шпагой. Несколько часов спустя он нашел в недрах земли шлем, кирасу и все остальные доспехи, а еще броню для коня — и все это было зеркальным.
— Облачайтесь, — велела горлица. — Не бойтесь дракона. Увидев собственное отражение во всех этих зеркалах, он подумает, что чудища нападают на него самого, испугается и убежит.
Милон полностью одобрил этот план. Он облачился в зеркальные доспехи и вновь последовал за горлицей. Еще целую ночь они были в пути — и вот на рассвете наконец услышали восхитительную мелодию. Принц спросил горлицу, что это.
— Не сомневаюсь, что так дивно петь может лишь яблоко, — ответила она, — ибо оно способно одно исполнять все музыкальные партии так, что кажется, будто виртуозно играет целый оркестр.
Они подходили все ближе, и принцу захотелось услышать от яблока что-нибудь под его настроение; тут же до него донеслись такие слова:
Все трудности любовь преодолеет,
Не прекращайте от любви сгорать.
Пусть ваше сердце страстью пламенеет —
Сей жар поможет счастье отыскать.
— Ах! — воскликнул он в ответ. — Какое воодушевляющее предсказание! Итак, я снова полон надежд обрести счастье в любви — их вселила в меня эта песня!
Горлица ничего не ответила — она, не болтливая от природы, говорила, лишь когда это и впрямь было необходимо. Мелодия же становилась все прекраснее, и как принц ни торопился, а порой останавливался, завороженный ею. Но, едва увидев внезапно появившегося ужасного дракона, такого, как описывала горлица — с дюжиной лап, сотней когтей, тремя головами и телом из бронзы, — Милон вышел из оцепенения. Дракон же, издалека учуявший принца, поджидал его, чтобы съесть, подобно тем, кто уже послужил ему неплохим угощением. Горы обглоданных костей высились вокруг и совсем загораживали яблоню, на которой и росло дивное яблоко.
Чудовище прыгнуло на него. Извергая из пасти ядовитый дым и адское пламя, оно выпустило огненные стрелы, которыми обыкновенно убивало странствующих рыцарей, являвшихся за диковинным плодом. Но тут зверь увидел на доспехах принца и броне его коня свое устрашающее отражение, умноженное сотнями зеркал: его охватил сильнейший испуг. Он встал как вкопанный, уставившись на принца с драконами, и хотел лишь одного — бежать. Милон, заметив чудодейственную силу своих доспехов, пустился преследовать его до глубокой пещеры, в которую тот спрятался; принц быстро завалил вход в нее большим камнем и поспешил назад, к поющему яблоку.
Взобравшись на вершину горы из костей, набросанных вокруг яблони, Милон наконец увидел дерево и восхитился его красотой: ствол янтарный, яблоки — из топазов, а самое великолепное из них, ради которого он подвергся стольким опасностям, — из цельного рубина, увенчанного алмазной короной. Несказанно обрадовавшись, что сможет наконец преподнести Ясной Звездочке столь изумительное и редкое сокровище, принц торопливо отломил янтарную ветвь и, гордый своею удачей, вскочил на верного белого скакуна — но нигде не увидел горлицу: она улетела, едва принц перестал в ней нуждаться. Не тратя времени на пустые сожаления, — ибо драконье шипение, доносившееся из пещеры, все-таки внушало ему страх, — Милон вернулся с подарком к принцессе.
Звездочка же утратила сон с тех пор, как он уехал, беспрестанно упрекая себя за то, что вознамерилась стать умнее всех на свете. А смерти Милона она боялась пуще своей собственной.
— Ох, несчастная, — печально вздыхала она, — зачем была я столь тщеславной? Что, мало мне того, что я умела рассудительно говорить и не делать глупостей? Потеряв любимого, буду я примерно наказана за свою гордыню. Ах! Не иначе боги прогневались на то, что я не в силах не любить Милона, и теперь, жестокие, хотят отнять его у меня.
Чего только не передумала она, от души тревожась за него, как вдруг посреди ночи услышала мелодию столь чудесную, что, не в силах совладать с собою, встала и подошла к окну. Тут уж она не знала, что и подумать: то ли это Аполлон и музы, то ли Венера, Грации и амуры. Мелодия меж тем звучала все ближе.
Наконец появился принц. Ярко светила луна. Он остановился под балконом принцессы; увидев рыцаря, она поспешно скрылась в комнате, когда яблоко пропело:
Проснитесь, Спящая Красавица[356].
Заинтригованная, принцесса пригляделась повнимательнее: ей было интересно, кто же так прекрасно поет. Узнав дорогого брата, она чуть не кинулась прямо из окна ему на шею и так громко вскрикнула, что перебудила всех в доме; тут побежали отворить Милону. Легко представить, как радостно он вошел, держа в руке янтарную ветвь, на которой висел дивный плод. Принц уже вдохнул его аромат, и ум его возрос во столько раз, что равного не нашлось бы в целом свете.
Звездочка устремилась ему навстречу.
— Думаете, я стану благодарить вас, дорогой брат? — спросила она, плача от радости. — Нет. Мне не нужно ничего, если столь высока цена, если вам приходится подвергать себя опасности ради меня.
— Нет таких опасностей, — ответил он, — которыми я пренебрег бы, чтобы доставить вам даже самую маленькую радость. Примите, Звездочка, примите этот диковинный плод, никто на свете не заслуживает его больше вас. Но разве прибавит он что-нибудь к тому, что у вас и так уже есть?
Беседу прервали появившиеся Солнышко и Счастливец, обрадовавшиеся приезду принца. Он поведал им о своем путешествии и закончил рассказ, когда уже рассвело.
Злобная Фальшь вернулась домой, сперва не преминув посвятить королеву-мать в свои замыслы. Она переволновалась и теперь не могла заснуть. Посреди ночи она услышала нежное пение, сладостней которого нет ничего на земле, и поняла, что поющее яблоко добыто. Фальшь зарыдала, застонала, стала царапать лицо, рвать на себе волосы. И то сказать, невыносимые муки: она ведь давала коварные советы, стремясь погубить детей — а все возьми да обернись для них добром!
Едва рассвело, старая статс-дама, узнавшая, что принц и вправду вернулся с поющим яблоком, явилась во дворец.
— Что ж, Фальшь, — спросила ее королева-мать, — хорошие ли у тебя новости? Погибли ли дети?
— Нет, госпожа. — И Фальшь кинулась ей в ноги. — Но прошу Ваше Величество не сердиться, ибо я знаю еще множество способов…
— Да что ж ты за растяпа-то! — вскричала королева. — Только и делаешь, что предаешь меня, а их щадишь.
Старая фрейлина принялась горячо отрицать это и, немного успокоив королеву-мать, вернулась домой, все думая, что бы еще предпринять.
Несколько дней она не показывалась, а затем подстерегла принцессу, когда та прогуливалась одна по лесной тропинке, дожидаясь возвращения братьев, и вышла прямо ей навстречу.
— Небеса осыпают вас милостями, — промолвила злодейка. — Прекрасная Звездочка, я слышала, вы стали обладательницей поющего яблока. Уж конечно, улыбнись такая удача даже мне самой — и то я не так бы радовалась, как сейчас рада за вас, ибо, признаюсь, велика привязанность, побуждающая меня действовать исключительно вам во благо. Поэтому, — продолжала она, — не могу удержаться и дам вам еще один совет.
— Ах! Оставьте при себе свои советы, — воскликнула принцесса, стараясь держаться подальше от Фальши. — Все их благо не стоит тех тревог, что они мне причинили.
— Волнение не всегда равносильно страданию, — улыбнулась в ответ старая фрейлина. — Есть волнения приятные и трогательные.
— Замолчите, — сказала Звездочка, — меня пробирает дрожь, когда я думаю об этом.
— По правде сказать, — молвила старуха, — хоть вы и самая красивая и умная на свете, а вас только пожалеть можно. Уж не обессудьте.
— Да перестаньте же наконец, — ответила принцесса, — мне достаточно тех треволнений, что доставил мне отъезд брата.
— И все же скажу вам еще кое-что, — продолжала Фальшь, — теперь вам не хватает только маленькой зеленой птички-всезнайки. От нее вы узнаете и о своем происхождении, и о том, ждет ли вас успех или неудача; да и вообще, нет ничего на свете, о чем бы она вам не поведала. А вот если люди будут говорить: «У Ясной Звездочки есть танцующая вода и поющее яблоко», то тут же кто-нибудь добавит: «Однако ж у нее нет маленькой зеленой птички-всезнайки, а значит, у нее все равно что нет ничего».
Высказав все, она наконец удалилась; погрустневшая принцесса же, призадумавшись, принялась горько вздыхать.
«Правду сказала эта старушка, — говорила она себе, — какая мне польза от воды и от яблока, если я не знаю, откуда я родом, кто мои родители и как случилось, что меня и моих братьев оставили на милость бурных волн. Должно быть, в нашем происхождении есть что-то необычное, если нас, попросту брошенных, небесам вздумалось уберечь от стольких опасностей. А ведь я так рада была бы узнать, кто мои отец и мать, любить их, если они живы, и почитать их память, если их уже нет на свете».
Тут глаза ее наполнились слезами, которые ручьем потекли по щекам, подобно каплям росы, что появляются по утрам на лепестках лилий и роз.
Милон, которому больше всех не терпелось вновь увидеть ее, торопился с охоты. Он шел пешком, держа в руке несколько стрел; лук свободно висел на боку, волосы завязаны узлом, и в столь воинственном облике заключалась невероятная прелесть. Едва увидев его, принцесса поспешила укрыться в тенистой аллее, чтобы принц не заметил на ее лице следов терзавших ее печалей, — но под силу ли возлюбленной удалиться так быстро, чтобы не догнал ее расторопный влюбленный? Милон, едва взглянув на Звездочку, понял: что-то тяготит ее. Не на шутку забеспокоившись, он принялся уговаривать поведать ему причину, но она упрямо отказывалась; тогда, не добившись успеха, он вынул стрелу и приставил ее острием себе к сердцу.
— Вы меня совсем не любите, Звездочка, — сказал он ей, — мне остается лишь умереть.
Эти слова отняли у принцессы остатки самообладания, она уже не могла более скрывать свой секрет, однако поставила условие — он никогда не станет пытаться исполнить ее желание. Милон согласился, и виду не подав, что уже решил отправиться и в третье путешествие.
Едва Звездочка удалилась к себе, а принцы в свои комнаты, он спустился вниз, вывел из конюшни верного коня и поскакал во тьму, никому ни слова не сказав. Когда на следующее утро его хватились, принцессу и обоих принцев охватило настоящее смятение. Тут король, не забывавший о них, прислал им приглашение на ужин; они же вновь ответили, что третий брат в отлучке, а без него они не смогут ни искренне повеселиться, ни отдохнуть, но обещали непременно нанести визит по его возвращении. Принцесса была безутешна: ни танцующая вода, ни поющее яблоко уже не радовали ее — без Милона ей был не мил весь белый свет.
Меж тем принц все скакал куда глаза глядят, спрашивая у всех встречных, где найти ему зеленую птичку-всезнайку. Никто не мог ему ответить, пока не попался по дороге почтенный старик, пригласивший его к себе в дом и потрудившийся поискать на глобусе, который держал у себя и для изучения, и для развлечения. Он-то и поведал принцу, что птичка эта живет в краю вечных холодов, на вершине очень высокой скалы, и объяснил, как туда добраться. В благодарность Милон подарил старику мешочек крупных жемчужин, упавших с его волос, и, откланявшись, продолжил путь.
Только при первых проблесках зари он наконец увидел скалу, чудовищно высокую и отвесную, а на ее вершине — птичку, вещавшую подобно оракулу; а изрекала она вещи поистине удивительные. Принц сообразил, что поймать ее большой ловкости не потребуется, ибо птичка, казалось, ничего не боится, легко перелетая туда-сюда и беспечно прыгая с одного камешка на другой. Милон спешился и стал тихонько взбираться вверх по бугристой скале, уже предвкушая радость Звездочки, когда та получит его подарок. Он уж готов был схватить зеленую птичку, как вдруг скала под ним разверзлась, он провалился вниз и, превратившись в каменную статую, не в силах ни шевельнуться, ни посетовать на неудачу, оказался в просторной зале, где находилось еще триста таких же изваяний. То были рыцари, подобно ему отправившиеся в поход за птичкой-всезнайкой; теперь они только и могли, что безмолвно смотреть в лицо друг другу.
А для Звездочки время тянулось несносно: Милона все не было, и ее сразила жестокая хворь.
Лекари хорошо понимали, что причиной была снедавшая ее тоска. Братья же, нежно заботившиеся о ней, спрашивали, отчего она так печалится; в ответ она призналась, что день и ночь корит себя, что позволила Милону уехать, и умрет, если так и не получит от него весточки. Всех растрогали ее слезы; ради исцеления сестры на поиски брата решил отправиться Солнышко.
Он знал, где искать диковинную птичку, и вскоре приехал к той же скале. Подобравшись к добыче совсем близко, он питал те же надежды, что и Милон, но в этот миг скала расступилась и поглотила его. Он упал в громадную залу, и первый, кого он увидел там, был Милон, однако заговорить с ним Солнышко не смог.
Звездочка же, которой стало чуть лучше, каждое мгновение ожидала возвращения обоих братьев, да все понапрасну; тогда тоска овладела ею с новой силой, и она днем и ночью все плакала, обвиняя себя во всех несчастьях. Принц Счастливец, столь же ее жалея, сколь и тревожась за братьев, решил тоже отправиться за ними. Воспротивившейся было Звездочке он сказал, что рисковать ради спасения тех, кто дороже всего на свете, — достойно и справедливо. И, нежно попрощавшись с принцессой, уехал, оставив ее одну во власти сильнейших терзаний.
Узнала и Фальшь, что третий принц отправился следом за двумя — и радости ее не было предела. Поспешив к королеве, она горячее обычного заверила ее, что погубит всю эту несчастную семью. Счастливца постигла та же участь, что и братьев: он нашел скалу, увидел прекрасную птичку и, окаменев, упал в залу, где уже пребывали лишенные дара речи Милон и Солнышко. Все они лежали в хрустальных нишах, никогда не спали, ничего не ели, столь жестоко заколдованные, что могли только лишь сожалеть о своем неудачном путешествии.
Безутешная Звездочка, видя, что ни один из братьев не возвращается, теперь страдала оттого, что слишком поздно спохватилась сама последовать за ними. Не мешкая долее, она приказала слугам ждать полгода и, если те не дождутся ни от кого из четверых никаких известий, сообщить корсару и его жене об их кончине. Затем надела мужское платье, рассудив, что так ей путешествовать безопаснее. Злобная старуха Фальшь с радостью смотрела вслед Ясной Звездочке, ускакавшей прочь отсюда на своем прекрасном скакуне, и поспешила во дворец — сообщить королеве-матери добрую весть.
Из доспехов на принцессе был только шлем, но она почти никогда не поднимала забрало — ведь ее лицо было столь тонко, что никто не поверил бы в ее принадлежность к сильному полу. Все явственнее чувствовала наша путешественница близость суровой зимы, — ведь в те края, где жила птичка-всезнайка, не доходило тепло солнечных лучей.
Но даже нестерпимый холод не мог остановить принцессу. Кругом повсюду лежал снег; вдруг увидела она на снегу горлицу, такую же белую и холодную, как и он. Как ни хотелось Звездочке поскорее добраться до скалы, а все же не могла она оставить бедную пташку умирать: спешилась, взяла ее в ладони, отогрела своим дыханием и положила к себе за пазуху. Но бедняжка по-прежнему не шевелилась, и Звездочке, подумавшей, что горлица мертва, стало жаль ее. Она вновь взяла ее в ладони и спросила, как будто та могла ее услышать:
— Что мне сделать, милая горлица, чтобы спасти тебя?
— Ясная Звездочка, — ответила птица, — ваш нежный поцелуй завершит милосердное начало моего исцеления.
— И не один, — молвила принцесса, — а, если понадобится, хоть целых сто.
И она поцеловала горлицу, которая, тотчас ободрившись, сказала ей:
— Я узнала вас даже и в этом наряде. Знайте же, что задуманное вами невозможно осуществить без моей помощи. Поэтому сделайте так, как я скажу. Когда доберетесь до скалы, не устремляйтесь к вершине, а остановитесь у подножия и спойте самую красивую и мелодичную песню, какую только умеете. Зеленая птичка-всезнайка услышит вас и приметит. Тогда притворитесь, что спите, а я в это время буду рядом. Увидев меня, птичка слетит с вершины вниз, чтобы меня поклевать, — тут-то и хватайте ее.
Принцесса, обрадованная появившейся надеждой, быстро дошла до скалы. Здесь увидела она коней своих братьев: те, понурые без седоков, щипали траву. Снова охватила ее невыносимая печаль; она присела на землю и долго и горько плакала. Однако маленькая зеленая птичка заворковала столь сладостно и утешительно для несчастных, что вселила бы радость в любое тоскующее сердце. Посему Звездочка вытерла слезы и запела так звонко и искусно, что принцы из глубины заколдованной залы с восхищением слушали ее.
Тогда-то впервые блеснула для них надежда. Птичка-всезнайка вертела головкой, стараясь увидеть, кто так прекрасно поет, и наконец заметила принцессу, рядом с которой летала горлица. Тогда она мягко слетела вниз, чтобы поклевать горлицу, но не успела вырвать у той и трех перьев, как сама была схвачена.
— Ах! Что вам от меня надобно? — спросила всезнайка. — Что сделала я вам плохого, что вы из таких далеких краев пришли мучить меня? Верните мне свободу, молю вас! Просите за это что вам заблагорассудится — ведь для меня нет ничего невозможного.
— Я желаю, — сказала ей Звездочка, — чтобы ты вернула мне троих моих братьев. Я не знаю, где они, однако лошади их здесь, рядом со скалой, поэтому я думаю, что они твои пленники.
— Под левым крылом у меня есть алое перо, — молвила птичка. — Вырвите его и дотроньтесь им до скалы.
Принцесса тотчас сделала, как было сказано. В тот же миг засверкали молнии, завыл ветер, загрохотал гром, и ее охватил сильнейший испуг; но она все держала в ладонях зеленую птичку, боясь, что та упорхнет. Потом Звездочка дотронулась алым пером до скалы во второй раз и в третий. Тут скала раскололась посредине — от вершины до основания теперь шла широкая расщелина. Войдя в нее, принцесса с победоносным видом прошествовала в залу, где находились трое принцев и множество других рыцарей. Она сразу же подбежала к Милону, но он не узнал ее в мужской одежде и в шлеме; к тому же, еще не расколдованный, был не в силах ни говорить, ни шевелиться. Удивленная этим, принцесса снова обратилась к зеленой птичке; та ответила, что нужно провести пером по глазам и губам изваяний. Принцесса так и сделала: первыми очнулись трое ее братьев, а затем и все окружавшие их короли и принцы.
Недавние пленники колдовства, растроганные помощью Звездочки, кинулись ей в ноги, называя ее рыцарем — освободителем королей. Тут-то и поняла она, почему братья не узнали ее: поспешно сняла шлем, обняла их, а затем учтиво осведомилась у прочих высокородных рыцарей, кто они и откуда. Каждый рассказал ей о том, что с ним приключилось, и предложил сопровождать ее повсюду. Она же ответила, что хотя законы рыцарства и дают ей некоторое право извлечь пользу для себя из возвращенной им свободы, но она этого вовсе и не хочет. Распрощавшись с ними на этом, она вместе с принцами удалилась, чтобы они без помех рассказали друг дружке о том, что случилось с ними за время разлуки.
Тут зеленая птичка-всезнайка настойчиво заворковала, умоляя Звездочку вернуть свободу и ей. Принцесса хотела было спросить совета у горлицы, но той нигде не было. Тогда она ответила птичке, что слишком уж много бед по ее вине случилось, чтобы так просто отказываться от победного трофея. Все четверо вскочили на коней, а императорам и королям пришлось идти пешком, ибо их кони давно сгинули — ведь они пробыли в заточении внутри скалы две или три сотни лет.
Меж тем королева-мать, полагая, что избавилась наконец от красавцев детей, вновь принялась настойчиво склонять короля к женитьбе и так сильно докучала ему, что заставила выбрать принцессу из своей родни. Однако теперь нужно было расторгнуть брак с бедной королевой Златовлаской; а она так до сих пор и жила в маленьком деревенском домике с матерью и тремя собаками, которых назвала Печалью, Тревогой и Болью за все страдания, выпавшие из-за них на ее долю. Вместе с ними Златовласка и отправилась во дворец в присланной за ней карете; оделась она во все черное, а голову покрыла платком, ниспадавшим до земли.
Но предстала она пред ними краше солнца, хоть и побледнела и исхудала, ибо вовсе не спала, а ела лишь уступая просьбам. Всем стало жаль ее; едва увидев Златовласку, король так растрогался, что не смел поднять взор. Но стоило ему лишь подумать, что наследниками его могут так и остаться одни собаки, как он готов был согласиться на что угодно.
Назначили день свадьбы. Королева-мать, поддавшись на уговоры Медновласки (как и прежде, ненавидевшей свою бездольную сестру), заявила, что желает видеть королеву Златовласку на празднестве, обещавшем быть величественным и пышным. Король был не прочь прихвастнуть роскошью перед чужестранцами и приказал первому шталмейстеру поехать к прекрасной юной четверке с приглашением; если же они еще не приехали, распорядиться, чтобы слуги пригласили их, когда те вернутся. Первый шталмейстер, не застав их, но желая угодить королю, оставил одного из дворян их дождаться и без промедления привезти во дворец. Ясная Звездочка и трое принцев приехали домой как раз в день счастливого пиршества. Дворянин же поведал им историю короля, рассказав, как тот женился на девушке бедной, но исключительной красоты и ума, которая, по несчастью, родила трех щенков, и тогда он выгнал ее, однако ж продолжал так сильно любить, что не желал и слышать о новой женитьбе целых пятнадцать лет. Но королева-мать и все подданные так настаивали на браке, что монарх решился наконец жениться на одной из придворных принцесс, а посему надобно торопиться, чтобы успеть на церемонию.
Тогда Ясная Звездочка надела розовое бархатное платье, расшитое ослепительными алмазами, а перехваченные лентами волосы ее падали на плечи тяжелыми локонами. От звезды во лбу лился яркий свет, а та цепочка, что с рождения украшала ее шею и которую нельзя было снять, казалась сделанной из металла драгоценней золота. Иными словами, никогда еще не видывали смертные подобной красоты. Братья ни в чем не уступали ей, но в принце Милоне было нечто, возносившее его над двумя другими. Вчетвером они сели в карету черного дерева, снаружи отделанную слоновой костью, а изнутри обшитую золотым сукном, украшенным драгоценными камнями. Двенадцать белоснежных лошадей были впряжены в нее. Остальной экипаж ничуть не уступал подобному великолепию. Едва королю сообщили о приезде Звездочки и ее братьев, как он с придворными радостно вышел к парадной лестнице им навстречу. Поющее яблоко услаждало слух всех присутствующих, танцующая вода плясала, а маленькая птичка-всезнайка прорицала подобно лучшим оракулам. Все четверо опустились на колени, по очереди поцеловав руку короля с почтением и любовью; он же обнял их и промолвил:
— Я перед вами в долгу, любезные чужестранцы, за то, что вы явились сегодня, ибо ваше присутствие радует меня несказанно.
С этими словами он провел гостей в просторный салон, где музыканты играли на всевозможных инструментах, а столы ломились от яств, столь роскошных, что лучше нельзя было и пожелать.
Тут появилась королева-мать с будущей невесткой, адмиральшей Медновлаской и придворными дамами, которые вели бедную королеву за кожаный поводок, надетый ей на шею; за такие же поводки вели за нею следом и трех собак. Ее поставили в самый центр большой залы, возле котла, в котором варилось тухлое мясо и кости, — вот что королева-мать велела подать ей и собакам на ужин.
Ясная Звездочка с братьями заплакали от жалости, хотя и не знали, кто эта несчастная. Поразило ль их самовластье богатых или просто заговорила родная кровь, — бог весть. Но что подумала злобная королева, узрев их столь неожиданное возвращение, нарушившее все ее планы? Она смотрела на Фальшь с такой яростью, что той так и хотелось провалиться сквозь землю.
Король представил матери прекрасных гостей и сказал о них много лестных слов. В те времена притворство было делом обычным, и старая королева скрыла свою тревогу, заговорив с детьми радушно, и обласкала их добрым взглядом, как будто уже любила их всей душой. Праздничный ужин прошел весело, хотя королю было невыносимо больно смотреть, как его жена, подобно животному, есг из одного котла с бульдогами. Однако, уже снизойдя к просьбам матери и согласившись вновь жениться, он позволил ей всем распоряжаться.
Когда застолье подошло к концу, король обратился к Ясной Звездочке:
— Мне известно, что вы обладаете тремя несравненными сокровищами. Позвольте мне вас с этим поздравить; но поведайте же нам, как вам удалось их заполучить.
— С удовольствием, Ваше Величество, — ответила она. — Просто мне рассказали, что от танцующей воды я стану еще прекраснее, а поющее яблоко одарит меня незаурядным умом; вот мне и захотелось их иметь. Что до маленькой зеленой птички-всезнайки, то тут дело совсем другое. Мы, дети, брошенные родителями, ничего не знаем о нашем происхождении. Я надеялась, что дивная птичка откроет нам эту тайну, мысли о которой не покидают нас ни днем, ни ночью.
— Судя по вашей наружности, — сказал на это король, — происхождение у вас тоже должно быть необыкновенным. Итак, не таитесь более — кто же вы?
— Ваше Величество, — ответила Звездочка, — мы с братьями решили повременить спрашивать птичку до нашего возвращения; но, едва успев приехать, тут же получили приглашение на вашу свадьбу. Однако я прихватила с собой три этих чуда, чтобы немного развлечь вас.
— Я рад буду взглянуть на них, — воскликнул король. — Не станем же откладывать столь приятное зрелище.
— Да вас любая безделица развлечет, что вам ни предложи, — разгневалась тут старая королева. — Теперь еще эти ничтожества со своими диковинами. По одним названиям сейчас видно, что в них нет ничего забавного. Фи! Не желаю, чтобы эти никчемные чужестранцы, к тому же еще и явные простолюдины, пользовались вашей доверчивостью. Все это шарлатанские фокусы. Если бы не ваши просьбы, я бы их ни за что и за стол-то не пустила бы — слишком много чести!
От столь обидных слов Ясная Звездочка и ее братья пришли в замешательство, ибо как было им снести подобное оскорбление на глазах у всего королевского двора? Король, однако, возразил матери, объявив, что речи ее его рассердили, и попросил прекрасных детей не печалиться, протянув им руку в знак расположения. Тогда Звездочка вылила всю танцующую воду в прозрачный сосуд из горного хрусталя, и все увидели, как вода эта ритмично вздымается, волнуясь подобно крошечному морю, переливаясь тысячью оттенков, а хрустальная колба пустилась в пляс по всему королевскому столу. Вдруг несколько брызг случайно попали на лицо первого обер-шталмейстера, перед которым дети были в долгу. То был человек редких достоинств, но очень некрасивый и вдобавок одноглазый. Едва капли упали на него, как он стал столь прекрасен, что не узнать, а на месте потерянного глаза оказался новый. Король, очень дороживший таким подданным, обрадовался чуду столь же сильно, сколь королева-мать была им раздосадована: ей-то невмоготу было слышать, как юных принцев приветствуют аплодисментами. Когда все уже устали восторгаться, Ясная Звездочка положила в танцующую воду поющее яблоко из цельного рубина, с алмазным венчиком и янтарной веточкой. Оно заиграло концерт столь мелодичный, что такого не исполнила бы и сотня музыкантов. Диво это восхитило короля и всех придворных. Всеобщий восторг возрос, когда Звездочка достала из муфты маленькую золотую клетку искусной работы, в которой сидела зеленая птичка-всезнайка, клевавшая лишь алмазные зернышки, запивая водой, выжатой из жемчуга. Принцесса осторожно достала птичку и посадила ее на поющее яблоко, и то почтительно смолкло, предоставляя слово новой диковинке. Ее перья, переливавшиеся всеми оттенками зеленого, были столь нежны, что колыхались от взмаха ресниц стоявших вокруг придворных. Птичка спросила короля, что он желает знать.
— Скажите же нам всем наконец, — ответил король, — кто эти прелестная девушка и трое юношей.
— Знай, о король, — громко и ясно проговорила тут зеленая птичка, — что она твоя дочь, двое этих принцев — твои сыновья, третий же, чье имя Милон, — твой племянник.
И она с беспримерным красноречием подробно рассказала всю их историю.
Король разразился рыданиями, и тут печальная королева, оставив свое место у котла рядом с костями и собаками, тихо подошла к нему, тоже плача от любви к мужу и детям — ибо можно ли было усомниться в этом теперь, при виде знаков, по которым ей легко было узнать своих украденных младенцев? Когда птичка закончила, Ясная Звездочка и ее братья упали в ноги королю, обнимая его колени, целуя ему руки, он же заключил их в объятия, прижав к сердцу. И, когда слышались уже одни лишь вздохи, всхлипывания и радостные возгласы, король подошел к супруге-королеве, боязливо спрятавшейся в уголочке, и обнял ее, указав на кресло рядом с его троном.
Дети припали к ногам ее, целуя ей руки — и не видали еще на всем свете сцены нежнее и трогательней. Каждый плакал от всего сердца, простирая руки и возводя очи к небу, благодаря его за радость узнать о вещах столь важных, но до времени сокрытых. Король учтиво отказал принцессе-невесте, велев отсыпать ей немало драгоценных камней. Но как страшно поступил бы он с королевой-матерью, адмиральшей Медновлаской и Фальшью, если б поддался голосу своей ярости! Уже слышны были всем громовые раскаты его гнева. Однако великодушная королева, ее дети и Милон умоляли его успокоиться, говоря, что лучшим решением будет суровое и примерное наказание. Тогда король велел заточить свою мать в башне, а Медновласку и Фальшь приказал бросить в темницу, мрачную и сырую, где теперь уже им пришлось есть вместе с тремя бульдогами, Печалью, Тревогой и Болью. Собаки же, лишившись своей доброй хозяйки, то и дело кусали узниц. Там и окончили они дни свои, прожив еще столько, что хватило им времени раскаяться во всех преступлениях.
Когда королеву-мать, адмиральшу Медновласку и Фальшь отвели туда, куда приказал король, музыканты и певцы вновь запели-заиграли. Радость была безмерной, но счастливее всех были Звездочка и Милон: они не могли насмотреться друг на друга.
Король же, увидев, что его племянник красивее и умнее всех придворных, сказал ему, что столь великий день не должен пройти без свадьбы и он отдает ему в жены свою дочь. В порыве радости принц кинулся ему в ноги. Ясная Звездочка обрадовалась ничуть не меньше.
Справедливость не была бы восстановлена, не распрощайся со своим одиночеством и старая принцесса, тоже приехавшая разделить всеобщее веселье. Ей вдруг явилась та самая старушка-фея, которую она когда-то дружески накормила ужином; она-то и рассказала ей обо всем, что происходило при дворе.
— Пойдемте же, — продолжила она. — По дороге я расскажу вам о том, как я заботилась о вашей семье.
Безгранично признательная принцесса села к ней в карету, украшенную золотом и ляпис-лазурью. Впереди ехали военные орудия, а позади — шестьсот гвардейцев, все высокородные дворяне. Фея поведала принцессе обо всем, что приключилось с ее внуками, и сказала, что ни на миг не покидала их, являясь то сиреной, то горлицей, и всегда оберегала.
— Видите, — добавила фея, — доброе дело никогда не забудется.
Благодарная принцесса то и дело порывалась целовать ей руки, не находя слов для выражения радости. Наконец они прибыли ко двору. Король оказал им знаки величайшего расположения. Легко вообразить, как поспешили выказать почтение столь блистательной особе и королева Златовласка, и ее прекрасные дети; и сколько добрых слов наговорили они ей, узнав, что именно фея-благодетельница и являлась им в образе горлицы. Ну, а чтобы счастье короля обрело подлинное совершенство, фея открыла ему, что мать Златовласки, которую он всегда считал бедной крестьянкой, была августейшей принцессой; и, быть может, именно эта новость и стала для него вершиной всех чудесных событий этого дня. Праздник завершился свадьбой принцессы Ясной Звездочки и принца Милона. Послали и за корсаром и его женой, дабы отблагодарить их за то великолепное воспитание, какое они дали прекрасным детям. Так, после долгих невзгод, все оказались довольны.
* * *
Уж полно критикам любовь судить:
Она ведет к немыслимым свершеньям,
Она способна сердце вдохновить
На поиск славных подвигов со рвеньем.
Вот так любовь прославила в веках
И пылкого, и доблестного принца,
Что с именем любимой на устах
Обогатил истории страницы.
Коль вы дерзнули деву полюбить,
Не бойтесь стать рабом ее желаний,
И тем, кто не страшится испытаний,
Любовь поможет славу заслужить.
Пер. О. Л. Берсеневой (проза), Е. Ю. Шибановой (стихи)
ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ
Новый дворянин от мещанства
Продолжение

— Вот уж странность, — сказала ему прекрасная амазонка, — хватать за руки со всей силы и называть это любезностью, — да вы меня сделали калекой на несколько дней.
— Да и со мной вы обошлись не лучшим образом, господин Дандинардьер, — раздраженно подхватил виконт. — Пока я падал, мой парик слетел с головы, и так как на людях мне приходится молодиться, то я оказался в крайне затруднительном положении, обнаружив седину перед прекрасными дамами.
— Смотрю я на господина Дандинардьера, и сдается мне, что ваши речи усугубляют его страдания, — сказал приор. — Надобно уважительно относиться к раненому рыцарю. Клянусь вам, сверни он мне даже шею, я бы и слова не сказал.
— Позвольте выразить вам свою признательность, — ответил Дандинардьер, — но — увы! — дамы пользуются иными привилегиями, им простительна и жестокость, и прелестная Виржиния умеет постоять за себя.
— Не упрекайте меня за жалобы, — поспешила она возразить, — другая на моем месте возмущалась бы куда сильнее. Но, признаюсь вам, мне свойственно благородство Александра.
— И жестокосердие Александретты, — радостно парировал Дандинардьер, уверенный, что изреченная им реплика неподражаема по своему остроумию. К его удивлению, никто и не думал аплодировать. Он обвел всю компанию взглядом, выражавшим утонченность мысли, но та едва сдерживала смех. И вот Мартонида, самая щедрая на похвалы, решила не томить его и громко выразила свое восхищение изысканностью выражения насчет Александретты, и теми тайными красотами, кои запрятаны в нем столь глубоко, что не видны простолюдину. Виржиния подхватила слова Мартониды, утверждая, что их гость обладает тонким умом, способным облагородить нравы целого королевства, искоренить непристойности и пошлости и довести язык до высшей степени совершенства; далее последовали сотни других восторженных речей, достоинством не лучше прежних, ибо обе провинциальные прелестницы были на них неистощимы.
Дандинардьер, плененный вниманием дам, смущался и умоляюще складывал руки в железных рыцарских рукавицах. Он все время пытался как-то оправдаться, но запинался и от волнения бормотал словно ребенок или пьяный, иногда лишь восклицая:
— Ваш покорный слуга, вы слишком добры ко мне, ваш покорный слуга.
Было уже поздно, и госпожа де Сен-Тома решила, что больному нужен отдых; она пожелала ему спокойной ночи, и всё общество откланялось. С Дандинардьером остался только верный Ален, который выглядел очень расстроенным и глубоко сожалел о том, что стал причиной его падения. Он стоял в углу комнаты на почтительном расстоянии, не смея даже приблизиться к своему господину и хозяину. Но тот пребывал в благодушном настроении.
— Подай-ка мне ночной колпак, — обратился он к нему, — я хочу надеть его вместо тюрбана. Тот, конечно, мне к лицу, но уж очень неудобен; даже не представляю, как их носят турки — мой то и дело спадает с головы.
— Ой, сударь, — ответил Ален со своей обычной простотой, — удивляться не приходится. Если уж сами черти у них в друзьях, то с их помощью на голове не только чурбан удержится. Да и вы-то разве не видите, что дамы, которым еще далеко до великого Султана, носят на своих головах несчетное количество чурбанов?
— Тюрбан, а не чурбан, дурачина, — воскликнул Дандинардьер, — невыносимо слышать, как неподобающе ты выражаешься.
— Ах! Если я и неподобающий, — сказал Ален, плохо понимая, о чем речь, — то вы же сами знаете, что в этом нет моей вины. На улице шел дождь, когда я устроил потасовку во дворе, а потом и вы мне дома надавали тумаков, хотя вам должно быть известно, что гипс не делает платье опрятнее. Уверяю вас, сударь, что у меня сердце кровью обливается при виде того, как вы выходите из себя, да еще в какой-то там дыре, вот откуда пятна на моем кафтане, а ведь их нельзя взять и просто сдуть.
— Я признателен тебе за внимание к моим обноскам, — ответил Дандинардьер, — и обещаю, Ален, впредь проявлять особую заботу и о твоем тряпье и буду просить тебя заблаговременно снять кафтан всякий раз, когда мне захочется тебе всыпать.
— Скверное обещание, сударь, — проворчал слуга. — Скажу вам как есть: пожив здесь, вы стали грубее наших одежных щеток. А я еще не забыл те времена, когда меня считали верным слугой и обращались как с любимчиком. Но, увы, как говорила когда-то моя славная бабушка, положить в один горшок и вершок и корешок…
— Что еще за горшок, негодяй? Разве что с капустой — другого мы не признаем! — ответил его хозяин.
— Я только хотел сказать, что горшок — это вы, а капуста — я, вы меня и растите и поливаете, чтобы потом скушать, то есть использовать меня и колотить почем зря, одним словом, совсем меня разлюбили. О-хо-хо! Ну да ладно… Как же глупо, что я… Молчу, больше ни слова.
И он действительно умолк, ибо, случись ему выдать более пространное рассуждение, тут же почувствовал бы на себе кулаки разгневанного хозяина.
Подали ужин; Дандинардьер, который днем так намучился и проголодался, поел за троих, а потом сразу же заснул. Но его глубокий утренний сон был прерван неожиданным визитом деревенского хирурга мэтра Робера — тот явился спозаранку и принялся колотить в дверь ногами и руками.
— Эй, господин Дандинардьер, откройте, — кричал он что есть мочи, — не иначе, как вы хотите скрыться! Ходят слухи, будто вы вознамерились уехать к себе, не заплатив мне за услуги. Разве я плохо вылечил вашу голову? Да если бы меня к ней подпустили, еще когда она треснула, уж я бы вложил в нее все, чего там не хватает. Да я вот сейчас встану на караул у ваших дверей, так вы не улизнете незамеченным, как будто покутил, и был таков. Обещать и не держать слова, известное дело, хороший способ обогатиться. Добро бы еще заморскому гостю эдак хвастать. А мне плевать, я еще не такое видел, я стреляный воробей, так что раскошеливайтесь, иначе я не знаю, что и думать.
Коротыш Дандинардьер был неприятно удивлен и возмущен дерзостью мэтра Робера; он еще посидел и послушал, как тот сыплет пословицами наподобие Санчо Пансы[357], затем разбудил слугу, спавшего сладким сном, и тихонько подозвал его.
— Ты слышишь, — прошептал он, — какие дерзости говорит этот плутоватый лекарь? Он чуть не убил меня, да еще хочет получить вознаграждение за это. Послушать его, так я ему прилично задолжал, и вдобавок поступаюсь честью и нарушаю законы, раз не могу уплатить долг! Да его следует выпороть! Впрочем, я сейчас не расположен иметь дело с таким негодяем, я доверяю это тебе, открой дверь настежь, быстро и внезапно, повали его наземь и всыпь ему хорошенько. Вот так мы вместе и отплатим ему за услуги.
— Значит, вместе, ага, — смекнул Ален, — а что ж, позвольте узнать, станете делать вы?
— Я же тихонько подкрадусь к двери следом за тобою и закрою ее на задвижку, ведь, посуди сам, если ты, не дай бог, окажешься слабее, то он ворвется ко мне, а я, как ты помнишь, слишком презираю его, чтобы ввязываться в драку.
— Вот так-так, сударь! — возмутился Ален. — Да ведь и я его презираю не меньше вашего, и уж позвольте мне тоже уклониться от драки с таким недостойным человеком.
— С каких это пор ты возомнил себя важным человеком, фанфарон? — спросил наш мещанин.
— Называйте как вам угодно, — сказал слуга, — а только признаюсь вам, что у меня еще ноют бока после вчерашней потасовки. Смилуйтесь да посудите сами: разве мне сподручно полезть с кулаками на такого-то битюга, да которого я еще и презираю? Поверьте, сударь, будет лучше, если вы сами постараетесь проучить его, — вам-то все сойдет с рук, хоть хорошее, хоть дурное.
— Сдается мне, — сказал Дандинардьер, — я ему уже объяснил, что случается с тем, кто громко требует деньги у господина, чье положение в обществе не ниже моего.
— Эх, сударь! — ответил Ален. — Да вы и меня-то каждый день бьете, а ведь и он, уверяю вас, тоже из хорошей семьи: мой отец был заводилой во всей местной коннице, коней он, знаете ли, подковывал, а этот — хирург. Людей перевязывать куда почетнее, чем лошадей, а значит, он достойнее ваших кулаков.
— Ты, видно, вознамерился расписывать мне всех своих предков до седьмого колена, — нервно прошептал Дандинардьер, — чтобы я немного остыл. Но меня не обманешь, я-то вижу, что ты просто трус и дрожишь за свою шкуру.
Пока он, понизив голос, бранил осмотрительного Алена, мэтр Робер продолжал громко бесчинствовать за дверью. В конце концов Дандинардьеру надоело терпеть этот шум, и он придумал, каким образом отомстить за себя, избежав неприятных последствий.
Между полом и дверью зияло довольно большое отверстие, через которое обычно пробирался в дом бдительный кот, неустанно воевавший с мышиным племенем. Бедняга Дандинардьер тихонько встал с постели и, не имея тут ни башмаков, ни домашних туфель, надел сапоги, чтобы не простудиться. Затем он вооружился железными клещами, аккуратно просунул их в отверстие для кота и больно стиснул ногу мэтра Робера. Тот взвыл от неожиданности, подумав, что это змея. Он испугался так, что боялся даже взглянуть на укушенную ногу, а только слегка косился, опасаясь, как бы огромная змея не бросилась ему в лицо. Дандинардьер в это время постарался изо всех сил сжать клещи, и это удалось на славу: чем сильнее стонал мэтр Робер, тем громче гоготал наш мещанин.
Комнаты виконта и приора находились совсем неподалеку. Услышав шум за стенкой, они почти сразу догадались, что происходит, так как сами велели хирургу явиться к мещанину; и теперь эти благообразные господа поднялись с кроватей и пришли улаживать неприятную ссору, грозившую перерасти в скандал, доселе не виданный в столь миролюбивом городке.
Мэтр Робер был нормандцем и судебные процессы любил не меньше, чем разбитые головы и выкрученные руки[358].
— Господа! — воскликнул он. — Призываю вас в свидетели и прошу подтвердить в суде, что меня искалечили и я уже никогда не оправлюсь.
Едва он произнес эти слова, как Дандинардьер снова со всей силы сжал клещи, отчего мэтр Робер побледнел и лишился дара речи. Виконт с приором только посмеялись над таким необычным способом отстаивать свою правоту. Однако надо было успокоить враждующие стороны, поэтому они попросили Дандинардьера заключить перемирие, разжать клещи и наконец открыть дверь. Мэтр Робер, едва освободившись, тут же поковылял прочь, угрожая закидать суды кляузами и доносами на такого злостного должника.
Наш мещанин с удовлетворением отметил, что впервые в жизни ему удалось прогнать врага с поля битвы, и так возгордился, что, забыв о своем домашнем облачении, предстал перед почтенной публикой в сорочке и сапогах, с клещами на плече, словно Геркулес с палицей[359].
— Вы так разгневаны, — сказал приор, — не боитесь, что вам станет плохо?
— Я ничего не боюсь, — гордо парировал тот, — даже смерти, будь она хоть до зубов вооружена смертоносными стрелами.
— То, что сейчас произошло, — серьезно заметил виконт, — свидетельствует о вашей отваге. Однако мне кажется, что вам следует заплатить бедняге, — ведь он не так-то богат.
— Да он плут, и сам должен заплатить мне за все доставленные неприятности! — воскликнул Дандинардьер. — Я и без него вылечусь, а этот негодяй хотел ободрать меня как липку.
— Проявите великодушие, будьте немного щедрее, и все образуется, — сказал приор, — это не его вина, ведь он невежда, как и многие. Даю вам дружеский совет: не упрямьтесь же и соблаговолите дать ему несколько пистолей.
— Смеяться изволите, господин приор, — ответил Дандинардьер, — не для того я приехал из Парижа, чтобы меня водили за нос какие-то провинциалы, ведь я за свою жизнь не раз участвовал в судебных тяжбах и всегда выходил победителем под бой барабанов и со знаменами.
— Да-да, именно так, — подхватил Ален, тоже прикидываясь храбрецом, — нам еще не такие рыбы попадались на крючок: хозяину — покрупнее, мне — помельче.
— Братец Ален, — промолвил виконт, — уж если окажешься под судом, так нечего изворачиваться, а не то последствия будут плачевными.
— Да в чем дело-то? — удивился слуга. — Я ничего не видел, все происходило через кошачью лазейку, а я совсем и не хотел подавать хозяину клещи, от которых пострадала нога мэтра Робера. Ха! Пусть только попробует заявить на меня в суд, я ему покажу, как надо защищаться. У меня дядя был прокурором в одной богатой сеньории, уж я настрочу куда надо.
— Держитесь, дети мои, — весело сказал виконт, — перед вами современные Александр и Бартоло[360], нападающие вдвоем на мэтра Робера. А я, сторонник мирного разрешения споров, пожалуй, схожу за оливковой ветвью и заодно переоденусь.
— Я же прилягу, — заявил наш коротыш-мещанин, — а то этому негодяю удалось привести меня в ярость спозаранку.
На этом и разошлись.
Никогда еще наш Дандинардьер не испытывал такой огромной радости при мысли о совершенных подвигах. И долго еще он морочил голову своему слуге.
— Учись, — вещал он, — как надо поступать, чтобы ставить на место дерзкого выскочку. Горе, горе тому, кто меня разозлит!
И слуга несколько раз повторил за ним, словно эхо:
— Горе, ох, горе тому, кто встанет у нас на пути.
Хотя Ален и не заметил ничего нового в поведении хозяина, теперь он смотрел на него с куда большим уважением.
— Признаться, сударь, — заговорил он осторожно, — не ожидал, что вы так легко преодолеете страх перед господином Вильвилем и, без сомнения, теперь сочтете благоразумным не ввязываться с ним в драку.
— Какая давняя ссора, — ответил наш герой, — мог бы и не напоминать мне о ней, я уверен, что этот разорившийся дворянчик поразмыслил и решил не подставлять мне под нос свою шпагу.
— А не желаете ли вы, сударь, помериться с ним своей?
— Не знаю, не знаю, — покачал головой Дандинардьер, — мужества у меня хоть отбавляй, я уж устал повторять. Но как вспомню о том приключении, случившемся со мной на берегу моря, о том дьяволе, который как две капли воды походил на человека и бросил мне этот треклятый вызов, так меня в дрожь и бросает. Словом, Ален, лучше уж ты иди на бой, а мне несподручно как-то.
— Увольте, сударь, — запротестовал Ален, — не такой уж я простак! Вы хотите меня отправить прямо в пасть волку, а потом эта бестия, если она и впрямь бестия, унесет меня вместе со всеми потрохами, башмаками и платьем за тридевять земель. Вы полагаете, сударь, что, если у бедного Алена нет столько пистолей, сколько у вас, он их меньше уважает? Хотя, по правде, одно золотишко не приносит счастья, надо еще иметь здоровье, иначе придется отдать богу душу. Вот пойду я сражаться с этим волшебником, а он возьми и начни меня колоть своей шпагой: укол раз — долой глаз, два укол — в горле ком, а на третий раз и прямо в самое сердце, и вы вправду думаете, что после этого мне будет хорошо?
— С чего ты взял, пройдоха, что Вильвиль с тобой так обойдется? — вспылил Дандинардьер.
— Да кто же поверит, что нет? — возразил Ален. — Разве демоны не превосходят добрых фей по силе колдовства? Вы, верно, забыли прекрасную сказку, которую нам читали вчера, где яблоки пели будто соловьи, птицы разговаривали словно ученые, и вода танцевала как наши пастухи? И после этого я не вправе опасаться за свою голову?
— Странный ты все-таки малый, — ответил Дандинардьер, — изводишь и себя и меня, и все понапрасну. Тут и Вильвиль-то ни при чем вовсе. Ступай-ка ты спать, возмутитель спокойствия, а мне дай насладиться моей победой.
— Спите сами, сударь, — сказал Ален и, отдернув шторы, сел к окну, выходившему на большую дорогу.
Целый час слуга сидел и ловил мух — своих заклятых врагов, как вдруг заметил, что мимо на коне проезжает Вильвиль. Тот случайно поднял голову и заметил его в окне. От своего друга, барона де Сен-Тома, он знал, что одно его имя приводило мещанина и слугу в неописуемый ужас. Сие приключение сулило ему прекрасную забаву, и, дабы подтвердить свою репутацию заносчивого вояки, он выхватил пистолет, сделав вид, что хочет пристрелить Алена.
— Эй, сударь, — крикнул ему слуга, умоляюще сложив руки, — прошу вас, одумайтесь, вы совершаете ошибку, я не держу на вас зла за те тумаки, что вы мне недавно надавали.
Вильвиль мрачно помалкивал, продолжая держать слугу на мушке, и тот занервничал еще больше.
— Сдается мне, что вам так и хочется кого-нибудь пристрелить, — решился он наконец сказать, — подождите-ка здесь, я сейчас разбужу своего хозяина, пусть лучше это будет он, а не я. Ему, конечно, это не понравится, но тут уж делать нечего.
С этими словами он принялся тянуть спящего Дандинардьера за руку.
— Сударь, — звал он его, — потрудитесь встать, под окнами вас ждет человек, который хочет непременно вас видеть.
Тот вскочил и, спросонья кое-как набросив на плечи домашнее платье и поспешно засунув ноги в сапоги, подбежал к окну. Боже милостивый, что за картина предстала его глазам! Направленное прямо на него дуло пистолета в руках грозного Вильвиля! Не последовав примеру слуги и не тратя времени на то, чтоб расточать врагу пустые любезности, он, не долго думая, опрометью бросился под кровать. Его охватил такой страх, что он, сам не зная как, сжался между полом и днищем своего ложа, хотя ему вряд ли удалось бы туда протиснуться в иных обстоятельствах, не угрожай ему дуло пистолета…
Под кроватью рассудок постепенно вернулся к нему, и он почувствовал, что не может пошевелиться, — такой тяжелый вес давил на него сверху. Осознав всю опасность положения, коротыш Дандинардьер попробовал выбраться.
Предприняв несколько безуспешных попыток, он прекратил возиться: низкая и слишком тяжелая кровать никак не поддавалась.
— Ален, — закричал он, — умираю, помоги!
Но верный слуга не слышал хозяина: он уже успел поднять шкаф, который по ночам опускал на пол, чтобы на нем спать, спрятался внутрь и теперь изо всех сил держал дверцы изнутри обеими руками, как будто это временное убежище могло спасти его от всех напастей; притом был так поглощен этим занятием, что не замечал содранных ногтей и не чувствовал боли.
Тем временем Вильвиль, потеряв надежду увидеть в окне мещанина со слугой, выстрелил пару раз для острастки. Дандинардьер и Ален так сильно испугались, что первый на время потерял дар речи, а второй от ужаса выпустил дверцы шкафа, которые тут же раскрылись, так что он вылетел вперед головой и прокатился кубарем в другой конец спальни.
Естественно, вся эта возня сопровождалась довольно сильным грохотом, привлекавшим к себе внимание. Господа де Сен-Тома, де Бержанвиль и приор как раз находились в комнате этажом ниже и обсуждали последние события, в которых Дандинардьер играл немаловажную роль. Услышав странный шум наверху, они рассудили, что или сам разгневанный Зевс[361] метнул туда свои молнии, или же мэтр Робер вернулся и жестоко отомстил за свою искалеченную клещами ногу, дабы его запомнили на всю оставшуюся жизнь. Они поспешили подняться, желая убедиться во всем собственными глазами. Ален еще лежал на полу, а где-то около кровати его хозяина слышались едва различимые крики, доносившиеся непонятно откуда и сопровождавшиеся жалобными призывами. Они стали спрашивать Алена, где его господин; но тот в ответ лишь приложил палец к губам и молча кивнул на окно. Гости выглянули в него, подумав, что только глупец мог совершить такой безумный прыжок из комнаты на улицу. Вильвиля там уже не было, поэтому они не понимали, что, собственно, хотел сказать Ален своими загадочными жестами. Меж тем жалобные стоны все продолжались: наш бедняга мещанин жестоко страдал. Наконец барон догадался заглянуть под кровать и, при виде несчастного, страшно удивился, как тот сумел туда забраться.
Расхрабрившись при виде подоспевшей помощи, Ален решил действовать. Он схватил хозяина за сапог и, потянув что есть сил, сорвал его с ноги, которую тот облегал слишком крепко, чтобы его можно было легко снять; однако слуга дернул за него с такой силой, что вместе с хозяйским сапогом отлетел шагов на двадцать, растянувшись на полу.
— Ну что ж, — улыбаясь, пробормотал он, — видать, небесам так угодно, чтобы сегодня я падал и падал без передышки, но у меня имеется против этого средство: я просто больше не встану.
Однако слугу никто не слушал, все спасали дворянина-мещанина. Напрасно его тащили то за одну ногу, то за другую: он так и застрял в ловушке, а поскольку спине и плечам страдальца приходилось нелегко, то было решено сбросить матрасы на пол и наконец высвободить его из плена.
Он вылез из-под кровати весь багровый от натуги, ободранный, с лицом в синяках и разбитым носом; его уложили в постель и приказали слуге принести бокал испанского вина и спирта для растирки.
— Не могли бы вы, сударь, — обратился Ален к виконту, — взять это дело на себя, а то, скажу вам без утайки, ужасный господин Вильвиль бродит вокруг дома, а я трепещу от одного его вида.
— Замолчи, презренный болтун, — прикрикнул на него Дандинардьер. — И откуда только он взял, что Вильвиль пришел ко мне под окно стрелять из пистолета и будто бы я его испугался?
— Я так не говорил, — ответил Ален, — хотя и секрета никакого здесь нет.
— Не верьте ему, — продолжил мещанин, — я не боюсь даже Алкида[362], а уж тем более этого мелкого дворянчика, чье состояние ничтожно в сравнении с моим. К тому же у подлого лакея нередко возникают видения, да такие сильные, что он начинает в них верить и выдавать за правду. Чтобы все вы поняли, что именно меня вынудило так неудачно спрятаться под кроватью, я желаю объясниться. Так вот, мне приснилось, что на меня напали, но я обратил своего врага в бегство. Я спрыгнул с кровати с намерением его преследовать, и тут мне привиделось, будто он шмыгнул под кровать; тогда я, натуральнейшим образом расхрабрившись перед лицом опасности, в пылу битвы, не раздумывая, поспешил за ним. Оказавшись зажатым под кроватью, я, конечно, проснулся и огорчился, хотя для меня в этом нет ничего удивительного, я ведь из лунамбул[363], да-да, и весь двор знает, что уже несколько лет я хожу купаться во сне.
Пока он говорил, Ален за его спиной делал какие-то знаки и шепотом возражал хозяину. Однако господин де Сен-Тома, чтобы поддакнуть Дандинардьеру, ответил слуге, что все сказанное правда, и ему якобы известно, что Вильвиль не вполне в добром здравии, ибо в ином случае не стал бы он губить свою жизнь, бросая вызов тому, кто опаснее, чем Марс и Геракл вместе взятые[364]. Виконт и приор подтвердили его слова. Тут приободрившийся Дандинардьер, полагая, будто те и впрямь ему поверили, приготовился было нагородить еще кучу небылиц, так что гости сочли весьма своевременным позволить ему угоститься испанским вином и натереться спиртом.
Как только они оказались одни, барон де Сен-Тома обратился к виконту:
— Позвольте заявить вам, что хотя вы и не столь малодушны, как наш благородный мещанин, но так же безумны, раз пытаетесь навязать его мне в зятья.
— Вы можете говорить все что угодно, — возразил виконт, — но я продолжаю утверждать, что мой план не так уж и смешон. Меня больше смущают не столько правила приличия, — а мы все знаем, что в этом деле их предостаточно, — сколько те средства, с помощью которых можно склонить этого скрягу к женитьбе на девушке знатного происхождения только из-за ее прекрасных глаз.
— А вы заметили вчера, — вмешался приор, — какие он имеет притязания на ее состояние? Повторяю: если нам не удастся изловчиться, то мы получим еще одну несостоявшуюся свадьбу.
— Вот беда-то будет, — насмешливо улыбнулся барон, — а мне так и вовсе великое расстройство.
— Уверяю вас, — продолжал виконт, — что он богат и, несмотря на дерзкое бахвальство (которое сразу же заканчивается, как только дело касается его безопасности), достаточно хитер, чтобы соблюдать свои интересы. Кстати, это я придумал напустить на него сумасбродного Робера.
— Я не разделяю ваших взглядов, — ответил господин Сен-Тома, — но готов поручить вам заняться этим делом, которое меня не особо прельщает, а значит, я не готов чрезмерно утруждать им себя.
Тут им пришлось прерваться, ибо пришли какие-то господа. Приор, вспомнив, что Дандинардьер не мог заснуть, направился к нему, дабы составить ему компанию.
Подойдя к двери, он остановился и прислушался. Дандинардьер разговаривал с Аленом.
— Ишь, — говорил тот слуге, — и ты думаешь, я могу простить тебе афронт, которому из-за тебя подвергся?
— Знать не знаю, кто таков этот ваш афронт, — возражал слуга, — я по простоте душевной рассказал, как оно было; любой другой лакей на моем месте сделал бы так же; я видел вас под кроватью и хорошо знал, что вы имели достаточно оснований туда залезть.
— Знал, говоришь! — возмутился мещанин. — И кто же тебе это сказал?
— Мое сердце, — добавил тот, — вот оно, живое, как у всех, и притом едва не разорвавшееся со страху. Не схоронись я в шкафу, уж наверное бы не разговаривал сейчас с вами.
— Какая неслыханная дерзость, — запальчиво воскликнул Дандинардьер, — судить о моих чувствах по своим! Нельзя мерить одним аршином героев и отъявленных плутов вроде тебя. Если я и залез под кровать, то только потому, что не хотел получать пулю от предателя, который угрожает мне на расстоянии, боясь приблизиться.
— А вы, наверно, забыли, сударь, — сказал Ален, — что к тому времени, когда Вильвиль выстрелил, уж не знаю, право, из пистолета или из пушки, уже добрых четверть часа изволили прятаться под кроватью.
— Молчи, изверг, — послышалось в ответ, — а я-то до сего времени рассчитывал на твою храбрость. Теперь мне все ясно; вот погоди — вернемся в замок, я сразу же избавлюсь от тебя, как и полагается.
— Пощадите, сударь, — удрученно сказал тот, — чем я заслужил вашу немилость? Я, как и вы, был напуган. Что в этом преступного? Разве слуга обязан быть храбрее своего господина?
Бедняжка Дандинардьер обрадовался, видя, что его слуга так растроган: он ценил, когда его любили.
— Встань на колени, — повелел он ему, — ты тронул мое сердце.
Ален покорно преклонил колени у кровати.
— Прощаю тебя, — изрек мещанин, — а чтобы ты воодушевился, вот, получи запас храбрости.
С этими словами он сильно дунул тому в оба уха, добавив:
— Отныне будь готов драться с кем угодно.
— Как! — вскричал слуга. — И никто меня не побьет в ответ?
— Никто! Клянусь тебе в этом, — твердо заверил его хозяин.
— Благодарю вас, — ответил Ален, — вот только, сударь, если бы вы еще вдули мне сотню экю ренты, я бы и не так обрадовался. Ведь, ежели поразмыслить, не хочу я ни с кем ссориться, храбрость — это уж дело ваше, а мне бы не помешало чуть-чуть деньжат.
Послушав немного, приор быстро понял, что подобная беседа может длиться еще долго, и, решив, что получил уже достаточное удовольствие от этих препирательств, вошел в комнату.
— Надо же, — удивился он, — а я думал, вы спите; мне показалось, вы легли именно с такими намерениями.
— Да, вы правы, — отозвался Дандинардьер, — я и в самом деле заснул бы, не беспокой меня ежеминутно любовь, что горланит в душе на манер взбесившегося горна. Только хочу сомкнуть веки, как передо мной тут же появляется образ прелестной Виржинии или Мартониды, пред очарованием которых меркнет сама Аврора[365].
— Эге, да вам, оказывается, не чужды и нежные чувства, — заметал приор. — Помнится, совсем недавно вы предпочитали деньги достоинствам и красоте. Но, разумеется, — спохватился он, — это заявление бросало тень на ваше благородное сердце, как будто на солнце нашло затмение.
— Благодарю за такое удачное сравнение, — ответил мещанин. — Однако уж не показалось ли вам, будто я собираюсь разбалтывать всему свету свои амурные секреты? Вы ошибаетесь, сударь, здесь приличествует соблюдать тайну.
— Если вы будете со мной откровенны, — сказал приор, — то я похлопочу, чтобы ваши сокровенные желания воплотились в жизнь, да ведь, между прочим, Виржиния обладает множеством достоинств.
— А скажите-ка, — вставил тут Дандинардьер, — какое за ней полагается приданое?
— Вам ли этого не знать? — удивился приор. — Уж она ли не богата: то, что она имеет, превышает стоимость самой плодородной земли во всей округе.
— Вы имеете в виду особняки в Париже или муниципальную ренту? — поинтересовался Дандинардьер.
— Это все приятные безделушки, — ответил приор, — настоящим приданым ей служит редкий дар сочинять сказки; а уж он-то сулит вам такое, что и представить трудно.
Но нашего мещанина это явно не впечатлило.
— Хе! Хе! — с минуту подумав, произнес он. — В брачный договор это, пожалуй, и можно было бы занести; однако признаюсь вам, что, если за ней причитаются одни только сказки, семейная жизнь может и не заладиться.
— Вы слишком приземленно рассуждаете, — воскликнул приор, — а ведь разум приносит доход!
— Готов признать, что нельзя недооценивать доходность разума, — возразил Дандинардьер, — но и разумного дохода при этом терять мне вовсе не хочется. Позвольте заявить вам, что в ответ на ваши хваленые сказки я тут же насочиняю своих, да еще смогу их употребить с пользой.
— Хотелось бы мне посмотреть на это, — парировал приор, — вы, вероятно, полагаете, что достаточно черкануть на бумаге пару-тройку смелых гипербол, иногда перемежая их словечками наподобие Жила-была добрая фея, и произведение можно считать завершенным. Уверяю вас, что это более тонкое искусство, чем вам может показаться; сколько я ежедневно просматриваю книг, в которых нет ничего занимательного.
— Вы смеете утверждать, что мои сказки будут именно такими? — раздраженно заметил мещанин. — Говоря по правде, сударь, вы не очень-то любезны, но я постараюсь доказать вам обратное: из кожи вон вылезу, но сочиню хотя бы одну. Тогда и посмотрим, как вы запоете.
— В таком случае я не поскуплюсь на похвалы, — сказал приор, приветливо улыбнувшись, дабы смягчить гнев собеседника, — и, коли вам угодно мне в этом поверить, начинайте прямо сейчас.
— С огромным удовольствием, — ответил Дандинардьер, — не зря же я привез с собой библиотеку, затратив на это массу усилий и средств.
— Ну что ж, теперь только от вас зависит, понадобится ли мое вмешательство, как в прошлый раз, — заметил приор.
Это скрытое предложение окончательно успокоило мещанина, и он, притянув собеседника за рукав, прошептал ему на ухо, опасаясь, что их услышит Ален:
— Признаться, меня пугает непосильный труд, к тому же не привык я заниматься пустяками и упражняться в тонких словесных ухищрениях. Посему, не осчастливите ли вы меня еще одной сказкой собственного сочинения, которая сделает мне честь и докажет Виржинии, что не только она обладает сим прекрасным даром?
— То есть, — продолжил приор, — вы намерены уравнять с ней свои шансы и снискать себе столь же завидную репутацию в литературных кругах.
— Да, эта благородная цель мне весьма по душе, — ответил мещанин, — потому я и умоляю вас о дружеской услуге.
Послышался звон колокольчика — пора было идти на ужин. Приор откланялся, предварительно обещав Дандинардьеру сделать все, о чем тот его просил.
Войдя в обеденную залу, он увидел двух дам, с которыми был знаком: те недавно приехали нанести первый визит баронессе де Сен-Тома. Их туалеты и прически были слегка растрепаны — по дороге им пришлось пробираться сквозь лес яблоневых деревьев, которыми славились эти края. Яблони сильно повредили их карету, особенно верхнюю часть, а потому дамы поневоле проделали долгий путь пешком по изнуряющей жаре. Они совсем недавно поселились в этих местах и обращались друг к дружке «кузина», хотя не были родственницами. Одна овдовела и слыла за большую кокетку, а другая недавно вышла замуж за престарелого дворянина, скопившего значительное состояние и нашедшего наконец в лице молодой супруги превосходную возможность очень быстро его спустить, чем, кстати, сам он невероятно гордился.
Та, что постарше, звалась госпожа дю Руэ и была вдовой стража закона, который тот применял к ближним весьма дурно. Она обожала азартные игры, вкусную и обильную еду и тратила большую часть своего дохода на различные притирания. В день визита густые румяна потекли на солнце, и старая кокетка, то и дело поглядывая в зеркальце, безуспешно пыталась снять избыток белил оттуда, где они были наложены особенно толстым слоем, чтобы намазать там, где их теперь недоставало. Такое важное дело требовало повышенного внимания. Тут она заметила вошедшего приора и совсем уж было впала в отчаяние, — ведь супруги де Сен-Тома еще не подошли: муж еще отдавал приказания слугам, а жена переодевалась, не желая появляться в домашнем платье во вкусе королевства Трапезундского[366].
Тогда госпожа де Люр, та самая молодая супруга, ради которой тратилось состояние, заметив, что лицо ее подруги превратилось в шахматную доску, решила помочь ей, дав время привести себя в порядок. Она с загадочной улыбкой увлекла приора в самый дальний угол и начала:
— Моя кузина поправляет прическу, а я хочу рассказать вам сказку, к которой вы не останетесь равнодушным.
— Прекрасно, сударыня, — ответил тот, — но не окажется ли сказка слишком длинной, чтобы нам успеть выслушать ее до ужина.
— Да мне стоит только сказать вам, как она называется, — прошептала она, — и вы тотчас захотите услышать продолжение. Это «Принц Вепрь». Ну, что скажете?
— Я мало что понимаю в подобных сочинениях, поэтому не могу судить по одному названию.
Осыпав его яростными упреками за такое невежество, а затем незаметно взглянув на свою кузину госпожу дю Руэ и отметив, что той наконец удалось заштукатуриться, она отказалась от чтения сказки.
К барону де Сен-Тома отправили слуг, чтобы предупредить его о визите двух дам. Он тотчас подошел вместе с виконтом де Бержанвилем, предварительно зайдя на кухню и распорядившись приготовить побольше еды. Тут дело закипело: принялись вовсю забивать, ощипывать, шпиговать. И, хотя в деревне с этим справляются быстро и притом превосходно, барон все же беспокоился, чем бы занять этих дам до ужина.
После короткого приветствия, выслушав рассказ о приключениях с каретой, он предложил перейти в небольшую рощу с множеством фонтанов, где можно было расположиться прямо на земле, покрытой пушистым мхом, или найти уютные скамеечки для отдыха. Дамы пришли в восторг от возможности провести время на свежем воздухе и посидеть в прохладной тени, дабы ветерок охладил их разгоряченные лица. Как только вся компания нашла приятное местечко, приор, догадываясь о том, что ужин откладывается из-за приезда новых гостей, поспешил обратиться к госпоже де Люр, чтобы та соблаговолила попотчевать их своим Вепрем. Барон подумал было, что дамы привезли с собой молодого кабана.
— Ну, и небесполезную проявили предосторожность, — сказал он немного расстроенно, — что не понадеялись на мою скудную трапезу.
Но это недоразумение только развеселило гостей; все от души посмеялись, чуть было не огорчив барона еще сильнее, но тут приор сообщил ему, что речь идет о сказке. Увидев тетрадь в кармане госпожи де Люр, он попросил ее начать читать.
Пер. Я. А. Ушениной
Принц Вепрь[367]

И снится ей, будто мимо пролетают три феи. Вот они парят прямо над ее головой. Первая посмотрела на нее с жалостью и промолвила:
— Посмотрите, вот милейшая королева, которой мы могли бы оказать неоценимую услугу, одарив ее ребенком.
— Хорошо, — ответила вторая, — вы старшая среди нас, вам и исполнять.
— Велю, чтобы королева родила сына, — продолжила старшая фея, — самого красивого и любезного на свете, и притом любимого своими подданными.
— А я велю, — подхватила вторая, — чтобы стал он удачливым в делах, мудрым и справедливым.
Когда же подошла очередь третьей феи, та громко расхохоталась, что-то невнятно пробормотав сквозь зубы, чего королева так и не расслышала.
Таков был сон. Она пробудилась так же внезапно, как и заснула, но в саду никого не оказалось.
— Увы, — печально промолвила она, — судьба моя горька, и призрачна надежда, что сон окажется вещим. Как благодарна была бы я богам и добрым феям, если б они подарили мне сына!
Она сорвала еще несколько цветочков и вернулась во дворец в непривычно веселом расположении духа. Король заметил это и попросил рассказать ему о причине сего удивительного преображения. Она долго отпиралась, но он ее уговорил.
— Ах, право, — начала она, — не стоит вашего внимания, то был всего лишь сон. Минутной слабостью сочли бы вы мою веру в предсказания, услышанные во сне.
И королева ему поведала о том, что ей приснились три феи, парящие прямо над ней, что она ясно слышала слова двух первых, а третья, громко хохоча, произнесла что-то непонятное.
— Этот сон наполняет меня радостными предчувствиями, как и вас, — сказал король. — Но я обеспокоен смехом третьей феи: ведь многие из них по виду веселы, но по нраву коварны, и их веселье — отнюдь не добрый знак.
— А по мне, это не сулит ни худа, ни добра, — ответила ему супруга. — Я всецело поглощена мыслями о сыне, и в голове моей роятся приятные мечты. Да и что предосудительного в моем желании, чтобы сон сбылся? Ведь сына в нем наделили самыми завидными качествами. О боги, ниспошлите же мне это утешение!
Она горько разрыдалась, и король поспешил уверить ее в своей любви, все повторяя, что она всегда была для него самым дорогим существом на свете.
Несколько месяцев спустя королева почувствовала, как под сердцем бьется дитя. По всему королевству распорядились молиться за ее здравие, на алтарях приносили жертвы богам и просили их сохранить сие бесценное сокровище. Все соседние государства послали представителей, чтобы поздравить Его и Ее Величества. Все принцы, принцессы и послы съехались на роды. Для дорогого дитяти приготовили невиданное по красоте приданое, нашли превосходную кормилицу. Но радость внезапно сменилась всеобщей скорбью, когда вместо прекрасного принца на свет появился крохотный вепренок! От неожиданности гости хором испустили ужасный вопль, сильно напугавший королеву. Она спросила, что случилось, но ей не захотели говорить, боясь, что она умрет с горя. Напротив, ее успокоили, что родился прелестный малыш и остается только радоваться за него.
Тем временем король не находил себе места от отчаяния. Он приказал посадить вепренка в мешок и бросить в морскую пучину, чтобы навсегда забыть о столь неприятном происшествии. Но потом он сжалился над ним, подумав, что надо посоветоваться с королевой, и велел вепренка накормить, а сам до поры до времени решил избегать разговоров с женой, дав ей время оправиться и набраться сил, чтобы пережить сие великое разочарование. А королева каждый день просила принести ей сына, ее же успокаивали тем, что принц, дескать, еще слишком слаб и лучше его пока из колыбельки не вынимать.
Ну, а принц-вепренок ел за троих, как истинный кабан, которому очень хочется жить-поживать на свете; ему доставили трех кормилиц и трех нянек по английской моде[368], которые поили его испанским вином и ликерами, с младенческих лет прививая ему вкус к лучшим напиткам. Королеве не терпелось понянчить сыночка, и она сказала королю, что больше не может жить вдалеке от него и уже вполне оправилась, чтобы самой дойти до его комнаты. Король глубоко вздохнул и приказал принести наследника престола. Тот был завернут, как ребенок, в парчовые пеленки. Королева взяла его на руки и осторожно приподняла кружевную оборку, покрывающую кабанье рыльце. О боги! Не описать словами, сколь страшное смятение ее охватило. Казалось, она вот-вот лишится чувств. Не в силах говорить, она смотрела на короля глазами, полными тоски.
— Не печальтесь, дорогая моя супруга, — сказал он ей, — вы не виноваты в наших злоключениях. Знать, это выходка недоброй феи. Согласитесь же со мною и позвольте, я прикажу утопить злосчастного уродца.
— Ах, сударь, я не в силах позволить вам подобную жестокость — ведь это я родила бедного вепренка, и мне не чужды материнские чувства. Прошу вас, смилуйтесь, не будем желать ему зла, он получил сполна, родившись человеком в обличье вепря.
И так она тронула сердце короля своими горькими слезами и речами, что тот обещал исполнить ее просьбу. Посему дамы, воспитывавшие вепренка, до сих пор считавшие его жалким отверженным существом, пригодным разве что на корм рыбам, теперь стали куда лучше заботиться о нем. А надо сказать, что, несмотря на внешнее уродство, глаза его с самого рождения светились небывалым умом. Его приучили протягивать гостям копытце для поцелуя, наподобие того, как другие подают руку. Ему надевали браслеты с бриллиантами, и все движения его отличались царственной грациозностью.
Королева же, несмотря ни на что, любила сына; часто, взяв его на руки и качая, она молча любовалась им, не смея признаться в этом, дабы не прослыть сумасшедшей. Но подругам она говорила, что прелестный сыночек ее достоин самой нежной любви. Она украшала его миниатюрными розовыми бантиками из нонпарели[369], вставляла сережки в уши, водила его на детских помочах, учила держаться на задних копытцах. На него надевали башмачки и шелковые чулочки, завязанные на коленках, чтобы ножки казались длиннее. Если ему случалось недовольно захрюкать, его легонько стегали прутиком, — словом, всячески старались случить его от кабаньих манер.
Однажды, прогуливаясь с вепренком на руках в том же самом лесу, королева набрела на знакомое дерево, под которым когда-то задремала и где ей приснился сон. Она тотчас вспомнила о недавнем приключении:
— Так, значит, вот он каков, обещанный мне принц, красивый, статный и счастливый? О лживый сон, роковое виденье! О феи, чем я вас прогневала, что вы так посмеялись надо мной?
Она еще с досадой шептала упреки, как вдруг рядом с ней прямо из-под земли вырос могучий дуб, а из дуба вышла красивая дама, которая любезно промолвила:
— Не горюйте, великая королева, что у вас родился малыш-вепренок. Наступит час, когда он станет прекрасным.
Королева узнала в ней одну из трех фей, пролетавших над нею и одаривших ее сыном.
— Как мне поверить вам, сударыня, — ответила она. — Пусть мой сынок умен, и это благо, но кто же дерзнет полюбить такого уродца?
А фея вновь повторила:
— Не горюйте, великая королева, что родился малыш-вепренок. Наступит час, когда он станет прекрасным.
С этими словами она опять исчезла в дубе, и дерево ушло под землю, как будто и не было его никогда на этом месте.
Королева, немало удивленная новым лесным приключением, решила, что феи не оставят в беде его Звериное Высочество. Она поспешно вернулась во дворец, дабы обрадовать короля, но тот подумал, что все это она выдумала, дабы их сын не казался таким уж отвратительным.
— Вы как будто мне не верите, — обиделась королева, — однако нет ничего правдивее моего рассказа.
— Жаль, что нам приходится сносить насмешки фей, — вздохнул король. — Кто поручится, что они опять не вздумают изменить обличье нашего ребенка? Вдруг превратят его из кабана в кого-нибудь еще? Одна лишь мысль об этом наполняет мою душу унынием.
Королева в отчаянии удалилась: она-то надеялась, что обещания феи облегчат душевные муки короля. Но тот не хотел ничего слышать. Тогда она решила больше не напоминать ему о сыне и поручить богам заботу об утешении супруга.
Вепрь, как и положено всем детям, начал лепетать первые слова; и хотя речи его были пока еще бессвязны, королева с наслаждением вслушивалась в них, ловя каждое слово: ведь она так боялась, что сын вовсе не заговорит. Он очень вырос и часто ходил, как взрослый, на двух задних ногах, носил длинные кафтаны до пола, желая спрягать копыта, и черную бархатную шляпу с огромными полями, чтобы скрыть голову, уши и часть своего кабаньего рыла. Правда, у него отросли большущие клыки и на морде топорщилась колючая щетина, а гордый взгляд требовал полного повиновения. Ел он из золотого корытца, в котором всегда лежали изысканные кушанья: трюфели, желуди, сморчки, луговые травы. Его натирали благовониями и чистили до блеска. От природы достались ему блистательный ум и беспримерная отвага. За эти качества король полюбил вепренка. Он пригласил лучших учителей, чтобы те преподавали ему всевозможные науки. Ему плохо удавались танцевальные фигуры, зато пас-пье и менуэт[370], где нужны были легкость шага и быстрота движений, кабан танцевал чудесно. Из музыкальных инструментов предпочитал гитару и мило справлялся с флейтой, но избегал играть на лютне и теорбе[371]. Овладел он и верховой ездой, грациозно и легко управляя лошадью. На охоту выезжал ежедневно, причем вступал в схватку с самыми опасными и кровожадными хищниками, бесстрашно вгрызаясь в них острыми клыками. Учителя дивились живости его ума, так как с любой наукой он справлялся играючи. Однако, с горечью сознавая, что кабанье рыло делает его облик нелепым, он старался не показываться на людях.
Так бы и прошла его жизнь в счастливом отшельничестве, не встреть он однажды в королевских покоях миловидную даму в сопровождении трех прекрасных дочерей. Она прямо с порога бросилась в ноги королеве и попросила приютить ее девочек при дворе. Смерть мужа и большие невзгоды разорили ее и довели до крайней нужды; а знатное происхождение и бедственное положение, о которых известно Ее Величеству, давали ей надежду, что та облагодетельствует ее. Королева пожалела даму и трех несчастных дочерей, плачущих у ее ног; она обняла всех и сказала, что с превеликим удовольствием приютит всех: и старшую Йемену, и среднюю Зелониду, и младшую Мартезию[372]. Обещав о них позаботиться и заверив их мать в своей дружбе и покровительстве, она молвила, что та и сама может остаться во дворце, где ей окажут должное почтение. Дама, очарованная добротой королевы, покрыла ее руки поцелуями благодарности, и в душе ее воцарилось долгожданное спокойствие.
Красота Исмены тут же привлекла внимание двора и покорила сердце юного рыцаря Коридона[373], который уже давно вызывал всеобщее восхищение. Они с первого взгляда прониклись взаимной симпатией, которая связала их тайными узами; неописуемая красота рыцаря не осталась незамеченной, и девушка влюбилась без памяти. А поскольку Йемене такой брак был бы весьма выгоден, то королева с радостью отметала знаки внимания Коридона и ту благосклонность, с какой красавица их принимала. Всерьез заговорили о свадьбе. Казалось, все шло к тому. Они словно были рождены друг для друга. Коридон проявлял редкую обходительность, ничего не забывая из тех галантных увеселений и любовных ухаживаний, что накрепко соединяют влюбленные сердца.
Между тем и принц с первой встречи почувствовал притягательность красоты Исмены, хотя и скрыл от нее свою страсть.
— Ах, Вепрь, Вепрь, — восклицал он, глядя на себя в зеркало, — возможно ли с твоим-то уродливым лицом питать надежду на благосклонность такой красавицы? Тебе предстоит излечиться от любви, ведь нету на свете большего несчастья, чем любить безответно.
Он старательно избегал ее; однако мысли его поневоле следовали за ней неотступно, и посему он впал в ужасную меланхолию и болезненно исхудал: остались только кожа да кости. Но тоска его стала почти нестерпимой, когда он узнал, что Коридон открыто ухаживает за Исменой, а та отвечает на его чувства и в скором времени король с королевой отпразднуют их свадьбу.
Эта новость разожгла в нем пламя страсти, но погасила последнюю надежду. Ему казалось, что легче завоевать сердце равнодушной Исмены, нежели сердце Исмены, принадлежащей Коридону. Он понял, что молчание его погубит. Тогда, занявшись поисками благоприятного случая, он наконец его нашел. Однажды она сидела в тени деревьев и напевала слова из песни, сочиненной ее возлюбленным. Вепрь подошел к ней, присел рядом и, страшно волнуясь, осведомился, правду ли говорят о близкой ее свадьбе с Коридоном. Она ответила, что королева велела ей благосклонно относиться к его настойчивым ухаживаниям, и, по-видимому, это неким образом разрешится в недалеком будущем.
— Йемена, — ласково обратился он к ней, — вы еще так молоды, что весть о скорой свадьбе явилась для меня неожиданностью. Узнай я раньше — пред-дожил бы вам в мужья единственного сына одного знатного короля. Он любит вас и готов составить ваше счастье.
Услышав эти речи, Йемена побледнела; она давно заметила, что Вепрь, от природы дикий и нелюдимый, уделял ей особое внимание, искал встречи, чтобы заговорить. Ей же он отдавал все трюфели, найденные в лесу с помощью острого кабаньего нюха, дарил все цветы, украшавшие его черную шляпу. Страшная догадка, что этим принцем был именно он, потрясла Йемену; не на шутку испугавшись, она молвила:
— Как хорошо, сударь, что я и ведать не ведала о чувствах сына сего великого государя. Может статься, что в моей семье кто-то имеет честолюбивые намерения нас обвенчать помимо воли. Но я не жажду власти и, признаюсь без обиняков, сердце мое навсегда принадлежит Коридону.
— Как! — воскликнул тот. — Вы посмели бы отвергнуть королевскую особу, готовую пожертвовать всем ради вас?
— Я никого не отвергаю, — ответила она, — и мною руководит любовь, а не тщеславие. Прошу вас, господин мой, раз вы общаетесь с тем принцем, возьмите с него обещание, что он оставит меня в покое.
— Ах, злодейка, — вспылил Вепрь, — да вы, верно, хорошо знаете, о ком я говорю! Вас отвращает его безобразный облик, и вы, как видно, не желаете называться королевой Веприцей! Вы поклялись в верности своему рыцарю. Однако, хотя между нами и пропасть, и я готов признаться, что я не Адонис, а грозный вепрь[374], — но даже могущественные короли достойны простых радостей земных. Йемена, будьте же благоразумны, не заставляйте меня так страдать.
В глазах его сверкал огонь, а длинные клыки страшно скрежетали, так что бедная девушка задрожала от страха.
Вепрь удалился. А Йемена в отчаянии разразилась потоком слез, не заметив, как появился Коридон. До сих пор они знали только радости взаимной любви. Ничто не мешало их надеждам на скорую свадьбу. Но что стало с ее воздыхателем, когда он увидел печаль своей прекрасной возлюбленной? Он настоял на том, чтобы она все ему рассказала. Йемена повиновалась, и услышанная новость повергла Коридона в крайнее смятение.
— Не посмею я, — сказал он, — строить свое счастье ценою ваших бед. Вам делают предложение взойти на трон: примите же его!
— О боги! — воскликнула она. — Чтобы я на такое согласилась? Забыть вас и связать свою судьбу с чудовищем? О Небо! За что? В чем моя вина, что отказываетесь вы от слов своих и призываете меня отречься от наших нежных чувств?
Ее речи так подействовали на Коридона, что он не смог ничего ответить: лишь слезы, тихо стекавшие по щекам, красноречиво говорили о состоянии его души. Между тем Йемена продолжала. Проникнувшись их общим горем, она повторила сотню раз, что не изменит своего решения, пусть хоть все короли на свете падут к ее ногам. А Коридон, бесконечно тронутый великодушием своей возлюбленной, все твердил и твердил, что она должна взойти на трон, даже если сам он умрет с тоски.
Пока влюбленные препирались, Вепрь рассказывал королеве, как поначалу надеялся излечиться от страсти к красавице Йемене, дав себе клятву страдать молча, но не выдержал борьбы с самим собою. Известие о скорой свадьбе лишило его терпения; не снеся такого удара, он решил, что или сам женится на ней, или погибнет с горя. Королеву очень удивило, что кабан влюбился.
— Подумай сам, что говоришь ты! — воскликнула она. — Кто на тебя польстится, сын мой? Что за дети у тебя родятся?
— Йемена так прекрасна, — ответил он, — что у нее уродливых детей быть не может. Да если даже они будут точь-в-точь как я — это меня не остановит: пусть уж лучше так, чем видеть, как она сгорает от любви в объятиях другого.
— Так ты согласен взять в жены девицу, — молвила она в ответ, — чье происхождение гораздо ниже твоего? Ты так неразборчив?
— А где, по-вашему, — огрызнулся он, — я найду молодую королеву, чья разборчивость не станет серьезным препятствием для союза с убогой свиньей?
— Ты ошибаешься, сын мой, — сказала королева, — когда принцессы выходят замуж, их мнения о будущих супругах никто не спрашивает; к тому же мы тебя так запудрим и зарумяним, что станешь ты похож на самого Амура; только бы успеть свадебку сладить, а там хоть трава не расти — невеста твоя на веки вечные.
— Нет, на столь коварный подлог я пойти не могу, — возразил Вепрь, — потом придется раскаяться, что я сделал жену несчастной.
— Зато, кажется, ты веришь, — воскликнула она, — что предмет твоих мечтаний захочет быть с тобою? Тот, кем она любима, любезен и заслуживает ответного чувства. Любой монарх по своему положению выше всех подданных, однако есть различия и более непреодолимые: таков выбор между кабаном и прекрасным рыцарем.
— Тем хуже для меня, сударыня, — ответил Вепрь, которому наскучило слушать ее доводы. — Осмелюсь, однако же, сказать, что не вам бы попрекать меня моим несчастьем. Отчего же это я родился свиньей? И справедливо ли винить меня в том, в чем нет моей вины?
— Не упрекаю я тебя, — смягчилась королева, — а хочу лишь сказать одно: женившись на женщине, которая тебя не любит, ты будешь страдать сам и доставишь невыносимые мучения ей. Будь ты способен понять, сколько горестей приносит супругам брак по принуждению, — предпочел бы остаться одиноким, дабы жить спокойно и беззаботно.
— Я не отличаюсь спокойным нравом и равнодушие не из числа моих добродетелей, сударыня, — ответил он, — Йемена сразила меня, она кротка и нежна, я льщу себя надеждой, что при умелом обращении с ней она прельстится троном и в конце концов уступит. Как бы там ни было, но, коль скоро судьба лишила меня счастья быть любимым, я буду обладать женщиной, которую сам полюбил.
Королева поняла, что отговаривать упрямого принца бесполезно. Она обещала помочь ему в этом деле и сразу же приступила к исполнению обещания, послав за матерью Исмены. Мать кабана хорошо знала ее характер: та, особа весьма властолюбивая, охотно пожертвовала бы всеми своими дочерьми ради королевских почестей. Не успела королева известить ее о желании сосватать Йемену за Вепря, как она кинулась ей в ноги и попросила государыню лишь назначить день свадьбы.
— Но ваша дочь обручена, — сказала королева, — мы сами определили ей в супруги Коридона и велели видеть в нем нареченного.
— И что с того, сударыня, — парировала старуха, — а теперь мы велим ей изменить решение и забыть о браке с ним.
— Но сердцу не прикажешь, — возразила королева, — и если в нем разгорается огонь любовных страстей, то потом трудно его усмирить.
— Если ее сердцу не угодно будет послушать моих приказаний — я просто безжалостно вырву его из ее груди!
Видя решимость матери, королева сочла, что та справится с дочерью и заставит ее повиноваться.
И правда, старуха направилась прямо в покои Исмены. Бедная девушка, узнав о том, что мать отправилась поговорить с королевой, ждала ее возвращения с тревогой, и нетрудно представить, как выросло ее беспокойство, когда родительница сухо и непререкаемо заявила ей, что королева выбрала ее своей невесткой и отныне ей запрещено миловаться с Коридоном; в случае же неповиновения мать собственноручно придушит ее.
С безмолвной покорностью выслушала Йемена эти страшные угрозы, но горькие слезы неудержимо катились из глаз ее. По королевству тотчас поползли слухи, что она выйдет замуж за принца, и не случайно королева послала ей в дар драгоценные каменья: той предстояло явиться во дворец во всей красе.
Обезумевший от горя Коридон преодолел все преграды, чинимые на пути, и проник к ней в покои. Она лежала и плакала; ее платок был весь мокрый от слез. Рыцарь бросился перед ней на колени, схватил ее руку и молвил:
— Ах, прелестная Йемена, вы оплакиваете мое горе.
— Мы делим поровну наши страдания, — ответила она. — Вы знаете, мой милый Коридон, на что меня обрекли; теперь лишь смерть спасет меня от насилия. Поверьте мне, я сумею умереть, раз мне не стать вашей женой.
— Нет, вы достойны жить, — возразил он, — вы будете королевой и, может быть, со временем привыкнете к уродливому принцу.
— Это выше сил моих, — упавшим голосом ответила она, — нет ничего ужаснее подобного супруга, и его корона ничуть не смягчит моих несчастий.
— Избавь вас боги от пагубного шага, милая Йемена, ибо он уготован мне, а не вам. Да, я потеряю вас, и боль моя поистине невыносима.
— Если умрете вы, — продолжила она, — то не жить и мне, и утешает меня лишь одно: смерть навеки соединит наши влюбленные сердца.
Так проходила их печальная беседа, как вдруг неожиданно в дверях появился Вепрь. Узнав от королевы, сколь многое она уже предприняла ради него, он побежал к Йемене поделиться радостью, но вдруг остановился: присутствие Коридона повергло его в ярость. От природы ревнивого и нетерпимого нрава, он явил свою кабанью натуру, приказав сопернику удалиться и больше при дворе никогда не появляться.
— Чего вы добиваетесь, жестокий принц? — разгневалась Йемена, удерживая своего возлюбленного. — По-вашему, если с глаз долой, так из сердца вон? Нет, — в моем сердце он обрел вечный приют. Говорю вам, несчастный, — взгляните: вот мой единственный избранник, вот кого я люблю. А вы мне противны.
— А я, о бездушная, — ответил Вепрь, — я люблю тебя, и напрасно ты столь открыто выказываешь ненависть ко мне: ты будешь моей, и страдать тебе еще сильней.
Коридон, в отчаянии от того, что доставил столько горестей любимой, ретировался, и тут в покои Исмены пришла мать. Она заверила принца, что ее дочь непременно забудет Коридона навсегда, и нет смысла откладывать желанную свадьбу. Вепрь, тоже с нетерпением ожидавший этого события, обещал все обсудить с королевой, тем более что король возложил на него хлопоты о празднике: Его Величество решил не вмешиваться и не участвовать в приготовлениях, ибо эта свадьба раздражала его, и ему казалось смешным и неуместным, что в королевском доме продолжится кабаний род. И он сожалел о том, что королева потворствовала своему сыну.
Вепрь же опасался, что король начнет испытывать угрызения совести и передумает благословлять его. Поэтому решено было поторопиться с приготовлениями к торжественной церемонии. Принцу сшили пышные короткие штаны-рейнграфы[375], чулки в обтяжку и надушенный камзол, распространяющий тонкое благоухание, дабы скрыть все еще исходивший от него неприятный кабаний дух. Его мантия переливалась драгоценными камнями, светлый парик напоминал нежные детские кудри, а на шляпе красовались пышные перья. Никогда еще не появлялось в свете существо столь необычной наружности, и, не будь то свадебное одеяние, сшитое на беду, все бы просто посмеялись. Увы! Вид принца порождал у молодой Исмены только отвращение! Напрасно ей сулили королевские почести и власть. Она их презирала, считая, что родилась под роковой звездой.
Коридон смотрел, как она шествует к храму — обреченная на заклание прекрасная жертва. Радостный Вепрь попросил ее согнать с лица глубокую печаль, ведь он хотел сделать ее самой счастливой из всех земных королев, чтобы те позавидовали ей.
— Готов признать, — молвил он оживленно, — что не блещу красотой, однако я слышал, будто все мужчины в каком-то смысле похожи на зверей. Вот я, к примеру, вылитый кабан, выходит, я такой же зверь. При этом я вовсе не лишен привлекательности, достоин любви и, со своей стороны, питаю к вам чувства самые возвышенные.
Йемена ничего не отвечала, а только, поглядывая на него с презрением, пожимала плечами, давая понять, сколь он ей ненавистен. Мать шла за ней и цедила сквозь зубы:
— Ах ты, негодница, — губишь себя и нас тоже хочешь увлечь с собой в могилу? И не боишься, что влюбленный в тебя принц может и прогневаться?
Йемена даже не слышала ее — так была она поглощена своим горем. Предвкушавший радости брака Вепрь вел ее за руку, ноги его так и приплясывали от счастья, а губы шептали ей на ушко всякие нежности. Церемония подходила к концу, и вот уже со всех сторон раздались громкие возгласы:
— Да здравствует принц Вепрь! Да здравствует принцесса Веприца!
Кабан повез жену во дворец, где столы уже ломились от великолепных яств. Во главе пира сели король с королевой, а невесту посадили напротив Вепря, который не сводил с нее глаз, — до того она была хороша. Но принцесса сидела в такой глубокой печали, что ничего не замечала вокруг и не слышала громкой веселой музыки.
Королева дернула ее за рукав и прошептала на ухо:
— Дочь моя, гоните прочь мрачные мысли, если хотите всем понравиться; печаль вам не к лицу; вы словно не на свадьбе, а на собственных похоронах.
— Дай бог, сударыня, чтобы это был мой последний день. Сначала, повинуясь вам, я благосклонно отнеслась к ухаживаниям Коридона, и он принял мое сердце из ваших рук. Но увы! Вы оказались непостоянны, вы изменились к Коридону, я же осталась ему верна…
— Не смейте так говорить, — возразила королева, — я краснею от стыда и досады, когда вспоминаю об этом; прошу запомнить, милая, что мой сын оказывает вам большую честь, и вы должны быть ему благодарны.
Йемена молчала, опустив голову на грудь и погрузившись в горькие раздумья.
Нелюбовь жены глубоко опечалила Вепря: теперь его терзали сомнения — стоило ли так жениться и не расторгнуть ли немедленно этот брак, но сердце не желало сдаваться. Начался бал, и тут сестры Исмены предстали во всем великолепии; их мало заботили горестные думы сестры, они купались в лучах славы, радуясь тому, сколь блестящее положение принес им этот брачный союз. Невеста же, танцуя с Вепрем, боялась даже взглянуть на него — так он был отвратителен; как ужасно оказаться женою такого. Весь двор так загрустил, что о празднике быстро позабыли. Бал закончился, едва начавшись: принцессу проводили в ее покои, церемонно сняли с нее свадебные платья, и королева со свитой удалилась. Влюбленный Вепрь поспешно прыгнул в кровать. Но Йемена сказала, что ей надо написать письмо, прошла в свой кабинет и закрыла дверь на ключ, даже не послушав мужа, который просил писать быстрее и недоумевал, почему она выбрала такой неподходящий час.
Увы! Что же увидела Йемена, войдя к себе в покои? Там ее ждал Кори-дон: подкупив одну из служанок, он проник туда через потайную дверь. В руках у него блеснул кинжал.
— Нет, милая принцесса, — заговорил он, — не думайте, что я пришел упрекать вас в неверности. Сначала, когда нежные чувства только зарождались, вы поклялись, что навеки отдаете мне ваше сердце. Затем вы отреклись от собственных слов и покинули меня, но я не виню вас, ибо на то, как видно, воля богов. Однако ни вам, ни богам не заставить меня сносить такую муку. Теряя вас, принцесса, я теряю жизнь.
И, едва договорив последние слова, он вонзил клинок себе в сердце по самую рукоять.
Йемена хотела было сказать что-то в ответ, — но куда там, было уже поздно.
— Боже, ты умираешь, милый Коридон, — горестно воскликнула она, — как жить мне теперь без тебя, что делать мне в этом мире? К чему вся эта роскошь и королевские почести? Постыл мне белый свет!
И, выхватив кровавый клинок из груди бездыханного Коридона, она вонзила его себе в грудь и тоже упала замертво.
А Вепрь, все это время сгоравший от любовной лихорадки, заметил, что красавицы Исмены слишком долго нет, и принялся громко звать ее, но безуспешно. Тогда его охватила ярость; вскочив, он накинул халат, подбежал к двери кабинета и вышиб ее копытом, призвав на помощь слуг. Он ворвался туда первым и увидел прискорбное зрелище: бездыханные тела Исмены и Коридона. Ненависть в его душе боролась с нежностью к любимой. Он обожал Йемену, но понимал, что та убила себя, чтобы разорвать узы, связывавшие ее с ним. Тотчас отправили слугу предупредить короля и королеву, и весь дворец огласился криками отчаяния. Йемена была любимицей двора, а Коридон давно снискал почет и уважение. Король бездействовал: он не вникал в подробности любовных переживаний несчастного Вепря, как это делала нежная королева; ей он и поручил утешить сына.
Мать уложила несчастного кабана в постель, немножко поплакала с ним, а затем, когда он чуть успокоился, попыталась растолковать ему, что само Провидение избавило его от особы, никогда его не любившей, зато питавшей нежные чувства к другому; ибо невозможно вытравить из сердца сильную страсть, и вскоре он сам почувствует все выгоды от подобной утраты.
— Что мне в том? — воскликнул кабан в ответ. — Я хотел обладать ею, хотя бы даже она и оказалась неверна. А ведь она и не пыталась скрыть свое отвращение, обмануть меня притворными ласками. Я один виноват в ее безвременной кончине. Каких только упреков я не заслуживаю?!
Королева, видя, как Вепрь убивается, оставила с ним самых преданных слуг, а сама решила удалиться.
Она легла, и мысли ее невольно обратились к давнему лесному происшествию с тремя феями.
«Чем я прогневала их, — думала она, — чем навлекла на себя такие беды? Мне был обещан сын, любезный и пригожий, но я получила неведомого зверя с наружностью свиньи. Несчастная Йемена предпочла уйти из жизни, чем быть с таким супругом. Король не знал ни минуты радости, с тех пор как наш несчастный сын родился на свет. Да и у меня самой сердце обливается кровью, стоит лишь мне на него взглянуть».
Так она размышляла, как вдруг вся комната озарилась ослепительным сиянием, и вышла из него та самая фея дерева. Она промолвила:
— О прекрасная королева, отчего не веришь ты моим словам? Не я ль тебя уверяла в том, что придет время и твой Вепрь принесет тебе счастье и покой? Уж не сомневаешься ли ты в правдивости моих обещаний?
— Ах, да как же мне не сомневаться? — сказала королева. — Ведь ни одно из них так и не сбылось! Не лучше ль было оставить меня без наследника, чем позволить созерцать каждый божий день того, кого я сподобилась родить по вашей милости?
— Нас три сестры, — продолжала фея, — две добрые, а третья вечно норовит все испортить; именно ее смех ты и слышала во сне. Если бы не мы, твои мучения продлились бы намного дольше, но им придет конец.
— Увы! — воскликнула королева. — Только смерть, моя или моего сына, может положить предел моим мукам.
— Я не могу раскрыть тайн, — сказала фея, — мне лишь позволено облегчить твои страдания, вселив в тебя надежду.
С этими словами она исчезла, на некоторое время оставив после себя приятное благоухание, и королева и впрямь подумала, что грядут желанные перемены.
Вепрь же погрузился в глубокий траур. Он почти не выходил из покоев, исписал не одну страницу стихами, оплакивавшими кончину возлюбленной, и даже пожелал, чтобы его скорбные строки были высечены на могиле жены…
О рок, жестокий рок, о счастья
похититель!
Йемена, ты сошла в загробную обитель!
Твои глаза, что всех пленяли без труда,
Твои глаза теперь закрылись навсегда.
О рок, жестокий рок, о счастья
похититель!
Йемена, ты сошла в загробную обитель!
При дворе немало удивлялись, что он сохранил в душе нежное воспоминание об особе, которой внушал лишь отвращение. Мало-помалу круг придворных дам принял его, и на сей раз он поддался очарованию прелестной Зелониды, сестры Исмены. Она была так же хороша и имела поразительное сходство со старшей сестрой, чем и привлекала его. Ведя с ней беседы, он всегда наслаждался живостью ее ума и кокетливой остротой речей. По его мнению, только молодая Зелонида и могла бы занять в его душе место Исмены. Она же держалась с ним подчеркнуто ласково и учтиво — ведь ей и в голову не приходило, что тот может к ней посвататься. Но кабан уже принял решение. И вот однажды, когда королева в одиночестве коротала время у себя в покоях, он зашел к ней необычно радостный.
— Сударыня, — начал он, — не откажите в одолжении, благословите меня на новую любовь, ибо намерен я снова жениться и ничто на свете меня не остановит, и я прошу лишь вашего согласия. Моя избранница — Зелонида, и я надеюсь, что вы без промедлений поговорите с королем, чтобы дать делу законный ход.
— Ах, сын мой, — ответила она, — что ты задумал? Как скоро ты забыл отчаяние Исмены и ее смерть, что так потрясла нас! С чего ты взял, что ее сестрица тебя полюбит больше, чем она? Или ты стал менее уродлив? Разве ты с виду больше не кабан? Опомнись, сын, не причиняй нам новых горестей, тебе начертано судьбой быть вдали от людей.
— Что ж, я с этим согласен, сударыня, — вздохнул Вепрь, — но хочу покинуть общество людей не один: мне нужна спутница. Ведь как устроена природа: у филинов есть совушки, у жаб — лягушечки, змейки ждут своих ужей. Чем я хуже этих мелких тварей? Вы пытаетесь меня уязвить, но ведь кабан животное уважаемое, он благороднее всех тех, что я упомянул.
— Увы, дитя мое, — молвила королева, — боги свидетели, что моя любовь к тебе безмерна, но так же велика и моя печаль оттого, что лицо твое слишком ужасно. И не для того я говорю тебе все это, чтоб уязвить тебя. Мне хотелось бы видеть тебя счастливым подле любящей жены, и чтобы ее любовь была под стать моей. Но ведь мать любит совсем иначе, чем супруга!
— Я тверд в своем решении, — ответил Вепрь, — молю вас, поговорите с королем и матерью невесты, чтобы немедленно назначить день свадебных торжеств.
Королева дала ему обещание. Но когда она изложила просьбу сына королю, тот укорил ее в непростительном малодушии, возразив, что женитьба на скорую руку непременно приведет к новой катастрофе. Королева же, хотя и убежденная в том же самом не меньше его, не сдавалась и настаивала, желая сдержать слово, данное сыну; поэтому она так настойчиво упрашивала мужа, что тот устал сопротивляться и разрешил ей делать все что душе угодно, но, если снова что случится, пусть винит свою чрезмерную податливость.
Королева вернулась в свои покои, где ее с нетерпением дожидался Вепрь, и сообщила ему, что король не намерен чинить препятствий его чувствам к Зелониде, лишь бы красавица дала свое согласие. Монарх не хотел использовать данную ему власть, чтобы сеять горе вокруг себя.
— Государыня, уверяю вас, — напыщенно изрек тогда Вепрь, — что вы одна находите дурные свойства в моем характере. Отовсюду в свой адрес я слышу только похвалы, и мне дают понять, что я обладаю сотнями достоинств, и это отличает меня от всех.
— Придворные льстят вам, — ответила она, — выслушивать их лживые славословия — такова участь принцев. Одни поют хвалы, другие со снисхожденьем принимают их. В таком словесном лабиринте непросто распознать собственные недостатки. Ах, как бы счастливы были вельможи, если б могли они выбирать друзей не по толщине кошелька, а по родству души!
— Сомнительно, сударыня, — возразил ей Вепрь, — чтобы они, услышав от придворных всю правду о себе, возликовали от восторга. Кем бы ты ни был, а неприятное о себе услышать никому не сладко. Вот, кстати, зачем вы мне все время в глаза тычете моей кабаньей породою? Зачем твердите, что всякий, кто меня увидит, приходит в ужас и мне нужно сторониться людей? И отчего же мне отказывать себе в удовольствии послушать тех, кто усыпляет мои страдания приятными речами? Тех, кто с похвальным старанием умалчивает правду о моем уродстве? А вы, напротив, с завидным рвением напоминаете мне о моих изъянах!
— О бездонное себялюбие! — воскликнула королева. — Куда ни кинешь взгляд, повсюду встречаешь тебя! Да, сын мой, как вы хороши, как прекрасны, остается посоветовать вам озолотить тех, кто уверяет вас в этом, и назначить им пенсию.
— Государыня, — ответил Вепрь, — я сознаю, что внешне нескладен, и сам чувствую свои изъяны так остро, как никто иной. Но не в моих силах изменить себя, стать выше ростом, ходить прямо, избавиться от кабаньего рыла и превратиться в кудрявого красавчика наподобие Купидона. Я признаю, что иногда достоин порицанья за капризный нрав, непостоянство, скупость, но эти качества легко исправить. Согласитесь же, что вид мой вызывает скорее жалость, нежели осуждение.
Видя, в каком он смятении и как упрямо хочет связать свою судьбу с Зелонидой, королева позволила ему повидаться с ней, чтобы добиться ее согласия.
Едва лишь она наконец кивнула головою, как Вепрь бросился к Зелониде. Он бесцеремонно вошел к ней, обнял и промолвил:
— Сестрица, спешу тебе сообщить радостную новость: тебе найден супруг.
— Господин, — ответила она, — мне будет лестно и приятно получить мужа из ваших рук.
— Речь идет об очень знатном вельможе, — продолжал тот, — вот только внешне он нескладен.
— Ну и пусть, — ответила красавица. — Моя мать так строга со мной, что я охотно расстанусь с прежней жизнью ради брака.
— Но он очень похож на меня, — добавил принц.
Зелонида взглянула на него пристально и с удивлением.
— Что означает твое молчание, сестрица, — забеспокоился кабан, — радость или печаль?
— Я стараюсь припомнить, господин, кого-нибудь при дворе, кто походил бы на вас.
— Как! Ты еще не догадалась? Да это я, дитя мое; моя любовь к тебе столь безмерна, что я предлагаю тебе стать моей суженой и королевой.
— Что слышу я, о боги! — воскликнула она горестно.
— То, неблагодарная, что должно тебя обрадовать больше всего на свете, — ответил Вепрь. — Могла ли ты даже и помыслить о троне? Я одарил тебя своим королевским вниманием, выбрав среди многих, — будь же достойна моей любви и не вздумай повторять выходку Исмены.
— Ну уж нет, — отвечала ему Зелонида, — я-то не желаю умирать; но, господин мой, посмотрите вокруг, — сколько при дворе дам намного красивее и тщеславнее меня. Среди них легко найдете вы ту, что с гордостью оценит знаки вашего внимания. Мне же, поверьте, дорога лишь сельская жизнь и ее спокойное уединение; дозвольте же мне самой устроить свою судьбу.
— Ты недостойна, — воскликнул он в ответ, — тех усилий, кои я предпринимаю, дабы возвести тебя на трон; однако неведомая мне роковая сила заставляет без промедления совершить обряд венчания.
Ответом ему были слезы Зелониды.
Он вышел от нее, полный горестных предчувствий, и направился к теще объявить о своих намерениях, дабы та добилась от Зелониды согласия; он поведал ей, что ее дочь не изъявила никакого желания сочетаться с ним браком, сулящим ей власть и богатство. Тщеславная мать просчитала все выгоды этого дела, и даже смерть Исмены не заглушила в ней алчности, потеснившей родительскую любовь. Вне себя от радости, что все-таки породнится с гадким Вепрем, она бросилась своему благодетелю в ноги, расцеловала его и рассыпалась в благодарностях за то, что тот ее так осчастливил. Она заверила его, что или заставит Зелониду подчиниться, или своей рукою и на его глазах вонзит ей нож прямо в сердце.
— Признаюсь, сударыня, — поморщился Вепрь, — я не склонен к насилию, но, предпочти я спокойно ждать, когда красавицы милостиво бросят свою любовь к моим ногам, так рисковал бы прождать до самой смерти, ведь не секрет, что все они замечают во мне только уродство. Но, даже несмотря на это, я полон решимости жениться на самой прекрасной из них.
— Вы правы, сударь, — отвечала хитрая старуха, — и в утешение скажу вам: излишняя разборчивость девиц объясняется просто — они не замечают своей выгоды.
Она вселила в Вепря уверенность. Тот счел дело решенным и пообещал оставаться глухим к слезам и мольбам Зелониды. Вернувшись к себе в покои, он выбрал свадебные подарки поценнее и отправил их новой возлюбленной. Ей незамедлительно доставили золотые сундуки, до краев полные драгоценностей.
При вручении даров присутствовала мать, поэтому девушка не посмела отказаться от них. Впрочем, она осталась равнодушна к тому, что ей принесли. Лишь одна вещь привлекла ее внимание: кинжал с рукояткой, украшенной бриллиантами. Она долго вертела его в руках, то возвращая в сундук, то снова доставая оттуда, пока наконец не прикрепила его к поясу, как было принято у дам в тех краях, а затем промолвила:
— Сдается мне, это тот самый кинжал, что немилосердно пронзил грудь моей сестры.
— Этого мы не знаем, госпожа, — отвечали доставившие дары, — но пусть даже и так — вам-то что?
— Напротив, — возразила Зелонида, — я восторгаюсь мужеством сестры. Счастлива будет та, у кого достанет смелости повторить ее храбрый поступок.
— Ах, сестрица, что за мрачные мысли! — воскликнула Мартезия. — Уж не хотите ли и вы последовать за Исменой?
— Нет, — твердо ответила Зелонида, — слишком хороша я для жертвы алтарю, но боги мне свидетели… — И осеклась — слезы душили ее.
Влюбленный Вепрь, узнав о том, как невеста обошлась с его дарами, так разгневался на нее, что едва не отменил свадьбу и не прогнал ее с глаз долой. Но то ли любовь победила, то ли гордость взыграла, а передумал он, решив идти напролом к своей цели. Король с королевой препоручили ему все заботы о предстоящем празднестве, и он решил устроить самый пышный пир, полагаясь на свой превосходный кабаний вкус. Церемония проходила в огромном лесу, где накрыли богатые столы с дичью, дабы желанными гостями почувствовали себя и все крупные лесные хищники.
Когда привели Зелониду вместе с сестрой и матерью, пир уже был в полном разгаре: король с королевой, наследник Вепрь и весь двор сидели за столами под сенью густых дерев, и новобрачные дали друг другу обет любви и верности. Вепрю не составило бы труда сдержать данное слово. Что до Зелониды, — она, понятное дело, подчинилась, превозмогая отвращение; однако ей удалось укротить обуревавшие ее чувства и до поры скрыть досаду. А принцу хотелось верить, что она смирится с необходимостью и всячески постарается ему понравиться. Эта мысль вернула ему праздничное настроение. И когда подошел черед танцев, он поспешил переодеться в звездочета, набросив на себя длинное платье до пят. В том же маскарадном наряде танцевали еще две дамы; теперь всех троих невозможно было отличить друг от друга, хотя и пришлось приложить немало усилий, чтобы прелестниц сделать похожими на безобразного кабана.
Одна из них была наперсницей Зелониды. Вепрь это знал, потому-то он и затеял это переодевание. Вот уже протанцевали сцену из балета; ничто не могло быть утомительнее для Вепря. Подойдя к новой супруге, он сделал ей тайные знаки, указывая на третьего звездочета; это убедило Зелониду в том, что рядом с нею ее наперсница, которая хочет спросить ее о Вепре.
— Увы, — призналась она мнимой подруге, — мне и ответить-то тебе нечего: поистине, разгневанные боги предназначили мне в мужья настоящее чудовище. Но если ты меня любишь, сегодня ночью мы избавим от него белый свет.
Вепрь понял, что против него замышляется заговор. Он прошептал Зелониде в ответ:
— В угоду вам я готова на все.
— Тогда держи кинжал, — продолжила невеста, — это один из его подарков. Ты спрячешься в моих покоях и поможешь мне его умертвить.
Вепрь лишь пробурчал что-то в ответ, боясь, как бы она не узнала его по особой кабаньей манере говорить, затем осторожно принял кинжал из ее рук и отошел в сторону.
Возвратился он к ней уже без маски, приветливо поклонившись; тут по ее лицу пробежала тень смущения, — ведь она обдумывала способ погубить его; в этот миг его волнение не уступало ее смятению. «Возможно ли, — думал он, — чтобы такая злоба жила в особе столь молодой и красивой? В чем я провинился перед ней, за что она хочет меня убить? Конечно, я не красавец, ем как свинья, полон недостатков, но у кого их нет? Я человек в обличье зверя. А сколько зверей скрывается под маской человека? Вот и сама Зелонида, — как хороша снаружи; а по натуре — чем не тигрица или львица? Ах! Как же обманчив внешний вид!»[376] Так бормотал он сквозь зубы, как вдруг она спросила, что с ним:
— Вам грустно, Вепрь? Уж не корите ли вы себя за то, что оказали мне такую честь?
— Нет, — ответил принц, — я от данного слова так легко не отказываюсь; только мне хочется поскорее закончить бал, а то меня клонит в сон.
Принцесса обрадовалась: если муж заснет, ей легче будет осуществить свой коварный план. Пир окончился, и Вепря с женой посадили в роскошную колесницу. Весь дворец освещался фонарями, сделанными в форме поросят. Молодым предстояло торжественно взойти на брачное ложе. Зелонида не сомневалась, что наперсница уже ждала за гобеленом, посему она припрятала под подушкой шелковый шнур, чтобы с его помощью отомстить за смерть Исмены и за принуждение к столь ненавистному браку. В комнате стояла мертвая тишина; Вепрь притворился спящим и захрапел так, что сотрясались стены спальни.
— Ну, вот ты и уснул наконец, презренный боров, — прошипела Зелонида, — пришел тот час, когда я наконец смогу тебя покарать и отомстить за смерть сестры. Ты сгинешь под покровом темной ночи.
И, тихонько поднявшись с постели, она принялась искать по всем углам наперсницу, которой нигде не было — ведь та ничего не знала о ее замыслах.
— Неблагодарная подруга, — прошептала она с досадой, — сначала ты соглашаешься, а потом бросаешь меня на произвол судьбы. Ну да ладно, достанет для дела и одной моей храбрости.
С этими словами она достала шнур и обернула его вокруг шеи Вепря, который только этого и ждал, чтобы наброситься на нее. Он вонзил свои огромные клыки ей в грудь, и раны оказались смертельными.
Весть о случившейся беде незамедлительно разнеслась по дворцу. Поднялся переполох, и прибежавшие в спальню слуги и придворные, в крайнем изумлении увидев умирающую Зелониду, захотели было спасти ее, но разъяренный принц преградил им путь к своей жертве. Когда же на зов прибежала королева, он рассказал ей о том, что заставило его так ужасно поступить с несчастной принцессой.
Поневоле заплакала тогда королева.
— Мои сомнения подтвердились, — говорила она. — Я предсказывала подобный исход. Те беды, что неотступно следуют за каждым вашим браком, должны наконец излечить вас от любовной лихорадки. Нет больше сил видеть, как свадьба кончается скорбным погребением.
Вепрь молчал, погруженный в свои думы. Он лег спать, но не мог сомкнуть глаз, размышляя о своей несчастной доле. В глубине души он сокрушался и винил себя за смерть двух прелестных созданий, ибо страстное чувство к обеим до сих пор мучило его.
— Ах я несчастный горемыка! — сетовал он своему верному молодому другу из придворных. — Ни разу в жизни не испытал я милых прелестей любви. Стоит лишь заговорить о троне, как все досадуют, что на нем воссядет страшное чудовище и что именно оно будет владеть столь прекрасным королевством. Если я хочу разделить свой трон с бедной девушкой — та не замечает своего счастья и ищет способ поскорее свести меня в могилу. Ищу ли утешения у матери с отцом — так те гонят меня от себя, и я читаю у них в глазах отвращение. Как мне совладать с отчаянием? Как быть? Во мне зреет желание покинуть двор. Я убегу в лесные чащи и буду там жить, как подобает кабану. Наскучило мне притворяться галантным кавалером. Никто в лесу не станет упрекать меня за уродство, никто не скажет, что, дескать, я страшнее всех зверей. Там я стану их королем — ведь я, как-никак, наделен разумом; это поможет мне завоевать первенство. Моя жизнь в кругу лесных зверей станет спокойней, не то что при дворе, где все мне льстят, грубо заискивая. И если какая-нибудь кабаниха и станет моей женою, то уж наверное не заколется ножом и не станет душить меня шелковой петлей. Что ж, вперед! Бежим в леса, и не нужна мне корона, раз все считают, что я ее недостоин.
Наперсник же, принявшийся было всячески отговаривать его от столь необычного решения, в конце концов согласился, видя, как тот страдает от ударов Судьбы. И однажды ночью, когда позабыли выставить охрану вокруг дворца, кабан убежал далеко в лесные чащи, никем не замеченный, и зажил там так, как приличествует кабанам.
Сей шаг, причиной коего явилось бесконечное отчаяние, тронул сердца короля и королевы, и они снарядили охотников на поиски принца; но куда там — было поздно. Как смогли бы узнать его? Впрочем, удалось схватить пару свирепых кабанов, которых, пренебрегая опасностями, доставили во дворец; однако они принесли столько хлопот и наделали такого ущерба, что было решено больше не совершать подобных ошибок. По королевству издали указ о запрете охоты на кабанов, чтобы по ошибке ненароком не убить принца.
Перед тем как убежать в лес, Вепрь пообещал своему фавориту иногда присылать письма и даже захватил с собой письменный прибор. С тех пор у городских ворот иногда и впрямь обнаруживали письмо на имя этого молодого господина, нацарапанное нетвердым копытом. Это немного утешало королеву: весточка от сына означала, что он жив. Мать Исмены и Зелониды горько скорбела об утрате дочерей, ведь с их смертью все ее грандиозные планы рассеялись как дым; отовсюду на нее сыпались упреки в том, что лишь угрозами она заставила их согласиться на брак с Вепрем, так что обеих девушек погубило ее непомерное честолюбие. Королева стала с нею скупа на любезности. Тогда мать решила поселиться в деревне с единственной оставшейся дочерью — Мартезией, которая была еще краше сестер и полна столь нежного очарования, что глаз не отвести. Однажды, прогуливаясь в лесу с двумя служанками, она увидела в двух шагах от себя огромного кабана. Испуганная прислуга пустилась наутек, оставив ее одну. Мартезию же охватил такой ужас, что она не смела пошевелиться: ноги будто приросли к земле.
Вепрь, — а это был не кто иной, как он, — сразу признал ее и, видя, как она дрожит, понял: красавица умирает от страха. Вовсе не желая пугать ее еще больше, он промолвил:
— Не бойтесь, Мартезия; я слишком вас люблю, чтоб причинить зло. Теперь лишь в вашей воле принять от меня добро. Вам должно быть известно, чем ваши сестры отблагодарили меня за любовь, каким я подвергся оскорблениям. Я по-прежнему признаю, что заслужил их ненависть своим упрямством, желанием любой ценой завоевать их сердца, склонить насильно к замужеству. Но с тех пор, переселившись в лес, я понял, что сердце рождено быть свободным, и нет ничего слаще свободы. Звери здесь счастливы, ибо никто их ни к чему не принуждает. Не знал я раньше правил лесной жизни, теперь же знаю — как и то, что сам предпочел бы смерть браку поневоле. И если бы утихомирились некогда разгневанные мною боги, если бы они смогли расположить вас ко мне, Мартезия, поверьте, что я бы с радостью связал с вами свою судьбу. Но увы! Что я говорю? Возможно ль, чтобы вы последовали за чудовищем в леса, чтоб жить в темной пещере?
Пока Вепрь держал эту пламенную речь, Мартезия полностью оправилась от страха и смогла ему ответить.
— Как можно, господин? — воскликнула она. — Слыханное ли дело — видеть вас в состоянии, столь мало подобающем вашему высокому происхождению! И часа не проходит, чтобы ваша матушка не пролила слезу о ваших злоключениях.
— Злоключениях, говорите вы? — перебил Вепрь. — Не называйте так лесную жизнь; решение мое твердо, хотя и стоило больших усилий. Но дело сделано, былого не вернешь. Поверьте, юная Мартезия, вы вряд ли обретете при дворе полное счастье. Есть в жизни более заманчивые радости, чем светский блеск, и я готов вам повторить сто раз, что мы могли бы вдвоем познать их, захоти вы только стать дикаркой, как я, и жить среди зверей.
— Но почему бы вам не вернуться туда, где вы желанны и все еще любимы? — спросила она.
— Все еще любим? — воскликнул он. — Нет, нет, люди не любят принцев, отмеченных клеймом позора, превратившихся в несчастных изгнанников. От них ждут благодеяний, и если они не способны угодить людям, то их обвиняют во всех смертных грехах и ненавидят еще сильнее. Но что же это я заболтался! — вдруг воскликнул он. — Пройди сейчас мимо медведь, или лев, или кто другой из моих соседей, — если они станут свидетелями нашей беседы, мне несдобровать. Итак, решайтесь же и приходите в лес, желая лишь одного: провести лучшие дни вашей жизни в глухом уединении с несчастным чудовищем, который, обладая вами, обретет долгожданное счастье.
— Вепрь, — ответила она, — я не имела оснований любить вас до этого дня. Если б не вы, мои милые сестры сейчас были бы со мною рядом. Мне нужно время, чтобы принять столь необычное решение.
— Вы просите отсрочку, чтобы предать меня?
— Нет, на это я не способна, — продолжила она, — и обещаю никому не говорить, что встретила вас здесь.
— Так вы вернетесь? — спросил кабан.
— Не сомневайтесь, — ответила она.
— О нет! Мать не отпустит вас; ей наговорят, что в лесу вам попался свирепый кабан. Пойдемте же со мною, Мартезия, пойдемте сейчас.
— Куда вы ведете меня? — воскликнула она.
— В глубокую пещеру, — ответил он, — где течет родник, чистый как алмаз, чьи берега покрыты вечнозеленым мхом и молодой травкой и где печальным эхом отдаются жалобные песни влюбленных и покинутых пастухов.
— Так вот где мы будем жить, — спросила она, — и там меня растерзает кто-нибудь из ваших хищных братьев. Они придут к вам в гости, заметят меня, тут и наступит мой черед прощаться с жизнью. Затем моя бедная мать в отчаянии пошлет людей на поиски, и мое тело найдут в окрестных лесах…
— Пойдемте же, куда желает ваше сердце, — ответил он, — мои приготовления не займут много времени.
— Что ж, согласна, — ответила она, — хотя признаюсь, что мой-то багаж потяжелее будет; мне понадобятся и платья для жарких дней и непогоды, и разные ленты, и кружева, и драгоценности.
— Вот оно что, — промолвил Вепрь, — вам непременно нужны туалеты с бесчисленными безделушками и бесценными побрякушками. Да разве душа и разум не выше всех этих мелких ухищрений? Поверьте, Мартезия, они ничего не добавят к вашей красоте, и даже напротив — заставят ее потускнеть. Не ищите же для свежести вашего лица иных снадобий, кроме свежей и прохладной родниковой воды. А кудри ваши такого прелестного оттенка, столь тонки, словно их сплел коварный паучок для невинной мушки. Вот они, истинные ваши украшения! А ровный жемчуг зубов, от которых глаз не оторвать! Довольствуйтесь же своим природным совершенством, а глупые прикрасы оставьте дамам неказистым.
— Ваши приятные речи ласкают мне слух, — ответила она, — но я отнюдь не хотела бы схоронить себя в темной пещере в обществе ящериц и улиток. Не лучше ли вам вернуться со мной к королю? Я обещаю, что в случае согласия родителей лишь обрадуюсь. Вам же, если вы и вправду любите меня и хотите осчастливить, не следует ли уравнять меня в правах со знатным королевским родом?
— Да, я-то люблю вас, нежная Мартезия, — вновь отозвался он, — а вот вы меня совсем не любите, соглашаясь пойти со мной под венец из одного лишь тщеславия; а я слишком нежного воспитания, чтобы принять всерьез чувства такого рода.
— Ваша склонность осуждать весь слабый пол кажется естественной, — ответила Мартезия, — однако, рассудите сами, господин Вепрь, ведь предложить вам нежную дружбу — это уже кое-что значит само по себе. Подумайте об этом на досуге, а я вернусь сюда чуть позже.
Принц откланялся и убежал в свою мрачную пещеру, размышляя о том, что только что услышал. По воле злой судьбы он вызывал отторжение у тех, кого любил, и до сей минуты никто не одаривал его ласковым словом, поэтому приятные речи Мартезии затронули самые чувствительные струны его души. Вдохновленный любовью, он задумал угостить ее лесными яствами, и от его хищных зубов пали несколько ягнят, оленей и косуль. Затем он спрятал добычу в пещере в ожидании обещанного возвращения Мартезии.
А она не знала, на что решиться. Будь Вепрь столь же красив, сколь он был безобразен, — они любили бы друг друга так же сильно, как Астрея и Селадон[377], и тогда какой счастливой показалась бы ей даже и самая уединенная жизнь вдали от людей! Но как же далеко было Вепрю до прекрасного Селадона! И все-таки она ведь до сих пор не была помолвлена. Никто до сего времени не удостоился ее внимания, и она решилась соединить свою судьбу с принцем, если тот пожелает вернуться домой.
Ей удалось выйти незамеченной, и она отправилась в лес. Он уже ждал на условленном месте, боясь упустить ее и по нескольку раз на дню проверяя, не пришла ли она. Заметив ее издалека, он бросился ей навстречу и склонился в смиренном и почтительном поклоне, давая понять, что и кабаны при желании могут превращаться в галантных кавалеров.
Они уединились в укромном местечке, и Вепрь, пожирая ее своими маленькими глазками, полными страсти и огня, сказал:
— Могу ли я надеяться на вашу благосклонность?
— О да, — ответила она, — но при условии, что вы вернетесь во дворец. Признаться, я вовсе не горю желанием провести остаток дней вдали от света и подруг.
— Ах! — воскликнул кабан. — Нет, вы все-таки не любите меня. Да, верно, я не способен вызвать ответное чувство, но моя жизнь несчастна, и вам подобает, хотя бы из сострадания и великодушия, делать для меня то, что делали бы вы для других из любви.
— С чего же вы взяли, — ответила она, — что мои чувства к вам не могут называться любовью? Поверьте, я твердо намерена вернуться с вами к королю.
— Зайдите же в мою обитель, — настаивал он, — и сами оцените то, что вы так настойчиво пытаетесь заставить меня отринуть ради вас.
Выслушав это предложение, она заколебалась, боясь, как бы кабан, заманив ее в пещеру, не запер там, отказавшись отпустить. Он угадал ее мысли.
— О! Не бойтесь меня, — сказал он, — насилие не сможет сделать меня счастливым.
Мартезия поверила его словам, и он увлек ее вглубь пещеры; тут глазам ее предстала вся дичь, заботливо припасенная им для возлюбленной. При виде этакого мясного ряда ей стало дурно; она отшатнулась и хотела было бежать, но Вепрь с покровительственным видом изрек:
— Прелестная Мартезия, я слишком к вам неравнодушен, чтобы просто так позволить вам меня покинуть. Боги свидетели — вы навеки овладели моим сердцем. Причины, мешающие мне вернуться к отцу-королю, слишком непреодолимы. Здесь, здесь даю я вам слово любить вас — и пусть услышат нашу взаимную клятву сей бурливый ручей, всегда цветущие лозы винограда, скала, леса и все твари лесные.
А вот ей-то клятву давать совсем не хотелось — но она оказалась заперта в пещере и не могла выйти. Зачем она пришла сюда? Разве в глубине души она не предвидела такого исхода? Девушка заплакала и принялась упрекать Вепря.
— Как мне верить вашим обещаниям, — начала она, — раз первое из них уже нарушено?
— Верьте мне, — и он обнажил кабаньи клыки в гнусной ухмылке, — ибо и кабану подчас не чуждо ничто человеческое. Вы укоряете меня за лживые слова и хитрые уловки, которыми я добиваюсь своего, — но ведь так поступают люди; звери же ведут себя друг с дружкой намного честнее.
— Увы, — ответила она, — вы позаимствовали у тех и у других самое худшее: душа у вас человеческая, а лицо как у дикого зверя. Выберите что-нибудь одно, и я пойму, чего вы хотите.
— Что ж, прекрасная Мартезия, — сказал Вепрь, — в таком случае не соблаговолите ли остаться здесь, не будучи моей супругой? Ведь уйти-то я вам не дам, уж будьте уверены.
Возобновившиеся мольбы и слезы ничуть его не разжалобили, и после долгих пререканий она согласилась стать его женой, заверив, что будет нежно любить его, как любила бы самого красивого принца на свете.
Такое приятное обхождение очаровало кабана: он покрыл поцелуями руки возлюбленной и в свою очередь заверил ее, что она напрасно считает себя самой несчастной. Затем он осведомился, не желает ли она отужинать вместе с ним убитыми косулями.
— Нет, нет, — ответила она, — это не в моем вкусе. Но, если б вы мне принесли фруктов, я бы с удовольствием их отведала.
Он вышел, закрыв вход в пещеру так плотно, чтобы Мартезия не вздумала убежать, но она уже смирилась с судьбой и не сделала бы этого, даже если б могла.
Вепрь набрал апельсинов, сладких лаймов, лимонов[378] и других фруктов, нашел трех ежей, наколол им фрукты на колючки и отправил лакомый груз к пещере. Там он предложил Мартезии вкусить этих изысканных плодов.
— Вот и наш свадебный пир, — сказал он, — совсем непохожий на праздник, устроенный в честь двух ваших сестер. Смею надеяться, однако, что пышность нам заменят приятные минуты, проведенные наедине друг с другом.
— Дай-то бог, — вздохнула девушка и, зачерпнув руками воды из источника, выпила за здоровье Вепря, чему тот несказанно обрадовался.
Скромная трапеза подошла к концу; Мартезия, расстелив на полу пещеры мох, траву и цветы, которые позаботился принести влюбленный Вепрь, соорудила простое ложе, и они с принцем тотчас на него возлегли. Она не забыла справиться у кабана, удобна ли ему кровать, повыше или пониже подушку он предпочитает, не тесно ли ему и на каком боку спится лучше. Тронутый Вепрь нежно благодарил ее, не уставая восклицать:
— Пусть даже мне сулят золотые горы, прочат будущее величайшего монарха, никогда я не променяю на них свою судьбу. Я нашел то, что давно искал: я любим той, кого люблю!
И принц наговорил ей множество любезностей; это ее совсем не удивило — ведь он воспитывался при дворе; зато весьма обрадовалась она тому, что долгая жизнь в уединении ничуть не умалила его красноречия.
Наконец сон смежил их веки, как вдруг Мартезия неожиданно проснулась: ей привиделось, что ложе ни с того ни с сего вдруг стало мягче. Легонько прикоснувшись к Вепрю, она обнаружила, что вместо кабаньего рыла у него теперь человеческое лицо в обрамлении длинных волос, а вместо копыт — ноги и руки. Крайне изумленная, она снова уснула, а на рассвете проснулась рядом все с тем же кабаном, и даже еще более дикого вида.
Так прошел и еще день. Мартезия ничего не сказала мужу о том, что случилось ночью; когда они легли спать, она опять прикоснулась к его кабаньему рылу, и превращение свершилось снова. Это повергло девушку в ужас; сон как рукой сняло, и она, не в силах успокоиться, тяжко провздыхала всю ночь. Утром Вепрь заметал ее печаль и сам пришел в отчаяние.
— Нет, вы не любите меня, милая Мартезия, — сказал он. — Вам противен мой кабаний облик. Мне остается одно — умереть с горя, и вы будете причиной моей смерти.
— Скажите лучше, что вы хотите моей, жестокий! — гневно ответила она. — Ваши несправедливые упреки ранят меня в самое сердце, но я не в силах вам противиться.
— Мои несправедливые упреки? Я — жестокий варвар? — удивился он. — Но объясните же наконец, что заставляет вас так сетовать.
— Думаете, я не заметала, что каждую ночь вы уступаете свое место человеку?
— Кабаны и вообще-то существа неуживчивые, — возразил он, — а уж с таким рылом, как у меня, и подавно. Отбросьте же подозрения, оскорбительные как для меня, так и для вас, и помните — я ревную вас даже к богам; вам просто приснился плохой сон.
Мартезия, пристыженная тем, что сказала нечто столь неправдоподобное, обещала впредь самой себе не верить; хоть и понимала она, что той ночью все-таки ощупывала человечьи руки, плечи и волосы, но с кабаном согласилась и поклялась больше не вспоминать об этом.
Она и вправду прогнала от себя все подозрения. Так прошло полгода, безрадостных для Мартезии — ведь девушка не покидала пещеры, боясь встретиться с матерью или слугами. Несчастная старуха, потерявшая последнюю дочь, с тех пор причитала без умолку, взывая к ней и оглашая лесные чащи стенаниями. Материнские рыдания достигали ушей затворницы, и та, горюя тайком, сожалела, что ничем не может облегчить ее страдания. А кабан неусыпно следил за женой, и она столь же боялась его, сколь и любила.
Нежное чувство к Вепрю крепло в ее душе; день ото дня росла и его любовь к ней. Мартезия ожидала ребенка, и когда она представляла себе, что родит вепренка, как две капли воды похожего на отца, то погружалась в глубокую печаль.
И вот однажды ночью, украдкой плача в часы бессонницы, она вдруг услышала какой-то странный шепот и притихла, дабы не пропустить ни слова. Ее милый Вепрь упрашивал какую-то особу обходиться с ним помягче и разрешить ему то, что он давно просил.
— Нет, — сказал ему в ответ чей-то голос, — этому не быть.
Никогда еще Мартезия не бывала так встревожена. «Кто смог пробраться в эту пещеру? — спрашивала она себя. — Даже мне муж не выдал этой тайны». Ее разбирало столь сильное любопытство, что сон как рукой сняло. Вот наконец разговор закончился, и она услышала, что гостья вышла; через несколько мгновений ее муж захрапел, как свинья. Вскочив, она подбежала к большому камню, закрывавшему вход, но не смогла его сдвинуть. Потихоньку прокрадываясь обратно в постель, она в кромешной тьме споткнулась обо что-то, валявшееся на полу; присмотревшись, Мартезия увидела сброшенную кабанью шкуру и тотчас же спрягала ее, а затем легла, решив во что бы то ни стало дождаться развязки этой истории.
В небе едва забрезжила заря, а Вепрь был уже на ногах и рыскал по всей пещере. Он был так озабочен поисками, что не заметил, как наступил день; и при солнечном свете ей открылся его настоящий облик. Он был так необыкновенно красив и ладно сложен, что молодая жена чуть было не лишилась чувств от столь приятного удивления.
— Ах! — воскликнула она. — Не томите больше, раскройте же мне загадку моего счастья. Теперь я многое поняла, милый принц, и мое сердце преисполнено любви. Благодаря каким превратностям судьбы вы в мгновение ока превратились в прекраснейшего из мужчин?
Изумленный тем, что его тайна раскрыта, он, однако, промолвил, совладав с собою:
— Настало время объясниться, прекрасная Мартезия; знайте же, что только вам я обязан этим волшебным превращением. Однажды, — продолжил он свой рассказ, — королева, моя матушка, спала в тени деревьев, как вдруг, откуда ни возьмись, появились три феи. Та, что постарше, предсказала ей, что у нее родится сын несравненного ума и красоты. Вторая фея довершила волшебство, и в награду от нее я получил множество лестных качеств. А младшая, громко расхохотавшись, сказала так: «Неплохо бы чуть-чуть разнообразить наше творение, ведь почувствовать все прелести весны дано лишь тем, кто пережил зимнюю стужу. Чтобы красота и обаяние принца раскрылись в полную силу, пусть поживет сначала в образе дикого вепря, затем трижды женится, и лишь на третий раз его жена случайно найдет кабанью шкуру». И феи улетели. Королева ясно поняла, что сказали первые две, но третья, виновница всех моих горестей, так резвилась и смеялась во все горло, что моя мать ничего не разобрала.
Я сам узнал об этом лишь в день нашей свадьбы. Я спешил на свидание с вами, подгоняемый страстью, но по дороге решил утолить жажду у ручья вблизи пещеры. И то ли вода там была прозрачней, чем обычно, то ли я всмотрелся в себя чуть пристальней, стремясь вам угодить своим опрятным видом, но только отражение мое показалось мне столь безобразным, что испугало меня самого, и слезы навернулись мне на глаза. Не будет преувеличением сказать, что ручей тут же превратился в поток — столько слез я пролил, терзаясь тем, что никогда не покорю ваше сердце.
Тут я совсем сник и решил оставить все, как есть. «Нет, — думал я, — не видать мне счастья, — не дано мне судьбою познать любовь и быть любимым, ибо мой гадкий облик отвратит кого угодно» Так я шептал, как вдруг заметил даму, которая дерзко шла прямо мне навстречу, ничуть не боясь моей свирепой морды. «Вепрь, — промолвила она, — твое счастье близко; бери Мартезию в супруги, и если девушка полюбит тебя таким, каков ты есть, то все чары спадут и ты вновь станешь человеком. В первую брачную ночь ты сбросишь шкуру, так долго тяготившую тебя, но должен успеть вновь ее надеть до рассвета, не выдав жене своей тайны до той поры, пока правда не раскроется сама собою».
Затем она мне рассказала то, что я уже вам поведал. Я поблагодарил ее за столь приятные новости и, подгоняемый радостной надеждой, направился к вам. Вы встретили меня с таким вниманием, теплом и добротой, что я возликовал; мне не терпелось вам все рассказать. Знавшая об этом фея вернулась той же ночью и пригрозила большой бедою, вздумай я до времени выдать вам свой секрет. «Ах, сударыня, — огорчился я, — вы, видно, никогда не любили, раз вынуждаете меня скрывать такую приятную весть от возлюбленной». Но она, лишь посмеявшись в ответ, запретила мне попусту сокрушаться, раз судьба стала благоволить. Верните же мою кабанью шкуру, — взмолился он, — я надену ее вновь, чтобы феи не прогневались.
— Отныне, милый принц, — услышал он в ответ, — кем бы вы ни стали — я навеки ваша, и даже эти метаморфозы останутся для меня лишь приятным воспоминанием.
— Я лелею надежду, — сказал он, — что феи больше не пожелают продлевать наши страдания, и теперь они окружат нас вниманием и заботой. Вот перед вами ложе — оно кажется мшистым, но это не мох, а теплая пуховая перина, сотканная из тонкой шерсти. Феи же положили у входа в пещеру и изысканные плоды.
Мартезия принялась неустанно благодарить фей за оказанные милости.
Пока она возносила им хвалы, Вепрь тщетно старался натянуть сброшенную шкуру, но она вдруг так скукожилась, что никак недоставало прикрыть одну ногу. Принц вытягивал шкуру и так и сяк, и вдоль и поперек, и зубами и руками, но не тут-то было. Погрустнев, он принялся сетовать на судьбу, справедливо опасаясь, как бы теперь фея навсегда не оставила его кабаном.
— О, горе нам! — восклицал он. — Дорогая Мартезия, зачем вы спрятали эту роковую шкуру? Вот феи и наказали нас — я больше не могу принять кабаний вид. Как нам теперь их успокоить, как унять их гнев?
Мартезии только и оставалось, что разразиться рыданиями, а ведь повод для печали был весьма странным: прекрасный принц никак не мог снова превратиться в кабана.
Вдруг затряслась земля и разверзлись своды пещеры. С небес упали шесть веретен с шелковой нитью; три белых и три черных весело завертелись в причудливом танце, и неведомо откуда исходящий глас изрек:
— Если Вепрь и Мартезия угадают, что означают черные и белые веретена, то будут счастливы.
Немного подумав, принц сказал:
— Белые веретена — три феи, которым я обязан своим рождением.
— А три черные — мои сестры и Коридон! — воскликнула Мартезия. И не успела она договорить, как белые веретена превратились в фей, а черные — в двух ее сестер и Коридона. Столь неожиданное воскресение повергло бы в ужас всякого.
— Мы вовсе не из-под земли появились, — успокоили они Мартезию, — ибо всегда оставались рядом с вами: ведь нам помогли благоразумные феи. Пока вы скорбели о нашей смерти, они отвезли нас в прекрасный замок, где мы с удовольствием проводили время, и весьма жаль, что вас там не было.
— Глазам не верю, — воскликнул Вепрь, — разве не видел я сам смерти Исмены и ее любовника, и не от моей ли руки погибла Зелонида?
— Нет, — молвили феи в ответ, — это был обман зрения: мы можем так отвести глаза, чтобы они видели то, чего нет на самом деле. Такое часто случается в наши дни. Кому-то примерещится ни с того ни с сего на балу собственная жена — а она в это время в неведении спокойно спит дома. Иному вдруг представится, что он держит в объятиях красивейшую любовницу, а на самом деле это жалкая мартышка. Третий же возомнит, будто отважно сразил врага, а тот на поверку живет да здравствует в своих далеких краях.
— Вы заронили в мою душу зерно сомнения, — ответил принц, — послушать вас, так нельзя верить глазам своим.
— Не подобает мерить все одним аршином и выносить поспешные суждения, — возразили феи. — Бывает, что и волшебство способно приоткрыть иную суть вещей.
Принц с женой поблагодарили фей — ведь те дали столь ценные наставления и сохранили жизнь дорогим им людям.
— Но смею ли я надеяться, — сказала Мартезия, припав к ногам волшебниц, — что чары окончательно отступят и по вашему велению мой верный принц больше не облачится в шкуру кабана?
— Наше появление тому порукой, — молвили они, — ибо пришла пора вернуться ко двору.
Тотчас же пещера превратилась в роскошный шатер, и камердинеры облачили Вепря в великолепные одежды. А Мартезия увидела себя в кругу придворных дам, сразу занявшихся ее нарядами, посадив ее за роскошное трюмо, где можно было ее причесать и украсить. Затем подали ужин, который готовили сами феи, — а ведь этим уже все сказано.
Никогда еще не бывало столько счастья вокруг. Вепрь, переживший так много бед, не мог нарадоваться возвращению человеческого облика. А стал он не просто человеком, но красавцем, доселе не виданным. Пир подошел к концу, и за новобрачными приехали роскошнейшие кареты, запряженные самыми красивыми на свете лошадьми. И конные гвардейцы торжественно сопроводили Вепря с женою во дворец.
Там пронеслось недоумение — откуда эта пышная процессия и кто сидит в каретах, как вдруг глашатай всенародно объявил о прибытии молодых супругов. И тотчас весь народ сбежался посмотреть на диво. Увидев принца, все остались довольны и ни в чем не усомнились, хотя и трудно было поверить в превращение столь чудесное.
Достигла эта весть ушей короля и королевы, и они поспешили сойти вниз. Принц Вепрь так походил на короля, что ни у кого не возникло и тени сомнения насчет их родства. Ликованию не было предела. Через несколько месяцев родился сын, чьи красота и нрав ничем, и даже отдаленно, не напоминали о кабаньем прошлом его отца.
* * *
Нет тяжелее испытанья
Для сердца, что спешит любить,
Чем тайну ревностно хранить,
Коль в долг нам вменено молчанье.
Вепренок претерпел страданья,
Затем на трон был возведен.
И все ж за слабости не зря его осудят:
Уж лучше будь любовью обделен,
Зато с тобою мудрость да пребудет!
Пер. Я. А. Ушениной и М. А. Гистер (проза), Е. Ю. Шибановой (стихи)
Новый дворянин от мещанства
Продолжение

Ее муж, ни разу не видавший столь нелепой фигуры, единственный сохранил серьезность среди всеобщего хохота, стоило лишь ей появиться. Причудливый мавр, красногубый и длинноволосый, выглядел в своем роде столь же неуклюже, как и его хозяйка. Парижские дамы, привыкшие держать себя свободно и непринужденно, являли полную противоположность баронессе, разыгрывающей благовоспитанную недотрогу. Заметив ее издалека, они бросились ей навстречу.
— О, — вскричали они, едва не задушив ее в объятиях, — дорогая, мы так хотели вас видеть! А знаете ли, что ваши яблони так покалечили нашу карету, что теперь она еле дребезжит, точно колесница Фаэтона?
— Смею возразить вам, сударыни, — холодно и высокомерно процедила баронесса, — что у Фаэтона не было колесницы, отец же его Аполлон поступил весьма глупо, доверив ему свою, а посему следует говорить «колесница Аполлона, управляемая Фаэтоном»[380].
— Я не ожидала от вас такой точности, сударыня, — сказала вдова.
— Мы тут хоть и провинциалы, — парировала баронесса, — но тоже не хуже иных парижан.
— И что же это значит, — поинтересовалась госпожа де Люр, — вы хотите сказать, что тоже не лишены здравомыслия?
— Да, сударыня, — раздраженно добавила баронесса, — и горжусь этим: и живя в сельской глуши, можно иметь столько же вкуса, как у любого из вас, читать и выносить разумные суждения.
Господин де Сен-Тома, знавший, как трепетно жена соблюдала все правила вежливости, догадался, что ее задела эта расфуфыренная парижанка госпожа дю Руэ, запросто обращавшаяся к ней «моя дорогая» с первых минут знакомства. Он испугался грядущей ссоры и, подав руку новобрачной, попросил виконта предложить свою вдове. Приор же предложил баронессе опереться на его руку, что вызвало у нее бурю негодования, так как она была не в духе.
— Опереться на вашу руку! — воскликнула она заносчиво. — Что, разве я уж так слаба и нуждаюсь в клюке для старух?
Тот предпочел промолчать, хорошо зная ее сварливый нрав.
Впрочем, обида баронессы продлилась недолго; заметив, с каким необычайным удивлением обе гостьи разглядывали новоявленного мавра, так что едва не затолкали его хозяйку, она промолвила:
— Сдается мне, сударыни, вы ошеломлены увиденным?
— Да, — призналась госпожа дю Руэ, — такого мавра мы и в Париже еще не встречали.
— Ах, скажите на милость! Все Париж да Париж! — воскликнула баронесса. — Послушать вас, так на все, что не оттуда, и смотреть-то нечего.
— Но согласитесь же, — продолжала госпожа де Люр, — что этот мальчик окрашен самой необычной на свете краской.
— Скажу вам правду, — ответила баронесса, тоже улыбаясь и глядя на нее, — одни мажут лица чернилами, ну а другие — белилами.
Госпожа дю Руэ отнесла эту злую шутку на свой счет и в долгу не осталась. Барон, человек весьма учтивый, огорчился, что уже во время первого визига стороны обменялись колкостями. Он постарался исправить положение, умело расточая комплименты, не замедлившие весьма положительно сказаться на настроении дам, слушавших с явным удовольствием, и заодно смягчить неловкость от язвительных замечаний баронессы. Она же воспользовалась каким-то предлогом, чтобы сразу после ужина удалиться в свою комнату, где якобы забыла коробочку с мушками и табакерку. Так как разговор касался самых различных вещей, то незаметно перешли к Дандинардьеру. Приор с удовольствием поведал собравшимся о том, что с тем произошло за последние несколько дней, о его ссорах с соседом и мэтром Робером, его решимости стать Дон-Кихотом, но при этом не переусердствовать с отвагой, и не забыл Алена, упомянув о его бесхитростной наивности.
Две вновь прибывшие дамы изъявили большое желание свести столь занимательное знакомство.
— Нет ничего проще, — ответил барон, — только и нужно-то всего подняться к нему наверх.
— Ему вполне достанет здоровья и сил, чтобы спуститься к нам, — вмешался виконт, — хотя приключение с кроватью и навредило ему: он, пока лежал под нею, весь исцарапался.
— О прелестная кузина! — воскликнула госпожа дю Руэ. — Какой он забавный, я бы одолела дорогу от Парижа до Рима, лишь бы отыскать нечто подобное; никак нельзя упускать такой прекрасной возможности немного развлечься.
Приор решил сходить к Дандинардьеру и предупредить его о предстоящем визиге: ведь кавалер должен быть во всеоружии.
— Как, сударь, — удивилась вдова, — разве, чтобы нас принять, он нуждается в оружии? Он поднимет руку на таких чаровниц, как мы?
— О нет, — успокоил их тот, — такого у него и в мыслях нет; вы еще никогда не встречали странствующего рыцаря учтивее, чем он.
И приор, не мешкая, отправился наверх, чтобы объявить Дандинардьеру о том, какие обольстительные дамы собираются нанести ему визит.
— И главное, — сказал он, — не попрекайте их нормандским выговором, ведь они как-никак из Парижа[381], а в этом городе достаточно прожить всего один день, чтобы привязаться к нему на всю жизнь. Да что там, вы и сами это знаете лучше всех нас.
— О! — воскликнул Дандинардьер. — Я-то коренной парижанин, тут нельзя сравнивать.
— Но именно это обстоятельство, сударь, и делает вас безупречным, превращая в само совершенство, — с жаром воскликнул приор, — ибо вы с молоком матери впитали все необходимые достоинства: дух светской учтивости, образованность, изящество манер и науку обольщения.
— Вы не поверите, — живо подхватил мещанин, — но это чистая правда. Мне, бывает, и самому кажется, что я рассуждаю о всякой всячине как-то по-особенному утонченно, а ведь утонченности так тесно в недрах души моей, вот она и вылезает снаружи.
— Я вас понимаю, — ответил приор, — значит, тем более страстно желаете вы познакомиться с этими дамами, раз они из Парижа; сейчас приведу их сюда.
— Помилуйте, сударь, — воскликнул коротыш Дандинардьер, — хорошо же я буду выглядеть, лежа в кровати и совсем неприбранный; мне, право же, неловко, я ничего не успел сделать, все думал о книгах, о своих болячках, словом, позвольте мне вывернуть сорочку наизнанку или одолжите свою.
— Думаю, вам было бы неплохо еще и вооружиться, — лукаво заметил приор, — это непременное условие для кавалера, лежащего в постели, — и дамам понравится, да и будет потом чем похвалиться. И учтите, сей пол, застенчивый и слишком осторожный, боготворит героев и уважает их за высокие заслуги.
— Эй, Ален, живей неси оружие, неси-ка сюда мое оружие! — крикнул тот слуге.
— Чего вам подать-то? Чурбан, что ли? — ответил Ален.
— Да, дуралей, тюрбан и все остальное, да смотри броню не забудь.
— Ах, сударь, — сказал Ален, — довольно вам уже себя калечить: то кровать вас поцарапала, то сейчас еще напялите такое отрепье, и тогда уж…
— Молчи, презренный! — ответил мещанин. — Ты сам-то лишь репей горазд приносить с Марсова поля! Вот ведь неслыханное дело — называть отрепьем боевые доспехи, в которых я так похож на римского диктатора! Да как язык повернулся сболтнуть такую нелепость!
— Ах, сударь, ради бога! — вступился за слугу приор. — Ваш язык чересчур богат, а нас ведь ждут дамы.
— Что же у вас за уши такие? — вознегодовал Дандинардьер. — Ничего не оскорбляет вашего слуха, даже дурацкие речи моего слуги не оглушают вас как набат. А вот я, признаться, не выношу, когда говорят невпопад, коверкая слова; хоть на трон меня ведите — но если вы при этом выражаетесь косноязычно, делая грубые ошибки, то я бы сильно заупрямился, только бы не идти к славе таким путем.
— Французский язык служит вам верой и правдой, — сказал приор, улыбнувшись, — надеюсь, вы не останетесь перед ним в долгу, — а кстати (только это между нами), мне известно, что в среде ученых предпринимаются попытки описать вашу жизнь.
— Ах, сударь, что я слышу? — воскликнул Дандинардьер, окрыленный такой радостной новостью. — Повторите же еще раз! Не могу поверить. Ведь кроме званых обедов я ничего не сделал для этих господ. Конечно, у меня не раз бывали Гомер, Геродот, Плутарх, Сенека, Вуатюр, Корнель и даже Арлекин[382]. Они смешили меня до колик в животе, и я считал знаком особого расположения то, что они приходили ко мне запросто, без предупреждения. Будь я в отлучке, в боевом ли строю или на приеме в Версале, — мой метрдотель получал распоряжение подать к столу все самое изысканное, как если бы я присутствовал там лично. И ни капли хвастовства, заметьте, да и пристало ли мне этим бахвалиться? Неужели они помнят о столь мимолетном выражении дружеских чувств с моей стороны? — продолжал он. — Все это время я наслаждался их обществом, честно говоря, незаслуженно, а посему сомнительно, чтобы они помнили о каком-то сельском философе вроде меня.
— Именно потому, что вы философ, они о вас и думают, — важно заметал приор, давясь со смеху. — Я неимоверно рад узнать, что вы сидели за столом с такими именитыми сотрапезниками. Согласитесь, Катон весьма занятен.
— Не знаю, кто такой Катон[383], — заметил мещанин, — видно, он не удосужился бывать у меня чаще.
— Но он все равно среди ваших друзей и почитателей, — ответил приор, — а вопрос о вашем жизнеописании они между собой уже решили. Удерживает их только одно: вы чересчур скупы.
— А кто ж в наше время не скуп? — печально промолвил мещанин. — Пусти я сейчас по ветру все, что нажил, — мне и самому придется пойти по миру с протянутой рукой. Поверьте, господин приор, герои не умеют ни шить, ни прясть, им чужды арифметические чудеса, которые превращают два в четыре, вот поэтому им и приходится беречь то, что они уже имеют.
— Осмотрительность еще никому не вредила, — мудро заметал приор, — и ваши историки обязательно упомянут ее в своих трудах, однако, если речь пойдет о вашей свадьбе, что прикажете им делать? «Как! — воскликнут они в один голос. — Он безумно любил достойнейшую из девиц, но она не обладала большим состоянием и ему пришлось отказаться от брака!» О! Это будет так скверно, что мне становится не по себе от одной только мысли.
— А кто их просит писать обо мне? — спросил Дандинардьер. — Будь у меня непреодолимая нужда в лести, — думаете, я бы уехал из Парижа, где она цветет пышным цветом, чтобы похоронить себя в провинции, где заслугой считается не столько похвала, сколько горькая правда, высказанная в лицо? Мне уже доводилось сносить нечто подобное, и я бы сумел ответить твердо, глядя прямо в глаза, не будь мне так ненавистны ссоры.
— Я понимаю, сударь, — сказал приор, — вам не нравится мое излишнее прямодушие, но никуда не денешься — такой уж я несговорчивый; однако, бесконечно уважая вас, я хотел бы и в вашем лице видеть совершенную натуру. Однако вы ею не станете, если будете упрямствовать на почве скупости…
— Вы, похоже, забыли, — перебил его огорченный мещанин, — про милых дам, которые вас сюда прислали? Сделайте же наконец милость, приведите их сюда, и поговорим о более приятных вещах.
Приор побежал за дамами, ждавшими его с нетерпением. Он с самым серьезным видом передал им содержание небольшой части беседы, не осмелившись, впрочем, посмеяться над нашим коротышкою в присутствии госпожи де Сен-Тома, непременно вставшей бы на его защиту, что сулило новые распри. Вдова и новобрачная проворно поднялись в спальню к Дандинардьеру. Его вид был столь комичным, что расхохотался бы и самый отчаянный угрюмец: нос ободран, щеки побагровели, лицо, и без того круглое, раздулось до невероятных размеров, как будто он долго пыжился, дуя в трубу; и уж совсем нелепо смотрелись на нем тюрбан и броня. Подойдя к нему первой, госпожа дю Руэ склонилась в глубоком реверансе, но, едва взглянув, с удивлением признала в нем своего кузена Кристофле, торговца с улицы Сен-Дени! Одновременно вскрикнув от удивления, они слились в долгом объятии, прошептав друг другу на ухо: «Молчок! Ни слова!», поскольку кузина дю Руэ, как и кузен Кристофле, отнюдь не горела желанием раскрывать свое происхождение перед провинциалами. Напротив, обоим хотелось выдавать себя за знатных господ.
По правде говоря, она уже давно знала, что в голове у ее кузена роятся самые безумные мечты, и как только фортуна стала к нему благосклонна, он решил достичь положения дворянина в пику всем своим родственникам. Но как раз эту-то слабость она и склонна была ему простить, ибо сама отличалась похожим умопомрачением, с утра до вечера только и твердя, что о своих предках, всякого рода принцах, без устали ею превозносимых — существование которых, однако, было столь же сомнительным, как и еженедельные обеды семи греческих мудрецов[384] у Дандинардьера.
Все общество с удивлением обнаружило, что между Дандинардьером и вдовой установилось странное единодушие, они были как будто заодно. Барону сообщили об этом наблюдении, и он разгневался не на шутку, сознавая, что сия дама может навредить свадьбе. Всем своим видом демонстрируя обратное, он, разумеется, стремился показать, что мало интересуется эдакой безделицей, однако мысли его упорно возвращались к желанному браку, и потому при виде их он выказал такую радость, какой они совсем от него не ожидали.
— Конечно, — говорил Дандинардьер, — прежде чем оставить двор, я принял меры предосторожности, дабы скрыть свое неожиданное бегство от самых близких друзей. Я слишком хорошо понимал, что мое отсутствие их расстроит, да и сам страдал от предстоящей разлуки.
— Вы даже не представляете, — подхватила вдова, — каковы были последствия вашего отъезда. Мне известно, что одна из дам, настоящая красотка, глаз не оторвешь, провела весь остаток года, ни разу не надев ни ленточки, ни кружев, ни одного яркого платья.
— О боже, — тихо промолвил Дандинардьер, глубоко вздохнув, — вот бедняжки! Как же я тронут!
— На их лицах застыло выражение траурной скорби, — продолжала вдова, — мужья узнали тому причину и весьма забеспокоились.
— Ой-ой! Да что вы говорите? — воскликнул Дандинардьер. — Я опасаюсь за одну молодую герцогиню с роскошными белокурыми волосами: если я расстроил ее семейное счастье, мое горе будет безутешным. Вы сами, сударыня, недавно уверяли меня, что нам удалось скрыть нашу игру, и никто не смог разгадать тайну наших сердец.
У госпожи де Сен-Тома, слушавшей беседу вертопраха со вдовушкой, терпение наконец истощилось, и она шепнула на ухо виконту:
— Это его-то вы прочите нам в зятья? Разве вы не видите, что он запутался в любовных интригах? Напрасно мы стараемся его образумить, с таким нам не справиться.
— Не стоит так поспешно отказываться, сударыня, — ответил тот, — придворным пристало волочиться за красавицами, однако при этом они отнюдь не любвеобильнее других, — напротив, их сердца остаются холодными. Они владеют в совершенстве наукой страсти нежной, подпускают ахи-вздохи, упрашивают, умоляют, но их любовь от этого крепче не становится.
— Тем хуже для него, сударь, — сказала баронесса, — уж такой-то наверняка нас обманет.
— Нет, сударыня, — возразил виконт, — он рожден при таком дворе, где искренность в почете.
— Так он не из Парижа? — удивилась госпожа де Сен-Тома.
Виконт понял, что попал в затруднительное положение, не зная, как назвать двор торговцев с улицы Сен-Дени, и приготовился к долгим объяснениям, как вдруг вошли барышни де Сен-Тома, которых уже давно желали видеть парижские дамы: они задержались, чтобы подобающе одеться к ужину.
Они и впрямь были красавицами и, не взбреди им в голову мысль вырядиться амазонками и принцессами из романов, выглядели бы весьма привлекательно. Заметив их, Дандинардьер сделал знак своей кузине дю Руэ, и та догадалась, что Виржиния поразила его в самое сердце. Тут она принялась любезничать с ней больше, чем с Мартонидой, которой это не пришлось бы по вкусу, не начни расточать ей ласковые речи госпожа де Люр.
— Милая барышня, — заворковала та, — я не испытываю ни малейшего сожаления, что бросила двор ради провинции, если здесь можно встретить такое очаровательное создание, как вы.
— Сударыня, — ответила ее собеседница, — мы как можем стараемся подражать во всем вам, но, кажется, безуспешно.
— Не говорите так, голубушка! — воскликнула госпожа де Люр. — Вы прекрасны, и в ваших глазах светится ум, что приводит меня в восхищение.
А в это время вдова вела оживленную беседу с Виржинией, и две дамы так увлеклись, что говорили почти одновременно, перебивая друг друга. Редко лесть добивается своего с такими малыми потерями. Коротыш Дандинардьер торжествовал, старательно оберегая первые ростки прекрасного чувства, и был счастлив, что вдова одобряла его зарождавшуюся страсть, а Виржиния, со своей стороны, показывала себя тонкой собеседницей.
Все остальное общество с удовольствием их слушало. Баронесса не привыкла, чтобы ухаживали только за ее дочерьми, и считала себя обделенной, если приятные комплименты обходили ее стороной. Поэтому она сидела со странно застывшим лицом и на все вопросы отвечала односложно. Но вот разговор, который еще на некоторое время задержался на прелестях красоты, неожиданно перешел на преимущества ума. Тут госпожа дю Руэ и Дандинардьер принялись с новой силой расхваливать друг друга, не скупясь на похвалы и дифирамбы. Остальные переглядывались, дивясь неиссякаемому источнику высокопарных слов, которые, впрочем, ничего не означали. Виконт решил немного отвлечься и сказал госпоже де Сен-Тома, что ее дочери много потеряли, не появившись в роще — ведь там дамы рассказывали самую увлекательную сказку из всех, сочиненных с незапамятных времен.
— Неужели эти барышни знакомы с подобного рода забавой? — спросила вдова. — Так мода сия уже достигла провинции?
— За кого вы нас принимаете, сударыня? — ответила Виржиния. — Вы думаете, что наш климат потерял расположение благодатного светила и оно перестало бескорыстно сиять нам? Уж будто мы не ведаем, что происходит под небесным сводом? Наш круг общения гораздо шире, чем вам представляется, мы знаем ведьм и колдунов, часто выводим их на сцену, и те не заставляют авторов краснеть.
— Признаюсь, — сказала молодая жена, — что никогда не встречала нормандских муз[385] и деревенских фей и была бы рада с ними познакомиться, а в особенности послушать их.
Тут Мартонида, весьма достойная рассказчица, о которой отзывались самым лестным образом, вызвалась прочитать им последнюю сказку, сочиненную накануне ночью.
— Нет ничего свежее, — сказала она, — по правде говоря, я не успела даже ее перечитать.
Все согласились послушать сказку. Мартонида вынула исписанную тетрадь и приступила к чтению.
Пер. Я. А. Ушениной
Дельфин[386]

Его бегство огорчило короля и королеву; однако, жалея о том, что он больше не появится при дворе с подобающим принцу величием и с ним может случиться беда, они беспокоились не столько о нем, сколько о своем добром имени. Поэтому супруги все-таки послали гонцов, приказав им вернуть беглеца. Но принц нарочно выбрал окольные пути и такие затерянные тропинки, что никто не смог напасть на его след. Гонцы заблудились и не вернулись назад, и вскоре при дворе забыли принца. Все слишком хорошо знали, как мало нежных чувств испытывали к нему родители, — ведь счастливых принцев любят совсем не так. Об Алидоре больше никто не вспоминал. Да и кому было говорить о нем? Фортуна отвернулась от юноши, близкие его ненавидели, а до его достоинств никому и дела не было.
И вот шел Алидор куда глаза глядят, не зная, в какую сторону податься, как вдруг увидел красивого молодого всадника, скачущего на добром коне ему навстречу и с виду похожего на путешественника. Они церемонно раскланялись, обменявшись приветствиями и поговорив о том о сем; затем всадник справился у Алидора, куда тот путь держит.
— А вы, мой господин? — в свою очередь осведомился Алидор. — Не будете ли так любезны сказать мне, куда направляетесь?
— Я конюший Лесного короля, он меня послал за лошадьми недалеко отсюда.
— Так, стало быть, король ваш дикий? — продолжил принц. — Ведь вы называете его Лесным, — вот мне и думается, что он всю жизнь проводит в лесу.
— Его предки, — ответил путник, — и вправду жили лесной жизнью; он же — дело иное: у него пышный королевский двор. Его супруга известна как милейшая на свете королева, а единственная дочь, принцесса Ливоретта, так хороша собой, что очаровывает каждого, кто ни взглянет. Правда, она еще так молода, что не придает такому вниманию к своей персоне особого значения; и все же везде ее окружают благоговейным вниманием.
— Ваш рассказ меня, признаться, взволновал, — ответил принц, — и вызвал непреодолимое желание быть представленным ко двору, чтобы ее увидеть. Но благосклонно ли принимают там чужеземцев? Льстить себя надеждами мне не приходится — я понимаю, что природа сотворила меня уродцем, но взамен я наделен добрым сердцем.
— Довольно редкостная вещь, — ответил всадник, — и полагаю, ваш добрый нрав намного превосходит то, что видимо глазам. При дворе у нас умеют разглядеть истинную ценность любых явлений. А посему ступайте туда смелее, — уверен я, вас примут благосклонно.
И он указал ему дорогу к Лесному королевству. Будучи весьма учтивым и чувствуя в натуре принца особое благородство, которое не скрыть никакому внешнему безобразию, он посоветовал сначала заручиться поддержкой его друзей, дабы быть представленным королю и королеве по всем правилам придворного этикета.
Такое предупредительное обхождение всадника глубоко тронуло принца. Он с радостью предвкушал знакомство со страной, где в чести благородство и вежество. А поскольку ему хотелось жить в безвестности, затерявшись среди людей, то он и решил направиться именно в это королевство, посчитав, что выбор за него уже сделала Судьба. Расставшись с королевским конюшим, он продолжил свой путь с мечтой о Ливоретте, на которую было ему так любопытно взглянуть.
Когда он наконец дошел до дворца Лесного короля, его сперва гостеприимно встретили друзья всадника; они накормили и напоили его. Затем радушный прием оказал ему и сам король. Принц радовался, что покинул родное королевство; здесь же, хотя Алидора никто не знал, но, к его большому удовольствию, он не испытывал недостатка во внимании и почтении. Правда, у королевы его ожидало совсем другое. Стоило ему лишь переступить порог, как со всех сторон раздался громкий смех. Одна из дам даже поспешила прикрыть глаза рукой, чтобы не видеть его, другая предпочла выбежать; но главное — столь неприглядному примеру последовала и юная Ливоретта, без стеснения показавшая принцу все, что она думает об его уродстве.
Принцессу, позволявшую себе столь открыто насмехаться над изъянами гостя, он счел невоспитанной и втайне пожалел ее. «Увы! — подумал он. — Вот так и меня баловали в отцовском доме. Надо признать, что принцы глубоко несчастны оттого, что все кругом готовы угодливо терпеть их пороки. Да! Вот он, яд той лести, которую мы изо дня в день пьем большими глотками. Взять, например, красавицу принцессу, — разве не стыдно ей смеяться надо мной? Я прибыл издалёка, чтоб засвидетельствовать ей свое почтение и защищать ее двор. А ведь могу уйти и затем повсюду рассказывать и о ее достоинствах, и о недостатках. Ведь я родом не отсюда, и сдержать мой язык способна лишь ее вежливость. Она же, едва меня увидев, оскорбительно смеется мне в лицо. Но — увы! — продолжал он про себя, вновь и вновь любуясь ею, — что ей мои злые речи! Отродясь не видал я зрелища прекраснее. Я восхищен ее красотой, преклоняюсь перед ней, и чувство это овладело мною навсегда».
Пока принц так размышлял, королева в знак расположения любезно подозвала его к себе, желая немного отвлечь от мрачных мыслей. Она благосклонно осведомилась о его родном королевстве, его имени и приключениях, произошедших с ним по дороге. Он же на все отвечал умно и учтиво, предугадывая ее вопросы, и королева, которой пришелся по нраву его характер, заверила, что он может в любое время прийти к ней засвидетельствовать почтение, и его всегда примут с превеликим удовольствием. Затем она спросила, доводилось ли ему когда-либо играть в карты, и пригласила его на партию в бассет[387].
Желая произвести хорошее впечатление, он почел за честь составить королеве компанию. У него водились деньги и драгоценности, а особое благородство поступков выгодно выделяло его среди других; потому он, скрывавший свое происхождение и почти незнакомый большинству придворных, все же получил самую лестную оценку. Только принцесса по-прежнему не могла выносить его присутствия: она беззастенчиво хохотала ему в лицо, корчила рожицы и кривлялась, дразнясь точно избалованный ребенок. От любой из дам он бы преспокойно снес подобные шалости, но совсем другое дело было терпеть насмешки от нее — ведь их-то принц принимал весьма близко к сердцу и, лишь только освоившись и посмев подойти к ней, не преминул осторожно упрекнуть ее.
— Не совестно ли вам так насмехаться надо мною, — начал он, — потому лишь, что те же боги, что сотворили вас прекраснейшим существом в мире, сделали меня безобразнейшим?
— Вы правы, Алидор, — ответила она, — и все же именно вы — самое несовершенное творение богов. — Сказав так, она пристально посмотрела на него, а затем расхохоталась до колик.
А принц, подолгу любовавшийся ею, медленно пил яд любви, приготовленный для него Амуром. «Одна лишь смерть спасет меня, — подумал он. — Надежды на взаимность нет никакой, а я не смогу жить, не обладая прелестями Ливоретты». И он так сильно погрустнел, так побледнел, что все прониклись к нему жалостью. Королева тоже заметала, что ему перестало везти в карты. Она спросила, что с ним, но ничего не добилась, кроме жалоб на необъяснимое томление, странную меланхолию, вызванную, быть может, переменой жилья. Быть может, ему следовало бы почаще выезжать на природу и дышать свежим воздухом. На самом же деле он не мог больше спокойно смотреть на принцессу, понимая всю безнадежность своего положения. Ему казалось, что он излечится от этого чувства, если не будет ее видеть. Но страсть преследовала его повсюду, не отпуская ни на минуту. Он же искал уединенные места и часами предавался несбыточным мечтам.
Королевство располагалось на морском берегу, и принц часто отправлялся ловить рыбу. Однако напрасно он закидывал сети или сидел с удочкой — не было ему удачи и здесь. А Ливоретта, тут как тут, каждый вечер поджидала у своего окна, когда он пойдет с рыбалки, и кричала ему с озорным блеском в глазах:
— Ну что, Алидор, принесли вы мне вкусной рыбки на ужин?
— Нет, сударыня, — отвечал тот, склонившись в почтительном поклоне и печально проходя мимо. Но красавица принцесса все не унималась:
— Ах, — продолжала она, посмеиваясь, — какой растяпа! Даже камбала не идет к нему на крючок.
Досада от постоянных неудач и язвительных шуточек Ливоретты подстегивала его, и ему не терпелось поймать наконец что-нибудь, заслуживающее ее внимания. Как часто, усевшись один в маленькую шлюпку, он уплывал в море и, закинув рыболовные сети, мечтал об удачной рыбалке и о Ливоретте. «Неужели и здесь меня поджидают лишь новые страдания? — думал он. — Почему же я так несчастен? Ведь рыбная ловля — всего лишь забава; я очень хотел бы дать принцессе отведать моей рыбы; но Судьба так несправедлива ко мне, что отказывает даже в этой малой радости».
Всецело поглощенный своим горем, он не заметил, как течение унесло его слишком далеко от берега. Он решительно закинул сети в море и тут же почувствовал, что они полны, как никогда. Тогда он поспешил их вытащить, боясь, как бы они не разорвались под тяжестью улова. Как только все сети оказались в лодке, принц стал с любопытством разглядывать барахтавшуюся в них рыбу и был немало удивлен, обнаружив прекрасного дельфина. Он извлек его из сетей, обрадованный столь крупной удачей. Дельфин же изо всех сил рвался на волю, яростно бил хвостом, вырываясь из рук рыбака, и притворялся мертвым, стараясь обмануть принца, но из этого ничего не вышло.
— Мой бедный дельфин, — сказал ему Алидор, — напрасны твои старания; не пытайся уйти от меня — ведь тебе выпала большая честь: украсить трапезу принцессы.
— То, что вы задумали, меня погубит, — ответил тот.
— Как! Ты умеешь говорить! — воскликнул ошеломленный принц. — Боги праведные, вот чудеса!
— Прошу вас, будьте так великодушны, отпустите меня на волю, — сказал Дельфин, — во мне вы найдете верного слугу, и не придется вам в этом раскаиваться.
— А что подадут на ужин принцессе? — спросил принц. — Разве ты не знаешь, до чего у нее язвительный нрав? Она зовет меня растяпой, дурачком, и еще всякое такое, от чего и жизнь становится не мила… Я вынужден пожертвовать тобой, чтоб спасти свою репутацию.
— От принца мне странно слышать такие речи, — отвечал Дельфин, — раз не сопутствует вам удача в море, так уж вы, значит, и честь свою запятнали? Молю вас, пощадите меня, отправьте вашего покорного слугу Дельфина обратно в море. Великие благодеяния не остаются без награды.
— Плыви же с миром, — промолвил принц, бросая его в море. — Мне ничего не надо от тебя, раз ты, как видно, очень хочешь жить. А Ливоретта, — что ж, она охотно добавит новых оскорблений к тому, что говорила. Да уж теперь все равно! Ты такой удивительный, что мне хочется сделать тебе добро.
Дельфин тут же скрылся в морской пучине, а вместе с ним улетучилась надежда принца на хороший улов. Он сел на дно лодки, вынул из воды весла, сложил их у ног, скрестил руки на груди и погрузился в глубокую задумчивость, как вдруг прямо из пенных морских волн послышался чарующий голос.
— Алидор, принц Алидор, — говорил он, — взгляните на меня, я ваш друг.
Принц посмотрел на воду и увидел Дельфина, который грациозно плыл рядом с лодкой, весело подпрыгивая на волнах.
— Настал и мой черед, — промолвил он. — Не прошло и четверти часа, как вы оказали мне неоценимую услугу; просите же теперь что хотите и вы поймете, на что я способен.
— Прошу совсем немного за добрые дела, — ответил принц, — чтобы мне попалась сейчас же лучшая рыба на свете.
Только он вытащил сети, как в лодку посыпались жирные лососи, камбалы, тюрбо, устрицы, мидии и все, чем богато море, да в таком изобилии, что Алидор испугался, как бы переполненная лодка не пошла ко дну.
— Довольно, — воскликнул он, — довольно, мой дорогой Дельфин! Мне совестно, что вы так постарались для меня, да как бы такое изобилие не утянуло меня прямо на дно. Спасите же меня, — сами видите, что дело серьезное.
Дельфин подтолкнул лодку к берегу, и принц доплыл до него со своим уловом. Даже четырех повозок, запряженных мулами, не хватило бы, чтобы вывезти всю рыбу, и тогда он решил выбрать только самую крупную. Присев у лодки, он опять услышал голос Дельфина.
— Алидор, — произнес тот, высунув из воды свою большую голову, — довольны ль вы усердием, с коим я послужил вам?
— Вполне, — ответил принц.
— О, поверьте, — продолжал Дельфин, — я тоже оценил сделанное вами добро — ведь вы сохранили мне жизнь. Я вновь приплыл сказать вам, чтоб вы располагали мною всякий раз, как будет в том нужда. Я одарен волшебной силой; доверьтесь мне — и обещаю, что вы еще испытаете ее на себе.
— Увы! — печально промолвил принц. — Чего мне желать от жизни? Я люблю принцессу, а она меня и на дух не выносит.
— Хотите ее забыть? — спросил Дельфин.
— О нет, — ответил Алидор, — как можно? Лучше сделайте как-нибудь, чтобы я ей нравился, ибо иначе не жить мне на белом свете.
— Готовы ли вы обещать мне, что сохраните верность Ливоретте? — спросил Дельфин.
— О да, — воскликнул принц, — ведь я поклялся быть верным своей любви и всячески отличиться, дабы заслужить любовь ответную.
— Вам надлежит прибегнуть к уловке, — сказал Дельфин, — ведь она находит вас слишком некрасивым, а характер ваш ей не знаком.
— Я согласен немного схитрить, — ответил принц, — хотя и сознаю, что ей никогда не стать моею.
— Время ее образумит, — произнес Дельфин, — вас же я превращу в канарейку, но так, что при желании вы сможете из птицы вновь становиться человеком.
— Поступайте, как вам заблагорассудится, мой дорогой Дельфин, — промолвил Алидор.
— Тогда велю вам стать канарейкой! — торжественно сказала Волшебная Рыба.
Тотчас принц покрылся перьями, с удивлением обнаружив, что у него птичий клюв и тоненькие лапки. Зато теперь он издавал сладостные звуки, песнями очаровывая слух, и даже понравился сам себе. Затем он пожелал вновь стать Алидором — и тут же превратился в того же, кем был прежде.
Радости его не было конца; ему не терпелось поскорее оказаться около красавицы принцессы. Он позвал слуг, всегда готовых прийти ему на помощь, и, взвалив им на спины всю выловленную рыбу, вместе с ними направился в город. Ливоретта уже ждала на балконе; она прокричала, как обычно:
— Ну что, Алидор, на этот раз удача сопутствовала вам?
— Да, сударыня! — ответил он, указывая на большие корзины, полные отборной рыбы.
— Ах! — воскликнула она, как обиженное дитя. — Да, хорош улов, — но как же мне теперь потешаться над вами?..
— Вам еще представится возможность посмеяться надо мной, стоит только захотеть, — спокойно ответил ей принц и, проходя дальше, велел всю рыбу отнести к ней в покои. Затем он превратился в канарейку и сел к ней на окошко. Заметив птичку, принцесса тихонечко подошла и протянула к ней руки, чтобы осторожно взять, но та улетела и принялась порхать поблизости.
— Лечу я из краев далеких, — защебетала птичка, — коих уже достигла весть о вашей красоте, но все же, милая принцесса, не для того я одолела такой долгий путь, чтобы со мною обходились как с простой певчей птичкой, а посему хочу заручиться вашим обещаньем, что вы не будете держать меня в неволе, что я смогу летать повсюду где вздумается и не будет у меня иного плена, кроме разве что плена ваших дивных глаз.
— Ах, прелестное создание! — воскликнула принцесса. — Я согласна на все твои условия, ибо никогда ничего прекраснее тебя не видела: говоришь ты получше попугаев, а твой сладкий голосок чарует слух. Я так тебя люблю, что умираю от желания коснуться твоих перышек.
Кенар подлетел к ней и сел сначала на голову, затем перепорхнул на пальчик и запел; нет, то был не простой щебет — он пел настоящую песню со словами, да еще так чисто и безупречно, словно искусный музыкант:
Я шаловлив, я все порхаю,
Но счастлив к вам лететь, лишь позови.
Я лучшей клетки не желаю,
Чем путы нежные любви.
И цепи эти обещаю
Я с наслаждением носить
И их богатствам всем предпочитаю,
Какие только могут в мире быть.
— Что за дивный подарок преподнесла мне Судьба, — улыбнулась она своим служанкам и побежала в покои королевы — показать ей своего ненаглядного Кенара. Ее Величество, увидев птицу, захотела услышать ее речь, однако та говорила только для принцессы, а для других и клюва не раскрывала.
Настала ночь. Ливоретта вместе со своим прекрасным Кенаром, которого она нарекла Биби, удалилась в свои покои и приступила к вечернему туалету. Кенар сел на ее зеркальце, потихоньку поклевывая ее то за мочку уха, то за белую ручку. Ее же оттого переполняло счастье. Алидор, к которому до сего дня никто не относился с подобной нежностью, также испытывал высшее блаженство и даже был готов навсегда остаться в обличье кенара Биби. Но каково же было его разочарование, когда на ночь его отнесли в комнату, где спали все зверушки Ливоретты, все ее собачки, обезьянки и попугаи.
— Как! — воскликнул он дрогнувшим голосом. — Я для вас так мало значу, что вы меня бросаете?
— Будь ты мне безразличен, — ответила принцесса, — разве оставила бы я тебя с моими любимейшими существами, дорогой Биби? — С этими словами она вышла, и принцу ничего не оставалось, как просидеть всю ночь на зеркале. Однако едва рассвело, он полетел к морю.
— Дельфин, — стал он звать своего друга, — эй, дорогой Дельфин, я должен тебе кое-что сказать, не откажи, выслушай меня.
Услужливая Рыба тотчас показалась из морских волн, во всю прыть спеша на помощь принцу. Биби подлетел и аккуратно уселся ей на голову.
— Мне все известно, — сказал Дельфин. — Позвольте заявить, что вход в покои Ливоретты вам запрещен до той поры, пока она не станет вашей женою и пока король и королева не благословят вас, и лишь потом я буду считать вас ее супругом.
Принц так почтительно относился к Рыбе, что не посмел настаивать. Он покорно поблагодарил друга за прекрасную возможность превращаться в птичку, выразив надежду на скорые встречи с ним.
Потом все тем же пернатым воздыхателем Алидор вернулся во дворец. Принцесса, еще в домашнем платье, сбилась с ног, ища его повсюду и горько плача.
— Ах, маленький изменник! — причитала она. — Взял и улетел от меня, — а не я ли приняла тебя со всей душой? Не я ли одаривала тебя нежностями? Не я ль кормила тебя печеньями, конфетами и сладостями?
— Да, да, моя принцесса, — ответил Кенар, услышавший ее жалобы через замочную скважину, — вы доказали свое расположение ко мне, удостоив внимания, но не забыв при этом больно уязвить равнодушием. Думаете, я смогу жить рядом с каким-то презренным котом? Да он бы с радостью съел меня, если б не моя бдительность. Пришлось мне всю ночь бодрствовать, не смыкая глаз, чтобы уберечь себя от его вездесущей и проворной лапы.
Ливоретта, тронутая его рассказом, нежно подставила ему ладонь.
— Иди же сюда, мой славный Биби, — позвала она, — давай мириться.
— Я так этого не оставлю, — ответил он ей, — пусть нас рассудят король с королевой.
— Ну, хорошо, — согласилась принцесса, — я тебя к ним отнесу.
Король с королевой еще не вставали с постели, обсуждая выгодный брак для своей дочери.
— Что вас привело к нам в такую рань, дорогое дитя? — спросила королева.
— Любимый мой певец хочет вам что-то сказать, — ответила принцесса, крепко обнимая мать.
— Что это вдруг на него нашло, — засмеялся король. — Да сможем ли мы разговаривать с ним всерьез?
— Конечно, Ваше Величество, — отозвался Кенар, — не стал бы я иначе со всей торжественностью появляться при дворе. Прослышав о красоте и прелестях юной принцессы, я прилетел на крыльях страсти, чтобы просить у вас ее руки. Я весь пред вами; что же до моего удела, то это небольшая роща, растут там апельсины, жимолость и мирт, и слывет он одним из самых райских уголков Канарских островов. Придворные мои, того же племени, что и я, приносят в клювах дань: всевозможных червей и мушек. Среди такого изобилия принцесса не будет знать нужды. Поминутно будет она слышать птичьи концерты, ведь я прихожусь родственником соловьям, которые возьмутся окружить ее неусыпной заботой. Мы останемся у вас при дворе, если вам так больше нравится. Я, Ваше Величество, довольствуюсь малым: всего-то горсть проса, сурепка да свежая водица. Как только повелите, мы улетаем в свои пенаты, и дальность расстояния не станет нам преградой. Крылатые посланцы моих лесов помогут нашим семьям наладить сообщение и посылать друг другу весточки, как только будет в том нужда. Скажу не хвалясь — вы будете довольны, заполучив меня в зятья.
Сказав так, он пропел несколько мелодий и завершил их наиприятнейшим щебетанием. Король с королевой смеялись до упаду.
— Ну как же можно отказать тебе, — сказали они. — Конечно, милый Кенар, мы вверяем ее тебе, если только она сама согласится.
— Ах, от всего сердца, — ответила она, — я буду счастлива выйти замуж за прекрасного Биби.
Тот же, услышав эти слова, вырвал из своего крыла самое красивое перышко и преподнес его принцессе в качестве свадебного подарка. Ливоретта кокетливо приняла перо из его лапок и украсила им свои чудесные локоны.
Вернувшись в покои, она сказала фрейлинам, что хочет сообщить очень важную новость: король с королевой выдали ее замуж за наследного принца. Обрадованные такими словами, дамы принялись обнимать ее колени и целовать руки, наперебой расспрашивая, кто же этот счастливчик, которому выпала честь получить в жены самую красивую принцессу на свете.
— Вот он, — сказала Ливоретта, извлекая из рукава маленького Кенара. Фрейлины от всей души рассмеялись, не преминув отпустить несколько шуток насчет абсолютной невинности своей прекрасной госпожи.
Затем принцесса поспешила переодеться, чтобы снова вернуться в покои королевы. Той, самозабвенно любившей дочь, было трудно расстаться с ней даже ненадолго. Кенар же тем временем упорхнул и превратился в Алидора, а затем появился при дворе.
— Приблизьтесь же к моей дочери, — повелела ему королева, едва успев его заметить, — и поздравьте ее: она намеревается связать свою судьбу с Биби. Вы не находите, что мы нашли ей превосходную партию?
Алидор подхватил шутку, и поскольку никогда еще в жизни он не бывал так весел, то наговорил королеве множество приятных вещей, чем весьма ее развлек. А Ливоретта по-прежнему язвительно посмеивалась над ним. Не совладать бы ему тут со своей печалью — да уж был он уверен, что все для него сделает друг-Рыба.
Когда принцесса собралась спать, она по-прежнему хотела отнести кенара в комнату для животных. Но он принялся жалобно щебетать, и, порхая над ее головой, незаметно пролетел в спальню, а там уселся на очень хрупкую фарфоровую вазу, и прогнать его оттуда было решительно невозможно — ведь ваза могла разбиться.
— Ну, Биби, попробуй мне запой ранним утром, — строго сказала Ливоретта, — я не прощу тебе, если ты меня разбудишь!
Он заверил ее, что запоет лишь после ее разрешения, и на том и порешили. Едва голова принцессы коснулась подушки, как ее одолел глубокий сон — это были чары Дельфина; она даже немного всхрапывала, как поросенок, что совсем не пристало таким юным девицам. А Биби и не думал храпеть, куда уж там, он даже глаз не сомкнул. Слетев с вазы, Алидор тихонько прилег рядышком со своей очаровательной супругой, да так осторожно, что она ничего не почувствовала. Едва забрезжил рассвет, как он снова превратился в кенара, полетел к морю и там, приняв человечий облик, присел на небольшой камень, поросший благоухающими морскими водорослями. Долго он всматривался в морскую даль, в душе взывая к милому Дельфину; однако тот не спешил откликаться, и принц вдруг не без приятности подумал о неожиданном даре судьбы: «О феи, чье всемогущество прославлено в веках, это ваша заслуга, что я безмерно счастлив!» И эта мысль навеяла ему следующие стихи:
Мой друг, Дельфин любезный, мне помог,
И я плодов любви отведать смог,
И вот надежды луч мне сердце согревает,
От счастья я парить готов.
Но душу черное предчувствие терзает —
Теперь страшусь я зависти богов.
Он мечтательно шептал эти строфы, как вдруг камень неистово закачался, затем приподнялся, и из черных недр земли вышла старая хромая карлица, опирающаяся на костыль. Это была фея Угрюмья, злюка не лучше Ворчуньи[388].
— Поистине, каким надо быть бесцеремонным, чтобы усесться на мой камень, принц Алидор! — воскликнула она. — Даже не знаю, что мешает мне тотчас же сбросить тебя с обрыва в море, дабы ты уразумел, что если даже феи и не смогут сделать тебя еще счастливей, чем ты есть, то уж обрушить град страшных несчастий на твою голову им вполне по силам.
— Сударыня, — ответил ей немало удивленный принц, — я знать не знал, что вы живете в камне, а то бы непременно проявил уважение к вашему дворцу.
— Напрасно ты теперь рассыпаешься в извинениях, — продолжала она. — На вид уродлив, а в душе самонадеян, — ты заслужил муки, и я желаю насладиться тем, как ты будешь страдать.
— Увы! Так в чем моя вина? — воскликнул он.
— Не знаю, да и знать не хочу, — ответила старуха, — но буду помыкать тобой, как если бы знала.
— Как же сильна ваша ненависть ко мне! — сказал он. — И, если бы не тайная надежда на покровительство небес, я постарался бы предотвратить все беды, что вы сулите мне, навеки покинув белый свет.
Угрюмья, что-то злобно проворчав, вошла обратно под камень, и вход закрылся.
А опечаленный принц так и стоял, не смея больше сесть на камень. Ему вовсе не хотелось иметь дело с этой зловещей карлицей.
— Чувство переполняло меня, я возомнил себя слишком счастливым, и вот мне в наказание послана эта крохотная фурия. Что она сделает со мной? Ах! Верно, гнев ее будет направлен не на меня, а на красавицу, которую я люблю. Дельфин, Дельфин, умоляю, приди и утешь меня.
Только он так сказал, как Дельфин показался из прибрежных волн.
— Что вы желаете, друг мой? — спросил он.
— Я пришел поблагодарить тебя за то добро, что ты мне сделал, — ответил Алидор. — Ведь я женился на Ливоретте и поспешил сюда, чтобы поделиться с тобою счастьем, но фея…
— Я все знаю, — перебил его Дельфин. — Это жестокая Угрюмья, всем известная беспримерным коварством и капризным нравом. Если кто-то счастлив и доволен, в ней беспричинно вспыхивает злобная досада. Хуже, однако, то, что ей дана большая власть и над людьми, и надо мной, и она намерена чинить препятствия моим благим делам.
— Вот странная Угрюмья, — ответил Алидор, — чем я вызвал ее неудовольствие?
— Как! Вы же человек, — воскликнул Дельфин, — так вам ли удивляться несправедливости, царящей среди людей? Да ведь у вас этого и в мыслях нет; а вот будь вы рыбой — тогда другое дело. Мы-то в нашей соленой империи не столь беспристрастны, и сил уже нет смотреть, как жирные рыбы пожирают маленьких рыбешек — ведь даже ничтожной селедке в морских глубинах подобают те же самые гражданские права, что и огромному киту.
— Перебью тебя, — ответил принц, — но только, чтоб спросить: могу ли я признаться Ливоретте в том, что я ее супруг?
— Наслаждайся настоящим, — сказал Дельфин, — и пока что не спрашивай о будущем.
С этими словами он ушел под воду, а принц стал кенаром и полетел к своей милой принцессе, которая уже повсюду его искала.
— Ах, негодник! — воскликнула она, как только заметала его. — Долго ты еще будешь изводить меня своими причудами? Я боюсь тебя потерять, ибо, если так случится, умру от огорчения.
— О нет, моя Ливоретта, — возразил он, — я останусь при вас навсегда.
— Кто может поручиться, — продолжила она, — что ты не попадешь в коварные ловушки или не угодишь в чьи-нибудь сета? А если это будут сета, расставленные для тебя прекрасной любовницей?
— Ах, право, обидно мне слышать подобное! Вижу, что вы совсем меня не знаете.
— Прости, Биби, — улыбнулась она, — просто я слышала, что верностью жене не принято хвалиться, и с тех пор, как ты стал мне мужем, страшусь перемены твоих чувств.
Кенар находил удовольствие в таких разговорах, доказывавших ему, что принцесса и впрямь влюблена в него. Но любила она его лишь в образе птички, и это ранило принца в самое сердце.
— Я обманул ее, — пожаловался он Дельфину, — позволительно ли такое? Я знаю, что противен принцессе, что облик мой безобразен, и все мои изъяны перед ней как на ладони. Куда уж мне надеяться, что она захочет такого мужа, — но волей-неволей именно я им и стал. Настанет день, когда она узнает правду, — и как мне тогда избежать ее горьких упреков? Как объяснить обман? А если я впаду в немилость, то умру с горя.
Но Рыба возразила:
— Влюбленные не говорят так, как ты; если б они все размышляли подобно тебе, то не видал бы свет ни похищенных любовниц, ни ревнивых красавиц. Лови мгновенье, ибо вскоре для тебя наступят иные времена, пожалуй, похуже нынешних.
Тут принц Алидор совсем огорчился: понял он, как досадил фее Угрюмье тем, что сел на камень и потревожил ее покой, и взмолился, чтобы Дельфин, как и прежде, не отказывал ему в добрых услугах.
А во дворце только и говорили о том, как бы выдать принцессу замуж за молодого и красивого принца, чьи богатые владения простирались неподалеку от королевства. Оттуда прибыли послы просить ее руки. Король принял их со всеми почестями, но эта новость глубоко встревожила Алидора. Он поскорей помчался на берег моря, где встретился с Рыбой и поведал ей о своих опасениях:
— Вот видишь, в каком безвыходном положении я теперь оказался. Мне придется либо уступить Ливоретту другому и навсегда утратить ее, либо открыться ей и, быть может, потерять на всю оставшуюся жизнь.
— Я не могу препятствовать Угрюмье в ее коварствах, — сказал Дельфин. — Я опечален не меньше вашего и сострадаю вашим мукам. Мужайтесь! Пока что не могу вам сказать ничего больше, но все ж не забывайте иногда рассчитывать на мое доброе участие.
Принц поблагодарил его от всей души и вернулся к своей принцессе.
А она тем временем сидела в окружении фрейлин и жаловалась на тошноту. Одна из дам поддерживала ее голову, другая держала за руку. Принц, еще не превратившийся в кенара, не посмел подойти к ней, как ни обеспокоило его плохое самочувствие Ливоретты. Она же, едва заметив его, сразу улыбнулась, забыв о недомогании.
— Алидор, — обратилась она к нему, — боюсь, я умру, а это весьма досадно теперь, когда приехали послы. Ведь я слышала столько лестных слов о принце, попросившем моей руки.
— Как, сударыня! — воскликнул Алидор с принужденной улыбкою. — Разве вы забыли, что уже выбрали мужа?
— Вы говорите о Кенаре? — ответила она. — О, я знаю, что он не будет на меня в обиде — этот брак не повлияет на те нежные чувства, что я к нему питаю.
— Сомнительно, однако, чтобы он смирился с необходимостью делить вас с кем-нибудь еще.
— Ничего, — отвечала она, — ведь я мечтаю быть владычицей большого королевства.
— Но ваша птичка вам, сударыня, уже подарила королевство, — возразил Алидор.
— Поистине прелестная империя, — расхохоталась принцесса, — крохотный кусочек леса с жасминовой полянкой: это подарок разве что для пчелки или коноплянки; ну а я-то совсем другое дело.
Фрейлины принцессы, испугавшись, как бы сей длинный разговор не утомил ее, попросили Алидора удалиться. Они уложили Ливоретту в постель, и Биби тотчас прилетел прощебетать ей песенку, полную упреков в неверности. Так как недомогание было легким, она нашла в себе силы пойти к королеве. Но с этого дня тошнота стала преследовать ее: принцесса быстро утомлялась, стала вялой и худой, вид еды вызывал у нее отвращение. Уже прошло несколько месяцев, но никто так и не знал, что с ней делать. Еще больше огорчала весь двор настойчивость послов, торопивших со свадьбой. Наконец королеве нашли искусного врача, который мог бы исцелить ее дочь. За ним отправили карету, строго-настрого запретив что-либо рассказывать ему о ее знатности, дабы он не стеснялся говорить правду. Когда прибывшего врача повели к принцессе, королева решила спрятаться прямо в ее спальне, желая обо всем услышать собственными ушами. Доктор же едва приступил к осмотру, как на его лице уже засветилась довольная улыбка.
— Поверить не могу, — сказал он, — как это ваши придворные врачи не распознали недомогание этой молодой особы! Скоро она подарит своей семье очаровательного мальчика.
Тут фрейлины, не желая даже дослушать, грубо вытолкали его вон, выкрикивая вслед оскорбления.
Биби, сидевший в комнате Ливоретты, в отличие от возмущенных дам, понимал, что сельский врач отнюдь не невежда в медицине. Ему самому не раз приходила в голову мысль о беременности принцессы. Он пошел к морю, чтобы посоветоваться со своим другом Дельфином, который с ним согласился.
— Скройтесь на время, — сказал он, — ибо, боюсь я, застанут вас как-нибудь вместе, когда она приляжет отдохнуть, и оба вы погибнете.
— Ах! — печально воскликнул принц. — Ты думаешь, что я смогу так запросто расстаться с самым дорогим мне существом? Жизнь моя станет невыносимой! Или дозволь видеть Ливоретту, или дай мне умереть.
Дельфин, растрогавшись, даже пролил скупую слезу, хотя известно, что дельфины не умеют плакать; он утешал своего друга как только мог. Во всех бедах винили Угрюмью.
Королева рассказала супругу о том, что сообщил доктор. Ливоретту позвали и подробно расспросили — она же обо всем рассказала с обычными для нее искренностью и невинностью. Ничего неожиданного не оказалось и в рассказах придворных дам. Это успокоило было Их Величества, пока в один прекрасный день принцесса не родила крохотное существо невиданной красоты. Что тут началось, не выразить словами: удивление и гнев короля смешались с горем королевы, отчаянием принцессы, тревогой Алидора, не говоря уж о крайнем изумлении послов и всего двора. Откуда это дитя? Кто его отец? Ответа ни у кого не было. Ведь и сама Ливоретта смыслила в этом деле не больше, чем ребенок. Но королю было не до шуток: он не верил ни слезам, ни клятвам и порешил сбросить дочь вместе с ее сынком в пропасть, чтоб разбились они об острые камни. Когда он сказал об этом королеве, та пришла в такое неописуемое отчаяние, что, без сознания, мертвенно бледная, упала к его ногам. Увидев супругу в обмороке, король немного смягчился и, когда она пришла в себя, попытался ее утешить. Королева, однако же, потребовала отменить смертный приговор, а в противном случае не видать ей больше в жизни ни радости, ни здоровья. Тут она, зарыдав в голос, кинулась ему в ноги, умоляя убить ее вместо Ливоретты с сыночком, которого она нарочно велела принести, чтобы разжалобить короля видом невинного создания.
Мольбы королевы и плач ребенка вызвали в нем сострадание; он в изнеможении опустился в кресло и, подперев лоб рукой, погрузился в тяжкие раздумья. После долгого молчания он сказал королеве, что милость может проявить лишь в одном — он отложит казнь, ибо только кровью можно смыть такое позорное пятно на репутации двора. Королева, рассудив, что получить отсрочку смертного приговора для дорогой дочери и внука уже означает добиться многого, без возражений согласилась на то, чтобы принцессу заточили в темницу, где той больше никогда не увидеть солнца. Вот в каком унылом месте оплакивала теперь Ливоретта несчастную судьбу свою. Если что-то и могло облегчить страдания принцессы, так это ее абсолютная невинность. Она ни разу не видела свое дитя и не знала, что с ним стало.
— Святые небеса! — восклицала она. — В чем грех мой? За что мне эти тяжкие беды?
У Алидора, подавленного горем, больше не было сил. Разум его помутился, и он превратился в совершенного безумца. Бродя по лесам неприкаянным бродягой, крича и сетуя на судьбу, он разбрасывал по дорогам деньги и драгоценные каменья. От долгих скитаний одежда его превратилась в лохмотья, волосы спутались, а выросшая предлинная борода лишь подчеркивала его природное уродство. Нестерпимо было смотреть на это, и жалкая судьба его, несомненно, привлекла бы всеобщее внимание, не будь оно отвлечено заточением принцессы. Послы, приехавшие просить ее руки, не стали ждать, пока их выдворят, и спешно покинули королевство — до того им было стыдно оставаться во дворце. Король без особого сожаления отпустил их. Дельфин уплыл далеко в море, больше не показываясь из морских волн, и теперь Угрюмья могла вволю злодействовать против принца и принцессы.
Маленький принц тем временем расцветал с каждым днем, но король будто не замечал этого: ведь он сохранил ему жизнь лишь для того, чтобы узнать, кто же был его отцом. Королева ничего не знала о том, что замыслил ее супруг. Тот же вдруг издал указ, повелевавший всем придворным преподнести внуку подарок, способный его обрадовать. Все до одного тотчас явились во дворец, и вот король с королевой вышли в парадный зал к огромной толпе своих подданных. За ними шла нянька, неся на руках прелестное дитя в золотых и парчовых одеждах.
Все по очереди подходили к малютке поцеловать ручку и преподнести дары: кто — розу из драгоценных камней, кто — искусственные фрукты, и золотого льва, и волка из агата, и лошадку из слоновой кости; тот — спаниеля, этот — попугая, а иной — бабочку. Но ребенка ничто не радовало.
Король, притворяясь равнодушным, краем глаза внимательно наблюдал за происходящим. Он заметил, что ребенок не притронулся ни к одному подарку. Тогда он велел еще раз объявить во всеуслышание, что любой, кто не явится немедленно ко двору, будет наказан по закону как преступник. Теперь подданные с удвоенной силой старались услужить монарху. А в это время королевский конюший, тот самый, что встретился когда-то Алидору на пути и посоветовал ему остановиться в этом королевстве, нашел обезумевшего скитальца ночующим на дне пещеры и сказал ему:
— Как, Алидор! Вы здесь? Должно быть, вы единственный, кто не принес подарка маленькому принцу. Что, не слышали королевского указа? Или вы хотите, чтобы король казнил вас?
— О да, я этого хочу, — растерянно отозвался бедный принц. — Зачем ты нарушил мой покой?
— Не гневайтесь, — добавил конюший, — я хочу привести вас во дворец.
— О! Ну, я одет как подобает, — молвил Алидор со смехом, — в самый раз, чтоб показаться королевскому заморышу.
— Если дело лишь за этим, — отвечал конюший, — тогда я предоставлю вам на выбор роскошные одежды, в них у меня недостатка нету.
— Так пойдемте же! — воскликнул Алидор. — Давно уж отвык я от придворных пышностей.
Он вышел из пещеры и покорно последовал за королевским конюшим.
Тот, пользовавшийся при дворе репутацией одного из самых блестящих придворных, предложил ему выбрать любое роскошное платье, но Алидор пожелал облачиться в черное и, не поддавшись ни на какие уговоры, отправился ко двору босой, без шейного платка и с непокрытой головою. Лишь у самых врат вдруг вспомнил он, что ничего не принес для маленького принца; но, махнув рукою, поднял валявшуюся на земле булавку, решив, что это и будет его подарок. Алидор шел по залу, прихрамывая, вращая безумными глазами и отвратительно высовывая язык, что лишь подчеркивало его врожденное уродство, смотреть на которое было невыносимо. Нянька, опасаясь, как бы маленький принц не испугался, попыталась уберечь его от сего ужасного зрелища, отвернув малышу лицо и сделав знак Алидору не приближаться. Но тут ребенок заметил его, засмеялся и с такой радостью протянул к нему ручки, что пришлось поднести его совсем близко к безумцу. И тогда малыш бросился к нему на шею, расцеловал, и его не смогли оторвать от принца; Алидор же, несмотря на свое безумие, тоже оказался полон нежности к младенцу.
Король был ошеломлен, однако скрыл свой гнев от присутствующих. Но едва разошлись все придворные, как, не посвящая королеву в свой замысел, он повелел двум доверенным вельможам забрать Ливоретту из темницы, где она томилась уже четыре года, посадить ее вместе с ребенком и Алидором в бочку, дать им полную крынку молока, бутылку вина, ломоть хлеба и бросить их в море.
Вельможи, огорченные столь жестоким приказом, пали ниц, смиренно моля его пощадить и дочь и внука.
— Увы, Ваше Величество! — говорили они королю. — Спроси вы у нас, как ваша дочь страдала в заточении, так уж наверняка не стали бы обрекать бедняжку на смерть, а сочли бы ее грехи уже искупленными. Примите во внимание, что она — единственная ваша дочь. Ей сами боги уготовили судьбу наследницы короны, вы же в ответе за ее жизнь перед подданными королевства. Да и малыш подает немалые надежды. Ведь не хотите же вы убить невинного младенца?
— Хочу! — воскликнул король, раздраженный их словами. — И если вы откажетесь исполнить мою волю, я отправлю на неминуемую смерть и всех вас.
Вельможи поняли, что король тверд и им его не переубедить; горькие слезы бессилия потекли по их щекам, и они, понурив головы, покинули королевские покои. Приказав сделать такую огромную бочку, чтоб там поместились принцесса с сыном, Алидор и запасы скудной провизии, они доставили ее в башню, где на соломенной подстилке, закованная в кандалы, лишенная солнечного света, томилась Ливоретта, и почтительно передали ей приказ отца. Рыдания, душившие их, мешали им говорить; впрочем, принцесса и так поняла, что ее ждет, и тоже горько расплакалась.
— Увы мне! — промолвила она. — Боги свидетели моей невинности. Мне лишь шестнадцать лет, и не одной короны могла бы я стать наследницей; а вы хотите меня отдать на волю буйных волн морских как опаснейшую из преступниц. Однако не думайте, будто я принуждаю вас к ослушанию или взываю к вашей жалости, дабы спасти свою жизнь; о нет, уже давно я свыклась с мыслью о смерти, как повелел мне король — отец мой, и готова к самым жестоким страданиям, лишь бы только пощадили ребенка. Его-то грех — в чем он? А невинность — разве она не может послужить защитой от гнева монарха? Как может он обрекать малютку на смерть заодно со мной? Пусть берет мою жизнь. Или мало ему одной жертвы?
Вельможам нечего было ответить — они лишь повторили, что должны выполнить королевский приказ.
— Разбейте же цепи, — прошептала она обреченно, — и я последую за вами.
Тотчас стражники распилили железные кандалы на ее руках и ногах; причиненную ей боль вынесла принцесса с удивительной стойкостью. Вышла она из темницы все такой же прекрасной, точно утреннее солнце, встающее из волн морских; и кто бы ни взглянул на нее, не мог не восхититься и храбростью ее, и неописуемой красотой, которую беды только умножили, спрятав под томной бледностью прекрасного лица жизнерадостный ее нрав.
Алидор с маленьким принцем уже ждали ее на берегу моря, куда их препроводила стража. Они даже не догадывались о том, что им уготовано. Едва увидев сына, принцесса бросилась обнимать его и нежно расцеловала; а узнав, что всему виною Алидор, даже обрадовалась, что вместе с собою увлечет в могилу самого ненавистного ей человека. Алидор же, взглянув на нее, только расхохотался.
— А ты откуда взялась, малышка-принцесса? — посмеивался он. — С тех пор, как ты убежала, много воды утекло: Ливоретты нет во дворце, а я потерял рассудок. Говорят, что нас бросят на дно морское. Ты меня уж тогда разбуди, а то, чего доброго, еще просплю.
Долго бы еще он разглагольствовал, не ступи отчаявшаяся Ливоретта первой в бочку, крепко держа на руках сына. Алидор бросился за ней следом, скача от радости при мысли, что отплывает в королевство, где правят камбалы и тюрбо, и продолжая нести всякую околесицу. Бочку плотно засмолили и сбросили с высокого утеса, нависавшего над морской бездной, проводив протяжными рыданиями и криками отчаяния. Во дворец вельможи возвращались с тяжелым сердцем. Зато Алидор ничуть не тревожился: схватив хлеб и откупорив бутылку вина, он съел его до последней крошки и принялся пить, прерываясь лишь затем, чтобы пропеть веселую песню, словно сидел на пиру.
— Алидор, — взмолилась принцесса, — дай мне, по крайней мере, умереть в покое и не морочь голову неуместным своим весельем.
— Чем так печалиться, милая принцесса, — ответил он, — послушай-ка лучше мою тайну. Где-то далеко-далеко, в глубоком синем море плавает большая рыба по имени Дельфин, и это мой лучший друг: он исполняет многие мои желания. Вот почему я не волнуюсь, Ливоретта. Стоит нам лишь почувствовать жажду или голод, стоит захотеть отдохнуть и прилечь в роскошной спальне — и он примчится на мой зов, чтобы в мгновенье ока построить нам дворец.
— Зови ж его, безумец! — вскричала принцесса. — Ведь промедление может стоить нам жизни. Или ты ждешь, когда я проголодаюсь, — но уж этого ждешь понапрасну; слишком изранено мое сердце; но смотри же — мой сын вот-вот умрет, задохнувшись в этой проклятой бочке; так поспеши доказать мне, умоляю, что ты говоришь правду, а не сболтнул пустое в своем безумии.
Алидор тотчас позвал Дельфина:
— Эй! Дельфин, морской друг мой, приди исполнить все, что я велю.
— Я здесь, — тут же ответила Рыба, — приказывай.
— Где ты? — спросил Алидор. — Бочка заделана плотно, и я не могу разглядеть тебя.
— Скажи лишь, что ты от меня хочешь, — произнес Дельфин.
— Хотел бы я услышать звуки прелестной музыки, — ответил принц из бочки. Тут неизвестно откуда полилась чарующая мелодия, приятная на слух, с удивительно гармоничными созвучиями.
— О боже! — воскликнула принцесса, теряя терпение. — Да ты смеяться надо мной вздумал, куда как полезна твоя музыка, когда идешь ко дну!
— Да что же еще вам надобно, милая принцесса, — удивился принц, — раз вы не голодны и жажда вас не мучит?
— Дай мне власть над Дельфином, чтоб я смогла приказывать ему, — ответила она.
— Дельфин! Ты слышишь? — крикнул Алидор. — Велю тебе подчиняться приказам Ливоретты и выполнять все то, что будет ей угодно.
— Хорошо, — ответил он, — я все исполню.
И она попросила его перенести их на самый красивый остров на свете, построить там самый роскошный дворец, с дивными садами и двумя быстрыми ручьями — один с вином, другой с водой; под ногами же пышный цветочный ковер, с цветниками и клумбами. А посреди острова — раскидистое дерево: ствол из серебра, ветки из золота, и на них три апельсина, один — чистый бриллиант, второй — рубин, а третий — изумруд. Пусть дворец украшают роспись и позолота, а парадная галерея отображает всю его историю.
— И это все, чего вы хотите? — спросила Рыба.
— Да, я хочу слишком многого, — созналась принцесса.
— Не слишком, — возразил Дельфин, — ведь все это уже давно исполнено.
— Тогда велю тебе еще рассказать мне всю правду, то, чего я не знаю, но ты наверняка должен знать.
— Я понял вас, — молвил в ответ Дельфин, — вы желаете знать, кто отец малютки-принца; так это ваш кенар Биби, а он, в свою очередь, не кто иной, как ваш спутник, принц Алидор.
— Ах, сударь, вы изволите смеяться надо мной!
— Клянусь трезубцем самого Нептуна, сгинуть мне меж Сциллой и Харибдой[389], если я лгу; клянусь таинственными безднами морскими с их ракушками и еще всеми несметными богатствами глубин, тритонами, наядами, а еще отчаявшимся кормчим, что обретает надежду, увидев меня средь волн[390]. И наконец, клянусь вашим добрым именем, очаровательная Ливоретта, что я честен и благороден, а значит, говорю правду.
— Услышав столько клятв, — удивилась она, — я теперь раскаиваюсь в том, что не поверила тебе, хотя, по правде говоря, это одна из самых удивительных историй на свете. Позволь мне еще попросить тебя вернуть Алидору разум, чтоб он опять обрел способность к остроумному суждению, вспомнил науку светских разговоров, стал приятным собеседником. Сделай, чтобы красота, которую он обретет по твоему велению, стократно превысила его прежнее безобразие, и кстати, скажи, почему ты называешь его словом, которое так ласкает мне слух, то есть принцем.
Дельфин исполнил все, что она попросила. Он рассказал Ливоретте историю принца: кто был его отцом, кто — матерью, не забыв поведать и о его предках и родне, — ведь обитатель морей обладал обширными знаниями о прошлом, настоящем и будущем и был великим знатоком генеалогии. Не часто такие рыбы попадаются в сети: здесь требуется вмешательство Фортуны.
Слово за слово — они и не заметили, как бочка коснулась земли. Дельфин чуть-чуть приподнял ее и выбросил на берег, где она тут же развалилась; так принцесса, принц и их дитя вышли на свободу. Алидор бросился в ноги своей дорогой Ливоретте. Он вновь обрел рассудок, который в тысячи раз превосходил его прежний ум, при этом став красивым и статным; черты лица его так преобразились, что она с трудом узнала своего спутника. А он смиренно попросил у нее прощения за свои превращения в кенара Биби. Каялся он с такой страстью и благоговением, что принцесса наконец простила его уловку, — ведь она ни за что не согласилась бы стать его женою, прибегни он к обычному средству добиться ее благосклонности. К тому же Дельфин наделил его беспримерной любезностью, ничуть не свойственной придворным ее отца-короля. К полному удовольствию Ливоретты, принц подтвердил все, что Дельфин рассказал ей о его знатном происхождении. Ибо, чего там говорить, — как ни могущественны феи, а если уж волею Небес появились вы на свет низкородным, то не поможет тут никакое волшебство, а только лишь добродетель и заслуги; да зато и они могут так возвысить над судьбою, что все потом окупится с лихвой и послужит утешением.
Принцесса пребывала в прекраснейшем расположении духа. Еще недавно она подвергалась страшным опасностям, а теперь, счастливо избежав их, безмерно радовалась и благодарила богов. Она все высматривала в море их доброго друга Дельфина — тот еще плавал поблизости, и она горячо его поблагодарила за их спасенные жизни. Принц последовал ее примеру; их сын, небывало сообразительный и уже научившийся говорить, похвалил Дельфина за благородство и обходительность, а тот в ответ сделал несколько грациозных прыжков на волнах, как вдруг послышалось ржанье лошадей и громкие звуки труб, флейт и гобоев. Это торжественно приближался личный экипаж принца и принцессы, в сопровождении пышно одетой стражи. Затем подъехали придворные дамы в каретах. Едва процессия остановилась, как они проворно вышли и почтительно склонились перед принцессой, поцеловав край ее платья. Такой чрезмерной любезности она, впрочем, воспротивилась, ибо знатное происхождение дам, что ни говори, требовало к себе особого уважения.
Они сказали ей, что рыба Дельфин повелела встретить их чету по-королевски и теперь они — владыки этого острова, населенного их верными подданными, и здесь суждено им обрести счастье и полный покой. Алидор с Ливореттой безмерно обрадовались, видя, как любезно их принимают и какие почести оказывают; ответ новоявленной королевской четы был столь же милостив, сколь и учтив. Их посадили в открытую коляску, запряженную восемью крылатыми лошадьми; она то взмывала ввысь под самые облака, то плавно спускалась к земле, да так, что принц с принцессой ничего не замечали — в таком способе передвижения есть своя прелесть: и никаких препятствий по дороге, и на ухабах не трясет.
Коляска еще летела в средней области воздушных путей[391], когда внизу на склоне прибрежного холма показался чудесный дворец. Хотя все стены его были из серебра, взгляд при этом проникал глубоко внутрь, и комнаты просматривались как на ладони — в них они разглядели мебель невиданной красоты, изящную и удобную. А восхитительные сады затмевали своей красотой даже сам дворец. Природа как бы случайно разбросала по этому прелестному уголку бесчисленные источники и ручейки, дарующие райское наслаждение. Принц с супругой не знали, чему отдать предпочтение, столь совершенным казалось им здесь все, на что ни взглянешь. Когда они вошли внутрь, отовсюду послышалось:
— Да здравствует принц Алидор! Да здравствует принцесса Ливоретта! Да будут благословенны дни их на этой земле!
И приятные звуки ангельских голосов слились с гармоничными мелодиями музыкальных инструментов.
Не успели они оглянуться, а перед ними уже возник стол, полный яств. Пришла пора откушать изысканных блюд, тем более что морской воздух и долгое путешествие в бочке, предоставленной воле волн, изрядно их утомили. Они сели к столу и поели с большим аппетитом.
Когда трапеза окончилась, к ним пришел главный королевский казначей, предложивший им совершить послеобеденный моцион в соседнюю галерею. Там вдоль стен тянулся длинный ряд колодцев с прикрепленными ведерками из надушенной испанской кожи[392], обитой золотом. Ливоретта и Алидор спросили, для чего эти колодцы, и казначей ответил, что в них бьют золотые и серебряные источники, и, если нужны деньги, достаточно спустить туда ведерко и сказать: «Подними-ка мне, ведерко, со дна колодца луидоров, пистолей, квадруплей, экю и мелких монет[393]». Вода тотчас принимает форму желаемых денег, и, сколько их ни извлекай оттуда для добрых дел, источник никогда не иссякнет. Но если ты жаден и скуп, хочешь складывать деньги в золотые горы и хранить их под замком, то из ведерок выпрыгнут жабы и выползут змеи, и алчность обернется непоправимой бедой.
Диковинные колодцы вызвали неподдельное восхищение у принца с принцессой. Они решили опустить ведерко, дабы испытать судьбу. Но в ведре оказались только золотые зернышки. Тогда они спросили, почему монетки не отчеканены. Казначей ответил, что на них нужно отпечатать герб принца и принцессы, и поинтересовался, что бы они хотели там видеть.
— Ах! — воскликнул Алидор. — Мы в таком неоплатном долгу перед великодушным Дельфином, что на нашем гербе непременно должно быть его изображение.
Тотчас все зернышки превратились в золотые монеты с отчеканенной на них фигурой Дельфина. Когда же подошло время сна, Алидор скромно и почтительно удалился в свои покои, а принцесса с сыном проследовала в свои.
На следующее утро уж минуло одиннадцать часов, но принцесса еще спала. А принц, поднявшись чуть свет, отправился на охоту, чтобы вернуться до пробуждения Ливоретты. Узнав, что принцесса проснулась и его присутствие не стеснит ее, он вошел к ней, а вслед за ним еще несколько знатных дворян, несших большие золотые тазы, полные дичи, убитой принцем на охоте. Он преподнес добычу своей дорогой принцессе, которая любезно приняла ее, поблагодарив его за доброту и внимание. Принц, воспользовавшись прекрасной возможностью сказать ей, что никогда еще его страсть не была такой сильной, мягко попросил ее назначить день, когда они торжественно отпразднуют свадьбу.
— Ах, господин мой! — сказала она ему. — Я останусь тверда в своем решении. Я выйду замуж только с благословения моих родителей, короля-отца и королевы-матери.
Нельзя было сильнее огорчить влюбленного.
— На что вы обрекаете меня, немилосердная красавица? — спросил он. — Разве не знаете сами, что требуете невозможного! Едва покинули мы роковую бочку, в которой нас бросили в бушующее море, как вы уже обо всем забыли, вообразив, что родители дадут вам согласие на наш брак? Да вы, верно, задумали наказать меня за необузданную страсть, за силу моих чувств, ведь ранее вы обещали руку другому принцу, приславшему послов, пока я порхал вокруг вас кенаром.
— Вы судите обо мне превратно, — ответила она ему, — я вас ценю, я вас люблю, я вам уже давно простила все страданья, что пришлось мне пережить с того момента, как поверила я призывным щебетаньям кенара. Да ведь вы же королевский сын — и не верите, что мой отец весьма охотно породнился бы с вами?
— Всепоглощающая страсть не терпит хладнокровья, — сказал он ей. — Я сделал первый шаг, и не напрасно, — он меня приблизил к счастью. Но вы оказались непреклонны, и я буду безутешен, пока вы не отмените суровый приговор.
— Я не в силах взять свои слова обратно, — ответила она, — знайте же, что этой ночью мой спокойный сон был нарушен. Не успела я сомкнуть глаз, как меня грубо схватили за плечо, и при слабом свете ночного факела страшенная рожа, буравя меня злющими глазами, прошипела мне в лицо: «Что, не узнала?» — «Нет, сударыня, — ответила я ей, — не знаю вас и знать не желаю». — «Ха-ха! Ты шутишь?» — поинтересовалась та. «Клянусь вам, что это так и есть». — «Я фея по прозвищу Угрюмья, — начала старуха, — и есть у меня весомая причина быть недовольной Алидором. Он однажды уселся на мой камень и к тому же обладает даром вызывать во мне отвращение. Не бывать ему мужем, пока не заручишься ты согласием своих родителей. А вздумаешь ослушаться, — я погублю твоего сына, а вслед за этим и на твою голову обрушится череда несчастий, одно страшней другого». С этими словами старуха так сильно дохнула огнем, что я едва не сгорела, как вдруг услышала: «Покуда я, пожалуй, помилую тебя, но помни: уговор есть уговор».
Имя и внешность феи Угрюмьи тотчас припомнились принцу; рассказ принцессы был чистой правдой.
— Увы! — сказал он. — Зачем просили вы, чтоб друг наш Дельфин избавил меня от безумия? Тогда я был бы не так жалок. К чему теперь мне ум, к чему мне приложить рассудительность? Они приносят одни страдания. Я, с вашего соизволения, попрошу Дельфина снова превратить меня в безумца, так мне будет легче.
Его горе до глубины души тронуло принцессу — ведь она искренне любила принца и находила в нем множество достоинств, и все его речи и поступки несли на себе печать неповторимого обаяния. Она горько заплакала, невольно вызвав в нем тайную радость: ведь она проливала слезы из-за него, и он с радостью понял, что Ливоретта отнюдь не была к нему равнодушна, как ему думалось раньше, когда он превращался в кенара. Душевная боль внезапно отпустила его, он бросился к ее ногам, покрывая ее руки страстными поцелуями.
— Дорогая, — сказал он, — не волен я распоряжаться вами, но знайте, что вы одна на веки вечные царите в моей душе, вам же я вверяю и судьбу мою.
Такая обходительность принца польстила Ливоретте, высоко ценившей искренность. Она и сама все время думала, как бы добиться родительского благословения, которого им только и недоставало, — ведь жители острова предоставили в их распоряжение все мыслимые и немыслимые земные блага. Реки на острове кишели рыбой, в лесах не переводилась дичь, в садах зрели сочные фрукты, на нивах колосился хлеб, луга вечно зеленели, а в колодцах били золотые и серебряные источники. В здешних краях не знали ни войн, ни судебных тяжб. Только молодость, здоровье, красота, блеск ума, книги, чистейшая вода, превосходные вина, полные табакерки и взаимная любовь — таков был ныне удел Алидора и Ливоретты.
Иногда они приходили на берег моря засвидетельствовать почтение Волшебной Рыбе. Дельфин встречал их с неизменным радушием; однако, стоило лишь им заговорить о злобных угрозах феи Угрюмьи, как в ответ он разве что произносил несколько утешающих слов, облегчавших их душевные муки, ничего хорошего не обещая. Так прошли два долгих года. И когда Алидор вновь спросил у Дельфина, не пора ли отправлять послов к Лесному королю, тот предостерег его от этого, сказав, что Угрюмья наверняка погубит послов по дороге, но возможно, что боги сами вмешаются, чтобы заступиться за них.
А тем временем до королевы дошли слухи о плачевном изгнании ее дочери, внука и Алидора, и загоревала она так, как не горевал еще никто на свете. Не в радость стала ей жизнь, по капле утекало из нее здоровье, и все, что напоминало ей о дочери, вызывало страшную тоску. Упрекала она короля невольно и беспрестанно.
— Жестокосердый отец, — причитала она, — как у вас поднялась рука на бедное дитя, как могли вы ее утопить? Одна у нас была дочь. Нам послали ее боги. Боги же и должны были забрать ее.
Король сперва философски относился к жалобам супруги, но внезапно и сам ощутил тяжесть утраты. Ему, как и королеве, не хватало дочери, и в глубине души он упрекал себя за то, что дал ей знатное имя, но лишил отцовской ласки. Король не хотел, чтобы королева заметила его горестные думы, а посему скрывал их под личиной родительской непреклонности. Но стоило ему остаться одному, как отчаяние само вырывалось наружу: «О дорогая дочь моя, где вы теперь? Вы одна способны скрасить годы старости моей, и я-то вас и погубил! И больше того: я погубил вас по собственной воле!»
Наконец король, затосковав уже до крайности, признался королеве, что с того памятного дня, когда он приказал бросить Ливоретту с сыном в море, не находит себе места, что его неотступно преследует ее скорбная тень, отовсюду слышится ее невинный плач, и горе вот-вот сведет его в могилу. Новость эта повергла королеву в не меньшее отчаяние.
— Теперь к моим страданиям добавились и ваши! — воскликнула она. — Как нам облегчить их, мой господин?
Король сказал ей, что слышал об одной фее, поселившейся недавно в Медвежьем лесу, и он пойдет посоветоваться с ней.
— Любое путешествие сейчас будет мне в радость, — сказала королева, — хотя не знаю я, о чем ее спросить. Я уже давно перестала сомневаться в смерти милой дочери и маленького принца.
— И все-таки надо съездить к ней, — молвил король.
Он приказал подать ему экипаж, собрав все необходимое для путешествия за тридцать миль. На следующий день супруги с рассветом отправились в путь и вскоре уже подъезжали к жилищу феи, которая накануне прочитала по звездам об их визите и теперь спешила к ним навстречу, дабы со всем своим радушием их поприветствовать.
Как только Их Величества заметили фею, они поспешно вышли из экипажа и, заключив ее в дружеские объятия, горько заплакали.
— Ваше Величество, — обратилась фея к королю, — я знаю причину вашего визита. Вы отправили принцессу на смерть, а теперь изволите жестоко кручиниться. Исцелиться вам поможет лишь одно: снарядите большой корабль и плывите на остров, где живут волшебные Дельфины. Там вы найдете некий плод. Вкусив его, вы тотчас забудете горе. Но отплывайте без промедления — ведь дорога каждая минута. А ваше горе, государыня, терзает меня так, — сказала она королеве, — как будто это несчастие и моей жизни.
Король с королевой поблагодарили фею за добрые советы, преподнесли ей драгоценные дары и попросили присмотреть за королевством в их отсутствие, дабы соседи не вздумали пойти на них войной. Она обещала им выполнить все просьбы. Успокоенные супруги возвратились в столицу с надеждой, что горе их пойдет на убыль.
Они приказали снарядить корабль, взошли на него и взяли курс в открытое море. Судном управлял капитан, уже бывавший на острове Дельфинов. Несколько дней кряду в паруса дул попутный ветер, но потом он переменился и на море разбушевался такой сильный шторм, что корабль, немилосердно подбрасываемый огромными волнами, налетел на скалу, получил пробоину, да так, что спасти его не удалось. Стихия в одно мгновение разбросала путешественников в разные стороны, и никто не смог избежать страшной опасности.
Короля и тут не отпускала мысль о дочери. «Поделом мне, — думал он. — Я заслужил кару, назначенную мне богами, — ибо кто, как не я, подверг опасности жизнь дочери и внука, отправив их в одиночку бороться со стихией?» Эти тяжкие думы заставили его забыть о собственном спасении, как вдруг он заметил королеву верхом на дельфине, подобравшем ее средь бурных волн. Она протягивала мужу руки, стараясь дотянуться до него, и взывала к милосердию дельфина, моля подплыть к нему и спасти обоих. Так и случилось: чуткая Рыба приблизилась к королю, который уже погружался на дно морское, и супруга помогла ему взобраться к дельфину на спину. Обрадованная королева подбодрила мужа, уверившись теперь в покровительстве Небес. К вечеру услужливая Рыба и вправду доставила их к красивому берегу, где они высадились, не более утомленные, чем если бы вышли из каюты на корме.
А оказались они на том самом острове, где правили Ливоретта и Алидор. Те как раз прогуливались по песчаному бережку в сопровождении большой свиты, и Ливоретта, ведя сына за руку, увидела, как два человека сходят на берег со спины дельфина. Это зрелище заставило гуляющих направиться к ним, чтобы оказать гостеприимство. Но каково же было удивление принца и принцессы, когда они узнали в них короля и королеву! Те же не узнали их, ведь они не видели дочь целых шесть лет, а молодых людей время подчас тоже меняет так, что и узнать невозможно; вот и Алидор из отталкивающего безумца превратился в прекрасного и разумного принца. Подрос и ребенок, — а посему отнюдь не удивительно, что Их Величества были далеки от мысли, что перед ними любимая дочь и дорогой внук.
Ливоретта с трудом сдерживала слезы, не в силах произнести ни слова; ее голос дрожал от волнения.
— Сударыня, — сказал ей король, — у ваших ног несчастный монарх и горюющая королева; наш корабль затонул, все погибли, остались мы одни, без помощи и средств к существованию. Таков печальный пример изменчивости Фортуны[394].
— Ваше Величество, — ответила принцесса, — вы не найдете на всем белом свете другого берега, где ваше появление так взволновало бы всех, поэтому прошу вас забыть все горести. А вас, сударыня, — обратилась она к королеве, — я крепко обниму.
С этими словами она бросилась королеве в объятия, и та в ответ тоже обняла ее с такой необыкновенной нежностью, что едва не лишилась чувств, — ведь принцесса так походила на ее милую Ливоретту.
Принц Алидор пригласил их сесть в прогулочный экипаж, что они и сделали охотно. Их отвезли в замок, красота и пышное великолепие коего поразили воображение короля. Везде их поджидали самые приятные неожиданности; особую же радость доставило им известие о том, что корабли принца, в день бури находившиеся недалеко от того места, где разбилось судно короля, спасли всю команду и отвезли ее на остров Дельфинов, пока король сокрушался об их гибели.
Наконец настал день, когда король, пожив в свое удовольствие в обществе принца и принцессы, стал подумывать о возвращении в родное королевство и сказал об этом Ливоретте и Алидору.
— Увы! — добавила к этому королева. — Я же без утайки расскажу вам о самом печальном горе, какое только и может поразить родительские сердца.
Тут она и поведала им о судьбе Ливоретты, о всех их страданиях после того, как была исполнена королевская воля, о советах феи Медвежьего леса и об их путешествии на остров Дельфинов.
— Столь трудный морской путь мы проделали, — продолжила она, — и рады знакомству с вами; однако мы не нашли здесь того, что помогло бы облегчить боль души, и, значит, фея, пославшая нас сюда, ошиблась в своих предсказаниях.
Принцесса выслушала свою дорогую матушку с таким неподдельным состраданием, что слезы сами потекли у нее из глаз. Королева, весьма признательная ей за сочувствие, попросила богов вознаградить ее за это, и все обнимала и обнимала Ливоретту; сама не зная почему, она все называла ее то деточкой, то доченькой.
Наконец зафрахтовали судно, назначив их отплытие назавтра. Но самую чудесную диковинку принцесса приберегла напоследок, и было это то самое дерево посреди цветочного ковра, со стволом из серебра и ветвями из золота, на которых висели три апельсина: один бриллиантовый, второй рубиновый, а третий изумрудный. При дереве неусыпно дежурили три сторожа, дабы никто не украл драгоценные плоды. Когда Алидор и Ливоретта привели короля с королевой сюда, то решили ненадолго оставить их одних, дабы те вдоволь налюбовались этим чудо-деревом, подобного которому на всем свете не было.
Четыре часа кряду рассматривала старая чета эту диковину, после чего вернулась в замок, где их уже ждали принц и принцесса, пожелавшие устроить им роскошные проводы. В обеденном зале стоял только один стол, накрытый на два прибора, и король, спросив о причине, услышал, что для хозяев будет большой честью самим прислуживать дорогим гостям. Затем Алидор и Ливоретта с сыном усадили Их Величества за стол и, преклонив колени, подали вина. Самые лакомые и нежные кусочки отрезали они своими руками и раскладывали в тарелки. Тихая приятная музыка зазвучала в гостиной, когда вдруг вбежали в страшном испуге все три стража чудесного дерева, сообщившие неприятную весть. Два апельсина — бриллиантовый и рубиновый — оказались украдены, и сделать это могли только их гости, король с королевою. Все посмотрели на них с подозрением. Но они, как и полагается в подобных случаях, с оскорбленным видом встали из-за стола и предложили обыскать их на глазах у всего двора. Король, недолго думая, снял шейный платок и расстегнул камзол, а королева в это время расшнуровывала корсет. Каково же было удивление обоих, когда из их одеяний выпали бриллиантовый и рубиновый апельсины!
— Ах, Ваше Величество, — воскликнула тут принцесса, — и это ваша благодарность за почтительное обращение и ласковый прием? Так вот чем платите вы за наше гостеприимство?
Те же, сконфуженные донельзя, принялись всячески оправдываться, твердя, что не способны на такое, что здесь их просто плохо знают, а сами они представить себе не могут, как это могло случиться.
И тут принцесса бросилась в ноги отцу и матери.
— Так послушайте же, — сказала она, — я ваша дочь, я — та самая бедняжка Ливоретта, которую вы так же обвинили в преступлении, коего я не совершала, и вместе с сыном и безумным Алидором заточили в бочку. А ведь я так же не знала, в чем причина приключившейся со мной беды, как и вам сейчас неведомо, откуда взялись в ваших платьях эти злосчастные плоды. Поверьте же мне, я молю вас о прощении.
Ее речь тронула родительские сердца; Их Величества подняли дочь с колен, так крепко обняв ее, что едва не задушили; тут она представила им и принца Алидора, и своего сына. Легче вообразить всеобщую радость, чем описать ее; ибо подобающих слов тут не найти. На пышное свадебное празднество принца и принцессы явился Дельфин в образе молодого монарха редкостной красоты и обаяния. Спешно отправили послов с ценными дарами и к отцу и матери Алидора, приказав поведать им обо всем, что произошло. И жили принц с принцессой отныне долго и счастливо; Ливоретта с мужем вернулись в королевство отца, а ее сын остался править островом Дельфинов.
* * *
Как принца нашего горька была судьбина!
Его никто нигде не привечал,
Покуда он в морях не повстречал
На редкость верного помощника —
Дельфина. Все, что богатство может дать,
Вовеки с другом не сравнится,
Что сможет нам опорой стать
И пред судьбой не даст склониться,
Ударов чьих не сосчитать.
Бывает, что в беде друзья нас покидают,
И встарь мудрец всех удивил умом,
Когда узнал, построив новый дом,
Что люди его слишком маленьким считают.
— Ах, если бы я мог, — седой мудрец вскричал, —
Друзьями этот дом наполнить,
Такой, каким сумел его построить,
Счастливцем я б тогда себя считал[395].
Пер. Я. А. Ушениной (проза), Е. Ю. Шибановой (стихи)
Новый дворянин от мещанства
Окончание

— Ах! — воскликнул Дандинардьер. — Ну на какую же чепуху вы обращаете внимание! А вот есть ли на свете что-нибудь прекраснее и полезнее тех колодцев, откуда можно черпать золото ведерками из испанской кожи? Признаться, этот восхитительный остров манит меня. Если б я только знал, где он находится, то уже давно бы умчался туда, чтобы совершить паломничество к святым местам.
— Сударь, — сказал Ален с подчеркнутой любезностью, — я полон решимости последовать туда за вами. Стоило мне услышать обо всех этих прелестных вещицах, как у меня от соблазна потекли слюнки. Скажу не таясь, это могло бы стать самым удачным путешествием для вас. Ведро вам будет тяжеловато, а вот мне — в самый раз, ведь руки у меня сильные.
— Вот еще! — воскликнул коротыш Дандинардьер. — Ты слишком труслив, чтобы ехать со мной на поиски таких опасных приключений.
— Неправда ваша, сударь, я не трус, — возразил Ален. — Припомните хотя бы мою схватку с извозчиком, да еще с полсотни других боёв, где меня столь же немилосердно поколотили.
— Итак, — сказал Дандинардьер, неожиданно приняв серьезный вид, — надо для начала посмотреть по карте, где мы можем отыскать этот остров, а уж затем предпринять все возможное, чтобы с честью завершить дело.
— А я приятно удивлена, — перебила его госпожа дю Руэ, — тонким вкусом Мартониды, изяществом стиля, в котором написана ее новая сказка.
— Нет, не напрасно я приехала в эти края, хотя они и вправду казались мне достойными сожаления, — не без жеманства произнесла госпожа де Люр, — ведь я и вообразить себе не могла, что и в провинции теплится огонек мысли, за исключением, конечно, тех благодатных мест, где ее воспламеняет жаркое солнце.
— Право же! — сказала госпожа де Сен-Тома, теряя терпение. — Снова вы, столичные дамы, пытаетесь внушить нам, что мы глупее остальных.
— Это было бы непростительным заблуждением, — ответил Дандинардьер, — достаточно вас увидеть или услышать, чтобы судить о вас куда более здраво. Все, кого я встречал при дворе, обязаны почтительно склониться перед блистательными здешними умами.
— Кстати, дорогой родственник, — добавила вдова, — я была бы не прочь обосноваться здесь. Мне хотелось бы купить большое имение.
— И сколько, с вашего позволения, сударыня, вы намерены за него выложить?
— Ну, в зависимости от того, какой за ним следует титул, — ответила она. — Меня бы очень устроил маркизат[396], в этом случае я готова отдать до семи тысяч франков.
— Семь тысяч франков! — воскликнул виконт. — Да вы шутить изволите, сударыня!
— Как! — оторопело воскликнула та. — Маркизат в глухой провинции может стоить больше? Их в Париже раздают за бесценок, навязывая против воли, и многие не знают, как от них отделаться. Уверяю вас, мне было бы просто неловко называться маркизой, и только выгодная цена может подвигнуть меня на подобную покупку. Впрочем, если вы знаете кого-либо, кто продает здесь маркизат, я была бы вам бесконечно признательна за сведения о нем, ибо мне просто нужно распорядиться лишними деньгами. А вообще-то я, само собой разумеется, могла бы купить особняк в Париже, ведь приятнее жить у себя дома. К тому же мне часто приходится выходить в свет, бывать при дворе и на приемах, что накладывает определенные обязательства, которыми не обременены другие.
— Вы действительно полагаете, сударыня, что особняк можно приобрести всего за семь тысяч франков? — поинтересовался приор. — Уверяю вас, что по такой скромной цене вы не найдете здесь даже хижины.
— О! Я вижу, господин приор, что вы не понимаете, сколько стоят подобные вещи, — возмущенно заметила госпожа де Люр, — и вам, судя по всему, бесполезно это объяснять.
— Вечно этим аббатам больше всех надо, — начал Дандинардьер с видом хитрого лиса, — и во все-то они норовят сунуть свой нос, даже и в то, в чем ничегошеньки не смыслят.
— Как ловко вас поставили на место, господин приор, — улыбнулся виконт.
— И то правда, — ответил тот, — я не ожидал подобных нападок от моего друга господина Дандинардьера; да ведь в наше время принято жертвовать лучшими друзьями исключительно ради красного словца.
— А мне это не свойственно, — произнесла Виржиния рассудительно, — надо внимательно относиться и к серьезным вещам, и к приятным пустякам.
— Ах, несравненная Виржиния! — сказал дворянин-мещанин. — Я теряю голову, когда вижу вас подле себя; небесное светило, под которым вы родились, наделило вас такими достоинствами, что я не в силах сопротивляться, и это, увы, не скроешь ни от кого из обитателей замка, в который меня привело, — продолжал он, обращаясь уже к госпоже дю Руэ, — самое странное и удивительное приключение, какое только могло произойти со знатным господином; я вам как-нибудь расскажу о нем наедине, ибо несправедливо утомлять наших дам долгим рассказом. Скажу лишь одно: у меня есть враг в этих краях, и он использует против меня любые средства, вплоть до колдовства, призывая на помощь даже демонов.
— Что я слышу, дорогой кузен, — воскликнула вдова, — я в ужасе от такого пролога!
— Эти дамы и господа могут не только подтвердить мои слова, — ответил наш дворянин, — но и описать, как стойко я вынес оскорбительные выпады против себя. Скала, да-да, скала, и та не могла бы сравниться со мной в твердости, именно это и повергло моего врага в крайнее отчаяние, и теперь он прибегает к неслыханному коварству, дабы заставить меня сложить оружие.
— По правде говоря, — встревоженно заметила госпожа де Люр, — я жалею, что случай свел меня с вами: теперь я стану переживать за вас и всю ночь глаз не сомкну.
— Моей судьбе можно позавидовать, — изящно парировал Дандинардьер, — бояться мне нечего, ибо я защищен вашим живым участием.
— А вот эти барышни, — сказал виконт, указывая на Виржинию и Мартониду, — полны к вам ничуть не меньшего сочувствия, и если бы господину де Вильвилю взбрело в голову дурно обойтись с вами, они, возможно, смогли бы остановить его ожесточенные нападки.
— О ком это вы? — спросила вдова.
— Об одном дворянине, — продолжил виконт, — которого можно было бы назвать человеком благородным, если бы он не был врагом нашему другу.
— A-а, я его уже видела, — ответила она, — и он показался мне вполне достойным.
— Вполне достойным?! — возмутился Дандинардьер, нахмурившись. — Да вы смеетесь! Как можно сравнивать со мною этого деревенского простака? Поистине я удивлен, что такой нарядной женщине, как вы, может нравиться человек с подобным складом характера.
Дю Руэ, питавшую тайную симпатию к Вильвилю, чрезвычайно оскорбили слова кузена.
— Да кто вы такой, господин Дандинардьер? — спросила она неожиданно сухо. — Уж не думаете ли вы, что, переселившись с улицы Сен-Дени на берег моря, обрели право возводить напраслину на весь род человеческий?
— Ха! А вы-то! Тоже мне, новоявленная благородная дамочка! — воскликнул тот, багровея от гнева. — Ишь как вы на меня набросились, — а вспомните-ка: если бы не мои деньги, вашему покойному батюшке, светлая память ему, не миновать бы позорного столба.
— Неслыханная дерзость! — возмутилась она. — Мой отец пострадал лишь потому, что разорился ваш.
Ссора разгоралась так бурно и стремительно, что все присутствовавшие сочли необходимым не дать ей зайти слишком далеко из опасения, как бы госпожа де Сен-Тома, всегда обнаруживавшая горячее желание разузнать истинное происхождение высокородного мещанина, не открыла бы из обоюдных оскорбительных выпадов больше того, чем позволяли обстоятельства. Каждый был заинтересован в восстановлении мира, и более всего полна решимости примирить разгневанных соперников оказалась госпожа де Люр: ей вовсе не хотелось, чтобы в провинции прошел слух, будто она приехала в обществе мещанки. Однако взаимное раздражение между вдовой и Дандинардьером достигло своего апогея. Они с трудом сдерживались, умолкая лишь из уважения к собеседникам и уступая дружеским увещеваниям, но по-прежнему обмениваясь гневными взглядами. То и дело они отвлекались от общего разговора, дабы, не называя друг друга по имени, все-таки подпустить беспощадных колкостей.
Барон рассудил, что лучше просто растащить их, как двух собак, готовых сцепиться в любой момент.
— Не соблаговолите ли, сударыни, — сказал он им, — вернуться в рощу, где вы были сегодня утром?
— Вы правы, — подхватила вдова, — там так мило, я без ума от моря и весьма одобряю обычай венецианцев каждый год обручаться с морской стихией. Право же, будь я сама супругой дожа, то не отказалась бы выйти замуж за море или, по крайней мере, заключить с ним дружеский союз.
С этими словами она встала, не удостоив Дандинардьера даже взглядом, и, взяв под руку баронессу де Сен-Тома, сказала:
— Пойдемте же, милая; мы приятно проведем время на брегах непокорной стихии.
Баронесса грубо вырвала руку, заявив в ответ, что прекрасно обойдется без посторонней помощи. Вдова, настроение которой и так уже было испорчено ссорой с мещанином, почувствовала себя глубоко уязвленной таким обращением.
— Есть же на свете неучтивые особы, — заметила она, — экие колючки, не знаешь, где оцарапаешься.
— Правильно ли я поняла, — спокойно спросила баронесса, гордившаяся своей способностью хладнокровно принять любой вызов, — что вы, сударыня, возомнили себя розой, а меня причислили к колючкам? Пусть так, но если вы и роза, то, без сомнения, давно увядшая.
— Ваше поведение оскорбительно, сударыня, — ответила вдова, краснея от возмущения, — знай я, как меня здесь примут, прекрасно обошлась бы без вас, не оказав вам чести своим присутствием.
— А уж я-то тем более не нуждаюсь в вашем обществе, — парировала баронесса, не желая оставаться в долгу.
— Боже мой! Что за пустые нападки! — воскликнула госпожа де Люр. — Где это видано, чтобы здравомыслящие дамы из высшего света предавались столь неблаговидному занятию?
— Вы-то куда лезете, сударыня, когда вас и вовсе не спрашивали, — отрезала баронесса, — не я затеяла эту склоку.
— Право же, дорогая супруга, — заметил господин де Сен-Тома, — неужели вы и впрямь хотите меня сегодня смертельно огорчить?
— А вам, сударь, — резко возразила она, взяв на три тона выше, — вам я скажу так: вы готовы хоть за Великого Турку[397] сражаться, только бы со мной не соглашаться; я знаю это уже давно, так что раздельное проживание и раздельная собственность меня бы полностью удовлетворили до конца моих дней. Будь мой дед еще жив, он бы горько плакал от бессилия, видя, какой незавидный муж мне достался; ах, несчастный, как часто он повторял, что хотел бы видеть меня предводительшей или герцогинею. — И она разрыдалась, да так сильно, будто похоронила разом всех родных и друзей.
Казалось, в доме барона де Сен-Тома поселилась сама богиня Дискордия[398] с волосами дыбом: здесь бранились, там обижались. Барон не стал возражать жене, иначе препирательства продолжались бы до бесконечности; он пригласил дам в ближайшую рощицу, оставив баронессу с глазу на глаз с Дандинардьером. Тут-то глубокая досада в отношении госпожи дю Руэ внезапно сплотила обоих, вызвав волну тайных откровений.
— Могу ли я поговорить с вами по душам, ничего не скрывая? — начала баронесса.
— Вы окажете мне честь, — ответил мещанин.
— Я нахожу, что ваша кузина ведет себя весьма бесцеремонно, — заметила она.
— Моя кузина! Как бы не так, сударыня! — воскликнул он в ответ. — Она мне никто, и вообще все эти кузины… они… они… ну, вы меня понимаете.
— Конечно, понимаю, — подхватила баронесса, — мой ум куда изощреннее, чем у любой другой дамы во всей Европе. Одно брошенное слово, сущий пустяк — и я уже схватываю все вплоть до мельчайших тонкостей.
— Боже, какое счастье жить рядом с такой достойной женщиной! — радостно воскликнул Дандинардьер. — Ах! Если бы Небо одарило меня подобным созданием, я бы боготворил его, как китайцы боготворят свои пагоды, я бы покрыл нежными поцелуями пальчики на ее ножках, я бы жадно лобызал ее ручки.
— А между тем сами видите, господин Дандинардьер, — важно изрекла баронесса, — как со мной обращается мой муж, и человек он, скажу я вам, весьма неприятный: с виду такой предупредительный и ласковый, а внутри исходит желчью. Я же, от природы вежливая и внимательная, плохо уживаюсь с грубыми людьми.
— Признаюсь вам в том же, — ответил Дандинардьер. — Если быть со мной обходительным, то завоевать мою душу легче легкого, в противном же случае я становлюсь непреклонным, и тогда уж со мной не справятся ни демоны, ни домовые, ни феи, ведьмы, маги, колдуны, оборотни и никакая прочая нечисть[399].
— Ах! Как вы мне нравитесь! — воскликнула она. — Нас как будто вылепили из одного куска теста, который потом разделили. У меня очень похожий характер. Я почти такая же, как вы. Но вернемся же наконец к тому, что вы мне только что сказали. Так, значит, эта вдова вам не родственница?
— Бог мой, да нет же, сударыня, — нетерпеливо повторил он, — я уже говорил и скажу вам опять, что просто доверил управление своим поместьем одному из ее дядюшек. Она тогда была молода, весьма недурна собой и часто наведывалась к нам. Я, знаете ли, тоже был далеко не стар и не прочь поболтать.
— Фи, сударь! — перебила она с презрением. — Я не желаю, чтобы особа, подобная ей, кичилась знакомством со мной; скажу-ка я ей без промедленья, что, если она упомянет мое имя, мы с нею окончательно рассоримся.
— Вы принимаете все слишком буквально, — заметил мещанин. — Я вовсе не намерен подвергать сомнению добродетель госпожи дю Руэ, — все мною сказанное касается скорее различий в нашем происхождении. В сущности, сударыня, если бы суровая непреклонность так уж ценилась в обществе и если бы женщинам, становившимся предметом любовных ухаживаний, приходилось доказывать свою родословную до седьмого колена, как рыцарям на Мальте[400], то, учитывая развращенность нравов нашего века, большинство добропорядочных дам так бы и прожили в полном одиночестве. И не стоит слепо доверять людской молве.
— Ваши моральные принципы, господин Дандинардьер, коренным образом отличаются от моих, — сказала баронесса. — С вашего позволения, я не поверю ни единому вашему слову.
— Помилуйте, сударыня, вы действительно хотите учинить настоящий скандал, который расстроит вашего супруга?
— Именно этого я и добиваюсь, — ответила она, — вы же сами видели, как он со мной обошелся в угоду этой мещанке. Я решительно хочу все выяснить, удостовериться лично, так как подозреваю, что он знает ее уже очень давно.
Прибежал Ален, и дружескую беседу пришлось прервать. Вид у слуги был крайне испуганный. Он подошел к своему удивленному господину и прошептал ему на ухо:
— Сударь, пора собирать вещички на тот свет: Вильвиль сейчас в лесу высмеивает вас и распускает сплетни с таким видом, будто ваши угрозы ему нипочем. Я спрятался за деревом и разглядел его: он оказался еще выше на целый локоть.
Баронесса тут же смекнула, что новости от Алена встревожили Дандинардьера. Она сочла нужным удалиться, сказав только: «Не буду вам мешать». А мещанин, радуясь, что избавился от нее, спросил у слуги, точно ли тот видел Вильвиля.
— Точней не бывает, сударь, я видел его, как сейчас вижу вас, — ответил Ален. — Вот что произошло. Когда эти дамы вышли от вас, я по воле случая оказался в очень темном закоулке, где меня никто не заметил, и услышал, как одна из них сказала: «Да это скряга с улицы Сен-Дени, я покупала товар в его лавке, уже тогда он все норовил притворяться знатным господином, изо дня в день разыгрывая перед нами комедию. А так как я многое брала у него в кредит, то имела счастье наблюдать его игру чаще других, называя его своим кузеном, чтобы выиграть время, — ведь, как известно, у светских дам не всегда водятся наличные». И она еще что-то рассказала, — поспешил добавить Ален, — да я не запомнил.
— Да ты одни глупости только и помнишь; пари держу, что и тут присочинил, по глазам вижу.
— Уж лучше быть повешенным, как соляной контрабандист[401], — продолжал Ален, — чем говорить неправду; я вам просто слова передал, а сам-то в них понимаю не больше, чем в чернокнижии. Так вот, я тихонько проследовал за этими дамами и притаился рядом, пока они говорили о чем-то своем. Вдруг послышался цокот копыт, они обернулись туда и увидели этого злодея Вильвиля, который проворно спешился, чтобы их поприветствовать. У меня ноги задрожали от страха, и я, как был на четвереньках, так и уполз оттуда, чтобы вас предупредить.
— Вот дело, заслуживающее особого внимания, — воскликнул коротыш Дандинардьер, — с каким завидным постоянством мой враг наведывается в эти края: утром проезжал мимо, вечером опять вернулся, приударил за вдовой, и теперь она злится на меня. Ален мой, ты не храбр![402]
— Ну хорошо, а будь я храбрецом, сударь, — ответил он, — что мог бы я сделать?
— Ничего, — сказал мещанин, — поскольку мне известно, что храбростью ты обделен. Что толку на тебя полагаться? Лучшее, что можно придумать, это план отступления.
— Вот-вот, сударь, совсем неплохо, — заметал Ален, — а то ведь, не ровен час, заявится этот отчаянный мэтр Робер, чтобы сыграть с нами очередную злую шутку.
— Но как поступить? — задумчиво произнес Дандинардьер. — Если нас выследят и поймают, нам несдобровать.
— Наберитесь терпения, мой господин, — ответил Ален, — я вас помещу в нашу двуколку, а сверху прикрою ипотекой, под ней тепло и уютно, и никто вас не найдет.
— Не ипотекой, а библиотекой, несчастный, — перебил его Дандинардьер. — Но придумано все-таки неплохо. Ступай-ка туда, посмотри, нет ли там Вильвиля, затем возвращайся и предупреди меня.
Ален вышел и вскорости уже подошел туда, где оставил веселую компанию, — все еще сидели в лесу. Внимательно оглядевшись и убедившись, что враг его господина ушел, слуга вернулся к хозяину и сказал, что людоед давно убрался.
Услышав радостную весть, хозяин воскликнул:
— Так прибавим же новых побед к прежним! Эй, подай-ка мне оружие, доспехи, сапоги да седлай моего доброго Буцефалушку[403]. Ха-ха! Наглец! Вздумал меня преследовать! Ну, покажу я ему, где раки зимуют!
Ален смотрел на него с удивлением:
— Так вы, господин, и в самом деле решили вооружиться? Но у вас голова еще нездорова да и плечи сильно пострадали после происшествия с кроватью.
Дандинардьер сделал вид, что не слышит; он притворился, что разговаривает сам с собою.
— «Я болен, это так, — гордо продекламировал он, — но если сердце цело, оно не станет ждать, чтоб время подоспело!»[404] — Затем комнату вдруг потряс задорный клич: — «С каким теперь врагом я не осилю встречи? Сюда, наваррец, мавр, Кастилья, Арагон!»[405] — Он продолжал громко цитировать знаменитые строки из «Сида», самодовольно радуясь, что так хорошо все их помнит.
Так, вдохновляя сам себя на сечу, он облачился в доспехи и лихо взлетел на своего парадного скакуна, который радостно брыкался и вставал на дыбы — ведь его несколько дней кряду кормили только отборным овсом. Разогнавшись, Дандинардьер на всем скаку ворвался прямо в рощу, размахивая копьем и нанося такие сильные удары по деревьям, что майские жуки осыпались с них, словно осенние листья. Страшный треск ломавшихся ветвей привлек внимание всей компании, и обернувшиеся дамы с удивлением воззрились на всадника в полном боевом снаряжении. Общество разразилось смехом: со всех сторон слышалось звонкое ха-ха-ха, особенно усердствовала вдова, нарочно хохотавшая погромче, чтобы показать свои хорошо сохранившиеся зубы. Дандинардьер же подумал, что она насмехается над ним, и, затаив на нее обиду, нашел способ отличиться. Видя, что на голове вдовы возвышается чепец, украшенный розовыми лентами, он на скаку подцепил его копьем на манер рыцаря, который на турнире сносит голову чучелу.
Однако голова госпожи дю Руэ, оставшись без чепца, заодно лишилась и волос. Дело в том, что шевелюра этой дамы от природы была рыжей, вот она и предпочитала прикрывать огненную копну на голове нежными белокурыми локонами. Можно вообразить ее досаду и огорчение. Чепец был самой яркой и привлекательной частью ее облика, и она принялась испускать вслед ему горестные вопли. Молодой скакун, горячий и пугливый, прямо перед глазами которого теперь болтался этот чепец, шарахаясь и от него, и от криков вдовы, закусил удила и рванул во весь опор.
Все попытки Дандинардьера остановить жеребца окончились бы неудачей, если бы на шум не обернулся Вильвиль. Еще не успев отъехать далеко, он стоял в сторонке и беседовал с мэтром Робером, когда с удивлением узнал во всаднике дворянина-мещанина. Мигом оценивший всю опасность положения, Вильвиль схватил коня под уздцы и остановил его, заодно воспользовавшись удобным случаем для осуществления плана, разработанного накануне вместе с приором и виконтом.
— Итак, господин Дандинардьер, — сказал он, вынимая шпагу, — померяемся же силами — пора наконец перерезать друг другу горло.
Задрожавший от страха бедняга лишился дара речи. При виде сверкающей шпаги он подумал, что настал его смертный час.
— Нет, я не дерусь, — пролепетал он, немного поколебавшись, — я, как человек честный, не стану драться, когда вооружен, иначе у меня будет преимущество.
— Довольно церемоний, — сказал Вильвиль, приставляя к его горлу острие шпаги.
— Ах! Мэтр Робер, я умираю, — воскликнул Дандинардьер, оседая на землю, — скорей сделайте мне кровопускание. О добрый господин Вильвиль, не убивайте меня, — продолжал он, — если же вам претит смотреть на меня в доспехах, то я готов снять их сейчас же.
— Только одно может уберечь вас от моего гнева, — заявил Вильвиль, — я дарую вам жизнь, если вы женитесь на дочери барона де Сен-Тома.
— Укажите только, на которой именно, — спросил бедняга Дандинардьер, — впрочем, если прикажете, то я женюсь на обеих, и на матери с отцом в придачу.
— Выбирайте сами, — сказал Вильвиль, — но учтите: я убью вас, если вы нарушите свое обещание или вздумаете пренебречь оказанной вам честью, — вот тогда уж я вас из-под земли достану.
Мещанин, которому удалось так дешево отделаться, почувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Он поднялся с земли, все еще дрожа от страха, пал к ногам своего грозного врага и заверил того в своих преданности и послушании. Затем он попросил соизволения поцеловать его победоносную длань, и Вильвиль торжественно протянул ее.
— Я полагаю, — важно заявил он, — что мне стоит самому попросить господина де Сен-Тома отдать вам в жены Виржинию: он станет благосклоннее, узнав, что мы примирились и стали друзьями.
— Вы полноправный хозяин положения, — ответил мещанин, — я с радостью приму любое ваше решение.
Заручившись его согласием, Вильвиль вернулся обратно и отозвал виконта и приора в сторонку.
— Думаю, больше нет необходимости выводить на сцену мэтра Робера, — сказал он им, — а уж тем более устраивать нам встречи с Дандинардьером. Счастливый случай сам довершил то, что мы так тщательно готовили.
И он рассказал им о том, что с ним приключилось и что последовало дальше. Оба господина обрадовались не меньше него самого.
— Что ж, — порешили они, — не будем терять ни минуты и поспешим заключить брак. Есть, правда, одно препятствие: вдова, которая хотела бы наладить отношения с кузеном, может вмешаться и действовать против наших интересов.
— Пусть это вас не беспокоит, — уверенно сказал Вильвиль, — я имею на нее некоторое влияние и обязуюсь посвятить ее в наши планы. Она будет только благодарна мне за откровенность и непременно окажет содействие.
Все подтвердилось. Пока Вильвиль занимался вдовой, виконт разговаривал с господином де Сен-Тома, который любезно принял предложение. Госпожа де Сен-Тома уступила, повинуясь случайной прихоти, так как настроение ее менялось поминутно. Виржиния с радостью согласилась, уверенная в том, что Дандинардьер — герой, который ежедневно совершает подвиги, и ей предстоит ни с чем не сравнимое удовольствие пробуждать лиру Аполлона и лицезреть муз, слагающих гимны в его честь[406]. Таким образом, компания, еще несколько часов назад перессорившаяся в пух и прах, снова оказалась в мире и согласии.
Именно в этот момент и показался славный Дандинардьер. Он еще волновался и немного дрожал. Ему устроили радушный прием, наперебой стараясь отвлечь его от ужасных воспоминаний о неудачном поединке; были и такие, кто счел за лучшее деликатно обойти молчанием это дельце и говорить только о его заслугах.
Он попросил руки Виржинии, как принято в светском обществе; его выслушали благосклонно, и виконт предложил вернуться в дом, чтобы по пунктам составить брачный договор. А как же преданный Ален? Он ошеломленно наблюдал, как волки и овцы вместе резвятся на лужайке. Таковы были Дандинардьер и Вильвиль: они то и дело обнимались и пожимали друг другу руки, словно близкие друзья. Слуга ничего не понимал; широко открыв рот и выпучив глаза от удивления, он стоял в нерешительности, боясь сделать шаг вперед или назад, — словом, всем своим видом являя крайнее изумление. Все изменилось, когда ему сообщили новость о том, что его хозяин просит руки Виржинии, то есть Дандинардьер обязан господину де Вильвилю своим счастьем. Услышав о будущей свадьбе, Ален пустился в пляс и закружил всех в веселом хороводе, развлекая гостей бесхитростными шутками да прибаутками.
Дандинардьера освободили от рыцарских доспехов — с этим как нельзя лучше справились обе барышни де Сен-Тома, походившие на прелестных Дульсиней[407] из «Дон-Кихота». Его увенчали розами, нарекли Анакреонтом[408] наших дней, утешением благородного общества, местным щеголем. Однако барону, уже по-настоящему посерьезневшему, было вовсе не смешно. Он попросил виконта, приора и Вильвиля относиться к его будущему зятю с подобающей учтивостью. Господа вняли просьбе и отныне обращались с Дандинардьером почтительно. А вечером бедные куры с птичьего двора и голуби из голубятни отправились на праздничный стол. Охотники не пощадили и окрестных куропаток. Барон взял на себя расходы на свадьбу, а в приданое невесте назначили ее особый дар сочинять сказки да еще радужные надежды в придачу. Коротыш Дандинардьер остался доволен исходом дела, по крайней мере, казался таковым, ведь он до сих пор опасался Вильвиля, без которого брак бы не состоялся.
Виржиния решила взять сестру в свою новую семью. На следующий день свадебный кортеж возглавила повозка с книгами, запряженная тремя осликами. Мещанин восседал на своем скакуне, а Ален шел за ним и нес его доспехи словно трофеи. Следом Виржиния с сестрой, точно сельские амазонки, с грехом пополам ехали верхом. Вдова, коей был отнюдь не противен Вильвиль, уселась на лошади у него за спиной; жеманная баронесса и госпожа де Люр — за ними в двуколке, в которую была впряжена жеребая кобылица. Кавалькаду замыкали остальные господа и несколько родственников, приехавших на свадебную церемонию. Понадобится еще много времени, чтобы все это описать; а посему завершаю мой рассказ, боясь злоупотребить терпением читателя и не дожидаясь, чтобы меня попросили умолкнуть.
Пер. Я. А. Ушениной
ДОПОЛНЕНИЯ
Мадам д’Онуа
Остров Отрады[409]

На шум его шагов из расщелины скалы вышла старуха, чьи седые волосы и глубокие морщины говорили о весьма почтенном возрасте.
— Вы первый смертный, которого я здесь вижу, — сказала она с удивлением, — да знаете ли, сударь, кто живет в здешних местах?
— Нет, добрая женщина, — отвечал Адольф, — я не знаю, где нахожусь.
— Здесь жилище Эола[412], бога ветров, — сказала она, — он укрывается тут со своими детьми, а я — их мать, и вы застали меня одну, ибо они носятся по всему свету, и каждый творит добро и зло на своей стороне его. Однако вы, как я вижу, промокли и продрогли, сейчас я разожгу огонь, чтобы вы могли обогреться и обсохнуть. Да вот только жаль мне, сударь, что и угостить-то вас толком нечем: ветры едят полегоньку, а людям надобна более плотная пища.
Принц поблагодарил за радушную встречу и подошел к огню, который вмиг разгорелся, ибо как раз вошел Западный ветер и раздул его. Вслед за ним явились в пещеру Северо-Восточный ветер и несколько Аквилонов, затем не заставил долго себя ждать Эол, а за ним следом и Борей[413], Восточный, Юго-Западный и Северный ветры. Все они были мокрые, с надутыми щеками, взлохмаченными волосами, повадками грубыми и неотесанными, а когда заговорили с принцем, то чуть было не заморозили его своим дыханием. Один рассказал, как только что разметал морской флот, другой — что потопил несколько кораблей, третий — что проявил благосклонность к нескольким судам и спас их от корсаров, собиравшихся их захватить; другие же похвалялись тем, как выкорчевывали деревья, срывали крыши домов, обрушивали изгороди, короче говоря, всякий гордился своими деяниями. Старушка слушала их, но вдруг разволновалась.
— Так вы не встретили по дороге вашего брата Зефира[414]? — спросила она. — Время уже позднее, а его все нет, и мне, признаться, тревожно. — Ветры отвечали, что не видели его, но тут Адольф как раз заметил у входа в пещеру маленького мальчика, такого красивого, каким обычно рисуют Амура[415]. У него были крылья из белых и бледно-розовых перьев, такой нежной тонкости, что они казались одним сплошным колыханием; волосы его тысячей локонов небрежно вились до плеч, на голове венок из роз и жасмина; сам он был весел и мил.
— Откуда это вы явились, маленький проказник? — скрипучим голосом прокричала старушка. — Вы один так мешкаете и вовсе не думаете о беспокойстве, которое мне доставляете.
— Матушка, — отвечал он, — я сожалею, что припозднился, хотя и знал, что вы этого не любите, — но я был в садах Отрады, она сама гуляла там со своими нимфами; одна из них плела гирлянду из цветов, другая прилегла на травку и слегка обнажила грудь, чтобы мне удобней было, подлетев, целовать ее; некоторые из нимф танцевали и пели. Сама принцесса прохаживалась в померанцевой аллее, мое дыхание касалось ее губ, я порхал вокруг, колыхая ее покрывало. «Зефир, — говорила она мне, — как ты мил, как ты меня тешишь! Пока ты здесь, я не хочу возвращаться с прогулки». Признаюсь, ласковые слова, произнесенные столь очаровательной принцессой, околдовали меня, и я совсем уж себя не помнил и вовсе бы не решился ее покинуть, когда бы не боялся вас огорчить.
Адольф слушал его с таким удовольствием, что пожалел, когда тот закончил говорить.
— Позвольте спросить вас, милый Зефир, — произнес он, — в каком краю царствует принцесса, о которой вы только что рассказывали?
— На острове Отрады, — отвечал Зефир, — никто из смертных не сумел добраться до него, сударь; только его все и ищут, да такова уж людская доля, что никогда найти не смогут. Тщетно блуждают они вокруг да около и даже иногда льстят себя надеждой, что уже нашли его, ибо случается им попасть в небольшой порт, где живется мирно и спокойно, и есть такие, кто с радостью остается там; но эти острова, что лишь весьма отдаленно напоминают остров Отрады, всегда плавучи: быстро они уходят из-под ног, и алчная зависть, которая не терпит, чтобы смертные тешили себя хотя бы даже тенью счастья и покоя, гонит их оттуда. И вот я часто вижу, как гибнут там люди, весьма достойные лучшей участи.
Принц продолжал расспросы, а Зефир отвечал ему ясно и разумно.
Было уже очень поздно, и добрая матушка приказала детям расходиться по своим щелям. Зефир предложил принцу свою кроватку; у него было очень чисто и не так холодно, как в остальных закутках пещеры; постелью служила тонкая нежная травка с цветами; принц тут же бросился на нее, проведя весь остаток ночи с Зефиром и все это время расспрашивая его про принцессу Ограду.
— До чего же хотелось бы мне ее увидеть! — молвил принц. — Неужели же никак, даже и с вашей помощью, нельзя мне попасть туда?
Зефир отвечал ему, что затея эта опасна, но, осмелься принц ему довериться, он бы мог перенести его туда по широким воздушным просторам.
— У меня есть особый плащ, который я одолжу вам, — добавил он, — если вы наденете его зеленой стороной вверх, то сделаетесь невидимы и никто вас не заметит, а это немаловажно для сохранения вашей жизни, ибо стоит лишь стражам острова, ужасным чудовищам, вас увидеть, и тогда уж не поможет никакая храбрость и вы навлечете на себя страшные беды.
Адольф так страстно желал преуспеть в этом приключении, что, хоть все предложенное Зефиром и было крайне опасно, с радостью решился.
Аврора[416] едва показалась в своей перламутровой колеснице, как он в нетерпении уже разбудил Зефира, еще довольно сонного.
— Я совсем не дал вам отдохнуть, — сказал принц, обнимая его, — однако, кажется, пора уже отправляться.
— В путь, в путь, сударь! — сказал Зефир. — Мне жаловаться не на что, я, напротив, благодарен вам. Ибо, сознаюсь, я влюблен в одну розу, которая весьма горда и своенравна, и не миновать мне сцены, если я не явлюсь к ней, едва забрезжит день; живет же она в одном из цветников принцессы Ограды.
Закончив эту речь, он дал принцу обещанный плащ и приказал было ему ухватиться за свои крылья, однако нашел, что это неудобно.
— Я понесу вас, сударь, как Психею по приказу Амура[417] в тот день, когда я доставил ее в тот великолепный дворец, что он для нее построил, — сказал Зефир. Тут он взял принца на руки и, встав на вершину скалы, начал мерно раскачиваться, затем расправил крылья и воспарил.
Принцу, при всей его храбрости, стало немного страшно очутиться так высоко, полностью во власти юного отрока. Но он приободрился, рассудив, что этот отрок все же божество и что даже Амур кажется самым маленьким и слабым существом на свете, а на деле всесилен и грозен. И, вверив себя судьбе, он воспрянул духом и принялся внимательно разглядывать все места, над которыми пролетал, — но этих мест было не счесть! Сколько городов, королевств, сколько морей и рек, деревень и пустынь, лесов и неизведанных земель, и сколько разных народов! Все это так восхищало принца, что он утратил дар речи; меж тем Зефир рассказывал ему об именах и обычаях всех обитателей Земли. Летел он медленно, и им случалось даже отдыхать на чудесных горах, на Кавказе и на Афоне[418], равно как и на многих других, что попадались по дороге.
— Пусть даже прекрасная роза, которую я обожаю, всего меня исколет своими шипами, — промолвил Зефир, — а я все ж не могу пролететь весь этот длинный путь, не позволив вам вдоволь подивиться на чудеса, которые вы теперь видите перед собою.
Адольф горячо благодарил его за доброту. В то же время он опасался, что не поймет языка принцессы Отрады, как и та не поймет его речей.
— Не беспокойтесь об этом, — отвечал ему юный бог, — принцесса все знает и ее все понимают; я уверен, что вы очень скоро заговорите на одном языке.
И вот после долгого полета вдали завиднелся желанный остров, и его красоты поразили воображение принца, который без труда поверил, что место это волшебное: воздух там благоухал всеми мыслимыми ароматами — и дивной розовой водой, и померанцевой, и кордовской, цветком померанца пахнул и дождь, водопады располагались так высоко, будто вода ниспадала прямо с небес, в лесах росли редчайшие деревья, а в цветниках — необычайные цветы. Повсюду мелодично журчали родники с водой прозрачнее хрусталя, птицы пускали рулады, которым позавидовали бы лучшие музыканты, фрукты зрели сами по себе, никто за ними не ухаживал, и по всему острову были расставлены богато накрытые столы, а на них все чего душе угодно[419]. Однако то, что было во дворце, далеко превосходило все, что я успела описать. Стены там были из алмазов, полы и потолки — из драгоценных камней, и из них же перегородки в комнатах; золота столько, сколько везде булыжников, а мебель, самой тонкой работы, феи сделали своими руками, и трудно сказать, что тут больше поражало — роскошь или разнообразие. Зефир спустился с принцем на приятную лужайку.
— Сударь, — сказал он, — я сдержал свое слово, остальное предоставляю вам.
Они обнялись. Адольф поблагодарил его как подобает, и юный бог, сгорая от нетерпения, отправился к своей возлюбленной, которую оставил в этих прекрасных садах. Принц шел по аллеям, тут и там замечая гроты, словно нарочно созданные для наслаждений; в одном он увидел беломраморное изваяние Амура, выполненное так искусно, что это, несомненно, был шедевр какого-нибудь непревзойденного мастера; из факела у Амура вместо пламени вытекала струя воды, а сам он стоял, прислонившись к скале, отделанной камешками и раковинами, и, казалось, читал стихи, выгравированные на лазуритовой глыбе:
Кто радостей любви не знает,
Тот в жизни счастья не вкусил.
Любовь желанья исполняет,
А без нее нам свет не мил.
Вся роскошь без любви
покажется постылой,
А жизнь — унылой.
Затем Адольф вошел в беседку, увитую жимолостью, такой густой, что солнечные лучи едва пробивались сквозь чарующий полумрак. Здесь, на травянистом ковре у ручья, он забылся сладким сном, веки его отяжелели, телом овладела усталость, и он проспал несколько часов.
Принц проснулся около полудня, сожалея, что потерял столько времени, и, дабы восполнить эту утрату, поспешил ко дворцу, где залюбовался красотами, которых издалека разглядеть не смог. Казалось, все искусства состязались, украшая это здание, и без того роскошное и совершенное. Плащ на принце был по-прежнему надет зеленой стороной вверх, так что Адольф видел все, а его никто не видел; он долго искал, где бы войти во дворец. Не успев еще понять, глухая ли стена или врата с другой стороны, он вдруг увидел прелестную девицу, которая открывала хрустальное окно. Тут, откуда ни возьмись, прибежала маленькая садовница, и девица из окна спустила ей на лентах с бантами великолепную корзину из золотой проволоки и велела девочке набрать в нее цветов для принцессы, что садовница и исполнила не мешкая. Адольф же запрыгнул поверх цветов в корзину[420], и нимфа подняла ее обратно в окно: видно, зеленый плащ, превращавший в невидимку, мог сделать еще и невесомым, иначе непросто было бы принцу так благополучно попасть наверх. Оказавшись внутри, он тут же кинулся в обширную залу и увидел диво дивное. Нимфы прогуливались там стайками, и самой старшей на вид было не более восемнадцати лет, но много было и таких, что казались еще моложе. Одни белокуры, другие темноволосы, и все прекрасно сложены, белолицы, свежи, с утонченными чертами лица и жемчужными зубками; все разные, но каждая была совершенством. Принц провел бы целый день в этой зале и не отрывал бы взора от них, не возбуди его любопытство несколько голосов, звучавших мелодично и в лад с музыкальными инструментами, на которых кто-то прекрасно играл. Он устремился в комнату, откуда доносились эти прелестные гармоничные звуки, и, войдя, услышал вот что:
Будь верен, о любовник страстный,
Неколебим и тверд.
Коль сердцем
хочешь завладеть прекрасной,
Знай: время подойдет
И вас двоих охватит пламень властный.
А если вслед настанет день ненастный
И счастье скроется из глаз,
Надежду сохраняй,
что станет жизнь прекрасной
Со временем для вас.
С чаровницами, увиденными в зале, никто не мог бы сравниться — так показалось было принцу; но тут он понял, что ошибся, и притом самым наиприятнейшим образом, ибо музыкантши далеко превосходили красотою тех, кого он видел до сих пор. Точно по волшебству, он понимал все, что вокруг говорили, хотя и не знал языка, которым пользовались в этом дворце. И вот, когда он стоял за спиной одной из самых красивых нимф, у той упало покрывало, а принц, не подумав, что может испугать ее, поднял его и протянул ей. Она громко вскрикнула, и, должно быть, в первый раз в этом дворце кто-то был испуган. Все подружки ее обступили и принялись настойчиво расспрашивать.
— Вы решите, что я фантазерка, — отвечала им нимфа, — но я только что уронила покрывало, и нечто невидимое мне его протянуло.
Все засмеялись, а несколько нимф поспешили в покои принцессы позабавить ее рассказом об этом происшествии.
Адольф устремился вслед за ними, скрытый зеленым плащом, прошел через залы, галереи, бесчисленные комнаты и наконец попал в покои государыни. Она восседала на троне, сделанном из цельного карбункула, который сиял как солнце, но еще ярче сияли глаза принцессы Отрады, и такой совершенной была красота ее, что и дщерь самих Небес не могла бы быть краше. Она, во всем блеске юности и разума, вся пробуждала любовь и почтение; одежды скорее утонченные, нежели роскошные, белокурые волосы украшены цветами, в цветах была и шаль, а платье из газа с золотой нитью. Вокруг нее летали, резвясь, несколько Амуров, игравших в разные забавы: одни целовали руки принцессы, другие, сперва вскарабкавшись на плечи своих товарищей, потом взбирались на ее трон и венчали ей голову цветами. Услады приплясывали вокруг нее; словом, такое увидел принц кругом великолепие, что и представить себе нельзя. Он же был вне себя от восторга, хотя и с трудом выдерживал сияние принцессы, столь взволнованный и потрясенный, что не думал больше ни о чем, кроме прелестного создания, уже им обожаемого; плащ соскользнул у него с плеч, и принцесса увидела его. Она никогда прежде не встречала людей и была крайне удивлена. Адольф, которого она теперь обнаружила, с благоговением пал к ее ногам.
— Великая принцесса, — промолвил он, — я пересек всю вселенную, чтобы созерцать вашу божественную красоту, отдаю вам мое сердце и все мои помыслы. Откажетесь ли вы? — У принцессы был живой и веселый нрав. Однако тут она долго молчала в замешательстве; до сих пор ей никогда не приходилось встречать ничего и никого милее этого существа, показавшегося ей единственным в своем роде; это натолкнуло ее на мысль, что перед нею, должно быть, Феникс[421], столь редкий и столь превозносимый. Утверждаясь в своем заблуждении, она сказала:
— Прекрасный Феникс (ибо, думаю, вы не кто иной, как он, так вы совершенны, что на всем острове не найти ничего, вам подобного), мне так сладостно вас видеть, и какая досада, что вы только один на свете: а то как же несколько птиц вашей породы украсили бы мой вольер!
Адольф улыбнулся этой речи, исполненной очаровательного простодушия; между тем он не хотел, чтобы та, кого он уже любил страстно, продолжала заблуждаться на его счет, и потому принялся с жаром объяснять ей все, что ей следовало знать, и никогда еще ученица не делала таких успехов и не схватывала так быстро и легко все, чему ее обучали; вскоре она и сама могла уже кое-чему поучить. Она полюбила его больше, нежели себя самое, а он ее больше, чем себя самого; и нега любви, и красота и живость разума, и чувствительность сердца — все открылось нашим нежным возлюбленным. Ничто не нарушало их покоя, кроме одних только наслаждений; не досаждали им ни болезни, ни даже легкие хвори. Годы проходили, а они не старились, ибо в тех прекрасных местах воду пьют прямо из Источника вечной молодости[422]. Ни смут любовных, ни терзаний ревности, ни даже тех милых пререканий, что часто следуют за тихим покоем любящих и вскоре заканчиваются сладостным примирением, — даже и этого ничего не случалось с нашими влюбленными. Одни лишь радости опьяняли их, и никто из смертных до тех пор не знал столь долговечного блаженства, какое досталось принцу; но горек конец у счастья смертных, и отрады их недолговечны.
И вот однажды, сидя подле своей возлюбленной принцессы, Адольф поинтересовался, сколько времени он уже имеет счастье видеть ее.
— Рядом с вами время течет так быстро, — промолвил он, — я и думать забыл о том, как давно здесь нахожусь.
— Я скажу вам это, — отвечала она, — однако как полагаете вы сами: сколько времени вы здесь провели?
Принц поразмыслил, а затем сказал:
— Если бы я слушался только моего сердца и помышлял бы лишь о радостях, коих здесь вкусил, то думал бы, что провел здесь не более недели, однако, милая моя принцесса, если вспомнить, сколько всего тут со мною случилось, то выходит, что не меньше трех месяцев!
Принцесса громко рассмеялась, а потом сказала серьезно:
— Знайте же, Адольф, что прошло триста лет.
— Триста лет?! — воскликнул принц. — Что же теперь происходит в мире? Кто правит теперь? Как живут люди? А вернись я туда, — кто меня узнает, и кого узнаю я сам? Мои земли конечно же перешли в чужие руки. Я не могу больше надеяться застать в живых никого из родных; я буду государем без государства, на меня станут смотреть как на призрак, и я уже не буду знать нравов и обычаев тех, с кем рядом придется жить!
Принцесса с нетерпением прервала его.
— О чем вы сожалеете, Адольф? — сказала она. — Так-то вы платите за мою любовь и доброту к вам? Я впустила вас в мой дворец, вы в нем теперь хозяин. Здесь я сохраняю вам жизнь уже три века, вы не стареете, и, кажется, до сих пор вам здесь не приходилось скучать. А без меня сколько бы времени вас уже не было в живых?
— Я вовсе не так неблагодарен, прекрасная принцесса, — отвечал немного сконфуженный Адольф, — и знаю, скольким вам обязан. И все же, пусть и был бы я теперь мертв, зато, может быть, успел бы прежде совершить подвиги, увековечившие память обо мне. Теперь же я со стыдом сознаю, что добродетели мои остались без применения, а имя — без блеска славы. Таков был Ринальдо в объятиях Армиды, однако слава вырвала его из ее чар[423].
— Так, стало быть, слава вырвет и тебя из моих, жестокий?! — воскликнула принцесса, проливая потоки слез. — Ты хочешь покинуть меня, ты не стоить той скорби, что терзает меня!
Сказав так, она лишилась чувств. Принц был глубоко тронут, он очень любил ее; однако ж он всячески корил себя за то, что провел столько времени с возлюбленной, а ради геройской славы ничего и не совершил. Понапрасну пытался он скрывать, сколь этим огорчен; затосковал и вскоре совсем увял. Прежде столетия принимавший за месяцы, он теперь месяцы считал за века; принцессе горько было смотреть на это, ей не хотелось, чтобы он оставался с нею лишь из сострадания. Она объявила ему, что он — хозяин своей судьбы и может отправляться когда пожелает, но она боится, как бы не случилось с ним большой беды. Последние ее слова почти его не встревожили, зато первые — весьма и весьма обрадовали; и, хотя мысль о разлуке с принцессой его и печалила, однако же зов судьбы оказался сильнее. И вот он простился с той, кого обожал и которой был еще так нежно любим; он уверял ее, что, едва только сумеет стяжать себе славу и тем самым сделается еще более достойным ее расположения, то, не теряя ни минуты, вернется, дабы признать в ней свою единственную госпожу, единственную радость жизни. Природным красноречием своим восполнял он недостаток любви, но принцесса была слишком проницательна, чтобы обманываться: мучили ее печальные предчувствия, что вскоре навсегда утратит она того, кто так дорог ей.
Старалась она не показывать виду, как ей невыразимо больно. Адольфа своего, столь равнодушного, одарила она великолепным оружием и лучшим в мире скакуном.
— Вихрь (так звали коня) отвезет вас туда, где вам надлежит славно сразиться и победить, — сказала ему принцесса, — однако пусть нога ваша не коснется земли до тех пор, пока вы не окажетесь в родном краю, ибо волшебная сила, которой наделили меня боги, позволяет мне предвидеть, что, оставь вы мои слова без внимания, непременно попадете в такую беду, откуда и сам Вихрь не сумеет вас вытащить. — Принц обещал следовать всем ее советам; он покрыл поцелуями ее прекрасные руки и поскакал прочь из этих дивных мест с таким нетерпением, что даже забыл прихватить зеленый плащ.
Доскакав до края острова, храбрый конь бросился со своим седоком в реку. Переплыв ее, понесся он по долам и холмам, сквозь поля и леса пробегая столь стремительно, будто наделен был крыльями. Но вот как-то вечером, на узенькой извилистой тропинке, усеянной камнями да булыжниками и поросшей по краям терновником, путь им преградила телега. На ней кучей навалены были ветхие крылья всевозможных форм, мастей и покроев; телега перевернулась, придавив старичка, который ее вез. Его седины, дребезжащий голос и жалкий вид под тяжестью накрывшей его повозки тронули принца. Вихрь уже перепрыгнул через него и помчался было дальше, как вдруг старичок закричал:
— Ах, сударь, сжальтесь же, видите, я попал в беду; если не соблаговолите помочь, близок мой конец!
Тогда Адольф спешился, подошел к нему и протянул руку. Но увы! С немалым удивлением увидел он, как старик сам вдруг вскочил с неимоверной легкостью и схватил его так быстро, что тот не успел опомниться.
— Наконец-то я нашел вас, принц российский, — страшным и грозным голосом промолвил тогда старец, — я зовусь Время, и вот уже триста лет как разыскиваю вас, летая из конца в конец вселенной, так что износил все крылья, которыми полна эта телега; однако, как бы хитроумно вы ни прятались, от меня не уйдет ничто на свете.
Вымолвив это, он положил руку принцу на уста, да с такой силой, что тут же пресек его дыхание, задушив его.
В сей горестный миг мимо пролетал Зефир, который с живейшей скорбью стал свидетелем беды, приключившейся с его дорогим другом. Когда жестокий старик оставил принца, он приблизился и попытался теплом своего дыхания вернуть его к жизни, но тщетны были его старания. Тогда он взял его на руки, как в тот день, когда они узнали друг друга, и, горько плача, перенес в сады дворца Отрады, в грот, уложив его там на плоской вершине скалы. Разоружив принца, он усыпал его тело цветами; из оружия же сложил обелиск, а рядом воздвиг колонну из яшмы, выгравировав на ней следующие строки:
Все в мире Время победит,
Ничто пред ним не устоит.
Проходит красота с годами,
И лишь одним желаньям нет конца.
Вот мнится уж, что ты достиг венца,
Что вслед за тяжкими трудами
Тебе забрезжил счастья свет
И будешь жить теперь блаженно.
Но тут тебе судьба шлет горести в ответ,
Чтоб понял ты: любви на свете вечной нет,
А счастье не бывает совершенно.
Это был тот самый грот, где принцесса, безутешная с самого отъезда возлюбленного, каждый день пополняла воды ручья потопом своих слез. Как же радостно было ей найти там своего Адольфа, когда она полагала, что он так далеко от нее! Отрада подумала, что он только что вернулся, усталый с дороги, и уснул; сначала боялась разбудить его, но, не в силах противиться порыву нежности, раскрыв объятия, устремилась к нему; тут только и поняла, какое горе ее постигло. Она громко вскрикнула; даже самых бездушных потрясли бы ее стенания. И приказала тогда навеки запереть врата своего дворца; и вправду, с того горестного дня никто уже не мог похвастаться, что с нею накоротке, ибо так велика скорбь ее, что показывается она лишь изредка, и ей всегда предшествуют тревоги, сопутствуют огорчения, а следом идет досада — и теперь они ее постоянные спутники. Все люди тому свидетели, и после этой-то беды они и принялись говорить, что время всё побеждает, а отрады без горя не бывает.
Пер. М. А. Гистер
История о принце Одолфе Лампладïискомъ и Острове вѣчнаго весѣлия[424]
1.

2.
Принцъ же ответствовалъ (:) я незнаю исумневаюсъ что втакомъ месте нахожусъ. Старуха ответствовала (:) сие жилище бога Аола (—) ветров отецъ (—) ивсию пещеру входить совсеми детми (,) а я мать ихъ (,) атеперь ихъ нетъ — для того что они пошли поразнымъ местамъ исполнять свои должности вделахъ добродетели излости всвете — но толко я васъ очень сожалею (,) что вы здесь никакои пищи наитить неможете (.) ивдрух взашли впещеру ея дети ветры — Восточнои — Севернои — Западнои — и Южнои (,) иони все были мокры отдождя ищоки их виду неочень были веселы (,) понеже съ Принцом говорить начали сердитыми словами ичють ево неознобили. одинъ стал расказывать (,) что онъ разнесъ флотъ кораблей поразнымъ местамъ (,) адругïи привелъ въвелики страхъ многихъ кораблей, третïи далъ благополучную погоду многимъ кораблямъ (,) вчетверты сказалъ (,) что онъ вырывалъ древа искорени идомы дооснования испровергалъ — ивтотъ самой чась одолфъ увиделъ вшедшаго впещеру одново младова отрока велми прекрасна имного подобенъ купиде{2} (—) имелъ онъ крылья белыя (,) аïмя ему зефирь (;) исталъ расказывать (,) какъ быль упрекраснои пренцесы красоты и веселия (,) смотрелъ (,) где она гуляла совсеми нимфами (;) некоторыя плели короны изразных цветовъ (,) иïныя многия увеселенiя вïделъ (.)
3.
Адолфъ (,) слыша сия (,) стакимъ удоволствиемъ сожалелъ отомъ (,) и когда зефирь{3} пересталъ говорить (,) ионъ сказалъ (:) позволте мне (,) любезны зефирь (,) спросить васъ (,) вкоторомъ црстве сия прекрасная пренцеса (.) ответствовалъ зефирь (:) Воострове вечнаго веселия иникто (,) мои гсдрь (,) туда доити неможетъ (,) понеже сталъ завеликими инепроходимыми горами морями и лесами (.) любезны мои дети (,) сказала старуха (,) время покои иметь (—) уже позно (.) итако вси идоша спати (,) азефирь одолфа взявъ всвою пещеру ипрепроводили всю нощь вприятныхъ разговорах (.) наконецъ одолфъ просилъ (:) любезны мои зефирь (,) снетерпеливымъ моимъ желаниемъ хощу я видить сию пренцесу (.) Зефирь ответствовал (:) ежели имѣете великодушие иотдатите себя вмою волю (,) то непременно тамъ будите (;) иподари епанчу рече (:) аще ты наденешь зеленою стороною (,) то невидим будешь — итако насвои рамы повеле одолфу сести и поднялса навоздух илетелъ чрезъ горы моря иреки ичрезграды леса поля и озера (,) итако принесе наостровъ тои исказал ему тако (:) мои Гсдрь (,) я окончалъ свою службу (,) атеперь вы сами должны доставатъ что желаете (.)
4.
Адолфъ зефира благодарилъ запоказанную ево службу идля своего увеселѣния поспешалъ кьфартецïи{4} и полатамъ (,) икогда подошелъ кним ближе иувиделъ вокно одну нимфу (,) спустившую назалатом снурке корзину (,) иприказала садовнице нарвать цветовъ для пренцесы. садовницаже нарвавъ иположила вкарзину цветы (,) одолфъ же имея епанчю зеленою стороною итако невидимъ ими быстъ (,) селъ нацветы всамои тотъ маментъ (.) девица же встянула ево невидимо (;) тажъ епанча придавала ему легкость (,) икакъ скоро онъ туда встянут (,) то увиделъ себя въвеликом зале, нимфъ было тамъ множество (,) небыло старее пятнатцати летъ (;) волосы уних были увсех белорусыя (,) атело уних чрезвычайной белизны идиликатности было (.) иследуя одолфъ задевицами чрезъ каморы впренцесины покои (,) где сидела она натроне зъделанном изъеднаго камня (,) называемаго скорбунка{5} (,) имеяшеже присебе малинких{6} купидончиков цалующих ея руки (;) итако одолфъ отнетерпеливаго зрения напренцесу позабылса иуранил съсебя епанчю ипад преднозе ея съ великимъ почтениемъ (.)
5.
представлялъ ей осебе разговоры Тако (:) Великая Принцеса (!) Пришолъ Я вовселенную вашу чрезъ многия идалныя страны (,) принимая велики трудъ воотчаяние живота моего видить блистателную вашу красоту ивозревновавъ симъ способом которой имелъ все объявить еи случившѣеся впути (;) и Принцеса (,) оное отнего слыша (,) хотя иïмела великую всебе остроту иувïдев принца (,) задумалась (,) исия причина принудила думать офиниксе похвалном (.) иговорила принцеса тако (:) Прекрасны Финиксъ (—) я недумаю иному кому быть опричь васъ (,) понеже вы очинь премудры что никто (,) опричь васъ (,) вмоемъ острове ненаходится (—) ирадуюсъ (,) что я васъ вижу (,) аочести знать немогу (.) идолфъ сказалъ (,) что онъ отполуношнои страны принцъ адолфъ. слыша она онезнаемом человеке (,) удивилась премудрому проïску (;) ипомногих разговорах объявилъ свою любовъ (,) иона ему противности нимало непоказала (.) ипотомъ они другь друга безмерно любили (;) ичто имъ есть радости иумеления (,) то было въихъ сердце двухъ (,) иниодинъ члвкь такова счастия необреталъ. однако слабость всегда влечеть насебя злополучие.
6.
Ивсемъ случае (,) когда былъ упринцесы (,) думалъ что неболѣе осми дней снею веселится (;) вздумалъ спросить (;) нопренцеса узнала его мнение (.) Сказала (:) любезны мои одолфъ (,) тому уже триста леть (,) какъ ты всемъ острове (.) закричалъ одолфъ (:) Ахъ (,) вкакомъ состоянïи теперь светъ находится икто уменя моимъ гсдрствомъ владѣеть (,) ичто учиню (,) когда возвращюся вмое отечество, нетерпеливая пренцеса сию ево речь пресекла исказала (:) одолфъ (,) что сожалѣешь оботечестве итакли награждаешь любовь мою ктебе исохранение имела живота твоего три века напротивъ (,) одолфъ ответствовалъ (:) светлейшая принцеса (,) завсе сие покорно благодарствую (,) знаю ичювствую ивпредь чювствовать буду (;) толко изволте меня отпуститъ вмое отечество (.) вселюбезнеиши одолфъ (,) явижу (,) что ты меня хочишъ оставить (,) исердечно отомъ сожалею (;) однакожъ напоследокъ принуждена ево отпустить исказала (:) ну (,) одолфъ (,) лошадь тебе даю (,) которая называется бешаръ (;) она васъ препроводить довашихъ предков (,) толко снѣе несласте (,) аежели вы мои слова оставите (,) то никогда бешаръ выручить неможеть (.)
7.
Ипринцъ обещалса последовать ея словамъ (,) ицеловалъ тысичю расврозовыя ея уста ируки иотнестерпеливости позабылъ свою епанчю (.) ипотомъ скоро лошадь бросилась воезеро ипереплыла снимъ бесповреждения (;) потомъ ехалъ чрезъ горы идалины (,) пробежалъ рощи и поля стакою скоростию (,) что казалось ему (,) бутто бы онъ накрыльяхъ ветренних летелъ: ивоединъ вечеръ ехалъ онъ поускои дороге инаехалъ одну каляску (,) которая лежала поперекъ дороги (,) авнеи было накручено старыми крыльями зделанныя изразных манеровъ иопрокинута весма надстарым члвекомъ (,) которои (,) увидя принца (,) закричалъ благимъ матомъ (:) сотвори милосерды принцъ надомною милость (.) когда бешаръ хотелъ перескочить чрезъ коляску (,) онъ вовторое просит сослезами (:) государь мои (,) покажи милость надсостоянием моим (,) аежели непокажите млсти (,) то моя жизнь непродлитца болѣе чеса (.) адолфъ умилосердися (,) слесъ слошади иподошедъ подалъ ему руку (,) ножестоко тому удивился (,) что тотъ старикъ всталъ самъ съ такою бодростию (,) что принцъ немогъ клошади обратитца (,) аон занево иухватился.
8.
и Сказалъ ему голосомъ веема громким (:) я тебе (,) принцъ (,) объявляю осебе (:) меня зоуть{7} Время (;) я васъ искалъ повсему свету болѣе трех вековъ ïизмахалъ все свои крылья (,) ихотя бы вы где необретались (,) я бы васъ везде нашолъ (.) ивтоть чась летелъ зефирь чрезъ то место (,) увидя несчастие искренняго своего друга свеликою досадою исожаленïем (.) когда сеи стары мучитель осгавилъ его (,) тогда онъ подошелъ кнему (,) дабы его жизнь чрезъ слаткое дыхание даровать (,) новсе было въ туне (.) потомъ уже (,) взявъ ево вевои руки иплакалъ доволно и отнесь ево всадъ наостровъ вечнаго веселия иположилъ водин грот инагробнице вырезал сïи вирши{8} (:) Время есть время (,) гсдинъ (,) иниединаго нетъ (,) чтобъ доконца непроисходилъ (.) красота проходить згодами: ачлвчески разум во3мущает многия забавы (,) авыдуммывают разныя желанïи (,) аежели надѣется засвои трудъ (,) онои Гротъ{9} въ награждение быль тутъ. Конецъ.
Мадемуазель де Ла Форс
Персинетта[425]

По соседству с ними жила одна фея, которая на всю округу славилась своим великолепным садом. Всевозможные фрукты, травы да цветы росли там в изобилии.
В те времена петрушка была в тех местах в диковинку; фея выписала ее из самой Индии, и во всем краю ее сад стал единственным, где водилось это редкое растение.
И вот юной супруге страстно захотелось попробовать неведомой петрушки; но она знала, что нелегко будет утолить ее желание, ведь в таинственный феин сад никто входить не отваживался. От этого впала она в такую тоску и томление, так осунулась, что даже муж с трудом ее узнавал. Он и так, и эдак расспрашивал о причине ее и душевной скорби, и телесной немощи; долго не открывала жена ему причины своей печали, но наконец, сломленная его уговорами, нехотя призналась, что ей очень хотелось бы отведать петрушки. Муж только вздохнул: ведь он знал, как нелегко исполнить ее желание. Но для истинной любви нет ничего невозможного, и он стал денно и нощно ходить вокруг сада, пытаясь проникнуть за ограду, которая была так высока, что казалась неприступной.
И вот в один прекрасный вечер приметил он, что ворота сада приоткрыты. Он проскользнул в феины владения, и так ему повезло, что сразу же попалась на глаза петрушка, и нарвал он ее полную пригоршню. Верный супруг вышел из сада той же дорогой, что вошел, и радостно понес жене свою добычу. Та с жадностью набросилась на петрушку; однако не прошло и пары дней, как ей с новой силой захотелось откушать чудесной травы.
Надо полагать, петрушка в тех краях была необыкновенно вкусна.
Несколько раз несчастный ее супруг возвращался к воротам чудесного сада, но все тщетно. Наконец он был вознагражден за настойчивость: ворота снова оказались открыты. Он вошел — но каково же было его удивление, когда навстречу вышла сама фея, сурово выругавшая его за дерзость, с которой он проник в ее сад, куда входить ни одной живой душе не разрешалось. Весьма пристыженный молодой человек упал на колени, умоляя фею о прощении и уверяя, что его молодая супруга наверняка умрет, если не скушает немножко петрушки; он признался, что женушка его тяжела, и, стало быть, слабость ее в некотором роде простительна.
— Так и быть, — сказала фея, — я дам вам петрушки, сколько пожелаете, если только вы согласитесь отдать мне за это дитя, которое вашей благоверной предстоит произвести на свет.
Муж, недолго поразмыслив, обещал фее младенца. Затем он набрал петрушки, сколько смог унести.
Когда подошло время, фея явилась к роженице, только что разрешившейся чудесной девочкой, и нарекла малютку Персинеттой. Затем она укутала ее в златотканые пеленки и брызнула ей в лицо драгоценным эликсиром, который носила с собой в хрустальном сосуде: от этого девочка в мгновение ока сделалась так прелестна, что равных на всем белом свете не сыщешь.
После всех этих прихорашиваний фея отнесла дитя к себе. Для воспитания малютки волшебница ни на что не скупилась, и та уже в двенадцать лет стала чудом из чудес. Однако пестунья знала, что предначертано девочке, и решила уберечь воспитанницу от судьбы.
Силою чар возвела она в чаще леса высокую башню из чистого серебра. В этой таинственной башне совсем не было дверей, зато покои столь великолепны, просторны и так светлы, будто в них постоянно сияло солнце, — то тихо рдели во всех комнатах огромные карбункулы. Всего было там в изобилии, разнообразные диковинки свезли отовсюду в эту волшебную башню. Стоило Персинетте открыть какой-нибудь ящик или ларец, как тут же оказывалось, что он доверху полон драгоценностей; платья ее не уступали нарядам восточных цариц; стоило в свете появиться какой модной новинке — и девушка тут же оказывалась ее обладательницей. Однако в столь дивной обители жила она одна-одинешенька, и для полного счастья ей не хватало только общества; все остальные ее желания сбывались, едва лишь она успевала о них подумать.
И, уж разумеется, на столе у нее не переводились самые утонченнейшие кушанья. Так что скажем без лукавства — Персинетта, не знавшая на свете никого, кроме феи, совсем не скучала в своем уединении: она читала, рисовала, музицировала, наконец, находила себе забавы, в коих знает толк каждая благовоспитанная девица.
Фея отвела ей покой на верху башни, в светелке с всего одним окошком, и, поселив ее в этом милом укромном уголке, спустилась через окно и отправилась восвояси.
Персинетта же, оставшись одна, нашла чем поразвлечься: не будь даже у нее иной забавы, как только копаться во всевозможных ящичках и шкатулочках, — и этого уже немало, чтобы занять себя на весь день. Сколько бы девушек ей позавидовало!
Из окна башни открывался прекраснейший на свете вид: направо — бескрайнее море, налево — огромный лес; куда ни взгляни — глаз радуется. У Персинетты был дивный голос, и она очень любила петь — особенно когда поджидала фею. А та частенько к ней наведывалась и, подойдя к подножию башни, говорила:
— Персинетта, спустите мне косы, по ним я к вам и поднимусь.
А косы у Персинетты, надо сказать, были чудо как хороши: длиною не менее тридцати локтей, а носить легко, и сияют точно золотые; множество разноцветных лент красовалось в них. Персинетта спускала их фее, и та поднималась к ней.
Однажды Персинетта одна сидела у окна; она запела, да так прелестно, как никто еще, кажется, на свете не пел.
В это время молодой принц, выехавший в лес на охоту, гнал оленя и отбился от свиты. Услышав сладостные звуки, он поскакал к башне и увидел в окне юную Персинетту. Принц был очарован ее красотой, околдован ее голосом. Он несколько раз обошел вокруг роковой башни, но дверей так и не нашел. Тогда он так огорчился, что чуть не умер; но любовь вселила в него небывалую храбрость, и он решился забраться наверх.
Персинетта же сама едва не лишилась речи, когда увидела такого красавца. Долго она в изумлении любовалась им, но вдруг вскочила и отбежала от окна, подумав, что это, должно быть, одно из тех чудовищ, которые, как ей доводилось слышать, убивают взглядом, — вот какими опасными показались ей взоры незнакомца.
Принц же пришел в отчаяние: куда вдруг скрылась прелестница? Он попытался разузнать о ней по всей округе; ему рассказали, что фея, которая возвела башню, держит там взаперти юную девицу. Принц бродил вокруг целыми днями. И вот однажды он увидел, как фея, подойдя к башне, произносит:
— Персинетта, спустите мне косы, по ним я к вам и поднимусь.
Тут же прелестница спустила свои прекрасные длинные косы, а фея взобралась по ним к окошку; такой способ ходить в гости показался принцу весьма необычным.
На следующий день, с трудом дождавшись, когда стемнело и фея, как думалось ему, уже не придет, он встал под окошком и, очень похоже передразнивая голос и интонации феи, произнес:
— Персинетта, спустите мне косы, по ним я к вам и поднимусь.
Бедняжка Персинетта, не почуяв обмана, подбежала к окну и проворно спустила свои дивные косы, и принц взобрался по ним наверх; заглянув в окно и увидев это чудо красоты так близко, он едва не упал вниз, однако, призвав на помощь всю свою природную храбрость, все же вошел в комнату и, бросившись к ногам прелестницы, обнял ее колени с горячностью, весьма убедительной для юной особы. Персинетта сперва испугалась и задрожала и осмелела лишь тогда, когда почувствовала в своем сердце любовь, равную той, что она внушила принцу. А тот, набравшись храбрости, предложил ей немедленно сделаться его супругой, на что она согласилась, не сознавая толком, что делает; так оно и сладилось.
Принц был счастлив; Персинетта любила его, как будто так и надобно. Они виделись каждый день; наконец она стала тяжела. Это незнакомое положение немало ее обеспокоило, принц же, не желая пугать ее, не стал ей ничего объяснять. А вот фея с первого взгляда догадалась, что за недомогание у ее подопечной.
— Ах, несчастная! — вскричала она. — Вы совершили тяжкий проступок и будете за него наказаны. От судьбы не уйдешь, и все мои предосторожности оказались тщетны.
И фея потребовала, чтобы Персинетта рассказала ей все подробности своего приключения, что бедняжка и сделала, плача навзрыд.
Волшебницу нимало не тронула история нежной любви, которую ее воспитанница рассказала со всем очаровательным простодушием. Схватив Персинетту за волосы, она обрезала ее драгоценные косы; затем они обе спустились через окно. Оказавшись у подножия башни, фея призвала облако снизойти с небес; обе они взошли на него и перенеслись на берег моря, в весьма пустынную, но не лишенную приятности местность. Были там и луга, и леса, и ручьи студеной водицы, и еще стояла маленькая хижина, сложенная из вечнозеленых листьев. В хижине была кровать из морского камыша, а рядом с нею — корзина с превосходными бисквитами, которых там никогда не убывало. Туда-то фея и отвела Персинетту и оставила одну, прежде осыпав упреками, показавшимися бедняжке горше самой беды ее.
Здесь и произвела она на свет двоих малышей, принца и принцессу, здесь же она их и воспитывала, оплакивая свою злую долю.
Фее же мало было такой мести: ей хотелось залучить себе в лапы и самого принца, чтобы покарать и его. Оставив бедняжку Персинетту, она тут же вернулась в башню, села в ее светелке и запела ее голосом. Обманутый этим, принц явился под окно и, по обыкновению, попросил спустить косы; а злодейка-фея ведь недаром отстригла их у прелестной Персинетты. Она спустила их ему, и несчастный поднялся к окну, где был не столько удивлен, сколько убит горем, не найдя своей возлюбленной, зато услышав от феи:
— Наглец! Ваше преступление неслыханно, и ужасным будет наказание!
Принц же, не слушая угроз и думая лишь о любимой, спросил:
— Где же Персинетта?
— Вы ее больше не увидите! — отвечала фея. И тогда принц, горе которого было несказанно сильнее любых колдовских чар, бросился с высокой башни. Он должен был бы разбиться насмерть, однако, упав, не погиб, а лишь ослеп.
Пораженный тем, что утратил зрение, он еще походил у подножия башни, стеная и неустанно зовя Персинетту.
Потом он пошел, сам не зная куда, сперва спотыкаясь на каждом шагу; впрочем, привык он к слепоте и прожил незнамо сколько, одинокий как перст; некому было помочь ему, и никто не стал поводырем его. Голод утолял он как мог травами да кореньями.
Так скитался он несколько лет и наконец, совсем обессилев от любви и бедствий, лег под деревом, отдавшись скорбным мыслям; нет занятия горестнее для того, кто заслуживает лучшей участи. Но вот раздумья его прервал чей-то дивный голос; звуки его проникали в самое сердце, пробуждая в душе нежные чувства, от которых он, казалось, давно отвык.
— О боги! — воскликнул он. — Я слышу голос Персинетты!
И правда: он, сам того не зная, добрался до той пустынной местности, где жила его возлюбленная. Она сидела на пороге хижины и пела скорбную песнь своей любви. В двух шагах играли двое детей, прекрасных, как ясный день. Вот они отбежали от нее, вот они уже под тем деревом, где лежал принц; и, лишь только увидев его, оба бросились ему на шею, все повторяя:
— Отец, отец. Вот наш отец!
И они принялись так громко звать мать, что она бросилась к ним, не зная, что и думать: до сих пор ничто не тревожило ее одиночества.
Каковы же были ее удивление и радость, когда она узнала своего дорогого супруга! Этого не выразишь словами. Она громко вскрикнула; из глаз ее хлынули потоки слез, что при подобных обстоятельствах весьма естественно. Но — о чудо! Лишь только драгоценная влага из глаз ее коснулась глазниц принца, как тот вмиг прозрел! Видел он теперь зорко, как прежде, и дар этот получил от своей нежной и страстной Персинетты. И тогда, прижав ее к сердцу, он стал ласкать ее, как не ласкал никогда прежде.
До чего же трогательно было видеть прекрасного принца, очаровательную принцессу и их милых деток! Все были вне себя от радости и нежности.
Весь день пролетел в подобных утехах; наступил вечер, и маленькой семье пришлось позаботиться о пропитании. Принц взял бисквит — бисквит превратился в камень. Такого чуда как не испугаться? Он вздохнул печально. Бедные дети заплакали. Несчастная мать думала хоть водой их напоить — вода превратилась в хрусталь.
Что за ночь! Такой ночью не разоспишься. Всем им не раз думалось, что она станет для них вечной.
Как только рассвело, они решили поискать съедобных трав. Но что же это! В их руках все превращалось в жаб и прочих ядовитых гадов. Самые безобидные птички оборачивались драконами или гарпиями и летали вокруг них, наводя ужас.
— Все кончено! — воскликнул принц. — Дорогая моя Персинетта, я нашел вас лишь для того, чтобы снова потерять — и потерять так ужасно!
— Умрем же, дорогой принц, — отвечала она, нежно обнимая его, — и пусть самая смерть наша будет так сладка и нежна, что позавидуют нам враги наши!
Они держали на руках своих бедных деток, которые так ослабли, что были уже на волосок от смерти. Кого бы не разжалобила эта картина: все несчастное семейство гибнет! Но вот свершилось благое чудо. Сама фея, растрогавшись и вспомнив, как нежно любила когда-то милую Персинетту, явилась на помощь воспитаннице. Волшебница примчалась на колеснице, сиявшей золотом и драгоценными каменьями; на эту колесницу она взяла наших счастливых влюбленных, сама устроилась между ними, а любезных деток их усадила в ногах на великолепных подушечках. И так долетели они до дворца короля, отца нашего принца. Тут уж всеобщая радость была безмерна: принца встретили как настоящее божество, ведь все давно уже считали его погибшим. Он же был наверху блаженства, обретя наконец, после стольких гроз и треволнений, и покой и защиту. И жил он с тех пор со своей бесподобной супругой так счастливо, как никому еще на свете не случалось.
* * *
Супруги нежные! Вот в сказке вам урок:
Тот счастье обретет, кто любит верно.
Беда, болезнь, неумолимый рок
Отступят перед вами в срок,
Коль страсть взаимна и нелицемерна.
Все скорби не страшны, не тяжек труд,
Когда в согласье муж с женой живут.
Пер. М. А. Гистер
ПРИЛОЖЕНИЯ
М. А. Гистер
Мари-Катрин д’Онуа и литературная сказка: у истоков жанра
В зарисовке о прогулке в Сен-Клу, которой открывается третий том «Сказок фей» Мари-Катрин д’Онуа, есть такой эпизод: мадам Д…, под чьим именем автор изображает себя самое, выражает желание присесть отдохнуть и просит спутников о ней не беспокоиться, — ведь ни скука, ни одиночество ей не грозят: напротив, — на берегу ручья она надеется повстречать какого-нибудь сильвана или дриаду.
— Поскольку ваша предполагаемая беседа с хозяевами леса может и не состояться, — сказал ей господин Сен-П…, — оставляю вам эти «Сказки», которые с приятностью развлекут вас.
— Хорошо бы это были не те, которые я же и написала, — отвечала мадам Д…, — тогда я хоть могла бы насладиться прелестью новизны; однако же оставьте меня здесь и не беспокойтесь, я найду, чем заняться.(с. 187–188 наст. изд.)
В 1697 году — когда выходит третий том «Сказок фей» — мадам д’Онуа уже имеет право на подобный ответ: французская литература к тому времени насчитывает целых двадцать шесть сказочных текстов, одиннадцать из которых принадлежат Шарлю Перро (если считать сказками «Гризельду» и «Смешные желания», более близкие к жанру новеллы), три — г-же Леритье де Вилландон, два — Катрин Бернар, зато остальные десять (включая «Остров Отрады», самую первую сказку во французской литературе Нового времени) — «мадам Д…», то есть самой мадам д’Онуа.
Жизнь мадам д’Онуа
Мари-Катрин Ле Жумель де Барнвиль, в замужестве баронесса (по другим данным — графиня) д’Онуа родилась в 1650 или 1651 году в семье мелкопоместных дворян. В 1666-м, когда ей еще нет и шестнадцати лет, ее мать, Жюдит-Анжелик Ле Кустелье де Сен-Патер, во втором браке маркиза (по другим данным — графиня) де Гюдан, выдает ее замуж за разночинца Франсуа де ла Мота, судейского, купившего баронство (иначе графство) д’Онуа. Муж Мари-Катрин — главный контролер при дворе Конде — на 30 лет старше своей молодой жены; он — друг матери своей нареченной и любовника первой, г-на Курбуайе. Три года спустя, в 1669-м, мать Мари-Катрин, ее любовник маркиз Курбуайе и их сообщник г-н Ла Муазьер (есть данные, что он был любовником самой Мари-Катрин), поссорившись с бароном д’Онуа, обвиняют его в оскорблении короля. Барон арестован. Обвинение грозит ему смертной казнью. Однако, заподозрив приятеля и тещу в заговоре, он находит возможность сообщить об этом самым высокопоставленным людям Франции. В результате дознания, инициированного министром Кольбером, контролером финансов и фактически главой правительства, господин д’Онуа оправдан и отпущен на свободу, а Курбуайе и Ла Муазьер обезглавлены после предъявленного им обвинения в клевете и заговоре.
Первым помощником Кольбера в это время служит Шарль Перро. Хотя о его участии в этом деле не сохранилось никаких данных, он, во всяком случае, не мог не быть подробно осведомлен обо всех перипетиях этой истории. Интересно другое: только здесь мы можем констатировать единственное достоверное пересечение судеб Мари-Катрин д’Онуа и Шарля Перро — двух наиболее заметных мастеров зарождающегося жанра литературной сказки.
Скрываясь от судебного преследования, мадам де Гюдан бежит в Испанию, где становится тайным двойным агентом, — за это французский двор со временем простит ее. Скрываться от королевского правосудия приходится и молодой баронессе д’Онуа. Убегая из-под носа преследователей, она прячется в церковном катафалке; история этого бегства достойна авантюрного романа, тем более что сегодня ее невозможно восстановить в фактической точности. Так или иначе, в этот раз — в конце 1669-го или начале 1670 года — ареста удается избежать, однако в 1671-м или 1672-м ее все-таки заключают в Консьержери, вместе с маленькой дочерью Мари-Анн. Вскоре освободившись, баронесса д’Онуа уезжает во Фландрию. Последующие годы — скитания и рождение еще двух дочерей, — которых барон д’Онуа, давно не живший с супругой, признать не согласился.
К моменту возвращения во Францию (1685 год) мадам д’Онуа посетила Фландрию, Испанию и — дважды — Англию. О своих испанских впечатлениях она рассказывает в таких произведениях, как «Воспоминания об испанском дворе» (Mémoires de la cour d’Espagne; 1690), «Рассказ о путешествии в Испанию» (Relation du voyage d’Espagne; 1691) и сборнике «Испанские новеллы» (Nouvelles Espagnolles; 1692). Позднее именно «испанские новеллы», т. е. истории на испанские темы, станут обрамлением третьего и четвертого томов ее «Сказок фей». В то же время все ее тексты об Испании полны компиляций, ошибок, откровенного вымысла и столь неправдоподобных деталей, что это заставило некоторых критиков усомниться, бывала ли она в этой стране вообще. Тем не менее как для современников, так и для издателей начала XVIII века и для читателей вплоть до XIX, мадам д’Онуа — прежде всего автор испанских воспоминаний. Имя автора на титульном листе многих ее изданий выглядит следующим образом: «Г-жи д’(Онуа), автора „Воспоминаний об испанском дворе“». Этому тексту в течение нескольких лет расточает похвалы «Mercure Galant»: «Давно не попадалась нам книга, которая имела бы столь шумный успех, как „Воспоминания об испанском дворе“, и которую было бы столь же приятно читать» (Mercure Galant 1692: 131).
Вернувшись на родину, мадам д’Онуа посвятила остаток жизни сочинению и изданию всех своих литературных произведений. Многие из них, в особенности роман «История Ипполита, графа Дугласа» (Histoire d’Hypolite, comte de Douglas; 1690), «Сказки фей» (Les Contes des Fées; 1698) и «Новые сказки, или Модные феи» (Contes nouveaux ou Les Fées à la mode; 1698) пользовались большой популярностью. В Париже она открыла литературный салон, который, наряду с высшей знатью (там бывала принцесса де Конти), посещали и писательницы, — например, графиня де Мюра и Мари-Жанна Леритье де Вилландон. Вместе с «коллегой»-сказочницей Катрин Бернар, к тому времени уже прославившейся своим романом (а точнее, по собственному определению автора, «испанской новеллой») «Инесса Кордовская», она была принята в падуанскую Академию Риковрати{10}. Среди девяти «Французских муз, или Прославленных женщин Франции» (фр. «Muses françoises ou Dames Illustres de France»; орфография источника сохранена) в этой Академии первой была мадемуазель де Скюдери; Мари-Катрин д’Онуа стала седьмой; ее назвали Красноречивой (фр. Eloquente), а ее место соответствовало месту музы истории Клио.
В 1699 году салон мадам д’Онуа оказался в центре компрометирующего скандала — одну из его посетительниц по имени мадам Тике обвинили в убийстве мужа и обезглавили на Гревской площади. Но причастность писательницы к этому делу не была доказана и преследованию она не подвергалась.
Мари-Катрин д’Онуа скончалась в январе 1705 года в своем доме в предместье Сен-Жермен.
Мода на сказку в конце «Великого века» и сказки мадам д’Онуа
Мода на сказку как на салонный устный жанр приходит во Францию в годы расцвета царствования Людовика XIV, а литературная сказка формируется на закате «Великого века». В основе большинства французских литературных сказок рубежа XVII–XVIII веков лежат сюжеты народных волшебных сказок (см. таблицу «Сказки и сборники сказок. 1690–1705 гг.» в наст. изд.). Историю литературного жанра во Франции открывает «Остров Отрады» — вставная сказка из романа Мари-Катрин д’Онуа «История Ипполита, графа Дугласа» (1690). Об этом романе, а также его русском переводе и лубочных версиях обрамленной сказки речь пойдет ниже. Приведем пока лишь одно суждение, которое кратко обозначит место произведения в литературном процессе: «Примером трансформации традиционных топосов в сторону традиционного романа XIX в. может служить первый нашумевший роман мадам д’Онуа „История Ипполита, графа де Дугласа“» (Чекалов 2008: 194).
Первая сказка Шарля Перро, «Маркиза де Салюсс, или Терпение Гризельды» (La Marquise de Salusses ou la Patience de Griselidis; 1691), которой, впрочем, больше подходит определение «новелла в стихах», появляется почти годом позже. «Сказки фей» мадам д’Онуа выходят в один год с «Историями, или Сказками былых времен» Шарля Перро (Histoires ou Contes du Temps passé; 1697); к этому времени свет уже увидели сборник «Смешанные произведения» (Oeuvres meslées; 1695) мадемуазель Леритье и «Инесса Кордовская, испанская новелла» (Inès de Cordoue, nouvelle espagnole; 1696) Катрин Бернар. Само заглавие первого сборника мадам д’Онуа, «Сказки фей», сразу же входит в литературный обиход и становится определением всего жанра, правда, в несколько измененном виде: «contes de fées», т. е., скорее, «волшебные сказки» — любые, в которых есть элемент волшебства, а также характерная сюжетная схема, описанная В. Я. Проппом в книге «Морфология сказки» (см.: Пропп 1928): прежде чем получить искомое, герой должен пройти через испытания. Иными словами, термин «contes de fées» синонимичен термину «conte merveilleux» (т. е., буквально, «волшебная сказка»). Не будем забывать, что во французском языке существует глагол «féer» (заколдовывать), более часто, и особенно в эпоху Перро и д’Онуа, употреблявшийся в своей причастной форме: fee(e), т. е. «заколдованный (ая)». (Ср. в сказке Ш. Перро «Синяя Борода»: среди ее персонажей нет фей, но про ключ, с которого не смывается кровь, сказано, что он был заколдован — в оригинале: «car la clef était féée».)
Но во французском высшем обществе интерес к сказке возник задолго до публикации первых опытов и сборников, еще в 1670-е годы, когда длинные волшебные истории начинали входить в моду при дворе и в салонах (см.: Storer 1972: 13). Тот факт, что волшебная сказка, сначала в устной форме в салонной среде, а затем и как литературный жанр, заняла столь важное место во французской культуре конца XVII века, лишь отчасти объясняется популярностью итальянских сборников, таких как «Пентамерон» (Il Pentamerone), он же «Сказка сказок» (Lo cunto de li cunti; 1634–1636) Базиле или «Приятные ночи» (Le Piacevoli notti; 1550–1553) Страпаролы. Современный бельгийский исследователь французской прециозной культуры Жан Мениль замечает, что сказочная образность сперва заняла важное место в придворной культуре, а уж потом вошла в литературный обиход (см.: Mainil 2001). Вспомним хотя бы то, что Версаль, резиденция короля-Солнце, позиционировался не только как мифологический дворец Аполлона, но и как сказочная страна, о чем свидетельствуют роскошные празднества в мае 1664 года, получившие название «Утех очарованного острова» (фр. Les Plaisirs de l’Île enchantée). Красота и изобилие обозначены тут как топосы волшебной сказки. Вскоре и сам король становится сказочным персонажем: это его изображает Жан де Прешак (1647–1720) в своей сказке «Бесподобный» (Sans-Paragnon; 1698). В истории заглавного персонажа, которая начинается задолго до его рождения, легко угадываются основные моменты биографии Людовика XIV, а также его ближайших предков (начиная от бабушки и дедушки по материнской линии, Филиппа III Испанского и Маргариты Австрийской); в аллегорической форме излагаются основные вехи царствования короля-Солнце. В финале сказки есть некоторая двусмысленность: оказывается, что Бесподобный, всю жизнь служивший своей возлюбленной, Прекрасной Славе (фр. Belle-Gloire), растратил ради нее все свои сокровища (см.: Hall Bjørnstad 2013: 163–178). Данный текст входит в сборник, состоящий всего из двух сказок (см. таблицу «Сказки и сборники сказок. 1690–1705 гг.») с необычным заглавием, которое можно перевести как «Сказки, менее сказочные, чем иные». Такая формулировка, очевидным образом, призвана напомнить читателю, что все, описанное в тексте, как бы сказочно оно ни было, на самом деле в точности отображает реальность «Великого царствования» и того, что ему предшествовало. Людовик XIV упоминается и в сказках мадам д’Онуа. Мораль «Принцессы Розетты» призывает проявлять милосердие к поверженным врагам:
Пусть милость станет праведным отмщеньем.
Людовик в том примером служит нам.
(С. 128 наст. изд.)
В сказке «Лесная лань» дворец фей изображается так: «дело в том, что строить его они пригласили того же архитектора, что возвел дворец Солнца, и он сделал все как там, только в миниатюре» (с. 464 наст. изд.). Тут прочитывается явный намек на Версаль, дворец короля-Солнце.
1690-е — закат царствования Людовика XIV, когда Версаль уже не воспринимается как сказочная страна Радости (фр. Pays de Joie, как в сказке «Мышка-Добрушка»). На некоторое время его сменяет Сен-Клу, резиденция Филиппа Французского, герцога Орлеанского, — он, как младший брат короля, носил титул «Месье», — и его супруги «Мадам», Шарлотты-Елизаветы Баварской, «Принцессы Палатинской», т. е. Пфальцской (см.: Mainil 2001: 56–58). Туда же переходит и сказочно-мифологическая топика, ранее свойственная текстам о Версале. Это видно и из посвящений, которые госпожа д’Онуа обращает к «Мадам», и из зарисовки, обрамляющей третий том сказок: она так и называется «Сен-Клу».
Сказка рубежа 17–18-го столетий как литературный жанр эволюционно связана с галантным (прециозным) романом середины и второй трети XVII века. Основу прециозной литературы заложил чрезвычайно популярный в XVII веке пасторальный роман Оноре д’Юрфе (1568–1625) «Астрея» (L’Astrée), необыкновенно объемистый. Первая часть вышла в 1607 году, вторая — в 1610-м, третья — в 1618-м. Четвертая и пятая — вышли в 1627–1628 годах, — уже после смерти автора дописаны и изданы его секретарем Бальтазаром Баро (1596–1650). Роман д’Юрфе и, шире, сам жанр пасторального романа начиная с эпохи барокко заложили основы и формы прециозного повествования: он изобилует вставными новеллами, стихотворениями (все то, что есть и у д’Онуа), но действие его происходит в конкретный исторический период — в Галлии V века. При этом автор смело соединяет историческую конкретику с весьма условным материалом: в центре сюжета — любовь пастушки Астреи и пастуха по имени Селадон. Имя героини взято из древнегреческой мифологии: так звали наделенную всеми мыслимыми достоинствами дочь Зевса и Фемиды (по другим версиям — титана Астрея и богини Эос). Мифологическая Астрея была последней из бессмертных, жившей среди людей, которые в то время безмятежно пасли скот. Этот период жизни человечества изображен в поэме Гесиода «Труды и дни», где он назван «Золотым веком». К нему также применяется выражение «Золотой век Астреи». Символично, что сама Астрея была персонификацией справедливости; по прошествии Золотого века она удалилась от людей. Разумеется, довольно своевольная и капризная героиня д’Юрфе — уже не воплощение справедливости; имя ее обусловлено тем, что она — «звезда» (буквальный перевод), живущая в своего рода Золотом веке. Имя возлюбленного героини, Селадона, надолго стало нарицательным для верного и безупречного влюбленного. Довольно многочисленные аллюзии на «Астрею» встречаются и у мадам д’Онуа. В сказке «Золотая Ветвь» герой изображен следующим образом:
<…> сам [он] облачился в наряд из розовой тафты, отделанный английским кружевом, взяв в руки посох с повязанными лентами, а на пояс повесив сумку, — в таком виде он был прекраснее, чем все Селадоны мира.
(с. 144 наст. изд.)
Важно в данном случае не только само имя Селадона, сделавшегося для поколений читателей и читательниц эталоном верного любовника, но и описание его наряда, совпадающее с изображением на знаменитом гобелене «Селадон бросается в Линьон», и пастушеского посоха — также в соответствии с гобеленами и живописными образцами эпохи, см. ил. 202. О влиянии пасторальной литературы на сказки мадам д’Онуа подробно пишет М.-А. Тирар (см.: Thirard 1998: 165–180). Об остальных аллюзиях на «Астрею» речь пойдет ниже.
Однако именно чрезмерная длина «Астреи» сыграла важную роль в становлении жанра литературной сказки, в распространении моды на сказку и другие малые прозаические жанры. Аббат Шуази (1644–1724), писатель и священник, автор повести «Новая Астрея» (La nouvelle astrée; 1712), представляющей собою краткий пересказ огромного романа д’Юрфе, рассказывает о том, как у него родился такой замысел. Некая дама призналась ему, что не любит «Астрею», — и он принялся советовать ей, как исправить длинный роман д’Юрфе, сократив повествование, убрав ненужные детали, лишних персонажей и научные экскурсы (см.: Пахсарьян 2010). Подобную же отповедь встречаем и в эссе писателя той эпохи Жан-Пьера Клори де Флориана (1755–1794) о пасторали:
Но в ней
(«Астрее». — М. Г.)десять томов, и длинноты — самый ужасный недостаток любых произведений — особенно непереносимы в пасторали. Они, почти всегда являясь результатом излишнего количества эпизодов, имеют свойство утомлять и отвлекать от основного действия. Все эти герои, все эти пастушкú, каждый из которых рассказывает свою историю, заставляют забыть о тех, кого уже успели полюбить, захватывают внимание читателя и в конце концов делают его ко всему равнодушным.(Флориан 2005: 108. Пер. Н. В. Забабуровой)
Сказочницы 1690–1700-х годов — и Мари-Катрин д’Онуа, и ее современницы Анриетта-Жюли де Кастельно, графиня де Мюра (1670–1716), Луиза де Босиньи, графиня д’Онёй, Шарлотта-Роза де Комон де Ла Форс(1654–1724) и Мари-Жанна Леритье де Вилландон (1664–1734) — были тесно связаны с писательницами предшествовавшего поколения, определившими развитие прециозной культуры — Мадлен де Скюдери (1607–1701) и Антуанеттой Дезульер (1634–1694) (см.: Dufour-Maitre 1999). Связующим звеном здесь оказывается мадемуазель Леритье — не только племянница (по другим сведениям, — троюродная сестра) Шарля Перро, но и подопечная Мадлен де Скюдери. Сама мадемуазель де Скюдери, подруга или родственница каждой из перечисленных писательниц, поистине была законодательницей прециозной культуры. Автор многих романов, самые знаменитые из которых — «Клелия, римская история» (Clélie, histoire romaine; 1654–1660) и «Артамен, или Великий Кир» (Artamène, ou le Grand Cyrus; 1649–1653) — были написаны, по некоторым данным, в соавторстве с ее братом Жоржем де Скюдери, — заслужила в литературной среде своего времени почетный салонный псевдоним Сапфо. Ее назвали так потому, что знаменитая древнегреческая поэтесса оказалась среди героинь ее «Артамена, или Великого Кира», сюжет которого был заимствован из Геродота: однако то, что реальная Сапфо никак не могла быть современницей Кира, ничуть не волновало Мадлен де Скюдери. Подобным образом обстоит дело и с романом «Клелия». Хотя сюжет романа и заимствован у Тита Ливия (красавица римлянка Клелия отдана царю этрусков Порсенне в качестве заложницы и бежит из Этрурии обратно в Рим), но классическая древность в нем уже имеет абсолютно условный характер: на самом деле под видом древних римлян мадемуазель де Скюдери изображает современную ей публику прециозных салонов, которая, в свою очередь, в бытовом поведении начинает подражать героям «Клелии» или «Великого Кира». Как вольное обращение с античностью, так и вообще смесь древней истории и современных нравов в романах Скюдери становится предметом многочисленных нападок и насмешек со стороны «древних», как мы это видим, в частности, в X сатире Буало (против женщин){11}:
Сначала она, точно как в «Клелии»,
Начнет принимать у себя любовников
под нежным именем друзей.
Меж ними заведутся сначала
дозволенные знаки внимания,
Затем примутся они воды реки Нежности
Вволю бороздить, обо всем говорить,
все понимать.
И не думай, что Венера или Сатана
Позволят им ограничиться языком романов.
«Река Нежности» — почти прямая цитата из романа Мадлен де Скюдери «Клелия», где на «карте страны Нежности» имеется три города под названием «Нежность», стоящие на трех реках: соответственно Нежность-на-Склонности (фр. Tendre sur l’Inclinaison), Нежность-на-Почтении (фр. Tendre sur l’Estime) и Нежность-на-Признательности (фр. Tendre sur la Reconnaissance). Реалии «Карты страны Нежности» сделались излюбленной темой пародий на прециозниц. Так, в пародийном тексте Роже Бюсси-Рабютена «Любовная история галлов»{12} (написанном, вероятно, в соавторстве с принцем Конти) предлагается женоненавистническая «Карта страны Вертопрашества», где известные при дворе дамы изображаются в виде обветшалых, разрушающихся, грязных городов (см.: Неклюдова 2014: 68–88). Нам же важно заметить, что именно к 1680–1690 годам в литературный обиход прочно входят как галантные новеллы, так и разного рода скандальные придворные мемуары и хроники, образец которых и представляет собою «Любовная история галлов». В жанре придворных мемуаров выступает и сама мадам д’Онуа. После того, как в 1690 году выходят ее «Воспоминания об испанском дворе», а в 1691-м — «Рассказ о путешествии в Испанию», на титульных листах своих последующих произведений она начинает фигурировать именно в качестве автора этих двух. Так, выходят и «Воспоминания об удивительных приключениях французского двора» (Mémoires des aventures singulières de la cour de France; 1692), и «Новеллы, или Исторические записки…» (Nouvelles, ou Mémoires historiques; 1693), и «Воспоминания о M. L. D. D. О. (Месье, Герцоге Орлеанском) или Забавные приключения нескольких великих принцев французского двора» (Mémoires secrets de Mr L. D. D. O. ou Les Aventures comiques de plusieurs grands princes de la cour de France; 1696).
В век Людовика Великого классическая древность превращается в не более чем красивую декорацию для прециозных историй. Как относиться к древности: как к безупречному предмету для изучения и подражания (Буало и «древние») или как к историческому периоду, неизбежно уступающему прекрасной современности как в научно-техническом смысле, так и в смысле морали (ибо язычники не могут в этом равняться с христианами), и поэтому достойному уважения, но не преклонения (Перро и «новые»), — вопрос, как раз и составляющий суть «спора о древних и новых».
Поклонники древних, которых тоже стали называть «древние», считали, что произведения авторов античных — совершенные и непревзойденные образцы для подражания. Подобная позиция касалась как литературы, так и архитектуры, и изобразительного искусства, и музыки (прежде всего оперы). Их оппоненты «новые» также не пренебрегали древними авторами, но не считали их непогрешимыми, ставили их на одну доску со своими современниками, французскими писателями, и нередко, при сравнении, например, трагедий Еврипида и Расина, отдавали предпочтение последним. В подобном подходе нельзя не заметить двойственности, ведь сам Расин принадлежал к лагерю «древних». Это был весьма тонкий тактический ход: возражать писателям лагеря «древних», указывать на достоинства произведений современников, а иной раз и на их преимущества перед античными авторами — и приводить в качестве примера сатиры Буало и трагедии Расина — то есть произведения своих главных противников. «Новые» считали, что век Людовика Великого — Великий век — естественным образом стоит выше античности, как в смысле развития науки, так и в духовном смысле: ведь древние не знали Христа и учения Церкви. В литературе основными объектами полемики становятся трагедия (Как обращаться с мифологическим материалом? Каким образом автору-христианину следует трактовать языческие чудеса?) и эпопея и, шире, разного рода программные, повествовательные жанры. Важнейшей фигурой в лагере «древних» был Никола Буало, автор сатир, бурлескной поэмы «Налой» (Le Lutrin; 1672–1683) и классического труда о нормах и правилах французской поэзии «Поэтическое искусство» (L’Art poétique; 1674). Главными его противниками в лагере «новых» были Жан Демаре (1595–1676), друг Пьера Перро, и его младший приятель и литературный преемник, младший брат Пьера, Шарль Перро. И Буало, и Демаре, каждого по-своему, можно назвать преемниками авторов эпохи Возрождения — поэтов «Плеяды» и прежде всего Жоашена Дю Белле, с его «Защитой и прославлением французского языка» (Défense et illustration de la langue française; 1549). Буало, вслед за Дю Белле, в своем «Поэтическом искусстве» задает нормы французского литературного языка и французской поэзии. При этом он призывает современников ориентироваться на древних авторов, что делает и Дю Белле. В то же время Дю Белле советует не забывать и о французской (средневековой) поэзии, и не пренебрегать богатством народной лексики. О достоинствах французской поэзии и французского языка говорит и Демаре в своем литературном манифесте, который, вслед за трактатом Дю Белле, тоже называется «Защита французской поэзии и французского языка» (La defense de la poésie, et de la langue françoise; 1675. Курсив наш. — М. Г.). О деятельности Демаре де Сен-Сорлана и его полемике с «древними» подробно пишет Марк Фюмароли (см.: ФАМ 2001). Но основными литературными декларациями «новых» стали поэма «Век Людовика Великого» (Le Siècle de Louis le Grand; 1687) и «Параллель древних и новых» (Parallèle des Anciens et des Modernes; 1688–1692) в прозе, в 4-х частях. «Век Людовика Великого», который Шарль Перро прочитал 27 января 1687 года на заседании Французской Академии, вызвал крайнее возмущение Буало: Перро возразил против отношения к древним как к образцу совершенства. Поэма начинается следующими строками:
Чтить древность славную прилично,
без сомненья,
Но не внушает мне она благоговенья.
Величье древних я не склонен умалять,
Но и великих нет нужды обожествлять.
И век Людовика, не заносясь в гордыне,
Я с веком Августа сравнить посмею ныне{13}.
(СДН 1985: 41)
Для всех родов искусства, для всех литературных жанров Шарль Перро и его единомышленники находят во французской литературе Нового времени (но прежде всего в творчестве современников) образцы, не уступающие шедеврам древних, а иногда и превосходящие их. Есть только один жанр — эпопея, для которого нелегко найти достойные образцы в литературе современности, хотя Перро и не спешит в этом сознаваться. Действительно, отсутствие «своей» эпопеи начинает восприниматься как лакуна во французской литературе уже в эпоху Возрождения. Карл IX заказывает Ронсару поэму «Франсиада», которая остается незаконченной. Единственный пример национальной эпопеи во Франции — «Трагические поэмы» (Les Tragiques; 1616) Агриппы д’Обинье (1552–1630). Поэма в семи книгах повествует о бедствиях гражданской войны и завершается Страшным судом. Затем эпические поэмы, прежде всего с христианским или ветхозаветным сюжетом, появляются в середине Великого века, незадолго до начала «спора о древних и новых». Это поэма Жоржа де Скюдери (1601–1667) «Аларих, или Освобожденный Рим» (Alaric ou Rome vaincue; 1654), поэма Жана Шаплена (1596–1674) о Жанне д’Арк «Девственница, или Освобожденная Франция» (La Pucelle, ou la France délivrée; 1656) и поэма Демаре о крещении франков «Хлодвиг» (Clovis ou la France chrétienne; 1657). Сюда же относятся и две позднейшие поэмы Демаре из ветхозаветной истории: «Эсфирь» (Esther; 1670) и «Авраам» (Abraham, ou la Vie parfaite; 1680). Все эти поэмы, особенно первые две, были осмеяны критиками и не имели успеха у читателей. Тем не менее в посвященной поэзии третьей книге «Параллели…» Шарль Перро защищает поэмы Скюдери, Шаплена и Демаре, а заодно ополчается на недостаток вкуса и нравственности в поэмах Гомера, признавая при этом, что, родись Гомер в более просвещенную эпоху (под который приходится понимать не что иное, как Великий век), он писал бы иначе.
Если для Перро и «новых» Священная История и жития святых — единственно уместный материал для эпопеи, то для Буало и «древних», напротив, подобный сюжет недопустимо облекать в форму художественного вымысла. В «Поэтическом искусстве» Буало пишет об авторах новых христианских поэм:
Им, видно, невдомек, что таинства Христовы
Чуждаются прикрас и вымысла пустого.
(Буало 1957: 85)
Но Перро не ограничивается жанром поэмы: он пытается приравнять к древней эпопее романы Мадлен де Скюдери. Вот отрывок из «Параллели древних и новых», где, невзирая на удивление Председателя, отстаивающего позицию «древних», Аббат (т. е., по существу, сам Шарль Перро) настаивает на возможности сопоставления древней эпопеи с новым романом; сопоставление, по его мнению, в пользу последних:
Председатель. Предположим, я согласился бы признать романы эпическими поэмами. Вы думаете, что много выиграли бы от этого?
Аббат. Конечно, поскольку наши романы, такие, как «Астрея», в которой больше выдумки, чем в «Илиаде», — «Клеопатра», «Кир», «Клелия» и некоторые другие, — не только лишены всех недостатков, отмеченных мною в сочинениях древних поэтов, но обладают, также, как и наши стихотворные поэмы, бессчетным множеством совершенно новых красот.(СДН 1985: 190–191)
В отличие от христианских поэм середины века, галантные романы изображают события дохристианских времен, не имеющие отношения к Священной Истории, и если в них фигурируют высшие силы, то именуются они не иначе, как «боги» — Единый Господь не может упоминаться в тексте, полном вымысла. Заметим, что это же будет характерно и для сказок конца века.
«Клелия» Скюдери, как и «Астрея» д’Юрфе, которые впоследствии будут безоговорочно любимы «новыми» и не в чести у «древних», сразу же приобрели огромную популярность и оказали серьезное влияние на д’Онуа и ее современников. «Клелия» напрямую цитируется в новелле «Дон Габриэль Понсе де Леон». Влюбленный герой рассуждает:
Что за обитель! <…> что за обитель, дорогой кузен! Как был бы я счастлив, если бы мог, как поется в песне Клелии,
В уединении с Иридой милой жить,
И в мире более ничем не дорожить.
Однако сия сладостная фантазия может завести меня слишком далеко, если я не вспомню, что покуда моей страсти не на что надеяться, а в дальнейшем все может обернуться еще хуже.
(с. 200 наст. изд.)
И тут же получает от рассудительного кузена отнюдь не романическую отповедь:
— Не стоит отчаиваться, быть может, фортуна будет к вам благосклонна, — отвечал ему граф, — а кабы не взбрела вам эта блажь, — добиться любви, не открывая, кто вы, — одно ваше имя конечно же устранило бы и самые большие препятствия, и в скором времени вы достигли бы счастья.
(с. 200 наст. изд.)
Но не только аллюзии или прямые цитаты сближают сказки и новеллы д’Онуа с галантным романом. Общие черты прослеживаются и в самой организации текста: большая новелла, включающая в себя несколько вставных сказок, — это структура, схожая с романной; сходство усиливают и стихотворные вставки, столь характерные для романов д’Юрфе и Скюдери. Не будем забывать, что и самая первая сказка писательницы появляется внутри романа «История Ипполита, графа Дугласа».
Однако чрезмерный объем галантных романов («Артамен, или Великий Кир», например, насчитывал 13 095 страниц в оригинальном издании) начинал утомлять читателей; возможно, в этом одна из косвенных причин необычайной популярности в конце Великого века такого короткого жанра, как сказка (см.: Storer 1972; Mainil 2001: 61–78). Некоторые исследователи полагают, что сказки д’Онуа, очень короткие по сравнению с романами, но довольно длинные, если сравнивать их со сказками ее современников, воспринимались читателями конца XVII века как короткие романы, написанные исключительно для взрослых (см.: Barchilon 1975: 38).
Свой литературный салон Мадлен де Скюдери, «новая Сапфо», завещала именно мадемуазель Леритье, получившей от Французской Академии титул «музы Телесиллы» (это сравнение с древнегреческой поэтессой, которую, так же как и Сапфо, прославили Плутарх и Павсаний, — еще одна точка сближения между Леритье и ее литературной покровительницей). Вторая половина XVII века — вообще время расцвета литературных салонов, хозяйками которых были преимущественно дамы. Первым, и важнейшим из них, считается салон Катрин де Вивонн, маркизы де Рамбуйе (1588–1665), просуществовавший более трех десятилетий — с 1608 года — и сохранявший свое литературное влияние вплоть до середины 1640-х годов. Именно в ее салоне, завсегдатаями которого были брат и сестра де Скюдери, Пьер Корнель, Франсуа де Малерб (1555–1628), Венсан Вуатюр (1597–1648), графиня де Лафайет (1634–1693), госпожа де Севинье (1626–1696), Гедеон Таллеман де Рео (1619–1692), Жан Демаре и др., рождается то, что впоследствии, и в значительной степени благодаря комедиям Мольера, станет называться «прециозной культурой». В салоне Рамбуйе и близких к нему (в частности, салонах дочери г-жи де Рамбуйе, Жюли д’Анжен, или же Мадлен де Скюдери) формируется особая стилистика речи, многим казавшаяся жеманной, цветистые, зачастую перифрастические, выражения, особая, понятная лишь узкому кругу образность. Важную роль в речи салонной публики играла топика романной речи д’Юрфе и де Скюдери. Так, для определения нюансов нежного, любовного или же дружеского чувства широко употреблялись термины «Карты страны Нежности», появившейся в романе Мадлен де Скюдери «Клелия…». Сами слова «нежность» или «нежная дружба» (фр. le tendre, tendre amitié) стали употребляться в качестве эвфемизмов для любви, любовного увлечения (эту тенденцию и высмеивает Никола Буало в своей сатире X). В романе «Клелия…», для понимания того, как может выглядеть путь от дружбы к любви, предложена карта «Страны Нежности», на которой, в масштабе, заданном в «лье дружбы», по «Реке Привязанности» прочерчен путь из города «Новая Дружба» в любой из трех городов, именуемых «Нежность» и различающихся по названиям рек, на которых они стоят. По берегам реки есть такие населенные пункты, как «Сочувствие», «Нежная записочка», «Маленькие услуги» и т. п. Есть на этой карте и «Опасное Море», «Море Враждебности», «Озеро безразличия», реки «Благодарности» и «Уважения» (см.: Бюсси-Рабютен 2010: вкладыш). Сама салонная публика именует друг друга псевдонимами, которые могут быть анаграммами их собственных имен (так, г-жа де Рамбуйе именуется «Arthénice» — анаграмма ее имени «Catherine», придуманная Малербом), а также именами персонажей античной литературы и истории, фигурировавших в романах Мадлен де Скюдери (вспомним имя «Сапфо», которое писательница носила, но также и одну из героинь комедии Мольера «Смешные жеманницы», Мадлон: она носит одно имя с де Скюдери, но предпочитает называться Поликсеной, то есть именем дочери троянского царя Приама, фигурирующей в «Знаменитых женщинах» (Les Femmes illustres; 1642) Мадлен де Скюдери — собрании речей героинь из разных произведений Овидия, Эврипида, Вергилия, Ариосто, Тассо и др. Не будем забывать, что и вторая мольеровская жеманница, Като, — тезка другой хозяйки прециозного салона — Катрин де Рамбуйе.
Еще одна отличительная черта, и в особенности «ученых женщин»: в «споре о древних и новых» они, в числе большинства салонной публики, как правило, оказываются на стороне «новых», на что весьма резко откликаются «древние». Снова цитируем десятую сатиру Буало:
Тут красавица объявляет войну дурному вкусу общества:
Она жалеет Прадона, которого освистал партер,
Смеется над бессмысленными поклонниками
греческого и латыни,
Уравнивает на весах Аристотеля и Котена;
Затем, еще более ловкой и умелой рукой,
Взвешивает бесстрастно Шаплена и Вергилия;
У сего последнего находит она множество недостатков,
Признавая в то же время, что есть в нем некая красота,
А в Шаплене, чего бы там ни говорила сатира,
Находит лишь один недостаток: что его невозможно читать;
И, дабы весь мир мог насладиться его книгой,
Считает, что следует прозой переписать все его стихи{14}.
Это — одна из причин нападок Буало на дам-критиков, посетительниц салонов, не лишенных собственных литературных амбиций. Заметим, однако, что этот выпад, якобы против женщин, не в меньшей степени нацелен на академика Шарля Перро, который, как мы помним, в своей «Параллели…» защищал Шаплена и сопоставлял с эпической поэмой древних романы Мадлен де Скюдери, т. е. предлагал считать прозу эпопеей.
Ополчается на женщин не только Буало: Жан де Лабрюйер (1649–1696) в «Характерах» (Les Caractères; 1688), в части 49 («Женщины») тоже пишет о якобы присущих женщинам от природы (в связи со слабым сложением) «лености ума», «легкости», неспособности к долгому и глубокому изучению предмета. «Спор о женщинах» (Querelle des Femmes) становится важной частью «спора о древних и новых», а «Гризельда» и «Апология женщин» (L’Apologie des Femmes; 1694) — своеобразным ответом Перро на сатирические выпады Буало, Мольера и других гонителей прециозниц. Горячим защитником женщин в «Параллели древних и новых» Перро становится Аббат, выражающий позицию «новых», — он выступает главным оппонентом Председателя, сторонника «древних» (см.: Mainil 2001: 205–207).
В условиях подобного спора едва ли не единственными «беспроигрышными» для женщин жанрами, позволяющими быть «женщиной-сочинителем» (фр. femme auteur), не рискуя при этом оказаться в неоднократно осмеянном амплуа «ученой женщины», оказываются короткие и «легкие» жанры — новелла и сказка (см.: Mainil 2001: гл. 5). Если количество женщин и мужчин, выступающих в этих жанрах во Франции на рубеже XVII и XVIII веков, приблизительно равно, то таких текстов, написанных женщинами, существенно больше (см. Таблицу, с. 951–957 наст. изд.). Сами они с нескрываемым вниманием относятся к творчеству друг друга. Так, в своей сказке «Угриха» (Anguillette; 1697) графиня де Мюра, подруга мадам д’Онуа, подчеркивает родство своих героев с ее персонажами: принц, герой сказки, происходил
<…> по прямой линии от знаменитой принцессы Карпийон и ее очаровательного супруга, о которых одна из новых фей
(курсив{15} мой. — М. Г.),более ученая и учтивая, нежели феи древности, так мило рассказала нам в своей чудесной истории.(Murat 1978: 238)
В процитированных строках напрямую обыгрывается заглавие сборника, в котором появляется сказка Мари-Катрин д’Онуа «Принцесса Карпийон»: «Новые сказки, или Модные феи». Сама мадам д’Онуа также неоднократно обращается к сказкам своих подруг и современниц, о чем более подробно речь пойдет ниже.
Важно и свидетельство графини де Мюра о том, как рассказывала и как писала Мари-Катрин д’Онуа:
<…> с нею никогда не бывало скучно, ее живая и веселая беседа была лучше ее книг; да она и не превращала сочинительство в науку, она писала, как это делаю и я, фантазируя, в шумном и людном месте; она сосредотачивалась <…> на своих сочинениях ровно постольку, поскольку это ее развлекало.
(Murat 1978: XXX)
А вот и более резкое суждение о дамах-сочинительницах, посетительницах салонов:
<…> они выпускают иной раз по семь или восемь томов, меньше чем за полгода, и при этом не пропускают ни одного развлечения, ни одного собрания и встают каждый день не ранее полудня.
(Villiers 1699)
Любопытно, что сами «сказочницы» не упускают случая посмеяться над набирающей силу модой на сказки. У мадам д’Онуа подобные нотки звучат, в частности, в новелле-рамке «Новый дворянин…». Дандинардьер просит одну из барышень, провинциальных затворниц, помешанных на романах, прислать ему книг:
— Я вам пришлю, — молвила Мартонида, — сказку, которую сестра закончила вчера вечером. Она насчет…
— Счет? — возразил наш мещанин. — Нет, мне не нужен счет. Мои управляющие каждый день приносят мне много счетов…
— Но такого вы еще не слышали, господин рыцарь, — подхватила Виржиния. — Эти сказки нынче в моде, все их читают. И я, провинциалка, претендуя на остроумие, не упускаю возможности отправить свои небольшие сочинения в Париж. Как бы я была рада, если бы сказка вам понравилась! Тогда бы не осталось сомнений, что люди знающие оценят ее.
— Я уже ценю вашу сказку, о прекрасная Виржиния, — отвечал наш коротыш Дандинардьер, поняв свою оплошность. — Завтра же прикажу отправить ее ко двору, если вы находите, что она удалась. Я знаком с пятью-шестью принцессами, которые позволяют мне им писать и восхвалять их в стихах.(с. 519 наст. изд.)
Далее в одном из эпизодов насмешливо упоминается о том, что провинциальные барышни писали сказки в таком изобилии, что не всегда заботились о правке или завершении текста. Приор крадет у Мартониды и пытается продать Ла Дандинардьеру сказку «Белль-Белль»:
Тут он показал Ла Дандинардьеру толстую тетрадь, вид которой так восхитил нашего мещанина, что он хотел уже встать с кровати, чтобы броситься в ноги приору. Однако еще больше радовало его то, что он задешево купил вещь, по его мнению, бесценную.
Надо сказать, что сказка эта была украдена приором из покоев барышень де Сен-Тома. Они даже не заметили пропажи, ибо сочиняли так много, что большая часть сих творений оставалась неоконченной. Приор вовсе не собирался посвящать в это Ла Дандинардьера, ибо не хотел потерять лавры щедрейшего дарителя, и уже предвкушал весьма забавный спор, который должен был разгореться между подлинным автором и плагиатором.(с. 556 наст. изд.)
Легкость, скорость и плодовитость при сочинении сказок — качества, которые, как видно из суждений, процитированных выше, современники отмечали в самой д’Онуа. Но данный отрывок — не единственная насмешка над рукописями барышень. Чтению последней из сказок, как внутри данной новеллы, так и во всем сборнике, предшествует следующая сцена: столичные гостьи, недавно прочитавшие публике сказку «Принц Вепрь», удивляются, что мода на сказки дошла и до провинции. Виржиния возмущенно парирует:
— За кого вы нас принимаете, сударыня? — ответила Виржиния. — Вы думаете, что наш климат потерял расположение благодатного светила и оно перестало бескорыстно сиять нам? Уж будто мы не ведаем, что происходит под небесным сводом? Наш круг общения гораздо шире, чем вам представляется, мы знаем ведьм и колдунов, часто выводим их на сцену, и те не заставляют авторов краснеть.
— Признаюсь, — сказала молодая жена, — что никогда не встречала нормандских муз и деревенских фей и была бы рада с ними познакомиться, а в особенности послушать их.
Тут Мартонида, весьма достойная рассказчица, о которой отзывались самым лестным образом, вызвалась прочитать им последнюю сказку, сочиненную накануне ночью.
— Нет ничего свежее, — сказала она, — по правде говоря, я не успела даже ее перечитать.
Все согласились послушать сказку. Мартонида вынула исписанную тетрадь и приступила к чтению.(с. 747–748 наст. изд.)
Процитированный отрывок не лишен как иронии, так и самоиронии. С одной стороны, мы видим здесь насмешки над легкомысленным и небрежным женским сочинительством — общее место всех разговоров о сказках и о «женщинах-сочинителях» той эпохи. С другой стороны, за такими определениями, как «деревенская фея» и «нормандская муза», легко узнать саму г-жу д’Онуа: первое применимо к ней, поскольку в данном случае в ее новелле фигурирует деревня, а сочинительниц «сказок фей» как раз в это время начинают самих именовать феями, то есть рассказчицу деревенских сказок можно назвать «деревенской феей»; второе же — благодаря нормандскому происхождению писательницы и тому, что она, как мы помним, причислена к французским музам (родственницам фей) академии Риковрати. Легкость и небрежность, с которыми пишет Мартонида, вполне соответствуют свидетельству графини де Мюра о самой мадам д’Онуа, процитированному выше.
Заметим, что в новелле о мещанине-дворянине не только дамы высказываются о сказках и сочиняют их. В следующем диалоге Дандинардьер говорит о своих амбициях сказочника, а приор замечает ему, что сочинять сказки — не такое уж простое дело.
— Готов признать, что нельзя недооценивать доходность разума, — возразил Дандинардьер, — но и разумного дохода при этом терять мне вовсе не хочется. Позвольте заявить вам, что в ответ на ваши хваленые сказки я тут же насочиняю своих, да еще смогу их употребить с пользой.
— Хотелось бы мне посмотреть на это, — парировал приор, — вы, вероятно, полагаете, что достаточно черкануть на бумаге пару-тройку смелых гипербол, иногда перемежая их словечками наподобие Жила-была добрая фея, и произведение можно считать завершенным. Уверяю вас, что это более тонкое искусство, чем вам может показаться; сколько я ежедневно просматриваю книг, в которых нет ничего занимательного.
— Вы смеете утверждать, что мои сказки будут именно такими? — раздраженно заметил мещанин. — Говоря по правде, сударь, вы не очень-то любезны, но я постараюсь доказать вам обратное: из кожи вон вылезу, но сочиню хотя бы одну. Тогда и посмотрим, как вы запоете.
— В таком случае я не поскуплюсь на похвалы, — сказал приор, приветливо улыбнувшись, дабы смягчить гнев собеседника, — и, коли вам угодно мне в этом поверить, начинайте прямо сейчас.(с. 704 наст. изд.)
Данный диалог, как и все замечания о сказках в новелле, полон иронии: Дандинардьер оказывается неспособен сочинить сказку, приор в реальности не такой ценитель сказок, каким хочет казаться мещанину, ставшему для барона и его друзей предметом насмешливого наблюдения; из всех персонажей новеллы лишь провинциальные барышни считают сочинение сказок тонким искусством.
Насмешку над легкой литературой встречаем и у мадемуазель Леритье: сказку «Рикден-Рикдон» (Ricdin-Ricdon; 1705), как следует из ее обрамления, рассказывает своему оруженосцу Блонделю не кто иной, как сам Ричард Львиное Сердце. В конце писательница иронически сожалеет, что, несмотря на старания достойнейших правителей, которых зовут «Прекрасные Мысли» (фр. Belles-idées) и «Хороший Вкус» (фр. Bongoût), в королевстве Вымысла (фр. royaume de Fiction) не только никак не удается подавить Пустомысла (фр. Songecreux), но и сама она оказывается едва ли не в числе главных его сторонников:
<…> забавы ради вырывая из забвения старинные безделки короля Ричарда, который хоть и был великим завоевателем, и галантным рыцарем, и человеком большого ума, а все же и сам иной раз, как и мы, грешные, немало подвизался на службе у Пустомысла.
(Lhéritier de Villandon 1705)
Однако это не более чем изящные насмешки — не будет преувеличением заметить, что литературная сказка во Франции в значительной степени оформляется как жанр именно в салонах конца XVII века, которые напрямую наследуют прециозным салонам. Шарль Перро — самый известный французский сказочник не только своей, но и последующих эпох — в этом смысле сразу же оказывается если не на периферии жанра, то, во всяком случае, в совершенно особой позиции: для его коротких сказок более характерна «игра в народность», чем салонная галантность.
Важен и еще один фактор, повлиявший на формирование во французском высшем обществе моды на сказку, а во французской литературе — соответствующего моде жанра. К моменту создания и публикации романа мадам д’Онуа об Ипполите и Юлии французскому и европейскому читателю уже хорошо известны такие собрания новелл, как «Декамерон» (Il Decamerone; 1352–1354) Боккаччо и ориентированные на него «Пентамерон» Базиле, «Гептамерон» (L’Heptaméron; 1558) Маргариты Наваррской, а также «Приятные ночи» Страпаролы (см.: Михайлов 1990). Это последнее произведение переводилось на французский с 1560 по 1573 год. В нем, как и в «Пентамероне» Базиле и в отличие от «Декамерона» Боккаччо, наряду с собственно новеллами, встречаются тексты, соответствующие законам жанра «волшебной сказки»: герой благодаря чудесному помощнику проходит через испытание, добивается ликвидации недостачи и повышения своего социального статуса. Именно на «Приятные ночи» Страпаролы мадам д’Онуа ориентируется в таких своих сказках, как «Белль-Белль, или Удачливый рыцарь», «Дельфин», «Принц Вепрь» и «История принцессы Ясной Звездочки и принца Милона». Симптоматично, что все они у нее тоже даны в обрамлении. Заметим, что две из них («Дельфин» и «Принц Вепрь») сюжетно близки к сказкам не только Страпаролы, но и к написанным годом позже сказкам графини де Мюра, тоже, в свою очередь, ориентировавшейся на Страпаролу. Цитаты и сюжетные заимствования из «Приятных ночей» в сказках на некоторое время становятся общим местом во французской литературной традиции. У многих сказок Страпаролы и Базиле, в свою очередь, легко идентифицировать сюжетный тип по классификации сказочных сюжетов устного происхождения.
Наконец, нельзя не сказать несколько слов о влиянии на творчество Мари-Катрин д’Онуа сказок Шарля Перро. Каждую из аллюзий на Перро в «Сказках фей» и «Новых сказках…» мы отметили в «Примечаниях», здесь же остановимся на тексте, где заимствования особенно нарочито бросаются в глаза — на «Вострушке-Золянке». Само имя героини (в оригинале — Finette-Cendron) представляет собой двойную цитату: первая часть его — имя героини сказки г-жи Леритье де Вилландон «Ловкая принцесса, или Приключения Вострушки» (L’Adroite princesse, ou Les aventures de Finette; 1696), а вторая — вариация на тему имени Золушка (Cendrillon), непосредственно образованная от грубого имени Cucendron («Замарашка» или, точнее, «Зад-в-золе»), которым кличут героиню злые сестры в сказке Шарля Перро. На уровне сюжета в сказке «Вострушка-Золянка» есть еще одна очевидная аллюзия — на сказку Шарля Перро «Мальчик с пальчик». Именно из нее заимствуется история детей, которых бедные родители намеренно бросают в лесу, а те дважды успешно выбираются из чащи благодаря хитрому младшему брату (или, в данном случае, сестре — ей удается незаметно пометить обратную дорогу), — а на третий раз попадают в логово к людоеду и обогащаются, погубив последнего. Как и в «Мальчике с пальчик» Перро, людоеды в сказках мадам д’Онуа (помимо «Вострушки-Золянки», они действуют еще и в «Апельсиновом дереве и Пчеле»), говоря о своей пище, употребляют характерное, маркированное выражение «человечинка» (фр. chair fraiche), но, в отличие от Перро, у д’Онуа оно записывается с особым акцентом: char frache (искаж. фр.; см. примеч. 1 к сказке «Апельсиновое дерево и Пчела»). Этот акцент (условно-простонародный) очень напоминает тот, с которым говорят крестьяне в комедии Мольера «Дон-Жуан, или Каменный гость». Перро и Леритье (а из дам-сочинительниц именно она к нему ближе всех) — не единственные авторы сказок, которых упоминает Мари-Катрин д’Онуа. В Примечаниях к настоящему изданию отмечены случаи цитирования сказок и новелл г-жи де Ла Форс (чья сказка «Персинетта» приводится в «Дополнениях») или Катрин Бернар. Используя мотивы, образы, а то и целые сюжетные ходы из сказок современников и современниц, д’Онуа как бы напоминает о своей приверженности к целому кругу авторов сказок, кругу (преимущественно) «фей», который при этом не ограничивается учеными дамами, — ведь к нему принадлежит и ставший для «новых» академиком Шарль Перро.
Важно обратить внимание на заглавия обоих сборников сказок Мари-Катрин д’Онуа: «Сказки фей» и «Новые сказки, или Модные феи». Первое из них указывает на традицию: говоря о феях, нередко упоминают о «незапамятных временах» — весьма условном обозначении времени. Тут не уточняется, о новых или о старых феях идет речь. Сами феи (они же исторически — фаты, то есть богини судьбы из римской мифологии) родственны нимфам и фавнам (см.: Harf-Lancner 1984) — низшим божествам, которых, разумеется, не могут признавать христиане; отсюда и отсылки к незапамятной древности. Заметим сразу же, что в сказках как самой Мари-Катрин д’Онуа, так и ее современников, никогда не упоминается единый Господь, а только условные «боги» (мы имеем в виду прежде всего экскламации, вроде «О боги!»). Это происходит не от безбожия авторов, а по прямо противоположной причине: обращаться к Творцу в полностью вымышленном повествовании, где упоминаются феи, родственницы языческих божеств, значило бы упоминать Его всуе. В подобном контексте вполне закономерно воспринимается и появление нимфы в рамочном повествовании третьего тома «Сен-Клу», на равных беседующей с рассказчицей (которую, вспомним, современники именуют «феей» или «музой»). Сказки первого из сборников изобилуют деталями, характерными для рыцарских романов, а в рамочных повествованиях фигурируют персонажи самого благородного происхождения, будь то сама нимфа или же представители высшей испанской знати в рамочных «испанских» новеллах в двух последних томах «Сказок фей».
Напротив, заглавие «Новые сказки, или Модные феи» как бы нарочно и сразу говорит о том, что в «споре древних и новых» сказочница на стороне последних — так как сам эпитет «новый» в заглавии произведения начиная с 60-х годов 17-го столетия не может не восприниматься иначе, как реплика в этом споре. Впрочем, тут ничего удивительного нет: прециозницы, женщины-сочинители, как мы помним, традиционно принадлежали к лагерю «новых». Вторая часть заглавия — очевидный намек на моду на сказку: модными феями при этом являются сами дамы-сказочницы, женщины круга мадам д’Онуа, последовательницы прециозниц первой половины и середины века. В «Новых сказках…», где более выражены элементы иронии и пародии (к ним мы вернемся ниже), как раз сама рассказчица и оказывается в роли «модной феи» — во всяком случае, как следует из процитированного отрывка графини де Мюра, именно таковую хотели в ней видеть современники.
Одна из главных проблем, с которыми сталкиваются исследователи творчества Мари-Катрин д’Онуа и ее современников, — вопрос, можно ли смело говорить о фольклорном происхождении ее сказок. Таблица «Сказки и сбор ники сказок» (с. 951–957 наст. изд.) показывает, как легко установить соответствие большинства литературных сказочных текстов, увидевших свет на рубеже XVII и XVIII веков, с тем или иным сюжетным типом по классификации Аарне — Томпсона. В каталоге сюжетных типов французской народной сказки (Деларю — Тенез) заглавия ряда типов совпадают с названиями сказок мадам д’Онуа. Особенно хорошо это заметно на примере сюжетного типа 402, который во всех указателях начиная с Аарне — Томпсона носит название «Мышка», и только в каталоге Деларю — Тенез он назван «Белая Кошка» — так же называется и одна из сказок д’Онуа (см.: Mainil 2001). При этом, учитывая, что устная народная сказка, как и фольклор вообще, начинает сознательно и целенаправленно фиксироваться лишь с XIX века, — естественно, что для тех сюжетных типов, которые находят себе соответствия в литературной сказке века XVII, именно сказки Шарля Перро, мадам д’Онуа и их современников и оказываются первыми фиксациями. Мы не располагаем материалом, который позволил бы составить хотя бы самое общее представление о том, как выглядела французская устная сказочная традиция в последнее десятилетие 17-го столетия, когда создавались первые во французской литературе сказки и сказочные сборники. Эта лакуна и дала возможность некоторым исследователям построить гипотезу о том, что использование французскими писателями конца XVII века фольклорных сказочных сюжетов, услышанных от слуг и кормилиц, является фикцией и литературной игрой от начала и до конца, то есть прототексты у всех этих текстов — сугубо книжные, а их «народность» — не более чем салонная игра. Такого мнения придерживается, в частности, Уте Хайдеман, которая, опираясь на весьма убедительный интертекстуальный анализ, пишет о романе Апулея «Золотой осел» как одном из важнейших источников сказок Шарля Перро (см.: Heidemann 2010). Если исходить из этой гипотезы, — факт, что эти сугубо литературные сказочные сюжеты начиная с XIX века в изобилии фиксируются в устном исполнении, то есть записываются от крестьян разных регионов Франции, объясняется тем, что сказки известных писателей, почти сразу же после своей первой публикации, появлялись в виде дешевых иллюстрированных брошюрок (так называемых «книг на голубой бумаге», фр. papier bleu, аналогичных русскому лубку), становясь известными грамотным горожанам и крестьянам, а те, в свою очередь, могли рассказать их всем остальным. Такой механизм влияния текстов книжного происхождения на устную традицию действительно имеет место и фиксируется во всех странах, где находили распространение дешевые иллюстрированные брошюрки, продававшиеся разносчиками на ярмарках. В то же время в пользу исходной гипотезы о фольклорном происхождении многих литературных сказок говорит тот факт, что одни и те же сказочные сюжеты фиксируются в столь отдаленных регионах мира, что возможность прямого влияния посредством народных брошюр приходится исключить.
Впрочем, для литературной сказки, как в момент ее формирования, так и в дальнейшем, характерно сочетание устных и книжных источников. Так, Мари-Катрин д’Онуа нередко ориентируется на поэмы Тассо и Ариосто. В «Острове Отрады» имеется явная аллюзия на историю Ринальдо и Армиды, известную по поэме Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим». Вот как герой, живший счастливо у принцессы Отрады, вспоминает о подвигах и славе:
— Я вовсе не так неблагодарен, прекрасная принцесса, — отвечал немного сконфуженный Адольф, — и знаю, скольким вам обязан. И все же, пусть и был бы я теперь мертв, зато, может быть, успел бы прежде совершить подвиги, увековечившие память обо мне. Теперь же я со стыдом сознаю, что добродетели мои остались без применения, а имя — без блеска славы. Таков был Ринальдо в объятиях Армиды.
(с. 803 наст. изд.)
В поэме Тассо рыцарь Ринальдо точно так же счастливо проводит время в садах Армиды, предаваясь любовным утехам и позабыв о подвигах. В то же время данная сказка, как было отмечено в Таблице (с. 957 наст. изд.), принадлежит к сюжетному типу 470 («Край, где не умирают»), то есть имеет фольклорное происхождение.
Жанр волшебной сказки будет занимать важное место во французской литературе на протяжении всего века Просвещения (см.: Robert 2002), и важную роль в его формировании сыграет именно мадам д’Онуа.
Особенности поэтики сказок Мари-Катрин д’Онуа
Рассмотрим более подробно первую сказку Мари-Катрин д’Онуа. Характерно, что она не только является вставной новеллой в большом романе, но и символично перекликается с собственным обрамлением: герою «Истории Ипполита, графа Дугласа», сумевшему проникнуть в монастырь, где скрывается его возлюбленная, предложено развлечь аббатису — и именно рассказанная им сказка служит ему «пропуском» к любимой Юлии. Таким образом, рассказчик и сам оказывается в положении героя волшебной сказки, который должен выполнить задание дарителя, чтобы получить от него искомое. К моменту создания романа введение в основное повествование краткого вставного рассказа становится приемом, характерным для галантного романа, однако именно в «Ипполите» впервые во французской литературе вставка оказывается волшебной сказкой.
Если в классических сборниках новелл рамочная история служит лишь связующей нитью, а основной текст составляют сами новеллы, то в романах, напротив, текст-вставка может играть вспомогательную роль в общем сюжете. Таковы вставные рассказы в талантом романе — зачастую это истории тех или иных персонажей. Бывает и иначе: как мы только что видели, сказка «Остров Отрады» важна в «Истории Ипполита» не столько увлекательным сюжетом, сколько в качестве «пропуска» героя в монастырь. Однако иную картину мы встречаем в т. 3–4 «Сказок фей» и т. 2–4 «Новых сказок…»: здесь, наоборот, собственно сказки «заключены» в целых три рамочных повествования: «Дон Габриэль Понсе де Леон, испанская новелла», «Дон Фернан Толедский, испанская новелла» и «Новый дворянин от мещанства». Причем каждое из них само по себе является увлекательной историей, близкой по своей поэтике к «Истории Ипполита…» или сборнику «Испанских новелл», написанных мадам д’Онуа практически в то же самое время (1690–1691). Тематическую их связь с другими произведениями автора проследить нетрудно: так, персонаж второй «рамочной» истории, дон Фернан Толедский, встречается и в «Рассказе о путешествии в Испанию» (см.: Aulnoy 2005) — и хотя там этот молодой племянник герцога Альба и не занимается романтическими похищениями девиц, зато именно из его уст чужестранка-повествовательница слышит историю столь захватывающую, что «Рассказ о путешествии…» становится похож на откровенно вымышленные автором «Испанские новеллы».
«Испанские» же истории в качестве обрамления сказок идеально соответствуют литературной моде своего времени. Вспомним, что незадолго до публикации третьего и четвертого томов «Сказок фей» выходит в свет «Инесса Кордовская», «испанская новелла» Катрин Бернар, обрамляющая две ее сказки — «Принц Розовый куст» (Le Prince Rosier) и «Рике с хохолком» (Riquet à la Houppe). Действие новеллы Катрин Бернар происходит при испанском дворе; герои рамочных новелл Мари-Катрин д’Онуа также принадлежат к испанскому высшему обществу. Тематика «испанских» новелл д’Онуа не могла не напомнить читателю того времени галантные романы середины века: в обеих новеллах встречаются и переодевания, столь частые в романах Мадлен де Скюдери, Оноре д’Юрфе и Ла Кальпренеда, и похищения, также считавшиеся важным атрибутом галантного романа. Так, в «Доне Габриэле Понсе де Леон» герои переодеваются пилигримами, чтобы проникнуть в дом своих возлюбленных, а в «Доне Фернане Толедском» молодые люди, преследуя ту же цель, переодеваются вельможами из Марокко. В первой из новелл дон Луис увозит свою возлюбленную Люсиль, с согласия последней, но против воли ее семьи, а затем ее же, уже у самого дона Луиса, пытается похитить его соперник. Двух героинь — Исидору и Мелани — тоже в некотором смысле похищает их тетка, чтобы против воли отправить девушек в монастырь, разлучив тем самым с возлюбленными. Во второй новелле молодые герои похищают своих возлюбленных, с согласия последних (как в случае дона Луиса и Люсиль в первой из новелл), а затем все четверо оказываются похищены корсарами. Попадание в плен к корсарам — еще один модный мотив литературы XVII века: вспомним, например, романы г-жи де Скюдери «Альмахида, или Королева-рабыня» (Almahide, ou L’Esclave reine; 1661–1663) и «Прогулка в Версале» (La Promenade de Versailles; 1669), а также комедии Мольера «Скупой» (L’Avare; 1668) и «Шалый, или Все невпопад» (L’Étourdi ou les Contretemps; 1653). Все это пишется в эпоху многочисленных морских экспедиций и Великих географических открытий (на рубеже XVI–XVII веков были открыты, в частности, Полинезия и Меланезия, а в середине XVII века активно исследовалось побережье Австралии). В то же время никакие конкретные экспедиции не упоминаются ни в сказках, ни даже в новеллах мадам д’Онуа. С географическими названиями писательница обращается очень вольно (см. ниже, о городе Лима, который в новелле «Дон Габриэль Понсе де Леон» оказывается столицей Мексики), хотя и проявляет некоторый интерес к открытиям в Новом Свете: заглавный герой новеллы «Дон Габриэль Понсе де Леон», очевидно, является потомком Хуана Понсе де Леона (1460–1521), основателя первого европейского поселения в Пуэрто-Рико, в 1513 году открывшего Флориду, а донья Хуана из той же новеллы хвастается своим наследством в Мексике (по ее представлению, в Лиме). Еще одна важная деталь: похищения и переодевания в новеллах д’Онуа являются аллюзиями не только на модную в ее время литературу, но и на ее собственные произведения. Так, в романе «История Ипполита, графа Дугласа» герой Ипполит переодевается сначала торговцем, чтобы проникнуть в дом своей возлюбленной Юлии, обманув ее мужа, а затем — помощником художника, чтобы проникнуть в монастырь, где против воли содержится Юлия. Сама героиня, спасаясь от похищения, которое готовит ее муж, переодевается юным паломником Сильвио (вспомним паломников в первой новелле). Отец ее, граф Варвик, которого долго считают погибшим, на самом деле оказывается похищен корсарами. Саму Юлию дважды похищает ее ненавистный муж. Подобные же мотивы есть и в других произведениях мадам д’Онуа: в «Рассказе о путешествии в Испанию» одна из попутчиц героини рассказывает о том, как ее возлюбленный был взят в плен корсарами и как она выкупила его, оставшись вместо него заложницей морских разбойников (эта история заставляет вспомнить «Прогулку в Версале» Мадлен де Скюдери). Ниже мы скажем несколько слов об аллюзиях на собственный роман и на «Рассказ о путешествии в Испанию» в сказках мадам д’Онуа, как обрамленных, так и самостоятельных.
У обеих обрамляющих «испанских» новелл, в свою очередь, есть небольшое рамочное повествование первого порядка — короткий рассказ с большой стихотворной вставкой, который в издании Жасмен и в настоящем издании условно озаглавлен «Сен-Клу». Напомним: Сен-Клу — предместье Парижа и резиденция герцогов Орлеанских. Именно супруге Филиппа Французского, герцога Орлеанского, «Мадам», отдельным прозаическим посвящением которой открывается первый том «Сказок фей», посвящены и сам рассказ «Сен-Клу», и обе «испанские» новеллы, им обрамленные, и сказки, в свою очередь обрамленные этими новеллами. Сам рассказ производит впечатление незаконченного: он служит «рамкой» для первой «испанской» новеллы и косвенно вводит вторую, однако после «Дона Фернана Толедского», вопреки ожиданию читателей, отсутствует завершающий фрагмент. Тема предместья Сен-Клу и сопутствующая ей образность вновь возникает в стихотворном «Послании» все к той же «Мадам», принцессе Пфальцской, предваряющем и второй том «Новых сказок…»: там также упоминаются нимфы и сильваны; очевидно, подразумеваются не только сами сверхъестественные существа, и, в частности, нимфа, явившаяся повествовательнице в первой части рассказа «Сен-Клу», но также и их скульптурные изображения в парке. Обрамляется же второй том — как и два последующих, коими завершается все собрание сказок, — новеллой «Новый дворянин от мещанства». Таким образом, можно сказать, что у всех сказок мадам д’Онуа и у трех больших обрамляющих новелл есть еще одна общая рамка из посвящений принцессе, и в том числе в виде двух маленьких произведений о Сен-Клу. Кроме того, две первые обрамляющие новеллы сближает «испанская» тематика; ниже мы увидим, что третья — «Новый дворянин от мещанства» — примыкает ко второй — «Дону Фернану» — благодаря мольеровским коннотациям.
Заметим, наконец, что прогулка в дворцовом парке, которую мы видим в рассказе о Сен-Клу, — ситуация, к концу века ставшая довольно традиционной для рамочного повествования. Так, у Лафонтена историю Психеи и Купидона Арист рассказывает своим друзьям во время прогулки в парке Версаля. Местом для диалогов о «древних» и «новых» в «Параллели» Перро также служит Версаль, куда Аббат (сам Перро), Председатель и Шевалье отправляются на прогулку. Подобно тому, как в прозиметрической сказке Лафонтена красоты Версаля соответствуют тем, которые описывает Арист, рассказывая о парке и дворце Купидона, а в «Параллели…» Перро тот же Версаль, помимо красивого фона, оказывается иллюстрацией к словам Аббата, предпочитающего новую архитектуру древней, — так и парк Сен-Клу, населенный нимфами и фавнами, вполне соответствует историям о феях, которые рассказчица читает своим спутникам, и в этом смысле оказывается своего рода иллюстрацией к сказкам д’Онуа.
Жан Лафон пишет о том, что в конце XVII века новелла — жанр, уже успевший прочно укорениться в литературе, — в определенной степени «легитимизирует» сказку, позволяя ей также обрести статус литературного произведения (см.: Lafond 1997). Анн Дефранс указывает на «двойную игру» в новеллах: если на уровне жанра обрамляющая новелла становится поводом для рассказывания сказки, то на уровне фабулы, наоборот, сказка нередко оказывается для героя-рассказчика предлогом добиться желаемого в не самой благоприятной для него ситуации (дон Габриэль и граф де Агиляр под видом музыкантов и сказочников проникают в дом, где держат взаперти их возлюбленных; в той же новелле донья Хуана пользуется сказками как предлогом вопреки светским приличиям подольше побыть рядом с возлюбленным) (см.: Defrance 1998: 65–69). Снова напомним об «Истории Ипполита», где герой проникает к предмету своей страсти именно с помощью сказки.
Мольеровский комизм также очень важен для мадам д’Онуа. В «Новом дворянине…» по-мольеровски обыгрывается положение мещанина, купившего дворянский титул и поместье, коротышки-выскочки, смешного и своим характером, и манерами, и физическим обликом. Возможно, отчасти мишенью этих насмешек являлся бывший муж писательницы, Франсуа де ла Мот, купивший баронство д’Онуа, но предпочитавший именоваться графом (впрочем, титул графини, кажется, не претил и самой Мари-Катрин). Герой новеллы, мещанин, взявший себе «громкую» фамилию «де Ла Дандинардьер», метит выше и, купив баронство, частенько сам называет себя маркизом (вспомним, что маркизой предпочитала зваться и матушка писательницы, мадам де Гюдан). При этом несомненно, что в самом имени Ла Дандинардьер, как и отчасти в дальнейшей истории его сватовства и женитьбы, недвусмысленно прочитывается родство с именем героя комедии Мольера «Жорж Данден, или Одураченный муж» (George Dandin ou le Mari confondu), поставленной с музыкой Жан-Батиста Люлли в Пале-Рояле в ноябре 1668 года. Воплощенный тогда самим Мольером образ Дандена — крестьянина, захотевшего стать аристократом и взявшего более благородно звучащее имя Ла Дандиньер — стал нарицательным для обозначения самодовольного простака. Само слово «dandin», согласно словарям Фюретьера и Литтре, обозначает неуклюжего простака и быстро становится именем нарицательным. Еще до мольеровского героя, в басне Лафонтена «Устрица и двое прохожих» (L’Huître et les Plaideurs; 1678) появляется Перрен Данден (в русском переводе — «Миротвор»), алчный судья, не упускающий своей выгоды. Как простота, так и алчность свойственны «дворянину от мещанства» Ла Дандинардьеру. Так что имя заглавного персонажа новеллы Мари-Катрин д’Онуа — почти прямое заимствование из комедии Мольера и шире — из сатирической литературы середины века.
«Новый дворянин…» — не единственная новелла Мари-Катрин д’Онуа с мольеровскими аллюзиями. В «Доне Фернане…» есть эпизод, напрямую заимствованный из «Мещанина во дворянстве»: чтобы обмануть бдительного родителя (в данном случае — не претенциозного и нелепого в своих причудах отца, а суровую и чванливую матушку), молодые дон Фернан и дон Хайме выдают себя за восточных вельмож (правда, не турецких, как у Мольера, а марокканских), получая, таким образом, возможность переговорить с возлюбленными. Еще один важный мотив в новелле — соперничество отца с сыном (в данном случае маркиза Толедского с доном Фернаном) — отсылает к комедии «Скупой», где Гарпагон хочет жениться на возлюбленной своего сына Клеанта, юной Марианне. Так «Дон Фернан…», вторая из испанских новелл, служит своего рода мостом к совсем уже «мольеровскому» «Новому дворянину…».
Но перекличка с Мольером у д’Онуа улавливается и в куда более широком смысле: с одной стороны, все творчество писательницы соответствует традициям прециозной культуры, чьи крайние проявления Мольер высмеивает в «Смешных жеманницах» (Les Précieuses ridicules; 1659) и в «Ученых женщинах» (Les Femmes savantes; 1672); с другой же — в «мольеровской» новелле мадам д’Онуа и сама пародирует вычурную манеру говорить, принятую в прециозных салонах:
— Прошу прощения, милостивые государыни, что осмелился пригласить вас сюда. Вы имеете все основания заявить, что ожидали пения соловья, а услышали лишь уханье филина.
— Не такие уж мы тут простофилины, — возразила госпожа де Сен-Тома, которой нравилось изобретать да перекраивать слова и говорить чуднó. — И потом, мы знаем, что ваше Соловейшество держится молодцом.(с. 599 наст. изд.)
Здесь же она высмеивает как традицию заменять настоящие имена романными или условно античными, так и вообще любовь прециозниц к романам и сказкам: две юные героини — Мари и Марта — заменяют свои слишком «обыкновенные» имена на более романтичные «Виржиния» и «Мартонида», подобно тому, как мольеровские жеманницы Като и Мадлон предпочитают звучащие на античный и пасторальный лад «Аминта» и «Поликсена». Объектом насмешки становится и показное игнорирование барышнями повседневного быта, которое нередко отличает прециозниц или, как это слово часто переводят на русский язык, причудниц:
Барышни поужинали с никого не удивившей умеренностью, ибо все знали, что потребность в еде они расценивали как природный изъян и пытались исправить его путем настойчивого ему сопротивления. Из-за этого они весьма часто падали в обморок.
(с. 599 наст. изд.)
Матушка обеих барышень, которая также стремится прослыть ученой дамой, напоминает Филаминту из «Ученых женщин» Мольера.
Наряду с мольеровскими в сказках мадам д’Онуа нередки аллюзии на галантную и пасторальную литературу. Ими изобилуют такие сказки, как «Золотая Ветвь» и «Принцесса Карпийон». Главные герои обеих сказок — принцы и принцессы (хотя герой последней узнает о своем венценосном происхождении лишь в финале), которые живут среди пастухов, пасут барашков и овец и носят пастушеский наряд. Они преданно любят друг друга, хотя героини до последнего скрывают свою ответную нежность от возлюбленного. Подобно Астрее и Селадону, герои и героини сказок д’Онуа ведут любовный диалог-спор стихами, выцарапывая их на коре деревьев. Наконец, сам их наряд, изящные посохи, цветочные гирлянды и кружева — все это напоминает живописные изображения Астреи и Селадона (см. ил. 204, 202). Вот как выглядят «пастух» и «пастушка» в сказке «Золотая Ветвь»:
Но поскольку Брильянта по-прежнему упорно избегала Идеала, однажды он решил поговорить с ней и, чтобы изобрести предлог, не рискуя ее ничем оскорбить, взял маленького ягненка, украсив его лентами и цветами; надел на него ожерелье из раскрашенной соломы, сделанное так искусно, что это был поистине шедевр <…> Он нашел Брильянту сидящей на берегу ручья, который неторопливо струился в густых зарослях; ее барашки бродили вокруг.
(с. 143–144 наст. изд.)
Начало следующего пассажа из сказки «Принцесса Карпийон» почти повторяет только что процитированный. Кроме того, общим местом галантных романов, повторенным в сказках, является и недоумение героев перед лицом зарождающегося (и еще не знакомого им) взаимного нежного чувства.
Каждое утро отыскивал он самые красивые цветы, плел из них гирлянды для Карпийон, украшал свой посох разноцветными лентами, следил, чтобы девушка не слишком долго оставалась на солнце. Когда она выводила стада на берег реки или в лес, он, согнув густолиственные ветви дерев и сплетая их между собою, устраивал укромные беседки, а мурава служила им тогда креслами, созданными самой природою. На всех стволах красовались их вензеля, а на древесной коре он вырезал стихи, воспевавшие лишь одно — красоту Карпийон. Принцесса же следила за проявлениями любви пастуха то с удовольствием, а то и с беспокойством; еще не понимая, что уже любит его, она не решалась признаться в этом самой себе, боясь, что не сумеет сдержать нежных чувств. Но не указывает ли сей страх сам на свою истинную причину?
(с. 430–431 наст. изд.)
В сказке «Принц Вепрь» также есть аллюзия на роман д’Юрфе, но вводится она с иронией. Юная героиня вспоминает роман «Астрея» и сравнивает себя и своего нареченного с его героями:
А она не знала, на что решиться. Будь Вепрь столь же красив, сколь он был безобразен, — они любили бы друг друга так же сильно, как Астрея и Селадон, и тогда какой счастливой показалась бы ей даже и самая уединенная жизнь вдали от людей! Но как же далеко было Вепрю до прекрасного Селадона! И все-таки она ведь до сих пор не была помолвлена. Никто до сего времени не удостоился ее внимания, и она решилась соединить свою судьбу с принцем, если тот пожелает вернуться домой.
(с. 730 наст. изд.)
О некоторых других аллюзиях на галантную литературу в произведениях мадам д’Онуа говорилось выше.
Наконец, нельзя не отметить у д’Онуа и множество реминисценций из басен Жана де Лафонтена (1621–1695), собрание которых появилось еще в 1668 году и снискало огромный успех. Вот лишь один пример — описание собрания портретов в сказке «Белая Кошка»:
<…> вот Салоед, повешенный за ноги на совете Крыс, вот Кот в сапогах, маркиз де Карабас, вот Ученый Кот, вот Кошка, превращенная в женщину, и Колдуны, превращенные в котов, а вот и шабаш со всеми его церемониями — словом, самые что ни на есть замечательные картины.
(с. 523 наст. изд.)
Салоед или, в оригинале, Родилардус — герой басни Лафонтена «Совет Крыс», а «Кошка, превращенная в женщину» — заглавная героиня другой его басни. Об остальных реминисценциях из басен Лафонтена см. в Примечаниях к этому изданию, а о столь же нередких обращениях д’Онуа к его же повести-сказке «Любовь Психеи и Купидона» (Les amours de Psyché et de Cupidon; 1661) и к трагедии-балету Жан-Батиста Люлли «Психея» — ниже в данной статье. Пока скажем лишь, что такие обращения есть во всех сказках, чей сюжет соответствует сказочному типу 425 А, В и С — «Амур и Психея» или «Красавица и Зверь»: обоим этим мотивам суждена будет необыкновенная популярность позже — в XVIII и XIX веках, причем как во Франции, так и за ее пределами (см.: Bettelheim 1976: 303–310), однако именно мадам д’Онуа вводит эти сюжеты в репертуар литературной сказки.
Тексты эпохи, самые известные и резонансные, служившие источниками для сказок мадам д’Онуа, отличались и по жанрам, и по степени серьезности: «Освобожденный Иерусалим» Тассо и сказки Страпаролы, рыцарские романы и комедии Мольера, итальянские пасторальные поэмы и басни Лафонтена. Все эти произведения тоже будут широко цитироваться и позднее, в литературных сказках эпохи Просвещения.
На стадии становления жанра авторы используют две основные стилистические стратегии (см.: Robert 1991): это, во-первых, «народность» — «народная речь», интерес к народному быту, внимание к реальным или, чаще, мнимым нравам «простого народа». Таким путем идет, в частности, Шарль Перро. Во-вторых, «инфантилизация» — употребление «детских» словечек, нарочито инфантильная речь персонажей. Этим, вторым, приемом часто пользуется мадам д’Онуа. Одна из самых «инфантильных» ее сказок — «Принцесса Розетта». У юных принцев подрастает в башне красавица сестра. Один из них (по имени Большой Принц) говорит отцу:
— Папенька, сестрица уже совсем большая, на выданье — не пора ли нам и свадьбу сыграть?
Маленький Принц заговорил о том же с королевой. Их Величества отвлекли их, ничего не ответив на этот вопрос.(с. 117 наст. изд.)
Взрослый принц не только изъясняется как дитя — его, как маленького ребенка, очень легко отвлечь от интересной ему, но неудобной родителям темы. Но вот родители умирают, и Большой Принц, сделавшись королем, освобождает сестру из башни, утешая взрослую девушку следующим образом.
Карманы у него были набиты драже. Он вынул горстку и протянул Розетте.
— Ну же, — сказал он ей, — покинем эту ужасную башню; король скоро выдаст тебя замуж, печалиться больше нечего.(с. 117–118 наст. изд.)
Следует заметить, что конфеты фигурируют в качестве утешения для взрослых барышень и в других сказках мадам д’Онуа: например, в «Принце-Духе» герой в шапке-невидимке пытается успокоить девицу, которую только что спас от похищения:
Принц уж хотел положить ей в рот лучшие в мире драже — ведь ими всегда были полны его карманы, — но она даже зубов разжать не смогла, так ей было страшно.
(с. 79 наст. изд.)
Апогеем инфантильности выглядит следующий пассаж из сказки «Принцесса Розетта»: героиню везут на корабле к ее жениху, Королю Павлинов; нянька выбрасывает ее за борт вместе с кроваткой, чтобы подменить принцессу своей безобразной дочерью:
Но, к счастью, ее перина была сделана из перьев птицы-феникса, весьма редких и имеющих свойство не тонуть в воде, так что принцесса плавала на постели, точно в лодке; однако вода мало-помалу намочила перину, затем подушку. Тут Розетта испугалась, что описалась в кроватку и ее будут за это бранить.
(с. 121 наст. изд.)
Так рассуждает девица незадолго до вступления в брак.
Похожие пассажи есть и в других сказках. Так, в «Вострушке-Золянке» злые старшие принцессы узнают от доброй младшей, что обедневшие родители собираются завести их в лес и оставить там (подобно Мальчику с пальчик и его братьям). Они уговаривают сестру спасти их: «Они залились слезами и принялись умолять ее взять их с собой, обещая, что отдадут ей своих самых красивых кукол, серебряный кукольный домик, другие игрушки и сладости». В этой же сказке героиня обращается к прекрасному испанскому скакуну: «Милая лошадка!»
М. Мансон напоминает, что именно мадам д’Онуа французский язык обязан таким ходовым и практически незаменимым в детской речи словечком, как «joujou» (диминутив от «jouet», «игрушка»). В той же статье (см.: Manson 1998: 43–156) подробно говорится о многочисленных упоминаниях игрушек и, в частности, одушевленных кукол в сказках мадам д’Онуа. Правда, происхождение слова «joujou» непосредственно из сказки д’Онуа ставит под сомнение Жан Мениль (Mainil 2001: 222), но это не меняет главного: «Сказки фей» и «Новые сказки…» действительно изобилуют детскими словечками, при том, что эта детскость не выходит за рамки салонной игры. При этом обилие «детских» деталей у мадам д’Онуа отнюдь не означает, что ее тексты обращены к читателю-ребенку или предназначены для чтения детям. Полагать так было бы неверно, хотя бы потому, что ни в одной из этих сказок дети не являются главными героями. Все предисловия и посвящения в сказочных сборниках мадам д’Онуа также лишены размышлений о воспитании детей; сказки ни в каком смысле не обращены к детской аудитории. Более «детским» писателем в этом смысле можно считать Шарля Перро, с его «Красной шапочкой» и «Мальчиком с пальчик», но прежде всего — с его предисловием к «Историям и сказкам былых времен», где автор упоминает о высокой нравственности и воспитательном значении народных сказок. Хотя и здесь не обходится без игры в детскость: посвящение сборника Мадемуазель сделано, как мы помним, от имени «ребенка», сына Шарля Перро, Пьера д’Арманкура, которого назвать ребенком можно было только с большой натяжкой (Пьеру восемнадцать лет — весьма двойственный возраст: с одной стороны, согласно предписанию, изданному Генрихом III в Блуа в 1579 году и действовавшему вплоть до 1792 года, гражданского совершеннолетия человек достигал лить в 25-летнем возрасте, с другой стороны — восемнадцатилетние юноши нередко вступали в брак с согласия родителей, а еще чаще участвовали в военных действиях). Тем более Пьер д’Арманкур не был автором сказок.
Применительно к сказкам Мари-Катрин д’Онуа можно говорить лишь об условной детскости, игре в детскость. Но некоторые «сказочники» той эпохи уже задаются вопросом о месте сказки в воспитательном процессе. Помимо Шарля Перро с его предисловием, в котором содержится упрек ученой публике — почему же она пренебрегает пользой народных сказок для воспитания детей, и Франсуа де Фенелон (1651–1715) в трактате «О воспитании девиц» (De l’Education des filles; 1687) призывает увлекать ребенка красноречиво поведанной историей — но в которой, по его мнению, не должно быть волшебства, ибо его он считает пережитком язычества и проявлением дурного вкуса (см.: Loskoutoff 1987).
Активно использовать сказку при обучении и воспитании детей начнут позже. В XVIII веке сказки уже появляются в дидактических изданиях, из которых наиболее известен журнал г-жи Лепренс де Бомон «Детское училище» (см.: Leprince de Beaumont 1756), тот самый, куда вошла ее известнейшая сказка «Красавица и Зверь», а также «Театр для пользы юношества» г-жи де Жан-лис (см.: Genlis 1779–1780).
Наряду с инфантилизацией, отличительной чертой сказок мадам д’Онуа становится гиперболизация, и прежде всего в тех пассажах, где говорится о роскоши и богатстве. В сказке «Принц-Дух» злодей Фурибонд требует выкупа от принцессы, чей замок он осаждает. Главный же герой, благородный принц Леандр, от имени принцессы предлагает вот что:
Фурибонд отвечал, что <…> если ему пришлют всего лишь тысячу тысяч миллионов пистолей, он тотчас вернется в свое королевство. Леандр объяснил, что отсчитывать тысячу тысяч миллионов пистолей было бы слишком долго, и пусть он просто скажет, сколько хочет комнат, доверху набитых золотом, а уж это для такой щедрой и могущественной принцессы просто пустяк.
(с. 93 наст. изд.)
В «Принцессе Розетте» королева размышляет о страшном предсказании фей. Король спрашивает, отчего она загрустила.
Королева продолжала грустить: король снова спросил, что стряслось; она ответила, что, сидя на берегу реки, уронила в нее свою зеленую атласную туфельку. «Только и всего?» — сказал король. Он сделал заказ всем сапожникам своего королевства и принес ей десять тысяч туфелек из зеленого атласа.
(с. 116 наст. изд.)
В сказке «Золотая Ветвь» принцесса заглядывает в волшебный комод в башне:
«Там было четыре тысячи ящиков, наполненных старинными и недавно сделанными украшениями».
(с. 138 наст. изд.)
О появлении Вострушки-Золянки на королевском балу говорится:
«Ее платье, расшитое золотом и бриллиантами, весит больше тысячи фунтов. Как она прекрасна! Как мила!»
(с. 254–255 наст. изд.)
Примеры подобных гипербол можно приводить еще долго.
Роскошь играет важную роль; при этом основными показателями достатка и благополучия оказываются драгоценности и сладости. О принцессе Прелестнице («Прелестница и Персинет») говорится: «Тогда ей приносили полные вазочки драже и с двадцать горшочков варенья. И повсюду говаривали, что нет на свете принцессы счастливее» (с. 11 наст. изд.). А вот радостный поворот в судьбе принцессы Побрякушки из одноименной сказки: «Не успела она выйти из-за стола, как казначеи принесли пятнадцать тысяч сундуков, огромных, как бочки, доверху наполненных золотом и алмазами» (с. 324 наст. изд.). Все это небывалое изобилие вполне в духе устной сказочной традиции, оно заставляет вспомнить о волшебной стране Кокань, которая изображена на одноименной картине Питера Брейгеля Старшего (ок. 1525–1569) и под разными названиями фигурирует в фольклоре разных стран Европы. С другой стороны, изобилие прекрасных яств (главным образом сладостей) и красота, непосредственно связанная с этим изобилием, сближают сказки мадам д’Онуа с гофмановским «Щелкунчиком», на чем мы ниже остановимся отдельно.
Нельзя не отметить, что одной из отличительных черт творчества мадам д’Онуа является некоторая небрежность. В новеллах это касается прежде всего географических деталей, исторических реалий и случаев употребления испанского языка. Так, в «Доне Фернане Толедском» герой пишет на пьедестале статуи Амура фразу на испанском; построена она грамматически некорректно и, кроме того, несет не тот смысл, который имела в виду писательница (снабдившая фразу французским переводом). В той же новелле герои и похищенные ими возлюбленные, спасаясь от преследования, всходят ночью на корабль в Кадисе, — а уже утром, стоит одному из них досказать сказку «Зеленый Змей», достигают Венецианского залива. В реальности морское путешествие от Кадиса до Венеции занимало в те времена никак не меньше недели; между тем волшебство, с помощью которого персонажи преодолевают необыкновенно большие расстояния за неправдоподобно краткий промежуток времени, — это мотив исключительно сказочный, и в новеллах он полностью отсутствует.
В новелле «Дон Габриэль Понсе де Леон» Лима — нынешняя столица Перу — дважды названа мексиканским городом. Там же можно наблюдать некоторую непоследовательность при подборе действующих лиц: девица по имени Роза появляется лишь в одном эпизоде (в сцене вечернего музицирования в павильоне в саду) и, кажется, только затем, чтобы, играя на виоле, составить достойное струнное трио с героинями новеллы, Исидорой и Мелани, первая из которых играет на арфе, а вторая на гитаре. Стоит закончиться музыкальным импровизациям — и Роза навсегда исчезает из повествования, едва успев в нем появиться.
Если в новелле непоследовательность встречается в разработке системы персонажей, то в сказках она иной раз затрагивает построение сюжета, где не все несообразности можно объяснить прихотью волшебства. Наиболее показательна в этом смысле «Мышка-Добрушка». Сначала Королева-Радость, а затем и ее дочь, принцесса Прелеста, долго томятся в плену у злого короля и его безобразного и жестокого сына. Героиням бессильно сочувствует добрая фея, которая нередко принимает облик мышки. И лить в финале фее-мышке удается победить злодеев, просто искусав отца и сына. Очевидно, что столь легкий способ спасти героинь не был использован в начале сказки только потому, что в противном случае завязка стала бы одновременно и развязкой. Здесь нас ждет любопытное наблюдение: непоследовательность в разработке сюжета часто встречается у мадам д’Онуа там, где она отступает от традиционного сказочного типа. Кроме того, как было сказано выше, последовательность в изложении событий принципиально не является задачей сказочницы, всячески избегающей звания «ученой женщины» и в своих творениях стремящейся к галантной легкости. Не приходится удивляться тому, что автор подчас словно бы нарочно пренебрегает логикой и возводит непоследовательность едва ли не в творческий принцип, напоминая читателю, что жанр, с которым тот имеет дело, по определению несерьезен. Сказки Мари-Катрин д’Онуа сочетают в себе ученость и легкомыслие; подобное и впредь останется отличительной чертой литературной сказки.
Есть и еще одна интересная деталь, характерная именно для сказок мадам д’Онуа: как правило, в них весьма активны героини, а герои, наоборот, довольно пассивны или же откровенно слабы. На пассивность и нерешительность мужских персонажей в ее сказках многократно обращали внимание исследователи (см.: Jasmin 2002; Defrance 1998). Сказок, где главную роль явно играет мужчина, у писательницы весьма немного, и почти все они сконцентрированы в первом из ее сборников — «Сказки фей». Это такие тексты, как «Остров Отрады», «Златовласка», «Принц-Дух» и «Желтый Карлик», причем две из них («Остров Отрады» и «Желтый Карлик») заканчиваются трагической гибелью героя. В остальных героини столь же или более активны, чем герои. В тех сказках, где фигурируют злые мачехи героинь («Прелестница и Персинет» и «Синяя птица»), отцы-короли преступно пассивны и мягкотелы: они позволяют своим женам любые жестокости по отношению к дочерям. В «Барашке» и «Дельфине» короли-отцы пытаются погубить своих дочерей из-за беспочвенного подозрения. Наконец, в сказках «Голубь и Голубка» и «Принц Вепрь» отцы просто устраняются от решения проблем, предоставляя действовать своим женам. Поскольку эта любопытная деталь характерна именно для мадам д’Онуа, то тенденция к подобному изображению мужчин в сказках, очевидно, имеет автобиографические корни: мы практически ничего не знаем об отце писательницы, которого она, очевидно, рано лишилась, так как к моменту ее весьма раннего замужества ее мать успела овдоветь; но о муже ее известно, что он был пьяницей и неверным супругом (в последнем, впрочем, ему не уступала и сама Мари-Катрин).
Нарочитая детскость в сочетании с галантностью; небрежность столь частая, что кажется последовательной и возведенной в творческий принцип; насмешка и над собственным предметом — сказками, и над теми, кто их слушает и рассказывает: тут нельзя не заметить иронии и самоиронии. Ирония в отношении самых разных явлений окружающего мира — как самых личных и частных поведенческих реакций разных людей, так и громких политических событий — еще одна отличительная черта сказок мадам д’Онуа. Во многих сказках, казалось бы далеких от сатирического жанра, мы встречаем иронические выпады в адрес человеческих пороков. Так, в «Зеленом Змее» китайских болванчиков, путешествующих по разным странам, населенным людьми, так распирает от смеха при виде слабостей последних, что они заболевают водянкой:
У некоторых болванчиков живот был так выпячен, а щеки так надуты, что просто диво дивное. Она
(королева. — М. Г.)спросила, почему это, и они отвечали так:
— Нам при выходах в свет запрещается смеяться и разговаривать, мы же только и видим там что дела самые смехотворные и глупости самые непростительные — вот нам и хочется смеяться до того, что нас от этого раздувает. Это такая смеховая водянка, от которой здесь мы, впрочем, быстро излечиваемся.(с. 375 наст. изд.)
В сказке «Принц Вепрь» трагические события оказываются мнимыми; они — не то, что видели герои наяву, а морок, наведенный феями. Речь, казалось бы, идет о чуде, но этому чуду тут же дается самая реалистичная и в своем реализме ироничная аналогия:
Такое часто случается в наши дни. Кому-то примерещится ни с того ни с сего на балу собственная жена — а она в это время в неведении спокойно спит дома. Иному вдруг представится, что он держит в объятиях красивейшую любовницу, а на самом деле это жалкая мартышка. Третий же возомнит, будто отважно сразил врага, а тот на поверку живет да здравствует в своих далеких краях.
(с. 736 наст. изд.)
Иронический выпад направлен против иллюзий вообще — но не только: ирония привносит в волшебную сказку элемент социальной сатиры. При этом сатира, которая вообще исходно чужда жанру волшебной сказки, привносит в этот жанр элемент пародии. Вскоре, в начале XVIII века, подобное сознательное смешение жанров войдет в норму и оформится в отдельные поджанры. С одной стороны, социальная сатира станет облекаться в относительно безобидную форму восточной сказки, с другой — сатира и ирония станут неотъемлемыми элементами пародийных или же непристойных, либертенских сказок (см.: Robert 1987). Заметим, что сам счастливый финал данной сказки — радостная весть о том, что гибель троих персонажей на глазах у принца была лишь обманом зрения, — выглядит весьма натянуто и непоследовательно даже для волшебной сказки. В обоих других сказочных сборниках, где фигурирует подобный сюжетный тип (у Страпаролы и позднее у графини де Мюра), подобный эпизод с появлением мнимых покойников отсутствует.
Совсем иного рода иронию мы встречаем в тех редких случаях, когда в сказках Мари-Катрин д’Онуа появляется политический намек. В «Синей птице» разгорается мятеж против злой королевы, гонительницы героини:
Разгневанная королева думала все превозмочь своей гордостью. Она взошла на балкон и пригрозила мятежникам. Тут возмущение стало уже всеобщим — двери в королевские апартаменты выломали, а королеву схватили и насмерть забили камнями.
(с. 59 наст. изд.)
Толпа, восставшая против непопулярного правителя, камни в качестве действенного оружия — все это заставляет вспомнить события Фронды (1648–1753 гг.) — мятеж против Мазарини получил свое название от пращи (фр. la fronde), поскольку во время городских бунтов в ход активно пускались камни мостовой.
Наконец, проявление иронии Жан Мениль предлагает видеть в самой интертекстуальности многих сказок мадам д’Онуа: это и самоцитирование, то есть использование различных сюжетных ходов собственного романа «История Ипполита, графа Дугласа» в новеллах и сказках, и аллюзии на сказки современников, как мы это видели в случае с «Вострушкой-Золянкой». Действительно, интертекстуальная сказка рассчитана на узнавание, предполагая, что читатель, отслеживая заимствования в тексте, включится в игру, навязанную автором. Там, где речь идет о самоцитировании, можно говорить и о самоиронии. Так или иначе мы видим, что во втором сборнике сказок Мари-Катрин д’Онуа, где аллюзий как на собственные произведения, так и на произведения современников и современниц больше, чем в первом, сильнее выражен не только элемент пародийности, но и элемент иронии.
Сказки Мари-Катрин д’Онуа
и жанр литературной сказки во Франции и за ее пределами
По творчеству Мари-Катрин д’Онуа легко проследить основные тенденции развития жанра — как непосредственно в момент создания «Сказок фей» и «Новых сказок…», так и в последующую эпоху.
Мадам д’Онуа и ее современницы закладывают основы той традиции, которая будет прослеживаться на протяжении всей эпохи Просвещения: именно в последнее десятилетие XVII века намечаются основные пути развития жанра, и именно прециозные сказочницы вводят в литературную сказку темы, которым суждена будет долгая жизнь внутри жанра.
Одна из наиболее продуктивных тем, привнесенных во французскую литературную сказку именно мадам д’Онуа, — это тема Амура и Психеи / Красавицы и чудовища, то есть сказки типов 425 А, В и С по указателю Аарне — Томпсона (см.: АТ), а также близких к ним типов 432 и 433 (см. Таблицу, с. 957 наст. изд.).
Сюжетный тип 425 — первый устный сказочный тип, зафиксированный европейской литературой. Сказка об Амуре и Психее впервые встречается в романе Апулея «Метаморфозы, или Золотой осел» (II в. н. э.). Наиболее распространены в фольклоре и наиболее близки к версии Апулея следующие варианты народного сюжета: 425 А — «Чудовище (животное) в роли жениха // Купидон и Психея», 425 В — «Расколдованный муж: задачи колдуньи» и 425 С — «Красавица и Зверь».
Позволим себе кратко напомнить сюжет сказки об Амуре и Психее.
У некоего царя три дочери. Все три красавицы, но младшая, Психея, затмевает красотой не только сестер, но и саму богиню Венеру. Психее поклоняются как богине, в то время как храмы Венеры пустеют. Разъяренная богиня призывает своего сына Амура отомстить девушке. С этих пор Психея оставлена поклонниками. Царь вопрошает оракула о дальнейшей судьбе дочери и узнает, что Психею надлежит отвести на высокую гору, где она станет добычей кровожадного чудовища, которому предназначена в жены. Предначертание оракула выполняется. Зефиры подхватывают девушку на скале и приносят в великолепный дворец, где многочисленные слуги выполняют каждую ее прихоть. По ночам, под покровом темноты, к Психее является хозяин дворца, ее супруг. Видеть его Психее запрещено. При этом Психея счастлива, но она скучает по сестрам. Однажды сестры являются к ней во дворец — их приносят услужливые ветры. Сестры завидуют счастью и богатству Психеи и уговаривают ее узнать, кто же достался ей в супруги и не чудовище ли это, предсказанное оракулом. Психея соглашается. Ночью она подкрадывается к ложу супруга с горящей лампой и с мечом и видит Амура. В то время как она зачарованно любуется на прекрасного супруга, из лампы выливается капля кипящего масла и обжигает его. Он просыпается и, увидев в руках у супруги меч, в гневе покидает ее. Безутешная Психея отправляется на поиски супруга. Ее преследует гневная Венера, задает ей невыполнимые задачи, чтобы погубить или обезобразить ее. Последнее ей удается. Когда силы Психеи уже на исходе, ее находит простивший ее супруг (который предварительно отомстил ее завистливым сестрам), Юпитер дарует ей бессмертие, Венера прощает ее и возвращает ей красоту. Психея рожает дочь, которую называют Наслаждение, Услада, Сладострастие и т. п.
Сказки, сюжетно близкие к этому топосу, встречаются у мадам д’Онуа очень часто. Объяснение тут — самое естественное: история Амура и Психеи незадолго до того входит в моду во Франции благодаря произведению Жана де Лафонтена (1621–1695) «Любовь Психеи и Купидона» — прозиметрической сказке, а также чрезвычайно популярному балету Жан-Батиста Люлли (1632–1687) «Психея» на либретто Пьера Корнеля, Мольера и Филиппа Кино, впервые поставленному в Тюильри 17 января 1671 года. (Об этом подробнее см.: Осокин 2011: 392.) Отсюда и прямые отсылки, которые мы встречаем в «Сказках фей». Вот Персинет предлагает Прелестнице спектакль:
Ей, хотя и весьма утомленной, предложили послушать оперу в гостиной, сиявшей золотом и украшенной картинами. Это была «Любовь Психеи и Купидона», с танцами и песенками.
(с. 20 наст. изд.)
В сказке «Зеленый Змей» королева Дурнушка, которая, подобно Психее, живет в волшебном дворце у невидимого супруга, ждет в гости сестру:
Всем китайским болванчикам не терпелось порадовать чем-нибудь свою новую королеву, и вот один принес ей историю Психеи, которую некий писатель из самых модных недавно изложил приятным языком. Она нашла в книжке много сходства с собственной историей, и ей так страстно захотелось увидеть отца и мать, сестру и зятя, что, как ни отговаривал ее король, ничто не могло заставить ее отказаться от этого каприза.
— Книга, которую вы читаете, — прибавил он, — расскажет вам, в какую беду попала Психея. Ах, умоляю вас, извлеките же из нее урок, дабы избежать подобной участи!
Она без конца клялась ему, что будет осторожна.(с. 378 наст. изд.)
Героиня сравнивает свою судьбу с судьбой Психеи. Злокозненная сестра противоречит ей:
«Ах, несчастная! — воскликнула королева. — И ведь до чего грубо тебя обманули-то! Как ты можешь так наивно верить всем этим сказкам! Не иначе как твой муж — какое-нибудь чудовище, ведь и все эти болванчики, над которыми он царствует, — мартышки мартышками.
— А я, напротив, думаю, что это сам Амур, бог любви.
— Что за вздор! — воскликнула королева Красотка. — Это Психее сказали, что ее муж — чудовище, а он оказался Амуром; вы же вбили себе в голову, что ваш супруг — Амур, тогда как это, несомненно, какое-нибудь чудовище; разрешите хотя бы свои сомнения, узнайте истину».(с. 379 наст. изд.)
Правы оказываются героиня и ее супруг: их судьба во многом повторяет судьбу Амура и Психеи.
Если в этом сюжете повествуется о любви героини к таинственному супругу, которого запрещено видеть (или, как в сказке «Прелестница и Персинет», чьи душевные качества вызывают у принцессы сомнения, впрочем, не вполне обоснованные), то в сказках о Красавице и Чудовище героине приходится полюбить супруга с безобразной внешностью и добрым сердцем, причем ни то, ни другое не является для нее секретом. К этому последнему типу принадлежит «Барашек», одна из двух сказок мадам д’Онуа с трагическим концом — заколдованный король в образе барана умирает от любви. Полюбить своего супруга безобразным удается только героине «Зеленого Змея», но и сама она также оказывается любима им, невзирая на собственное уродство. Любопытно, что в сказках мадам д’Онуа встречаются положительные герои с безобразной внешностью: таковы герой и героиня «Золотой Ветви» в начале сказки, таков Алидор, герой сказки «Дельфин», таков принц Вепрь. Однако всем им либо суждено похорошеть еще до вступления в брак («Золотая Ветвь»), либо их семейное счастье начинается лишь в тот момент, когда герой обретает красоту («Дельфин» и «Принц Вепрь»). Герои могут быть столь же прекрасны душой, сколь уродливы внешне («Золотая Ветвь»), но для того, чтобы снискать любовь, им, как правило, приходится обрести привлекательную наружность. Это касается не только мужских, но и женских персонажей (в сказках «Побрякушка» и «Белая Кошка» принцессы в обличии животных, невзирая на небывалый ум и доброе сердце, обретают любовь принцев, лишь вернув себе человеческий облик и красоту). Чаще же физическое безобразие соответствует жестокости души: безобразны злые мачехи, злые феи и волшебники, жестокосердые претенденты на руку героини («Принц-Дух», «Принцесса Карпийон», «Мышка-Добрушка», «Желтый Карлик»), людоеды («Златовласка», «Вострушка-Золянка», «Апельсиновое дерево и Пчела», «Голубь и Голубка»). Сказка о необыкновенном супруге решительно входит в моду уже в эпоху Просвещения, причем тут наиболее часто эксплуатируется именно вариант С, где героине приходится полюбить супруга, невзирая на его чудовищную внешность (см.: Гистер 2009). Таким образом авторы подчеркивают приоритет добродетели перед телесной красотой и даже перед умом. Это общее место сказок о Красавице и Звере пришло из одноименной сказки мадам Лепренс де Бомон (1756), опубликованной в дидактическом издании «Детское училище» (Le magasin des Enfants): там герой имеет не только облик, но и разум животного, а из человеческих качеств наделен лишь одним: добрым сердцем. Прекрасной иллюстрацией этому позднее станет фильм Жана Кокто «Красавица и Чудовище» (1946). Между Лепренс де Бомон и Кокто — множество литературных версий сказки данного типа (см.: Betteleheim 1976). В русской литературе это — «Аленький цветочек» Сергея Аксакова (1858), появившийся в виде приложения к роману «Детские годы Багрова-внука» с подзаголовком «Сказка ключницы Пелагеи». Сам Аксаков в качестве прототипов своей сказки указывает, с одной стороны, на русскую народную сказку, якобы услышанную от ключницы, а с другой — на сказку Лепренс де Бомон и на оперу Гретри «Земира и Азор» (1771), либретто Мармонтеля (1723–1799), написанную по мотивам сказки из «Детского училища» (см.: Гистер 2009).
Мари-Катрин д’Онуа и Габриэль-Сюзанн де Вильнёв:
волшебная сказка как сентиментальный роман
Выше уже говорилось о генетической связи сказок мадам д’Онуа и ее современниц с романом середины XVII века. Заметим, что во всех рамочных повествованиях, будь то «История Ипполита…», «испанские» новеллы «Дон Фернан…» или «Дон Габриэль…» или же «мольеровская» «Новый дворянин…», в качестве главных героев и героинь выступают молодые люди и девицы, влюбленные и находящиеся на пороге вступления в брак. При этом только в одной из обрамленных сказок («Вострушка-Золянка» внутри новеллы «Дон Габриэль…») любовь не играет важной роли, повествование строится как контаминация сюжетов о Мальчике с пальчик и о Золушке; впрочем, и тут в финале героиню ждет счастливый брак, как и подобает волшебным сказкам устного происхождения. В остальных же обрамленных сказках любовная тема играет важную, а зачастую основную роль (как в «Барашке», «Зеленом Змее», «Голубе и Голубке» или «Истории принцессы Ясной Звездочки и принца Милона»). Заметим, что и в романе, и в обрамляющих новеллах все персонажи, рассказывающие сказки, влюблены — даже старая и безобразная донья Хуана («Дон Габриэль…»), из чьих уст читатель узнает историю «Вострушки-Золянки», и та без ума от юного графа Агиляра, чем постоянно смешит и своих племянниц, и влюбленных в них молодых людей (то есть заодно и сам предмет своей страсти). Она с восторгом слушает сказку «Барашек», так и не поняв, что история злой и безобразной феи Чурбанны, влюбленной в молодого короля, — намек на нее саму. Получается, что сказка полностью созвучна тем чувствам, какие испытывают герои обрамляющей новеллы, то есть именно любовная тема сближает рамочное повествование и обрамленную сказку, — и это важная отличительная черта творчества Мари-Катрин д’Онуа. Нечто подобное будет прослеживаться в романах-сказках Габриэль-Сюзанн де Вильнёв уже полвека спустя.
В XVIII веке появляется все больше сборников сказок в обрамлении. Особенно частой такая форма становится после выхода в свет «Тысячи и одной ночи» в переводе Галлана (законченный в 1704 году, он публиковался с 1704 по 1717-й). Появляются многочисленные подражания, сборники «персидских», «татарских», «китайских», «перуанских», «монгольских» и проч. сказок, самые известные из которых — «Тысяча и одна четверть часа, татарские сказки» (Les Mille et un Quarts-d’heure, contes tartares; 1715) Томаса Симона Гёлета и его же «Тысяча и один час» — перуанские сказки (Les Mille et une Heures, contes péruviens; 1733), «Тысяча и один день» (Les Mille et un jours; 1710–1712) Франсуа Пети де ла Круа и его же «История персидской султанши и визирей» (Histoire de la sultane de Perse et des vizirs; 1707). Последнее собрание замечательно тем, что в нем султанша и ее визири, по очереди рассказывая друг другу сказки, используют их как аргументы во взаимной полемике. Однако столь прагматичное использование волшебных сюжетов в жанре не приживается; впрочем, рассказывание сказок с заданной тематикой встречалось уже и у Базиле и Страпаролы.
Бесспорно классическим примером сказок как «вставных новелл» в романное повествование в XVIII веке могут послужить произведения Габриэль-Сюзанн де Вильнёв (1695–1755), писательницы круга Кребийона-сына (1707–1777). В двух ее романах, «Юная Американка, или Морские сказки» (La Jeune Américaine et les contes marins; 1740) и «Одинокие красавицы» (Les Belles solitaires; 1745) рассказано шесть сказок, одна из которых, «Король-Святой» (Roi Santon), коротка и волшебной может называться лишь с некоторой долей условности, остальные же весьма длинны. Особенно характерны три — входящие в роман «Юная Американка, или Морские сказки»; и по объему, и по сложности сюжета каждая из этих сказочных историй вполне могла бы сама называться романом. Это «Красавица и Зверь» (тип 425 С), «Наяды» (тип 480) и «Время и терпение» (нет соответствия какому-либо фольклорному типу). Для героев «Юной Американки» сказки — способ скоротать время путешествия из Франции в Северную Америку (в Канаду), — туда юная мадемуазель Роберкур со своей гувернанткой отправляются, чтобы повидать больную мать барышни; их сопровождают ее нареченный — молодой и любезный Дорианкур — и еще несколько спутников. Вот они-то и рассказывают барышне сказки, где всегда речь о юной девице, которой приходится преодолевать самые разнообразные трудности, чтобы наконец вступить в брак. В «Красавице и Звере» препятствием служит не только безобразная внешность претендента, но и любовь к таинственному незнакомцу, который является Красавице во сне и в конце концов оказывается не кем иным, как самим Зверем до рокового превращения. В «Наядах» принцесса питает склонность к влюбленному в нее молодому охотнику, но неравенство положения (как выяснится впоследствии, мнимое) представляется ей непреодолимой преградой и нарушением дочернего долга. Наконец, героине сказки «Время и терпение» добродетель долгое время мешает отвечать взаимностью влюбленному в нее кузену. Во всех трех случаях решение в пользу любви оказывается единственно верным, что созвучно рамочному повествованию, где юной и неискушенной героине предстоит усвоить уроки нежности, которой и учат ее сказки. На это с достаточной ясностью указывается непосредственно в тексте романа.
Можно было бы подумать, что беседа поклонника, пользующегося взаимностью, могла избавить мадемуазель де Шон от необходимости рассказывать сказки, которые были вовсе не интересны и скорее могли показаться безвкусными, но мадемуазель де Роберкур, с юных лет изнеженная, почти вовсе не интересовалась нежными чувствами. Все время ее воспитания ее заботливо ограждали от соблазнительных ловушек любви. Никто не отваживался вести с ней нежных речей, и язык любовников был еще для нее языком неизвестным.
(Villeneuve 1740: 91)
Галантный роман, на который мадам д’Онуа так часто ориентируется в своих сказках и новеллах, продолжает пользоваться популярностью и в эпоху мадам де Вильнёв; он по-прежнему активно читается юными барышнями, но уже начинает восприниматься как нечто старомодное и вызывать улыбку. Одна из героинь «Одиноких Красавиц» рассказывает другой о своей первой (и постоянной) любви и упоминает роман Мадлен де Скюдери «Артамен, или Великий Кир»:
Во времена Кира я употребила бы все часы моего одиночества, чтобы вопрошать себя, что это со мной; но, милая моя, в наши дни так больше не поступают и семнадцатилетняя девушка уже не столь невинна.
(Villeneuve 1740: 80)
В этом же романе есть одна сцена, почти зеркально повторяющая эпизод признания дона Габриэля из одноименной новеллы мадам д’Онуа. Как дон Габриэль, так и героиня романа Габриэль-Сюзанн де Вильнёв долго не решаются рассказать о своей страсти, так как сами отдают себе отчет в ее странности и даже абсурдности: и первый, и вторая незнакомы с предметом своей любви. Романтичный и склонный к меланхолии дон Габриэль открывается веселому и насмешливому графу де Агиляру в следующих выражениях:
Впрочем, — продолжал он, помолчав немного, — <…> если что и мешало мне поведать вам мой секрет, то лить стремление сохранить ваше уважение.
Увы! Сможете ли вы впредь принимать меня всерьез, расскажи я вам о моих чудачествах? Да, я влюблен, признаюсь, и моя страсть тем опаснее, что я даже не знаю еще, достойна ли особа, возмутившая мой покой, тех страданий, что я ради нее испытываю.(с. 196 наст. изд.)
Чуть позже он вспоминает и напевает песню Клелии, созвучную его нежному чувству.
Сцена полностью соответствует поэтике галантного романа, который в ней и цитируется: напев продолжает мысль, только что выраженную в прозе.
А вот признание, которое печальная Графиня делает веселой Маркизе.
— Я вовсе не опасаюсь, что вы нарушите мою тайну, — сказала Графиня, — но, повторяю вам, среди моих приключений есть вещи настолько странные, что, хоть я тут и невинна, мне так же неловко о них рассказывать, как если бы это были сплошные преступления; право, как же мне решиться наконец рассказать вам, что я обожаю видение, идею, призрак, который основан, возможно, единственно только на моем умопомешательстве. Признайтесь, — продолжала она, видя, в какое изумление повергли ее слова Маркизу, — что все это — хорошее продолжение для Фарамона или Клелии и что мадемуазель де Скюдери или господину де Ла Кальпренеду было бы из чего создать чудесное произведение, с такой-то необычайной основой.
(Villeneuve 1740: 42–43)
Там, где речь заходит о первой любви, героине мадам де Вильнёв, как и героям мадам д’Онуа, вспоминаются романы мадемуазель де Скюдери, — однако уже у д’Онуа, а тем более у Вильнёв упоминание Клелии сопряжено с легкой иронией или, точнее, самоиронией.
Обработкой сюжета о «необыкновенном супруге» являются три из шести сказок мадам де Вильнёв, включенных в романы, а также двух, публиковавшихся отдельно и приписывавшихся (не без участия самой писательницы) графу де Келюсу. Это «Красавица и Зверь» из «Юной Американки…», «Папá-Пригож» (в оригинале «Papa Joli»; так зовут собачку, в которую превращен молодой король, влюбленный в героиню) и «Мирлитон» (кличка, которую принцесса дает волку, тоже заколдованному королю, влюбленному в нее) из «Одиноких Красавиц». Если цель всех трех сказок в первом романе — поведать юной слушательнице о радостях любви, то во втором авторами сказочных историй выступают уже сами «одинокие красавицы», причем некоторые из сказочных аллегорий применимы к их собственным судьбам. Вспомним, что графиня Лирли влюблена в прекрасного незнакомца, с которым только и успела что обменяться несколькими взглядами — то есть возлюбленный для нее в какой-то мере таинственен и чужд, как заколдованные герои сказок. Маркиза не раскрывает своей истории, но намекает, что и она познала любовное томление. Обе они — молодые вдовы, еще не успевшие вкусить радостей любви. Таким образом, сказки о необыкновенном супруге весьма созвучны как пережитому ими, так и ожидаемому, таинственному для них будущему. Создавая эти три вариации на близкую тему, мадам де Вильнёв в качестве основного образца могла ориентироваться на сказки мадам д’Онуа, в чьем творчестве эта тема также играет немаловажную роль. За время, разделяющее «Новые сказки…» Мари-Катрин д’Онуа и «Юную Американку» Габриэль-Сюзанн де Вильнёв, выходит только одна сказка типа 425 А — это «История принцессы Зейнаб и короля Леопарда» (l’Histoire de la princesse Zeineb et du roi léopard) аббата Биньона, вошедшая в его сборник «восточных» сказок «Приключения Абдала, сына Ханифа» (Les aventures d’Abdalla, fils d’Hanif; 1714) — то есть к моменту создания «Красавицы и Зверя» у мадам де Вильнёв был лить этот, единственный образец для подражания… если только не считать сказок мадам д’Онуа. Зато после выхода в свет «Юной Американки» сказки о Красавице и Звере входят в моду, сначала во Франции (см.: LBLB 2002), а затем и за ее пределами (см.: Bettelheim 1976: 303–310). И хотя наибольшей известностью до сих пор пользуется одноименная сказка Жанны-Мари Лепренс де Бомон (1711–1780), написанная 16 лет спустя после сказки Вильнёв, — можно смело говорить о том, что этот модный сказочный сюжет входит во французскую литературу благодаря Мари-Катрин д’Онуа и Габриэль-Сюзанн де Вильнёв.
Мари-Катрин д’Онуа и немецкая литературная сказка
Вслед за прижизненными изданиями, сказки мадам д’Онуа в начале XVIII века выходят отдельными томами и, наконец, включаются в такой популярный и во Франции, и за ее пределами сборник, как вышедший в Амстердаме «Кабинет фей, или Избранные сказки фей и другие волшебные сказки» (Le Cabinet des fées, ou la Collection choisie des contes de fées et autres contes merveilleux; 1785–1789). Следует заметить, что к восьмидесятым годам XVIII века заглавие «Cabinet des fées» успевает прочно войти в литературный обиход: с 1717 года там выходят отдельными книгами сказки разных авторов, и в том числе мадам д’Онуа. А издание 1785–1789 годов, собственно, и открывается двумя томами писательницы. В течение четырех лет оно выходит как альманах (см.: Чекалов 2008: 211). В XVIII веке мадам д’Онуа оказывается одним из немногих авторов (вместе с Шарлем Перро, мадемуазель Леритье де Вилландон и мадемуазель де Ла Форс), чьи сказки выходят с указанием имени автора в такой популярной серии дешевых изданий романов и сказок, как La Bibliothèque Bleue — «Голубая библиотека» (см.: Чекалов 2008: 103). Впрочем, зачастую внутри одной книги этой серии под именем мадам д’Онуа выходили как ее сказки, так и тексты, не имеющие к ней никакого отношения, — например, «Blanche Belle» Шевалье Май, см. Таблицу, с. 954 наст. изд. (см.: Andries, Bollème 2003: 909–916). Читательская аудитория у этого собрания сказок, включавшего произведения не только мадам д’Онуа и Шарля Перро, но и абсолютного большинства прециозных сказочниц — таких как Шарлотта-Роза де ла Форс, графиня де Мюра, Катрин Бернар, — весьма широка, то есть тексты прециозных сказочниц популярны спустя век после их смерти. В XIX веке сказки д’Онуа также переиздаются многократно. В то же время среди авторов сказок, если не считать г-жу де Вильнёв, у писательницы крайне мало явных и бесспорных последователей. Карло Гоцци, например, говорил о заимствовании сюжетов некоторых своих фьяб из Cabinet des Fées, — однако у него нет ни одной пьесы, которую можно было бы счесть театральной вариацией какой-либо из сказок мадам д’Онуа. Н. Андреев указывает, что «Синяя птица» легла в основу «испанской новеллы» К. Гроссе «Принцесса Хуана» (см.: Перро 1936: 388). Учитывая, что и мадам д’Онуа, и другие авторы литературных сказок во Франции и во всей остальной Европе в XVIII–XIX веках активно используют фольклорные сюжеты, вопрос о влиянии именно ее произведений становится еще более сложным: корректно говорить лишь об общих местах, общих мотивах или образах, примеры которых можно выбирать произвольно. Обратимся к некоторым текстам Гофмана и братьев Гримм.
Среди сказок и новелл Гофмана мало таких, где четко просматривался бы фольклорный сюжет. Хотя кое-какие из них и можно условно отнести к тому или иному сказочному типу, но связь с фольклором в них не так сильна, как в литературных сказках конца XVII и XVIII веков. У Гофмана эта связь просматривается не столько на уровне сюжета, сколько на уровне отдельных мотивов и образов. Например, самая детская из его сказок — «Щелкунчик» стилистически и сюжетно имеет мало общего с фольклорной волшебной сказкой, но история о безобразном герое и прекрасной героине, которая своей любовью разрушает чары и возвращает своему возлюбленному красоту, генетически восходит к уже неоднократно упоминавшемуся выше типу 425 С (Красавица и Зверь). Таким образом, фольклорный прототип у «Щелкунчика» тот же, что и у нескольких сказок мадам д’Онуа. «Щелкунчик» — история о кукольном королевстве, повелитель которого — то безобразная кукла, то очаровательный молодой человек. Но кукольные королевства с заколдованными королями есть и в сказках мадам д’Онуа. В «Зеленом Змее» принцесса Дурнушка попадает в волшебный дворец в королевстве Китайских Болванчиков:
<…> она увидела сотню китайских болванчиков, весьма разнообразно одетых и по-разному выглядевших: самые большие ростом в локоть, а самые маленькие — всего с вершок; были среди них красивые, милые, изящные, а были и безобразные, пугающе уродливые; сделаны же все из бриллиантов, изумрудов, рубинов, жемчуга и хрусталя, из янтаря, из коралла, из золота, серебра и меди, из бронзы, железа, дерева и глины. Одни без рук, другие без ног, у тех рот до ушей, а эти косоглазые с приплюснутым носом. Одним словом, китайские болванчики тут отличались таким же разнообразием, как и все существа, населяющие этот мир.
(с. 372–373 наст. изд.)
Своего рода фаворитом героини становится «жемчужный болванчик». В кукольном королевстве Щелкунчика кукольный народ также весьма разнообразен: там есть и куклы-сласти, и куклы, обильно изукрашенные драгоценностями:
Рассказывают, что через год он увез ее в золотой карете, запряженной серебряными лошадьми, что на свадьбе у них плясали двадцать две тысячи нарядных кукол, сверкающих бриллиантами и жемчугом.
(Гофман 1967: 520. Пер. И. Татариновой)
Зрелища, которыми Щелкунчик развлекает Мари, также заставляют вспомнить сказки мадам д’Онуа, причем не только потому, что в них, как в «Зеленом Змее», фигурируют живые куклы, но и благодаря пасторальной обстановке, столь частой у д’Онуа и ее современниц:
Щелкунчик ударил в ладоши, и тотчас же явились крошечные пастухи и пастушки, охотники и охотницы, такие нежные и белые, что можно было подумать, будто они из чистого сахара. Хотя они и гуляли по лесу, Мари их раньше почему-то не заметила. Они принесли чудо какое хорошенькое золотое кресло, положили на него белую подушку из пастилы и очень любезно пригласили Мари сесть. И сейчас же пастухи и пастушки исполнили прелестный балет, а охотники тем временем весьма искусно трубили в рога. Затем все скрылись в кустарнике.
(Гофман 1967: 510. Пер. И. Татариновой)
Очень похожий пасторальный балет есть в сказке мадам д’Онуа «Прелестница и Персинет»:
Прелестница, очарованная смирением и великодушием своего юного поклонника, не смогла отказать и села с ним в маленькую повозку, красиво раскрашенную и вызолоченную, которую с необычайной скоростью помчали два оленя; быстро-быстро проехали они по множеству очаровательных мест в этом лесу, вызвавших у принцессы полный восторг. Везде все было хорошо видно. Пастухи и пастушки, изящно одетые, танцевали под звуки флейт и волынок. Дальше, по берегам ручьев, видела она поселян с возлюбленными, которые угощались и весело напевали.
(с. 19 наст. изд.)
Если в данном случае героиню веселят все же обычные пастухи и пастушки (чье небывалое изящество вполне в духе пасторальной литературы), то чуть далее в той же сказке мы видим и кукольные танцы (см.: TCP 1998: 143–156). Прелестница, вопреки запрету злой мачехи, открывает ящик.
<…> тотчас выскочило оттуда множество маленьких человечков, мужчин и женщин, с крошечными скрипочками, столиками, кухоньками и тарелочками; наконец вышел и самый большой, ростом с палец, а казался меж них великаном. Человечки прыгали на лугу, потом встали в несколько рядов и начали бал, прелестнее которого никто и не видывал: одни танцевали, другие готовили, третьи ели, а маленькие скрипачи наигрывали чудесную музыку.
(с. 26 наст. изд.)
Помимо живых кукол, в большинстве своем весьма изящных, кукольное царство Щелкунчика и волшебные страны мадам д’Онуа сближает небывалое изобилие утонченных яств, из которых, фактически, состоит необыкновенный ландшафт.
— Это Апельсинный ручей, — ответил Щелкунчик на расспросы Мари, — но, если не считать его прекрасного аромата, он не может сравниться ни по величине, ни по красоте с Лимонадной рекой, которая, подобно ему, вливается в озеро Миндального молока.
И в самом деле, вскоре Мари услыхала более громкий плеск и журчанье и увидела широкий лимонадный поток, который катил свои гордые светло-желтые волны среди сверкающих, как изумруды, кустов. Необыкновенно бодрящей прохладой, услаждающей грудь и сердце, веяло от прекрасных вод. Неподалеку медленно текла темно-желтая река, распространявшая необычайно сладкое благоухание, а на берегу сидели красивые детки, которые удили маленьких толстых рыбок и тут же поедали их. Подойдя ближе, Мари заметала, что рыбки были похожи на ломбардские орехи. Немножко подальше на берегу раскинулась очаровательная деревушка. Дома, церковь, дом пастора, амбары были темно-коричневые с золотыми кровлями; а многие стены были расписаны так пестро, словно на них налепили миндалины и лимонные цукаты.(Гофман 1967: 511. Пер. И. Татариновой)
Подобное же изобилие царит в местности, в которую попадает принцесса Чудо-Грёза в сказке д’Онуа «Барашек».
Наконец они оказались в просторной долине, покрытой множеством всевозможных цветов; их аромат превосходил все благовонья, какие ей до тех пор случалось обонять; полноводная река померанцевой воды омывала ту долину; источники испанского вина, розалиды, гипократова глинтвейна и тысячи других напитков струились то водопадами, то очаровательными журчащими ручейками. Кругом тут росли необычайные деревья, образовывавшие целые аллеи; с ветвей их свешивались куропатки, нашпигованные и прожаренные лучше, чем у Гербуа. Были и настоящие улицы, с висевшими на деревьях жареными дроздами и рябчиками, индейками, курами, фазанами и овсянками, а в укромных закоулках дождем сыпались с неба раковые шейки, наваристые бульоны, гусиная печенка, телячье рагу, белые кровяные колбаски, пироги, паштеты, фруктовые мармелады и разные варенья, а также луидоры, экю, жемчуга и алмазы.
(с. 219–220 наст. изд.)
Картины изобилия являются общим местом множества фольклорных и литературных сказок и снова заставляют вспомнить сказочную страну Кокань, упоминающуюся в фольклоре разных стран Европы.
У нас нет точных данных, которые подтверждали бы влияние на Гофмана именно сказок Мари-Катрин д’Онуа, но тем не менее возможность прямого влияния весьма вероятна: к моменту создания Гофманом «Щелкунчика» сказки д’Онуа переиздаются многократно; в момент выхода ее сказок в знаменитом «Кабинете фей» Гофману девять лет, а первое в XIX веке издание «Сказок фей» выходит всего за шесть лет до публикации «Щелкунчика».
Поскольку Мари-Катрин д’Онуа — один из наиболее плодовитых французских «сказочников» за всю историю жанра, то и неудивительно, что собрания ее сказок представляют столь внушительное многообразие фольклорных тем. В указателе сказочных сюжетов Аарне — Томпсона многие типы имеют те же названия, что и сказки Шарля Перро, что красноречиво свидетельствует о теснейшей связи последнего с фольклором. Но и заглавия французских народных сказок из аннотированного собрания Деларю и Тенез (см.: Delarue, Tenèse 1976) нередко совпадают с заглавиями сказок мадам д’Онуа. Если Перро и д’Онуа узнавали народные сказки преимущественно от слуг (что нередко подвергается сомнению за недоказуемостью) или в салонах (и тогда народное происхождение сказки оказывается тем более сомнительно), то первыми фольклористами, целенаправленно записывавшими сказки от информантов, стали, как известно, братья Гримм. Аутентичность их записей многократно подвергалась сомнению: скепсис у исследователей вызывали и личность, и уровень образования их главной информантки Доротеи Фиман, в девичестве Пирсон, француженки-протестантки по происхождению, а также условия, в которых записывались сказки, — эти условия нигде не описаны подробно самими собирателями. Заметим, однако, что аутентичной (в современном понимании) записи фольклорного произведения во времена Гриммов просто не могло быть: фольклористы не ставили перед собой задачи записать и опубликовать текст точно таким (или максимально приближенным к тому), каким он был рассказан: литературная обработка представлялась не просто нормальным явлением, но обязательным этапом работы с текстом. Наименования многих сказочных типов в знаменитом указателе Аарне — Томпсона совпадают с названиями и их сказок; известен ряд случаев («Золушка», «Красная Шапочка», «Мальчик с пальчик») одинаковых заглавий сказок у братьев Гримм и у Перро, — и это не просто заглавия, но вариации одних и тех же сюжетных типов. Можем ли мы сказать, что столь близкие сказочные топосы бытовали и в Германии, и во Франции — и тогда записи Гриммов совершенно независимы от сборника Перро? Или же информанты Гриммов слышали или даже читали сказки Перро? Полемика об этом идет до сих пор. Влиянию сборника Перро на немецкую народную сказку и, как следствие, на собрание Гриммов посвящено несколько исследований (см.: Velten 1930). Поль Деларю и Марк Сорьяно указывают и на влияние таких сказок д’Онуа, как «Белая Кошка» или «Лесная лань», на информантов братьев Гримм (см.: Delarue, Tenèse 1976; Soriano 1996: 150). Об этом же пишет Уте Хайдеман (см.: Heidemann 2010).
Подобных близких сюжетных совпадений со сказками мадам д’Онуа у Гриммов практически не встречается. Пожалуй, единственное исключение представляет сказка братьев Гримм «Рапунцель», которая полностью совпадает сюжетно со сказкой мадемуазель де Ла Форс «Персинетта» и, следовательно, с той частью сказки д’Онуа «Белая Кошка», где героиня рассказывает историю собственной жизни. Нельзя не заметить и того, что зачин сказки «Шиповничек» (Dornröschen) из их собрания весьма напоминает зачин сказки д’Онуа «Лесная лань».
Братья Гримм:
Много лет тому назад жили король с королевой, и каждый день они говорили:
— Ах, если б родился у нас ребенок! — Но детей у них всё не было и не было.
Вот случилось однажды, что королева сидела в купальне, и вылезла из воды на берег лягушка и говорит ей:
— Твое желанье исполнится: не пройдет и года, как родишь ты на свет дочь.(Гримм 1978: 154)
Мадам д’Онуа:
— Отчего я так несчастна, — причитала она, — что нет у меня детей? У последних нищенок — и у тех они есть, а я уж пять лет как прошу у Неба наследника. Неужто так и умереть мне без утешения?
Проговорив так, она вдруг заметила, что вода в источнике забурлила, и выполз оттуда большой рак и сказал ей:
— Великая королева, вы получите что хотите. Тут неподалеку, скажу я вам, стоит великолепный дворец, возведенный феями; отыскать его нельзя, ибо окружен он тучами столь густыми, что не проникает сквозь них взгляд смертного. Однако я всегда к услугам Вашего Величества. Если соблаговолите вы довериться бедному раку, вас туда отведу.(с. 462–463 наст. изд.)
Перед нами зачины со сходной ситуацией (королева у источника грустит о бездетности) и похожим чудесным помощником: животным — обитателем этого источника.
Весьма вероятно, что как д’Онуа, так и Гриммы почерпнули этот зачин, соответственно, из французской и немецкой устных сказочных традиций. Ниже мы увидим, как «Шиповничек» Гриммов и «Лесная лань» д’Онуа, вместе со «Спящей Красавицей» Шарля Перро, окажутся источником и одной русской литературной сказки. Однако и прямое заимствование Гриммами у д’Онуа, и заимствование опосредованное (то есть возможное знакомство потенциального информанта Гриммов со сказкой «Лесная лань») не менее вероятны, поскольку устная и книжная традиции, особенно в повествовательных жанрах, взаимодействуют весьма тесно (см.: Гистер 2009).
Мари-Катрин д’Онуа в России
История переводов сказок Мари-Катрин д’Онуа на русский язык начинается в конце XVIII века.
Первыми были переведены две из них: «Сказочка о померанцевом дереве и о пчеле» и «Басня о Белой Кошке». Обе книги вышли в 1779 году, в типографии Артиллерийского шляхетского инженерного кадетского корпуса, в которой часто печаталась переводная детская литература. Говорящие имена персонажей первой сказки переведены с использованием трех языков: имена главных героев (Aimée, Aimé) латинизированы (Амата, Аматус), имена людоедов (Ravagio, Tourmentine) переведены на немецкий манер: Попанц — от Popanz (чучело) и Унгольда — от Unhold (чудовище, урод) и наконец, имя доброй феи (Trusio) — по созвучию, на русский манер: Друзия. Во второй сказке, как и в оригинале, герои лишены имен и называются «Королевич» и «Белая Кошка». Нравоучения переведены прозой с большим количеством неточностей. Вообще оба анонимных перевода выполнены довольно аккуратно, но все же не лишены ученических огрехов, дающих основание полагать, что их авторы (или, скорее, автор) были из числа воспитанников корпуса Роман «История Ипполита…», включая, разумеется, и вставную сказку «Остров Ограды», был полностью переведен позднее, в 1801 году, и издан в Смоленске (см.: Онуа 1801). В сказке фигурируют «Щастливые острова» и «Принцесса Щастия». Однако пересказы всего романа («Гистория о Ипполите, графе Аглинском, и о Жулии, графине Аглинской же, любезная и всему свету курьозная» и «Гистория о графе Ипполите и о графине Жулии Английского государства» (см.: Пыпин 1857) и лубочные версии самой сказки появились раньше, еще в XVIII веке. В собрании (Атласе) Ровинского имеются 2 лубочных текста сказки: «История о принце Адолфе лапландийском» и «История о принце Одолфе Лапландийском и Острове вечного веселия» (см.: Ровинский 1881: 156–161). В Атласе в том же издании имеется полная лубочная версия сказки в восьми картинах (см. Дополнения в наст. изд.). О лубочных вариантах «Острова…» подробно писал А. Н. Веселовский, показавший, как русский принц там превращается в лапландского: русский читатель не поверил бы в столь фантастическое описание своей страны, где якобы повсюду ходят белые медведи, а деревья круглый год покрыты льдом, отчего кажутся хрустальными и светятся (см.: Веселовский 1887: 3–25). Кроме того, в зачине сказки мадам д’Онуа Россия представлена как страна варварская, в которой лить чудом мог уродиться столь совершенный принц, как Адольф: с таким представлением, очевидно, трудно было смириться авторам лубочных версий. Об изображении России у мадам д’Онуа, а также у ее соотечественников XVII и XVIII веков пишет А. Ф. Строев (см.: Stroev 2002: 251–262). В лубочной версии, представленной в Атласе Ровинского, картинки выполнены на европейский манер (герои одеты в европейские наряды середины XVIII века, Зефир и Время изображены так, как их обычно представляет европейская живопись и графика), в четыре цвета (довольно дорогостоящая раскраска).
В 1826 году в журнале «Детский собеседник» В. А. Жуковский (1783–1852) печатает несколько своих переводов — это сказки Шарля Перро и братьев Гримм (последние он тоже переводит с французского). Переводы следуют в таком порядке: «Волшебница» («Феи» Шарля Перро), «Рауль синяя борода» (так!) («Синяя Борода» Шарля Перро), «Колючая роза» («Шиповничек» братьев Гримм), «Братец и сестрица» братьев Гримм и их же «Милый Роланд и девица Ясный цвет» (см.: ДС 1826). Сказки снабжены примечанием, в котором журнал выражает Жуковскому благодарность за переводы. Имена авторов не указываются. «Колючая роза», как и сказка Гриммов «Dornröschen», переводом которой она является, представляет собой версию того же сказочного типа 410, что и «Спящая Красавица» Шарля Перро, но без второй части (где у Перро говорится о людоедке-свекрови). У Шарля Перро отсутствует чудесный помощник, сообщающий королеве о скором рождении дочери, зато сама королева пробует все средства ради зачатия ребенка, в том числе ездит к святым местам и на воды (ср. источник у д’Онуа и Гриммов). Перевод Жуковского очень близок к оригиналу Гриммов: точно переведено имя героини, в той же последовательности засыпают и просыпаются жители королевства, животные и неодушевленные предметы. Тем страннее выглядит одно различие в начале:
Жил-был Царь. Царица, жена его, была добра, прекрасна; они жили друг с другом счастливо, но не имели детей и очень об этом грустили. Однажды Царица сидела на берегу светлого источника и плакала; вдруг выполз к ней из воды рак; он сказал ей: «Царица, не плачь! У тебя скоро родится дочь!» Царица удивилась, хотела поблагодарить доброго рака, но он уже опять уполз в воду.
(ДС 1826: 106)
Зачин в переводе отличается от оригинала тем, что вместо лягушки в нем фигурирует рак. В 1832 году в журнале «Европеец» выходит стихотворная сказка Жуковского «Спящая Царевна», тоже, в свою очередь, являющаяся вариацией сказки Гриммов. Жуковский, хотя и вводит элементы русской народной сказки и русские фольклорные обороты, в остальном следует Гриммам, — но опять-таки за исключением одной детали:
Жил-был добрый царь Матвей;
Жил с царицею своей
Он в согласье много лет;
А детей все нет как нет.
Раз царица на лугу,
На зеленом берегу
Ручейка была одна;
Горько плакала она.
Вдруг, глядит, ползет к ней рак;
Он сказал царице так:
«Мне тебя, царица, жаль,
Но забудь свою печаль,
Понесешь ты в эту ночь:
У тебя родится дочь». —
«Благодарствуй, добрый рак;
Не ждала тебя никак».
(Жуковский 1902/3: 128)
Чудесным помощником в стихотворной версии Жуковского, как и в его прозаическом переводе, снова оказывается не лягушка, а рак. Такая замена выглядит тем страннее, что слова «рак» и «лягушка» не похожи ни во французском, ни в немецком языке, и вариант лингвистической неточности практически исключен. Велик соблазн полагать, что в «русскую» сказку Жуковского он «заполз» из сказки мадам д’Онуа «Лесная лань»: рак нечасто фигурирует как в фольклорных, так и в литературных сказках, и его появление в качестве чудесного помощника можно считать маркированным элементом. Кажется, появление феи в образе рака в зачине не выглядит достаточно естественным и для самой мадам д’Онуа в ее же собственном тексте — во всяком случае, она считает нужным объяснить его. Когда фею Источника забывают пригласить на праздник в честь рождения принцессы, рак снова тут как тут.
— Так вот оно что! Неблагодарная, — воскликнул рак, — а обо мне вы даже не соизволили вспомнить! Да где ж это видано, что фея Источника так скоро позабыта вами вместе со всеми знаками доброго расположения, вам оказанными, — да разве не я привела вас к моим сестрам? Как! Их вы позвали, а мною одной пренебрегли; так я и думала о вашей дружбе — ей бы продвигаться вперед, а она давай пятиться назад; вот почему я и предпочла явиться вам в образе рака.
(с. 466 наст. изд.)
На этом примере мы видим, что литературные сказки зачастую ведут себя так, как это характерно скорее для фольклорного текста. При этом Жуковский, располагая свой текст внутри успевшей сложиться литературной традиции, родоначальниками и продолжателями которой были Перро, Мари-Катрин д’Онуа и собиратели сказок братья Гримм, в то же время придает вполне традиционному зачину и определенную вариативность, помещая в ситуацию, изложенную Гриммами, чудесного помощника из сказки д’Онуа.
Несмотря на то, что сказки, роман «История Ипполита…» и новеллы мадам д’Онуа пользовались в России некоторой популярностью, о ее влиянии на русскую литературу говорить не приходится. Правда, трудно не заметить сюжетного сходства между «Историей принцессы Ясной Звездочки и принца Милона» и пушкинской «Сказкой о царе Салтане»: и в той, и в другой царица (королева), обещавшая родить чудесных детей, оклеветана завистниками; жена и сын (дети) разлучены с отцом, который лить к концу узнает правду, и семья воссоединяется. Однако, хотя Пушкин, безусловно, мог быть знаком со сказкой мадам д’Онуа, сходство между их произведениями объясняется в первую очередь тем, что оба они принадлежат к одному и тому же весьма распространенному сказочному типу АТ 707 — «Птица правды» или, по «Сравнительному указателю сюжетов славянской сказки» (см.: СУС 1979), «Чудесные дети». Если сравнить эти основные указатели сюжетных типов, становится понято, что финал «Сказки о царе Салтане» (царь сам приезжает на волшебный остров и узнает жену и сына) более типичен для славянской сказки; соответственно, финал, избранный мадам д’Онуа (король и его дети узнают правду о своем родстве от «птицы правды»), чаще встречается в европейской.
После выхода по-русски «Истории Ипполита…» новых переводов произведений мадам д’Онуа пришлось ждать еще более века. В следующий раз они появились в 1936 году, в русском сборнике сказок Шарля Перро (см.: Перро 1936), где вместе с творениями автора «Спящей Красавицы» были напечатаны и сказки двух его современниц: «Ловкая принцесса…» г-жи Леритье де Вилландон (в XIX и начале XX века приписывавшаяся Перро), а также три сказки Мари-Катрин д’Онуа, озаглавленные там: «Красавица Золотые Кудри» (в настоящем издании «Златовласка»), «Голубая птица» (в настоящем издании «Синяя птица») и «Лесная лань». Издание составлено Н. П. Андреевым, специалистом прежде всего по фольклорной сказке, составителем первого указателя сюжетов русских сказок на базе указателя Аарне (см.: Аарне — Андреев 1929); его примечания к книге, о которой идет речь, — фактически первый в России комментарий к сказкам мадам д’Онуа. Все сказки в этом издании переведены Сергеем Павловичем Бобровым (1889–1971), но фамилия переводчика в издании не указана: в момент публикации книги С. Бобров находился в ссылке.
В следующий раз — уже в 1991 году — были переведены сказки «Белая Кошка» и «Желтый Карлик» (см.: ФЛС 1991). Обе сказки приводятся в настоящем издании в переводе Ю. Яхниной. Послесловие А. Ф. Строева в ФЛС — первая в русском литературоведении статья, в которой рассматривается место мадам д’Онуа в литературном процессе во Франции.
Отдельно приходится сказать несколько слов о сборнике «Золотая книга лучших сказок мира» (см.: ЗКС 1992). Парадоксальным образом, все сказки сборника, вне зависимости от их происхождения, переведены с английского Г. Шалаевой (исключение составляют русские народные сказки, которые явно публикуются по русским изданиям, без указания библиографических данных) по изданию «The Golden Book of Fairy Tales», первое издание 1958 года (перевод, точнее, пересказ на английском Мари Понсо). Сказки д’Онуа — не исключение, поэтому их заглавия зачастую парадоксально изменены, текст сильно сокращен, нравоучения и прочие стихотворные вставки опущены, а герои остаются при своих английских именах, которые, как правило, представляют собой точный перевод имен из оригинальных текстов. Так, в сказке «Зеленая змея» (у д’Онуа «Зеленый Змей») принцессу зовут Дорагли, а после превращения — Дискрит; в «Грейс и Дерек» («Прелестница и Персинет») злая королева носит имя Грудж; принцессу из «Голубого Хохолка» («Синяя птица») зовут Эйприл, а герой «Ясной зари с золотыми волосами» («Златовласка») обретает имя Вэлком. Список странных превращений можно продолжать. Мы так подробно остановились на «Золотой книге…» отнюдь не как на ценном источнике, каковым это издание никак не является, а исключительно как на сборнике увлекательных текстов в блистательном оформлении знаменитого своей книжной графикой художника Адриен Сегюр.
Заключение
Наряду с Шарлем Перро и несколькими современниками и современницами, Мари-Катрин д’Онуа стоит у истоков не только французской, но и европейской литературной сказки; она оказала значительное влияние на дальнейшее формирование жанра. Это не подлежит сомнению. Однако из всей когорты французских «сказочников» конца XVII века один лишь Шарль Перро в настоящее время известен широкому кругу читателей. Сказки мадам д’Онуа, как и некоторых ее современниц, хотя и немало переиздавались в течение трех последующих веков в различных детских изданиях, начиная от Cabinet des Fées и кончая «Золотой книгой…», при этом зачастую известны читателям только по их сюжетам; имя же автора, как правило, знают лишь узкие специалисты. Заметим, что начиная с переизданий в «Кабинете фей» те сказки, которые исходно были обрамлены (будь то «Остров Отрады» или сказки из сборников, исходно обрамленные «испанскими новеллами» или рамочным повествованием о Сен-Клу) печатаются по отдельности, так что начиная с XVIII века у читателей сказок мадам д’Онуа складывалось несколько превратное представление о структуре сказочных сборников писательницы. Но вот в конце XX века сказки Мари-Катрин д’Онуа привлекли пристальное внимание исследователей. Такой интерес был обусловлен прежде всего громким юбилеем выхода в свет «Историй, или Сказок былых времен» Шарля Перро, — в 1997 году исполнилось триста лет с их появления, — но заодно и других сказочных собраний конца XVIII века, в числе которых и сказки Мари-Катрин д’Онуа. Непосредственно творчеству мадам д’Онуа посвящены три монографии (см.: Defrance 1998, Mainil 2001 и Jasmin 2002). В сборнике статей, приуроченном к трехсотлетию публикации сказок Шарля Перро, один раздел посвящен такому же юбилею выхода в свет и сказок мадам д’Онуа (см.: TCP 1998). В 2004 году выходит полное собрание сказок Мари-Катрин д’Онуа, составленное Надин Жасмен (см.: Aulnoy 2004), а четыре года спустя — немного сокращенная версия этого же издания в двух томах. Том д’Онуа дает начало целой серии подробно комментированных изданий сказок XVII и XVIII веков в серии Bibliothèque des Genies et des Fées в издательстве «Шампьон», на сегодняшний день насчитывающей девятнадцать томов. Последний, еще не изданный двадцатый, том серии целиком посвящен исследованиям иллюстрированных изданий сказок и элементу сказочного в театральных постановках XVII–XVIII веков.
В XVIII–XIX веках мадам д’Онуа (как и Шарлю Перро) начали приписывать сказки, вовсе не принадлежавшие ее перу, — как анонимные (Florine ou La belle Italienne — «Флорина, или Прекрасная Итальянка»), так и авторские (La Reine de l’île des flenres — «Королева острова Цветов» и Le Prince Désir — «Принц Желанный»; последняя из этих сказок написана г-жой Лепренс де Бомон более полувека спустя после выхода «Сказок фей»). Мы видим это, в частности, на примере нюрнбергского издания 1762 года «Les Contes Des Fées: contenant tons leurs ouvrages en neuf volumes» — «Сказки фей, содержащие все их дела, в девяти томах» и в парижском издании 1842 года «Contes des fées contenant la Reine de l’îile des fleurs, l’Oiseau bleu, la Belle aux cheveux d’or, le Prince Désir, par Mme d’Aulnoy» — «Сказки фей, содержащие „Королеву острова Цветов“, „Синюю птицу“, „Златовласку“, „Принца Желанного“ мадам д’Онуа».
Массовый читатель довольно скоро перестал отделять обретшие популярность сказочные сюжеты мадам д’Онуа от сказок ее прославленного современника Шарля Перро. В его сознании они как-то «слились». Быть может, именно это в некоторых случаях даже способствовало интересу известных художников последующих эпох к творчеству д’Онуа. Приведем лишь один весьма характерный пример.
Большую часть третьего акта балета-сюиты П. И. Чайковского «Спящая красавица» занимают номера с героями сказок Перро. Серию этих номеров открывает pas de caractère Кота в сапогах и Белой кошечки (вспомним сказку д’Онуа «Белая Кошка»), а вскоре, вслед за па-де-де Золушки и принца Фортюне (это имя не встречается нигде у Перро, зато оно есть у д’Онуа — так называют Белль-Белль в мужском наряде) идет па-де-де Синей Птицы и принцессы Флорины («Синяя птица»).
В настоящее время во Франции сказки мадам д’Онуа и ее современниц преданы довольно странному забвению: читатель, принадлежащий к «широкой публике», как правило, не знает имен этих писательниц, но сюжеты их сказок оказываются знакомы ему, хотя бы частично. Российскому читателю имя и сочинения Мари-Катрин д’Онуа практически неизвестны.
Настоящее издание познакомит читателя с творчеством писательницы и позволит составить более точное представление о литературном жанре волшебной сказки в эпоху Людовика XIV и Шарля Перро.
Указатель имен персонажей сказок мадам д’Онуа
При переводе имен сказочных персонажей переводчики стремились достигнуть как семантической близости, так и звуковой, особенно в случаях, когда в оригинале важна фонетическая окраска имени. При возможности выбирались имена, созвучные оригинальным. Русские имена некоторых персонажей полностью соответствуют французским или являются их точным переводом. В остальных случаях настоящий словарь предлагает точный перевод оригинального имени. В случаях, когда русский вариант имени совпадает с оригинальным или является его буквальным переводом, оригинальное имя в словаре не указывается.
В случаях, когда персонаж назван по его атрибуту, первым в словаре ставится атрибут (например, «Пустыни фея»).
Безымянные принцы, короли, королевы и феи, а также животные-помощники и безымянные персонажи, обращенные в растения или животных, в настоящем словаре не отмечены.
Персонажи, переходящие из сказки в сказку, или персонажи, носящие одно и то же имя, упоминаются внутри одной статьи, под цифрами, согласно порядку следования сказок.
* * *
Абрикотина — девушка из свиты принцессы Острова Тихих Удовольствий (сказка «Принц-Дух»).
Адольф — принц россиян, герой сказки «Остров Отрады».
Алидор — он же Кенар Биби, принц, главный герой сказки «Дельфин», превращавшийся в кенара.
Амазонка — добрая фея в сказке «Принцесса Карпийон».
Амур — он же — Любовь, он же — Купидон, бог любви: (1) помощник в сказке «Зеленый Змей»; (2) помощник в сказке «Голубь и Голубка».
Барашек или Баран — король, главный герой сказки «Барашек». Превращен в барана злой феей Чурбанной.
Белая Кошка — принцесса, затем королева, главная героиня одноименной сказки, превращенная феями в кошку.
Белладонна — отрицательная героиня сказки «Вострушка-Золянка», сестра Вострушки и Флоранны. В оригинале: Belle de Nuit, т. е. «ночная красавица».
Белль-Белль — главная героиня сказки «Белль-Белль, или Удачливый рыцарь», дочь графа де Кордон. Ее имя обозначает «красавица». Выдавая себя за рыцаря, носит имя Фортунат.
Бирока — речное божество, волшебный помощник в сказке «Побрякушка». В оригинале: Biroqua.
Бирокия — речное божество, дочь Бироки в сказке «Побрякушка».
Благосклона — добрая фея в сказке «Золотая Ветвь». В оригинале: Bénigne, т. е. «благоприятная».
Большой Принц — старший брат принцессы Розетты (сказка «Принцесса Розетта»), впоследствии король.
Брильянта — положительная героиня сказки «Золотая Ветвь». Бывшая принцесса Кочерыжица.
Бурдюк — отрицательный герой сказки «Фортуната», мнимый брат героини. В оригинале: Bedou, от «bedon», т. е. «пузо» или «пузан» (разг.).
Василек — кот принцессы Острова Тихих Удовольствий в сказке «Принц-Дух». В оригинале: Bluet, т. е. «василек».
Вепрь — принц, родившийся вепрем и затем превратившийся в прекрасного юношу. Главный герой сказки «Принц Вепрь». В оригинале: Marcassin, т. е. «кабанчик».
Верховник — король-пастух, отец принцессы Карпийон и наставник принца (сказка «Принцесса Карпийон»). В оригинале: Sublime, т. е. «возвышенный».
Веснянка — принцесса, главная героиня сказки «Принцесса Веснянка». В оригинале: Printanière, т. е. «весенняя».
Вихрь — конь принца Адольфа в сказке «Остров Отрады». В оригинале коня зовут Bichar (происхождение имени неясно), в русском переводе 1801 г. — Бихарь.
Владычица — добрая фея, покровительница принцессы Констанции в сказке «Голубь и Голубка». В оригинале: Souveraine.
Водохлеб — один из «семи одаренных», помощник в сказке «Белль-Белль, или Удачливый рыцарь». В оригинале: Trinquet.
Ворчунья — отрицательная героиня сказки «Прелестница и Персинет». В оригинале: Grognon, т. е. «ворчунья».
Вострушка — она же Вострушка-Золянка, она же Востроушка — положительная героиня сказки «Вострушка-Золянка». В оригинале: Finette, Finette-Cendron или же Fine-Oreille, т. е. «острое ухо» или «острый слух». Последнее имя носит в оригинале также и герой сказки «Белль-Белль, или Удачливый рыцарь» (в наст. изд. Слухач). См. также преамбулу к сказке «Вострушка-Золянка».
Время — антагонист в сказке «Остров Отрады».
Галифрон — злой великан, антагонист Златовласки в одноименной сказке. Очевидно, созвучно Голиафу, побежденному Давидом.
Горбун — принц, отрицательный герой сказки «Принцесса Карпийон», претендент на руку принцессы.
Горлица — добрая фея в сказке «История принцессы Ясной Звездочки и принца Милона».
Дезире, иначе Желанная — принцесса, героиня сказки «Лесная лань».
Де Кордон — граф, отец Белль-Белль в сказке «Белль-Белль, или Удачливый рыцарь». В оригинале: de la Frontièrе, т. е. «с границы».
Дельфин — король и волшебник в образе дельфина, волшебный помощник в одноименной сказке.
Добронрав — герой сказки «Златовласка». В оригинале: Avenant, т. е. «приветливый», «приятный».
Друзия — добрая фея в сказке «Апельсиновое дерево и Пчела». В оригинале: Trusio. Этимология имени неясна.
Дурнушка — принцесса, затем королева, положительная героиня сказки «Зеленый Змей». В оригинале: Laidronette. Похорошев, получает имя Скромница.
Едок — один из «семи одаренных», помощник в сказке «Белль-Белль, или Удачливый рыцарь». В оригинале: Grougeon.
Жан Коко — курьер в сказке «Принцесса Веснянка». В оригинале Jean Caquet; вторая часть имени означает «болтун», «пустомеля».
Желанная, иначе Дезире — принцесса, героиня сказки «Лесная лань». В оригинале: Désirée, т. е. «желанная».
Желтофиоль — фрейлина принцессы Желанной в сказке «Лесная лань».
Желтый Карлик — антагонист в одноименной сказке.
Заступница — добрая фея в сказке «Зеленый Змей». В оригинале: Protec—rice.
Звонкопыт — волшебный конь принца в сказке «Побрякушка». В оригинале: Criquetin, от «criquet», т. е. «кобылка (энтамол.)», «саранча».
Зеленый Змей — король, положительный герой сказки «Зеленый Змей», превращенный в чудовище феей Маготиной. Супруг королевы Дурнушки.
Зелонида — вторая жена Принца Вепря в сказке «Принц Вепрь», сестра Мартезии и Исмены.
Зефир — южный ветер, волшебный помощник в сказке «Остров Отрады». Он же фигурирует в других сказках в качестве аллегорической фигуры ветра.
Златовласка — (1) Героиня одноименной сказки. (2) Принцесса, затем королева в сказке «История принцессы Ясной Звездочки и принца Милона». Сестра Медновласки и Темновласки, мать главной героини и ее братьев. В оригинале: Blondine, т. е. «блондинка».
Злодейка — злая фея в сказке «Белая Кошка». В оригинале: Violente, т. е. «жестокая», «свирепая», «неистовая».
Золотых Россыпей Король — герой сказки «Желтый Карлик», жених Красавицы.
Идеал — положительный герой сказки «Золотая Ветвь». Бывший принц Кривобок, после того как фея Благосклона превращает его в красавца.
Исмена — первая жена Принца Вепря в сказке «Принц Вепрь», сестра Мартезии и Зелониды. См. примеч. 5 к сказке.
Источника фея, иначе Рак — антагонист в сказке «Лесная лань».
Истязелла — злая великанша, жена Сокрушилло в сказке «Апельсиновое дерево и Пчела». В оригинале: Tourmentine, от «tourment», т. е. «мучение».
Камарад — волшебный конь Белль-Белль в сказке «Белль-Белль, или Удачливый рыцарь».
Карабос — злая фея в сказке «Принцесса Веснянка». В оригинале: Сагаbosse, т. е. «старая карга, ведьма». См. примеч. 2 к сказке.
Карпийон — принцесса, главная героиня сказки «Принцесса Карпийон». Диминутив от «carpe», т. е. «карп».
Кенар Биби — он же принц Алидор в сказке «Дельфин».
Констанцио — принц, герой сказки «Голубь и Голубка». Впоследствии превращается в голубя. Его имя означает «постоянный».
Констанция — принцесса, героиня сказки «Голубь и Голубка». Впоследствии превращается в голубку. Ее имя означает «постоянная».
Коридон — придворный и соперник Принца Вепря в сказке «Принц Вепрь». См. примеч. 6 к сказке.
Корсар — приемный отец принцессы Ясной Звездочки и принцев Милона, Солнышко и Счастливца в сказке «История принцессы Ясной Звездочки и принца Милона».
Корсарина — жена Корсара, приемная мать принцессы Ясной Звездочки и принцев Милона, Солнышко и Счастливца в сказке «История принцессы Ясной Звездочки и принца Милона». В оригинале: Corsine.
Кочерыжица — принцесса, положительная героиня сказки «Золотая Ветвь». В оригинале: Trognon, т. е. огрызок фрукта или капустная кочерыжка. Возможна также перекличка со словом «trogne», т. е., согласно словарю Фюретьера, уродливое лицо, красное и часто обезображенное прыщами. Безобразная, но добрая и умная. Впоследствии фея Благосклона превращает ее в красавицу по имени Брильянта.
Краплёна — ложная героиня в сказке «Синяя птица». В оригинале: Truitonne, от truite, т. е. «форель». Героиня получает это имя, потому что она ряба, как форель. В финале сказки также обыгрывается созвучие слов truite и truie, т. е. «свинья».
Красавица — принцесса, героиня сказки «Желтый Карлик». В оригинале: Toute Belle («toute» — «вся», «belle» — «красивая»).
Красотка — принцесса, затем королева, сестра Дурнушки в сказке «Зеленый Змей». В оригинале: Belotte.
Кривобок — принц, положительный герой сказки «Золотая Ветвь». В оригинале: Torticolis, т. е. «кривошеий». Безобразный, но добрый и умный. Впоследствии фея Благосклона превращает его в красавца по имени Идеал.
Леандр — главный герой сказки «Принц-Дух».
Лесная королева — фея, благодетельница героини и мать героя сказки «Фортуната».
Ливоретта — принцесса, героиня сказки «Дельфин».
Линда — принцесса, второстепенный персонаж сказки «Апельсиновое дерево и Пчела». Имя Linda (исп.) означает «красивая».
Львица — злая фея в сказке «Лягушка-Благодетельница».
Любим — принц, герой сказки «Апельсиновое дерево и Пчела». В оригинале: Aimé, т. е. «любимый».
Любима — принцесса, героиня сказки «Апельсиновое дерево и Пчела». В оригинале: Aimée, т. е. «любимая».
Людоед — персонаж сказки «Вострушка-Золянка».
Людоедка — персонаж сказки «Вострушка-Золянка», жена Людоеда.
Людоедушка — сын Сокрушилло и Истязеллы, нареченный принцессы Любимы в сказке «Апельсиновое дерево и Пчела». В оригинале: Ogrelet, диминутив от «ogre», т. е. «людоед».
Лягушка — добрая фея в сказке «Лягушка-Благодетельница».
Маготина — злая фея в сказке «Зеленый Змей». Ее имя происходит от слова «magot». См. ниже Макак.
Макак — король обезьян в сказке «Побрякушка». В оригинале: Magot, т. е. «маго», «бесхвостая макака»; слово употреблялось в расширенном значении и могло обозначать любую обезьяну.
Маленький Принц — старший брат принцессы Розетты и младший брат Большого Принца (сказка «Принцесса Розетта»), впоследствии король.
Мартезия — возлюбленная и супруга Принца Вепря в сказке «Принц Вепрь», сестра Исмены и Зелониды.
Матапа — враждебный император в сказке «Белль-Белль, или Удачливый рыцарь».
Медновласка — сестра Златовласки и Темновласки, отрицательная героиня сказки «История принцессы Ясной Звездочки и принца Милона». В оригинале: Roussette, т. е. «рыжая».
Мерлин — король, отец принца, жениха принцессы Веснянки в сказке «Принцесса Веснянка». См. примеч. 4 к сказке.
Мерлуза — добрая фея в сказке «Вострушка-Золянка». См. примеч. 1 к сказке.
Метеоров королева — злая фея, превратившая Брильянту в цикаду в сказке «Золотая Ветвь».
Мигонне — карлик, предназначенный феями в мужья принцессе, героине сказки «Белая Кошка». В оригинале: Migonnet. Этимология неясна.
Милашка-Замарашка — прозвище, которое берет принцесса Флорина в сказке «Синяя птица». В оригинале: Mie-Souillon (перевод точный). Слово «mie» употреблялось как по отношению к возлюбленным, так и по отношению к служанкам или няням.
Миловида — добрая фея в сказке «Принц-Дух». Принимает образ ужа. В оригинале: Gentille, т. е. «милая», «добрая».
Милон — (1) Принц, герой сказки «Вострушка-Золянка». См. примеч. 6 к сказке. (2) Принц, герой сказки «История принцессы Ясной Звездочки и принца Милона», двоюродный брат и возлюбленный, затем супруг принцессы Ясной Звездочки. В оригинале: Cheéi, т. е. «милый».
Миртен — друг принца Констанцио и принцессы Констанции в сказке «Голубь и Голубка».
Мишура — злая фея в сказке «Побрякушка». В оригинале: Fanfreluche, т. е. «безвкусное украшение», «безделушка».
Муфетта — принцесса, героиня сказки «Лягушка-Благодетельница».
Муфи — принц, герой сказки «Лягушка-Благодетельница»; жених, затем супруг принцессы Муфетты.
Мышка — добрая фея в сказке «Мышка-Добрушка».
Мэтр Котаус — адмирал кошачьего войска в сказке «Белая Кошка». В оригинале: Minagrobis, производное от «minou», «minette» и т. п., т. е. слов, которыми коты и кошки называются в детской речи. Ср.: принц нередко называет героиню Minette.
Неистовый — один из «семи одаренных», помощник в сказке «Белль-Белль, или Удачливый рыцарь».
Непоседа — собачка принцессы Розетты (сказка «Принцесса Розетта»). В оригинале: Frétillon, т. е. «непоседливый».
Непромах — один из «семи одаренных», помощник в сказке «Белль-Белль, или Удачливый рыцарь».
Острова Тихих Удовольствий принцесса — героиня сказки «Принц-Дух».
Отрада — принцесса, героиня сказки «Остров Отрады». В оригинале: Félicité, т. е. «счастье».
Павлинов Король — жених принцессы Розетты (сказка «Принцесса Розетта»).
Патипата — карлица-мавританка принцессы Чудо-Грезы в сказке «Барашек».
Пересмешник — посланник короля в сказке «Лесная лань». В оригинале: Becafigue. Согласно словарю Фюретьера, becafigue — это маленькая птичка, родственная овсянке, живущая на фиговых деревьях и питающаяся инжиром.
Персинет — принц-волшебник в сказке «Прелестница и Персинет». Поклонник и спаситель Прелестницы. В оригинале: Percinet. Имя героя происходит от persil (фр. петрушка). Причины, по которым мадам д’Онуа дала своему герою имя-фитоним, неизвестны. См. преамбулу к сказке.
Побрякушка — принцесса в образе обезьяны, героиня одноименной сказки. Впоследствии обретает человеческий облик. В оригинале: Babiole, т. е. «безделушка».
Полишинель — генерал в войске Маготины, сказка «Зеленый Змей». См. примеч. 7 к сказке.
Прелеста — принцесса, героиня сказки «Мышка-Добрушка». В оригинале: Joliette, т. е. диминутив от «jolie», «красивая».
Прелестница — принцесса, героиня сказки «Прелестница и Персинет». В оригинале: Gracieuse, «грациозная».
Премил — король, герой сказки «Синяя птица». В оригинале: Charmant, т. е. «очаровательный».
Попрыгунья — собачка Добронрава (сказка «Златовласка»). В оригинале: Cabriole.
Пустыни фея — антагонист и претендентка на руку Короля Золотых Россыпей в сказке «Желтый Карлик».
Радость — королева Страны Радости в сказке «Мышка-Добрушка», мать принцессы Прелесты. В оригинале: Joyeuse, т. е. «радостная». То же имя носит король Страны Радости, отец принцессы. В оригинале: Joyeux.
Разболтай — канцлер в сказке «Принцесса Веснянка». В оригинале: Gambille, от gambiller, «болтать ногами», «быть непоседой».
Рак, иначе фея Источника — фея-антагонист в сказке «Лесная лань».
Раскалина — злая фея в сказке «Мышка-Добрушка». В оригинале: Canсaline, диминутив от cancale, т. е. «устрица». Русское имя выбрано по фонетическому принципу.
Ратоборец — принц, герой сказки «Лесная лань»; жених, затем супруг принцессы Желанной.
Розетта — принцесса, героиня сказки «Принцесса Розетта».
Серебряный — конь Леандра в сказке «Принц-Дух». В оригинале: Gris de Lin, т. е. «серебристый» или «льняной серый».
Силач — один из «семи одаренных» в сказке «Белль-Белль…».
Синяя птица — герой одноименной сказки, король Премил, превращенный в птицу.
Сирена — волшебный помощник Короля Золотых Россыпей в сказке «Желтый Карлик».
Скороход — один из «семи одаренных», помощник в сказке «Белль-Белль, или Удачливый рыцарь». В оригинале: Léger, т. е. «легкий».
Скребушон — обезьянка принцессы Чудо-Грёзы в сказке «Барашек». В оригинале: Grabugevn, диминутив от «grabuge (устар.)», т. е. «перебранка», «домашняя ссора».
Скромница — похорошевшая королева Дурнушка в сказке «Зеленый Змей». В оригинале: Discrète.
Слухач — один из «семи одаренных» в сказке «Белль-Белль…».
Сокрушилло — злой великан, муж Истязеллы в сказке «Апельсиновое дерево и Пчела». В оригинале: Ravagio, от ravage, т. е. «опустошение».
Солнышко — принц, родной брат принцессы Ясной Звездочки и принца Счастливца, двоюродный брат принца Милона в сказке «История принцессы Ясной Звездочки и принца Милона». В оригинале: Petit Soleil.
Страны Плача король — антагонист в сказке «Мышка-Добрушка».
Страны Плача принц — сын короля Страны Плача, отрицательный герой сказки «Мышка-Добрушка», претендент на руку принцессы Прелесты.
Суссио — злая фея в сказке «Синяя птица». В оригинале: Soussio, от испанского sucio, «грязный». Имя в оригинале звучит как мужской род этого испанского прилагательного.
Счастливец — родной брат принцессы Ясной Звездочки и принца Солнышко, двоюродный брат принца Милона в сказке «История принцессы Ясной Звездочки и принца Милона». В оригинале: Heureux.
Тантен — песик принцессы Чудо-Грёзы в сказке «Барашек».
Темновласка — сестра Златовласки и Медновласки, мать принца Милона в сказке «История принцессы Ясной Звездочки и принца Милона». В оригинале: Brunette, т. е. «брюнетка».
Терновая Колючка — ложная героиня сказки «Лесная лань», злая фрейлина принцессы Желанной. В оригинале: Longue Épine, т. е. «длинный шип».
Тразимен — волшебник, возлюбленный феи Благосклоны в сказке «Золотая Ветвь». См. примеч. 2 к сказке.
Туту — собачка в сказке «Белая Кошка». В оригинале: Toutou, слово, которым в детской речи называется собачка, щенок.
Тюльпановая — добрая фея в сказке «Лесная лань».
Угрюмья — злая фея в сказке «Дельфин». В оригинале: Grognette, диминутив от имени Grognon (Ворчунья), злой феи из сказки «Прелестница и Персинет».
Фальшь — фрейлина королевы-матери, выкравшая по ее приказу детей Златовласки и Темновласки в сказке «История принцессы Ясной Звездочки и принца Милона». В оригинале: Feintise, т. е. обман.
Фанфаринет — ложный герой в сказке «Принцесса Веснянка», посол короля Мерлина. Как по-французски, так и по-русски его имя представляет собой диминутив от слова «фанфарон».
Флоранна — отрицательная героиня сказки «Вострушка-Золянка», сестра Вострушки и Белладонны. В оригинале: Fleur d’Amour, т. е. «цветок любви».
Флорида — фрейлина королевы в сказке «Белль-Белль, или Удачливый рыцарь». Антагонист рыцаря Фортуната; в то же время влюблена в него. Имя образовано от лат. «flos, floris», т. е. «цветок».
Флорина — принцесса, героиня сказки «Синяя птица».
Фортунат — Белль-Белль, переодетая рыцарем в сказке «Белль-Белль, или Удачливый рыцарь». В оригинале: Fortuné, т. е. «удачливый».
Фортуната — положительная героиня одноименной сказки, принцесса, мнимая дочь крестьянина. В оригинале: Fortunée, «счастливая» или «удачливая».
Фурибонд — отрицательный герой сказки «Принц-Дух». Слово «furibond» обозначает «свирепый», «яростный». Благодаря созвучию с фурией, имя героя на русском языке вызывает практически те же коннотации, что и в оригинале.
Хитрован — барашек Констанции в сказке «Голубь и Голубка». Впоследствии оказывается заколдованным королем. В оригинале: Ruson, т. е. «хитрец».
Хмурен — король в сказке «Золотая Ветвь». В оригинале: Le Brun, т. е. «коричневый», «темный».
Цвет-Гвоздики — принц, будущий супруг героини в сказке «Фортуната». Превращен в гвоздику злой феей. В оригинале: Œillet, т. е. «гвоздика».
Черная принцесса — эфиопка, претендовавшая на руку принца Ратоборца в сказке «Лесная лань».
Чудо-Грёза — принцесса, героиня сказки «Барашек». В оригинале: Merveilleuse, т. е. «чудесная».
Чурбанна — злая фея в сказке «Барашек». В оригинале: Ragotte, т. е. «толстуха», «коротышка», а также «приземистая лошадь».
Шапка-Колпак — адмирал в сказке «Принцесса Веснянка». В оригинале: Chapeau-Pointu, т. е. «остроконечная шляпа».
Ширлимырль — обезьяна, посол короля Макака в сказке «Побрякушка». В оригинале: Mirlifiche.
Ясная Звездочка — принцесса, главная героиня сказки «История принцессы Ясной Звездочки и принца Милона». В оригинале: Belle Étoile.
Сост. М. А. Гистер
Основные даты жизни и творчества Мари-Катрин д’Онуа{16}
1650 или 1651. Рождение Мари-Катрин Ле Жумель де Барнвиль в департаменте Барнвиль-ла-Бертран, Кальвадос, Нормандия. Ее отец — Николя-Клод Ле Жумель, сеньор де Барнвиль и де Пеннедепи (1600–1666), мать — Жюдит-Анжелик Ле Кустелье де Сен-Патер, во втором браке — маркиза де Гюдан (?-1702), авантюристка, в 1660-е — 1670-е годы тайный политический агент французского двора в Испании; выполняла роль двойного агента.
1666, 6 марта. Брак Мари-Катрин с Франсуа де ла Мотом, бароном (иначе графом) д’Онуа.
1667, 26 января. Рождение дочери, Мари-Анжелик (вероятно, скончалась во младенчестве).
1667, 23 ноября. Рождение сына Сезара-Доменика (вероятно, скончался во младенчестве).
1668, 30 октября. Рождение дочери Мари-Анн (выжила; в замужестве мадам де Эре).
1669–1670. Процесс над бароном д’Онуа; его теща, мадам де Гюдан, г-н Курбуайе, любовник последней, и их сообщник г-н Ла Муазьер, обвиняют его в оскорблении величества. В ответ господин д’Онуа обвиняет заговорщиков в клевете. Министр Кольбер инициирует дознание. 10 января 1670 г. барон д’Онуа отпущен на свободу; Курбуайе и Ла Муазьер обезглавлены 13 декабря 1669 г. Маркиза де Гюдан бежит в Испанию.
1669, 14 ноября. Рождение дочери Жюдит-Анриетт (жила в Испании, вероятно, воспитывалась у бабушки).
1670–1672. Приходит приказ об аресте мадам д’Онуа и ее матери, датированный 7 декабря 1669 г. Мадам д’Онуа избежала первого ареста, но затем заключена в Консьержери вместе с маленькой дочерью Мари-Анн; вскоре была освобождена.
1672–1673. Путешествие во Фландрию.
1675. Первое путешествие в Англию.
1676, 14 октября. Рождение дочери Терез-Эме, в замужестве мадам Прео д’Антиньи. Господин д’Онуа не признал этого ребенка.
1677, [?]. Рождение дочери Франсуаз-Анжелик-Максим. Также не была признана г-ном д’Онуа. Жила в Испании, затем вернулась в Париж.
1679–1680. Путешествие в Испанию (сам факт путешествия иногда подвергается сомнению, см. с. 823 наст. изд.).
1682. Новое путешествие в Англию.
1685. Возвращение во Францию.
1690, февраль. Публикация романа «История Ипполита, графа Дугласа», с посвящением принцессе Конти, бывшей мадемуазель де Блуа, дочери Людовика XIV и мадемуазель де Лавальер.
1690, ноябрь. Публикация «Воспоминаний об испанском дворе» (Mémoires de la Cour d’Espagne), с посвящением той же принцессе.
1691, апрель. Публикация «Воспоминаний о путешествии в Испанию», посвященных герцогу Шартрскому, сводному брату Марии-Луизы Орлеанской, королевы Испании.
1692. Публикация «Чувств благочестивой души» (Sentiments d’une âme pieuse, переложение псалма Miserere mei Deus) [произведение утеряно].
Mémoires des aventures de la cour de France.
Публикация «Испанских новелл».
1693. Публикация христианской поэмы-переложения псалма (Benedic anima mea — Le retour d’une ême à Dieu) [произведение утеряно]. Публикация «Испанских новелл».
Публикация «Новелл, или Исторических заметок» (Nouvelles ou Mémoires historiques: contenant ce qui s’est passé de plus remarquable dans l’Europe, tant aux guerres, prises de places, & batailles sur terre & sur mer, qu’aux clivers intérests des princes & souverains qui ont agy depuis 1672 jusqu’en 1679).
1695. Публикация «Воспоминаний об Английском дворе».
1697. Публикация сборника «Сказки», с посвящением Мадам, Елизавете-Шарлотте Баварской, матери герцога Шартрского, супруге Филиппа Французского, герцога Орлеанского.
1698. Публикация сборника «Новые сказки, или Модные феи».
1703. Публикация романа «Граф Варвик», с посвящением маркизу де Пиру-Бресси, родственнику мадам д’Онуа.
1705, 12 или 13 января. Смерть Мари-Катрин д’Онуа в своем доме в предместье Сен-Жермен, улица Св. Бенедикта. 14 января похоронена в Сен-Сюльпис.
Сост. М. А. Гистер
Сказки и сборники сказок{17}
Сводная таблица. 1690–1705 гг
| Дата | Автор | Название сборника | Название сказки | Сказочный тип по указателю |
|---|---|---|---|---|
| 1690 | Мадам д’Онуа | «История Ипполита, графа Дугласа» | «Остров Отрады» | 470 В |
| 1691 | Шарль Перро | «Маркиза де Салюс, или Терпение Гризельды» («La Marquise de Saluces ou la Patience de Grisilidis») | «Гризельда» | 887 |
| 1693, ноябрь | Шарль Перро | «Le Mercure Galant» | «Смешные желания» | 750 A |
| 1694 | Шарль Перро | «Гризельда, новелла», вместе со сказками: «Ослиная шкура» и «Смешные желания» («Grisilidis, nouvelle»; «de Peau d’Ane, et celui des Souhaits ridicules») | «Гризельда» | 510 В |
| «Ослиная шкура» | ||||
| «Смешные желания». | ||||
| 1695 | Мадемуазель Леритье де Вилландон | «Смесь» («Œuvres meslés») | «Очарование красноречия» («Les Enchantements de l’Eloquence») | 480 |
| «Приключения Вострушки» | 875 | |||
| 1696 | Шарль Перро | «Сказки Матушки Гусыни» (рукопись) | «Спящая Красавица» | 410 |
| «Красная Шапочка» | 333 | |||
| «Синяя Борода» | 312 | |||
| «Кот в сапогах» | 545 | |||
| «Феи» | 480 | |||
| «Золушка, или Хрустальная туфелька» | 510 А | |||
| «Рике с хохолком» | 425? | |||
| «Мальчик с пальчик» | 327 | |||
| 1696 | Мадемуазель Бернар | «Инесса Кордовская, испанская новелла» | «Принц Розовый куст» | 425? |
| «Рике с хохолком» | ||||
| 1696, февраль | Шарль Перро | «Le Mercure Galant» | «Спящая Красавица» | |
| 1697 | Мадам д’Онуа | «Сказки фей». Том I | «Прелестница и Персинет» | 425 |
| «Златовласка» | 531 | |||
| «Синяя птица» | ||||
| «Принц-Дух» | 432 | |||
| 1697 | Мадам д’Онуа | «Сказки фей». Том II | «Золотая Ветвь» | |
| «Апельсиновое дерево и Пчела» | 313 | |||
| «Принцесса Веснянка» | ||||
| «Принцесса Розетта» | ||||
| «Мышка-Добрушка» | 403 | |||
| 1697 | Мадам д’Онуа | «Сказки фей». Том III | «Барашек» | 425; 725, 510А; |
| «Вострушка-Золянка»; | ||||
| «Фортуната» | 425? | |||
| 1697 | Мадам д’Онуа | «Сказки фей». Том IV | «Побрякушка» | 401, 402 |
| «Желтый Карлик» | 425 | |||
| «Зеленый Змей» | ||||
| 1697 | Мадемуазель де Ла Форс | «Сказки сказок» («Les contes des contes») | «Краше феи»; | |
| «Персинетта»; | ||||
| «Волшебник» | 310; | |||
| «Вихрь»; | ||||
| «Зеленый и Синий»; | ||||
| «Край наслаждений»; | ||||
| «Могущество Любви»; | ||||
| «Добрая женщина». | ||||
| 1697 | Шарль Перро | «Истории, или Сказки былых времен, с моралями» («Histoires ou contes du temps passé») | «Спящая Красавица» | |
| «Красная Шапочка»; | ||||
| «Синяя Борода»; | ||||
| «Кот в сапогах»; | ||||
| «Феи»; | ||||
| «Золушка, или Хрустальная туфелька»; | ||||
| «Рике с хохолком»; | ||||
| «Мальчик с пальчик». | ||||
| 1698 | Мадам д’Онуа | «Новые сказки, или Модные феи». Том I | «Принцесса Карпийон» | |
| «Лягушка-Благодетельница» | 403 | |||
| «Лесная лань» | 402 | |||
| 1698 | Мадам д’Онуа | Продолжение «Новых сказок, или Модных фей». Том II | «Белая Кошка» | 513. |
| 1698 | Мадам д’Онуа | Продолжение «Новых сказок, или Модных фей». Том III | «Белль-Белль, или Удачливый Рыцарь»; | |
| «Голубь и Голубка» | 327 С (начало сказки) | |||
| 1698 | Мадам д’Онуа | Продолжение «Новых сказок, или Модных фей». Том IV | «История принцессы Ясной Звездочки и принца Милона» | 707 |
| «Принц Вепрь» | 433 | |||
| «Дельфин» | 675 | |||
| 1698 | Шевалье де Майи | «Знаменитые феи, галантные сказки» («Les Illustres Fées, contes galants») | «Белянка-Красавица» («Blanche Belle») | 403 |
| «Король-колдун» («Le Roi magicien»); | ||||
| «Принц Роже» («Le Prince Roger»); | ||||
| «Фортунио» («Fortunio») | 316; | |||
| «Принц Герини» («Le Prince Guerini») | 502; | |||
| «Королева острова Цветов» («La Reine de l’île des fleurs»); | ||||
| «Любимец фей» («Le Favori des fées»); | ||||
| «Благодетель, или Кирибирини» («Le Bienfaisant ou Qumbirini») | 678; | |||
| «Принцесса, коронованная феями» («La Princesse couronnée par les fées»); | ||||
| «Неудачный подлог» («La Supercherie malheureuse»); | ||||
| «Недосягаемый остров» («L’île inaccessible»). | ||||
| 1698 | Мадам де Мюра | «Волшебные сказки» («Contes de fées») | «Угриха» («Anguillette»); | |
| «Юная и Прекрасная» («Jeune et Belle»). | ||||
| 1698 | Мадам де Мюра | «Новые волшебные сказки» («Les Nouveaux contes de fées») | «Дворец мести» («Le Palais de la vengeance») | |
| «Принц листьев» («Le Prince des feuilles») | ||||
| «Счастливая забота» («L’Heureuse Peine») | ||||
| 1698 | Жан де Прешак | «Сказки, менее сказочные, чем другие» («Contes moins contes que les autres») | «Бесподобный» («Sans-Paragnon»). | |
| 1699 | Мадам Дюран | «Графиня де Мортан» («La Comtesse de Mortane») | «Королева фей». | |
| 1699 | Шевалье де Майи | «Собрание галантных сказок» («Illustres Fées, contes galantes dédiés aux Dames») | «Констанция под именем Константина» («Constance sous le nom de Constantin») | |
| «Дворец Великолепия» («Le Palais de la magnificence») | ||||
| «Освобожденная принцесса» («La Princesse délivrée») | ||||
| «Бланш» | ||||
| 1699 | Мадам де Мюра | «Возвышенные и аллегорические истории» («Histoires Sublimes et allégoriques») | «Король-Кабан» («Le Roi Porc») | 433 |
| «Остров Великолепия» («L’île de la magnificence») | ||||
| «Дикарь» («Le Sauvage») | 502 | |||
| 1699 | Мадам де Мюра | «Сельское путешествие» («Voyage de Campagne») | «Тюрбо» («Le Turbot») | 675 |
| «Отец и четверо сыновей» («Le Pre et ses quatre fils») | 653 | |||
| 1700–1701 | Анонимные сказки в сборниках и вне их; анонимные сказки в рукописях. | |||
| 1700 | Ле Нобль | «Фанты» («Le Gage touché») | «Ученик чародея» («L’Apprenti Magicien») | 325 |
| 1702 | Мадам д’Онёй | «Низложенная тирания фей» («La Tiranie des fées détruite») | «Низложенная тирания фей» («La Tiranie des fées détruite»); | |
| «Агафия, принцесса скифская» («Agatie princesse des Scythes») | ||||
| «Принцесса-Львица» («La princesse Léonice») | ||||
| «Любопытный принц» («Le Prince Curieux») | ||||
| «Чудо любви» | ||||
| 1702 | Мадам д’Онёй | «За ужином, 1699» («Les Petits Soupers de l’année 1699») | «Происхождение фей» («L’Origine des Fées»). | |
| 1705 | Мадемуазель Леритье | «Темная башня и светлые дни, английские сказки» («La Tour ténébreuse et les jours lumineux, contes anglois») | «Рикден-Рикдон». |
Дата // Автор // Название сборника // Название сказки // Сказочный тип по указателю
______________
1690 // Мадам д’Онуа // «История Ипполита, графа Дугласа» // «Остров Отрады» // 470 В.
______________
1691 // Шарль Перро // «Маркиза де Салюс, или Терпение Гризельды» («La Marquise de Saluces ou la Patience de Grisilidis») // «Гризельда» // 887.
______________
1693, ноябрь // Шарль Перро // «Le Mercure Galant» // «Смешные желания» // 750 A.
______________
1694 // Шарль Перро // «Гризельда, новелла», вместе со сказками: «Ослиная шкура» и «Смешные желания» («Grisilidis, nouvelle»; «de Peau d’Ane, et celui des Souhaits ridicules») // «Гризельда» // 510 В;
1694 // Шарль Перро // «Гризельда, новелла», вместе со сказками: «Ослиная шкура» и «Смешные желания» («Grisilidis, nouvelle»; «de Peau d’Ane, et celui des Souhaits ridicules») // «Ослиная шкура»;
1694 // Шарль Перро // «Гризельда, новелла», вместе со сказками: «Ослиная шкура» и «Смешные желания» («Grisilidis, nouvelle»; «de Peau d’Ane, et celui des Souhaits ridicules») // «Смешные желания».
______________
1695 // Мадемуазель Леритье де Вилландон //«Смесь» («Œuvres meslés») // «Очарование красноречия» («Les Enchantements de l’Eloquence») // 480;
1695 // Мадемуазель Леритье де Вилландон //«Смесь» («Œuvres meslés») // «Приключения Вострушки» // 875.
______________
1696 // Шарль Перро // «Сказки Матушки Гусыни» (рукопись) // «Спящая Красавица» // 410;
1696 // Шарль Перро // «Сказки Матушки Гусыни» (рукопись) // «Красная Шапочка» // 333;
1696 // Шарль Перро // «Сказки Матушки Гусыни» (рукопись) // «Синяя Борода» // 312;
1696 // Шарль Перро // «Сказки Матушки Гусыни» (рукопись) // «Кот в сапогах» // 545;
1696 // Шарль Перро // «Сказки Матушки Гусыни» (рукопись) /«Феи» // 480;
1696 // Шарль Перро // «Сказки Матушки Гусыни» (рукопись) // «Золушка, или Хрустальная туфелька» // 510 А;
1696 // Шарль Перро // «Сказки Матушки Гусыни» (рукопись) // «Рике с хохолком» // 425?;
1696 // Шарль Перро // «Сказки Матушки Гусыни» (рукопись) // «Мальчик с пальчик» // 327.
______________
1696 // Мадемуазель Бернар // «Инесса Кордовская, испанская новелла» // «Принц Розовый куст» // 425?;
1696 // Мадемуазель Бернар // «Инесса Кордовская, испанская новелла» // «Рике с хохолком».
______________
1696, февраль // Шарль Перро // «Le Mercure Galant» // «Спящая Красавица».
______________
1697 // Мадам д’Онуа // «Сказки фей». Том I // «Прелестница и Персинет» // 425;
1697 // Мадам д’Онуа // «Сказки фей». Том I // «Златовласка» // 531;
1697 // Мадам д’Онуа // «Сказки фей». Том I // «Синяя птица»;
1697 // Мадам д’Онуа // «Сказки фей». Том I // «Принц-Дух» // 432.
______________
1697 // Мадам д’Онуа // «Сказки фей». Том II // «Золотая Ветвь»;
1697 // Мадам д’Онуа // «Сказки фей». Том II // «Апельсиновое дерево и Пчела» // 313;
1697 // Мадам д’Онуа // «Сказки фей». Том II // «Принцесса Веснянка»;
1697 // Мадам д’Онуа // «Сказки фей». Том II // «Принцесса Розетта»;
1697 // Мадам д’Онуа // «Сказки фей». Том II // «Мышка-Добрушка» // 403.
______________
1697 // Мадам д’Онуа // «Сказки фей». Том III // «Барашек» // 425; 725, 510 А;
1697 // Мадам д’Онуа // «Сказки фей». Том III // «Вострушка-Золянка»;
1697 // Мадам д’Онуа // «Сказки фей». Том III // «Фортуната» // 425?
______________
1697 // Мадам д’Онуа // «Сказки фей». Том IV // «Побрякушка» // 401, 402;
1697 // Мадам д’Онуа // «Сказки фей». Том IV // «Желтый Карлик» // 425;
1697 // Мадам д’Онуа // «Сказки фей». Том IV // «Зеленый Змей».
______________
1697 Мадемуазель де Ла Форс // «Сказки сказок» («Les contes des contes») // «Краше феи»;
1697 Мадемуазель де Ла Форс // «Сказки сказок» («Les contes des contes») // «Персинетта»;
1697 Мадемуазель де Ла Форс // «Сказки сказок» («Les contes des contes») // «Волшебник» // 310;
1697 Мадемуазель де Ла Форс // «Сказки сказок» («Les contes des contes») // «Вихрь»;
1697 Мадемуазель де Ла Форс // «Сказки сказок» («Les contes des contes») // «Зеленый и Синий»;
1697 Мадемуазель де Ла Форс // «Сказки сказок» («Les contes des contes») // «Край наслаждений»;
1697 Мадемуазель де Ла Форс // «Сказки сказок» («Les contes des contes») // «Могущество Любви»;
1697 Мадемуазель де Ла Форс // «Сказки сказок» («Les contes des contes») // «Добрая женщина».
______________
1697 // Шарль Перро // «Истории, или Сказки былых времен, с моралями» («Histoires ou contes du temps passé») //
1697 // Шарль Перро // «Истории, или Сказки былых времен, с моралями» («Histoires ou contes du temps passé») // «Спящая Красавица»;
1697 // Шарль Перро // «Истории, или Сказки былых времен, с моралями» («Histoires ou contes du temps passé») // «Красная Шапочка»;
1697 // Шарль Перро // «Истории, или Сказки былых времен, с моралями» («Histoires ou contes du temps passé») // «Синяя Борода»;
1697 // Шарль Перро // «Истории, или Сказки былых времен, с моралями» («Histoires ou contes du temps passé») // «Кот в сапогах»;
1697 // Шарль Перро // «Истории, или Сказки былых времен, с моралями» («Histoires ou contes du temps passé») // «Феи»;
1697 // Шарль Перро // «Истории, или Сказки былых времен, с моралями» («Histoires ou contes du temps passé») // «Золушка, или Хрустальная туфелька»;
1697 // Шарль Перро // «Истории, или Сказки былых времен, с моралями» («Histoires ou contes du temps passé») // «Рике с хохолком»;
1697 // Шарль Перро // «Истории, или Сказки былых времен, с моралями» («Histoires ou contes du temps passé») // «Мальчик с пальчик».
______________
1698 // Мадам д’Онуа // «Новые сказки, или Модные феи». Том I // «Принцесса Карпийон»;
1698 // Мадам д’Онуа // «Новые сказки, или Модные феи». Том I // «Лягушка-Благодетельница» // 403;
1698 // Мадам д’Онуа // «Новые сказки, или Модные феи». Том I // «Лесная лань» // 402.
______________
1698 // Мадам д’Онуа // «Новые сказки, или Модные феи». Том II // «Белая Кошка» // 513.
______________
1698 // Мадам д’Онуа // Продолжение «Новых сказок, или Модных фей». Том III // «Белль-Белль, или Удачливый Рыцарь»;
1698 // Мадам д’Онуа // Продолжение «Новых сказок, или Модных фей». Том III // «Голубь и Голубка» // 327 С (начало сказки).
______________
1698 // Мадам д’Онуа // Продолжение «Новых сказок, или Модных фей». Том IV // «История принцессы Ясной Звездочки и принца Милона» // 707;
1698 // Мадам д’Онуа // Продолжение «Новых сказок, или Модных фей». Том IV // «История принцессы Ясной Звездочки и принца Милона» // «Принц Вепрь» // 433
1698 // Мадам д’Онуа // Продолжение «Новых сказок, или Модных фей». Том IV // «История принцессы Ясной Звездочки и принца Милона» // «Дельфин» // 675.
______________
1698 // Шевалье де Майи // «Знаменитые феи, галантные сказки» («Les Illustres Fées, contes galants») // «Белянка-Красавица» («Blanche Belle») // 403;
1698 // Шевалье де Майи // «Знаменитые феи, галантные сказки» («Les Illustres Fées, contes galants») // «Король-колдун» («Le Roi magicien»);
1698 // Шевалье де Майи // «Знаменитые феи, галантные сказки» («Les Illustres Fées, contes galants») // «Принц Роже» («Le Prince Roger»);
1698 // Шевалье де Майи // «Знаменитые феи, галантные сказки» («Les Illustres Fées, contes galants») // «Фортунио» («Fortunio») // 316;
1698 // Шевалье де Майи // «Знаменитые феи, галантные сказки» («Les Illustres Fées, contes galants») // «Принц Герини» («Le Prince Guerini») // 502;
1698 // Шевалье де Майи // «Знаменитые феи, галантные сказки» («Les Illustres Fées, contes galants») // «Королева острова Цветов» («La Reine de l’île des fleurs»);
1698 // Шевалье де Майи // «Знаменитые феи, галантные сказки» («Les Illustres Fées, contes galants») // «Любимец фей» («Le Favori des fées»);
1698 // Шевалье де Майи // «Знаменитые феи, галантные сказки» («Les Illustres Fées, contes galants») // «Благодетель, или Кирибирини» («Le Bienfaisant ou Qumbirini») // 678;
1698 // Шевалье де Майи // «Знаменитые феи, галантные сказки» («Les Illustres Fées, contes galants») // «Принцесса, коронованная феями» («La Princesse couronnée par les fées»);
1698 // Шевалье де Майи // «Знаменитые феи, галантные сказки» («Les Illustres Fées, contes galants») // «Неудачный подлог» («La Supercherie malheureuse»);
1698 // Шевалье де Майи // «Знаменитые феи, галантные сказки» («Les Illustres Fées, contes galants») // «Недосягаемый остров» («L’île inaccessible»).
______________
1698 // Мадам де Мюра // «Волшебные сказки» («Contes de fées») // «Угриха» («Anguillette»);
1698 // Мадам де Мюра // «Волшебные сказки» («Contes de fées») // «Юная и Прекрасная» («Jeune et Belle»).
______________
1698 // Мадам де Мюра // «Новые волшебные сказки» («Les Nouveaux contes de fées») // «Дворец мести» («Le Palais de la vengeance»);
1698 // Мадам де Мюра // «Новые волшебные сказки» («Les Nouveaux contes de fées») // «Принц листьев» («Le Prince des feuilles»);
1698 // Мадам де Мюра // «Новые волшебные сказки» («Les Nouveaux contes de fées») // «Счастливая забота» («L’Heureuse Peine»).
______________
1698 // Жан де Прешак // «Сказки, менее сказочные, чем другие» («Contes moins contes que les autres») // «Бесподобный» («Sans-Paragnon»).
______________
1699 // Мадам Дюран // «Графиня де Мортан» («La Comtesse de Mortane») // «Королева фей».
______________
1699 // Шевалье де Майи // «Собрание галантных сказок» («Illustres Fées, contes galantes dédiés aux Dames») // «Констанция под именем Константина» («Constance sous le nom de Constantin»);
1699 // Шевалье де Майи // «Собрание галантных сказок» («Illustres Fées, contes galantes dédiés aux Dames») // «Дворец Великолепия» («Le Palais de la magnificence»);
1699 // Шевалье де Майи // «Собрание галантных сказок» («Illustres Fées, contes galantes dédiés aux Dames») // «Освобожденная принцесса» («La Princesse délivrée»);
1699 // Шевалье де Майи // «Собрание галантных сказок» («Illustres Fées, contes galantes dédiés aux Dames») // «Бланш».
______________
1699 // Мадам де Мюра // «Возвышенные и аллегорические истории» («Histoires Sublimes et allégoriques») // «Король-Кабан» («Le Roi Porc») // 433;
1699 // Мадам де Мюра // «Возвышенные и аллегорические истории» («Histoires Sublimes et allégoriques») // «Остров Великолепия» («L’île de la magnificence»);
1699 // Мадам де Мюра // «Возвышенные и аллегорические истории» («Histoires Sublimes et allégoriques») // «Дикарь» («Le Sauvage») // 502.
______________
1699 // Мадам де Мюра // «Сельское путешествие» («Voyage de Campagne») // «Тюрбо» («Le Turbot») // 675;
1699 // Мадам де Мюра // «Сельское путешествие» («Voyage de Campagne») // «Отец и четверо сыновей» («Le Pre et ses quatre fils») // 653.
______________
1700–1701 // Анонимные сказки в сборниках и вне их; анонимные сказки в рукописях.
______________
1700 // Ле Нобль // «Фанты» («Le Gage touché») // «Ученик чародея» («L’Apprenti Magicien») // 325.
______________
1702 // Мадам д’Онёй // «Низложенная тирания фей» («La Tiranie des fées détruite») // «Низложенная тирания фей» («La Tiranie des fées détruite»);
1702 // Мадам д’Онёй // «Низложенная тирания фей» («La Tiranie des fées détruite») // «Агафия, принцесса скифская» («Agatie princesse des Scythes»);
1702 // Мадам д’Онёй // «Низложенная тирания фей» («La Tiranie des fées détruite») // «Принцесса-Львица» («La princesse Léonice»);
1702 // Мадам д’Онёй // «Низложенная тирания фей» («La Tiranie des fées détruite») // «Любопытный принц» («Le Prince Curieux»);
1702 // Мадам д’Онёй // «Низложенная тирания фей» («La Tiranie des fées détruite») // «Чудо любви».
______________
1702 // Мадам д’Онёй // «За ужином, 1699» («Les Petits Soupers de l’année 1699») // «Происхождение фей» («L’Origine des Fées»).
______________
1705 // Мадемуазель Леритье // «Темная башня и светлые дни, английские сказки» («La Tour ténébreuse et les jours lumineux, contes anglois») // «Рикден-Рикдон».
Расшифровка сказочных типов по указателю Аарне — Томпсона
Из всего многообразия фольклорных сюжетов авторы рубежа XVII–XVIII вв. обращаются только к сюжетам волшебных сказок.
312 — «Синяя борода».
313 — «Волшебный полет (побег)».
316 — «Русалка из водоема».
327 — «Дети у ведьмы»; «Ганзель и Гретель»; «Мальчик с пальчик»;
327 С — (по указателю Деларю — Тенез) — «Ребенок в мешке (у людоеда)».
333 — «Красная Шапочка».
401 — «Заколдованная принцесса в замке».
402 — «Невеста-Мышка».
403 — «Белая птица и черная птица» или «Подмененная невеста».
410 — «Спящая Красавица».
425 — «Необыкновенный супруг»;
425 А — «Поиски пропавшего супруга»;
425 В — «Амур и Психея»;
425 С — «Красавица и Чудовище».
432 — «Возлюбленный-птица» («Финист-Ясный Сокол»; «Йонек»).
433 — «Возлюбленный-дракон»;
433 В — «Король-Кабан».
470 В — «Край, где не умирают»; «В гостях у мертвеца».
480 — «Добрая и злая девушки»; «Феи».
502 — «Дикий человек».
510 А — «Преследуемая героиня».
513 — «Необыкновенные помощники, наделенные необыкновенными качествами».
531 — «Благодарные животные».
545 — «Кот в сапогах».
675 — «Мудрая рыба помогает лодырю» («Емеля»).
678 — «Благодетель».
707 — «Птица правды».
725 — «Сны».
750 А — «Смешные желания».
875 — «Мудрая дева».
887 — «Гризельда».
Список сокращений
ИСТОЧНИКИ
Буало 1957. Буало-Депрео Н. Поэтическое искусство. М., 1957.
Буало 1821. Десятая сатира Буало / Вольный переводъ съ французскаго С. Аксакова. М.: тип. Августа Семена, 1821.
Буало 1829. Буало Н. Сатира на женщинъ / Переводъ съ французск. Телепнева. М., 1829.
Бюсси-Рабютен 2010. Бюсси-Рабютен. Любовная история галлов /Пер. с фр. М.: Ладомир, 2010. (Литературные памятники).
ДС 1826. Детский Собеседник. СПб.: в тип. Императорского Воспитательного Дома, 1826. Ч. 1. № 1. С. 106–110.
Гримм 1978. Гримм Я. и Гримм В. Сказки / Пер. с нем. Г. Петникова. М.: Худож. лит., 1978.
Гофман 1967. Гофман Э.-Т.-А. Житейские воззрения кота Мурра. Повести и рассказы. М.: Худож. лит., 1967.
Жуковский 1902. Жуковский В А. Полн. собр. соч. в двенадцати томахъ / Под ред., с биографич. очеркомъ и примеч. А. С. Архангельского. СПб., 1902. Т. 3.
ЗКС 1992. Золотая книга лучших сказок мира. М.: Терра, 1992.
МНМ 1990. Мифы народов мира: В 2 т. М.: Сов. энциклопедия, 1990.
Мольер 1957. Мольер Ж.-Б. Собр. соч. в двух томах. М.: ГИХЛ, 1957. Т. 1.
Онуа 1801. [д’Онуа]. Приключенiя Ипполита, графа де Дюгласа. Смоленскъ, 1801.
Панченко 1965. Панченко А. М. Скоморошина о чернеце // Труды Отдела древнерусской литературы АН СССР / Отв. ред. В. И. Малышев. М.; Л.: Наука, 1965. Т. XXI. С. 89–93.
Перро 1936. Перро Ш. Сказки. М.; Л.: Academia, 1936.
Рабле 1973. Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Пер. с фр. Н. Любимова. М.: Худож. лит., 1973.
Ровинский 1881. Ровинский Д.А. Русские народные картинки. Кн. 1–5. СПб.: Имп. Акад. наук, 1881. Кн. 1: Сказки и забавные листы.
СДН 1985. Спор о древних и новых / Сост. и вступит, статья В. Я. Бахмутского; пер. Н. В. Наумова. М.: Искусство, 1985.
Флориан 2005. Флориан. Эссе о пасторали // Пастораль как текст культуры: теория, топика, синтез искусств. Сб. науч. трудов. М., 2005. С. 103–113.
ФЛС 1991. Французская литературная сказка XVII–XVIII веков. М.: Худож. лит., 1991.
Aulnoy 2004. Aulnoy, madame d’. Contes des Fées, suivis des Contes nouveaux ou Les Fées à la Mode / Éd. critique établie par Nadine Jasmin, avec une introduction de Raymonde Robert P.: Honoré Champion, 2004. (Bibliothèque des Génies et des Fées. Vol. 1.)
Aulnoy 2005. Aulnoy, madame d’. Relation du voyage en Espagne / Éd. établie, présentée et annotée par Maria Susana Seguin. P.: Desjonquères, 2005.
Beauplan 1985. Beauplan G. L. de. Description d’Ukranie. Rouen: L’Instant perpétuel, 1985.
Boileau 1985. Boileau N. Satyres, Épîtres, Art Poétique / Éd. Jean-Pierre Collinet P.: Gallimard, 1990.
Chapelain 1880. Chapelain J. Lettres dejean Chapelain. P.: Imprimerie Nationale, 1880.
Cercle des conteuses 2005. Cercle des conteuses. Mademoiselle Lhéritier, Mademoiselle Bernard, Mademoiselle de La Force, Madame Durand, Madame d’Auneuil: Contes. P.: Honoré Champion, 2005. (Bibliothèque des Génies et des Fées. Vol. 2.)
Delarue, Tenèse 1976. Delarue P., Tenèse M.-L. Le conte populaire français: Catalogue raisonné des versions de France. P.: Larousse, 1976.
Genlis 1779–1780. Genlis S.-F. Théâtre à l’usage des jeunes personnes: En 3 vol. P.: Panckoucke, 1779–1780.
LBLB 2002. La Belle et la Bête: Quatre métamorphoses (1742–1779) / Textes établis et annotés par S. Allera et D. Reynaud. Lyon: Publications de l’université de Saint-Étienne, 2002. (Textes et Contre-Textes. № 2.)
Le Noble 1698. Le Noble E. L’Histoire secrète des plus fameuses conspirations. De la Conjuration des Pazzi contre les Médicis. Par Mr Le Noble. Épicaris, suite des histoires secrètes des plus fameuses conspirations, par Mr Le Noble. 1698.
Leprince de Beaumont 1756. Leprince de Beaumont M. Le magasin des enfants. Londres, 1756.
Lhéritier de Villandon 1705. Lhéritier de Villandon М.-J. La Tour ténébreuse et Les Jours lumineux, contes anglais. P.: C. Barbin, 1705.
Mercure Galant 1692. Mercure Galant 1692. Mars.
Murat 1978. Murat H.-J. С., comtesse de. Contes de fées // Le Nouveau Cabinet des Fées. Genève: Slatkine Reprints, 1978. Vol. 2.
Perrault 1692. Perrault Ch. Parallèle des anciens et des modernes en ce qui regarde les arts et les sciences. P., 1692.
QAM 2001. La Querelle des Anciens et des Modernes (XVIIе-XVIIIе siècles). Précédé de «Les abeilles etles araignées», essai de Marc Fumaroli. P.: Gallimard, 2001.
Villeneuve 1740. [Mme de Villeneuve]. La jeune Amériquaine et les contes marins, par madame de ***. La Haye: aux dépens de la Compagnie, 1740.
Villiers 1699. Villiers P. de. Entretiens sur les contes de fees et sur quelques autres ouvrages du temps, pour servir de préservatif contre le mauvais gout Collombat, 1699.
ИССЛЕДОВАНИЯ
Аарне-Андреев 1929. Андреев Н. П. Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Л.: Издание Государственного Русского Географического общества, 1929.
Арьес 1999. Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при старом порядке. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 1999.
Веселовский 1887. Веселовский А. Н. Из истории русской переводной повести XVIII века // Сборник отделения русского языка и словесности Имп. Академии наук. СПб., 1887. Т. 43. Вып. 2.
Гистер 2009. Гистер М. Проблема ключницы Пелагеи: сюжет о красавице и звере и сказка С. Т. Аксакова «Аленький цветочек» // Слово устное и слово книжное. Сб. статей / Сост. М. Гистер. М.: РГГУ, 2009.
Кирсанова 1997. Кирсанова Р. М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. Калининград: Янтарный сказ; М.: Артист. Режиссер. Театр, 1997.
Михайлов 1990. Французская новелла Возрождения / Сост. и предисл. А. Д. Михайлова. М.: Худож. лит., 1990.
Неклюдова 2014. Неклюдова М. С. «Я двор зову страной…»: родословная одной метафоры. М.: РГГУ, 2014.
Осокин 2011. Осокин М. Из истории psychégraphia XVII–XVIII веков: Сюжет о Психее и Купидоне в диахронической перспективе. Saarbrücken: LAP Lambert, 2011.
Пахсарьян 1996. Пахсарьян Н. Т. Генезис, поэтика и жанровая система французского романа 1690–1760-х годов. Днепропетровск: Порого, 1996.
Пахсарьян 2005. Оноре д’Юрфе. Астрея / Пер. с фр. Н. Т. Пахсарьян // Новые переводы. Хрестоматия в помощь студентам-филологам / Составление и общая редакция Н. Т. Пахсарьян. М.: Издательство УРАО, 2005. С. 73–98.
Пахсарьян 2010. Пахсарьян Н. Т. Избранные статьи о французской литературе. Днепропетровск: Арт-Пресс, 2010.
Пропп 1928. Пропп В. Я. Морфология сказки. Л.: Academia, 1928.
Пыпин 1857. Пыпин А. Н. Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских. СПб., 1857.
СУС 1979. Сравнительный указатель сюжетов: восточнославянская сказка / Сост.: Л. Г. Бараг, И. П. Березовский, К. П. Кабашников, Н. В. Новиков. Л., 1979.
Томашевский 1917. Томашевский Б. Заметки о Пушкине. III. О куплете Трике // Пушкин и его современники. Пг., 1917. Вып. XXVIII. С. 67–70.
Чекалов 2008. Чекалов К. А. Формирование массовой литературы во Франции: XVII — первая треть XVIII в. М.: ИМЛИ РАН, 2008.
Andries, Bollème 2003. Andries L., Bollème G. La Bibliothèque Bleue. Littérature de colportage. P.: Robert Laffont, 2003.
AT. Aarne A., Thompson S. The types of Folktale: A classification and bibliography. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 1964.
Barchilon 1975. Barchilon J. Le conte merveilleux français de 1690 à 1790. P.: Honoré Champion, 1975.
Barchilon 1998. Barchilon J. Madame d’Aulnoy dans la tradition du conte de fées // Tricentenaire Charles Perrault. Les grands contes du XVIIе siècle et leur fortune littéraire / Éd. J. Perrot. P.: Press Éditions, 1998. P. 125–133.
Bettelheim 1976. Bettelheim В. The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy Tales. Knopf, 1976.
Bjørnstad 2013. Bjørnstad H. Le savoir d’un conte moins conte que les autres: le «Sans-Parangon» de Préchac et les limites de l’rabsolutisme // Féeries. 2009. № 6.
Defrance 1998. Defrance A. Les Contes de fées et les nouvelles de Mme d’Aulnoy, 1690–1698: L’imaginaire féminin à rebours de la tradition. Genève: Droz, 1998.
Dufour-Maitre 2008. Dufour-Maitre M. Les précieuses: La naissance des femmes de lettres en France au XVIIе siècle. P.: Honoré Champion, 2008.
Furetière 1690. Furetière A. Dictionnaire universel contenant généralement tous les mots françois, tant vieux que modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts. P., 1690.
Haif-Lancner 1984. Harf-Lancner L. Les Fées au Moyen Âge: Morgane et Melusine: La naissance des fées. P.: Honoré Champion, 1984.
Heideman 2010. Heideman U., Adam J.-M. Textualité et intertextualité des contes: Perrault, Apulée, La Fontaine, Lhéritier. P.: Qassiques Garnier, 2010. (Lire le XVIIе siècle).
Hipp 1976. Hipp M.-T. Mythes et réalites: Enquête sur le roman et les mémoires (1660–1700). P.: Klincksieck, 1976. P. 127.
Jasmin 2002. Jasmin N. Naissance du conte fèminin: Les contes de fées de Mme d’Aulnoy (1690–1698). P.: Honoré Champion, 2002.
Lafond 1997. Nouvelles du XVIIе siècle / Ed. J. Lafond, R. Picard. P.: Gallimard, 1997. (Bibliothèque de la Pléiade).
Loskoutoff 1987. Loskoutoff Y. La Sainte et la Fée: Dévotion à l’enfant Jésus et mode des contes merveilleux à la fin du règne de Louis XIV. Genève: Droz: CNRS, 1987.
Mainil 2001. Mainil J. Madame d’Aulnoy et le rire des fées: Essai sur la subversion féerique et le merveilleux comique sous l’Ancien Régime. P.: Kimé, 2001.
Manson 1998. Manson M. Madame d’Aulnoy, les contes et le jouet // Tricentenaire Charles Perrault. Les grands contes du XVIIе siècle et leur fortune littéraire / Éd. J. Perrot P.: In Press Éditions, 1998. P. 143–156.
Pastoureau 2002. Pastoureau M. Bleu: Histoire d’une couleur. P.: Le Seuil, 2002.
Perrin 2004. Perrin J.-F. Recueillir et transmettre: L’effet anthologique dans le conte merveilleux (XVIIе-XVIIIе siècle) // Féeries. 2004. № 1. P. 145–171.
Robert 1987. Robert R. Contes parodiques et licencieux du XVIIIе siècle / Textes réunis et présentés par Raymonde Robert Nancy: Presses Universitaires, 1987.
Robert 1991. Robert R. L’infantilisation du conte merveilleux au XVIIeme siècle // Littératures Classiques. 1991. № 14. P. 33–46.
Robert 2002. Robert R. Le conte des fées littéraire en France: de la fin du XVIIе à la fin du XVIIIе siècle. P.: Honoré Champion, 2002.
Rousset 1984. Rousset J. Leurs yeux se rencontrèrent: La scène de première vue dans le roman. P.: Jose Corti, 1984.
Soriano Int. http://www.universalis.fr/cla5sification/litteratures/
histoire-des-litteratures/litteratures-europeennes/litterature-francaise/
litterature-francaise-du-xviie-s/. (25.02.2015).
Soriano 1996. Soriano M. Les contes de Perrault: Culture savante et traditions populaires. P.: Gallimard, 1996.
Storer 1972. Storer M.-E. Un épisode littéraire de la fin du XVIIе siècle: la mode des contes de fées (1685–1700). Genève: Droz, 1972.
Stroev 2002. Stroev A. Le conte merveilleux et l’image de la Russie // Le conte merveilleux au XVIIIе siècle: Une poétique expérimentale / Éd. R. Jomand-Baudry, J.-F. Perrin. P.: Kimé, 2002. P. 251–262.
TCP 1998. Tricentenaire Charles Perrault: Les grands contes du XVIIе siècle et leur fortune littéraire / Éd.J. Perrot P.: In Press Editions, 1998.
Thirard 1998. Thirard M.-A. L’influence de la Pastorale dans les contes de Madame d’Aulnoy // Tricentenaire Charles Perrault: Les grands contes du XVIIе siècle et leur fortune littéraire / Éd. J. Perrot P.: In Press Éditions, 1998. P. 165–180.
Thompson 1955–1958. Thompson S. Motif-index of folk-literature: A classification of narrative elements in folktales, ballads, myths, fables, medieval romances, exempla, fabliaux, jest-books, and local legends. Bloomington: Indiana University Press, 1955–1958.
Uther 2008. Uther H.-J. Handbuch zu den «Kinder- und Hausmärchen» der Brüder Grimm: Entstehung — Wirkung — Interpretation. Berlin; N.Y.: Walter de Gruyter, 2008.
Velten 1930. Velten H. The Influences of Charles Perrault’s Contes de ma Mère L’oie on German Folklore // Germanic Review. 1930. Vol. 1. P. 4–18.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Kerbrat-Orecchioni С. L’ironie comme trope // Poétique. Fevrier. 1980. № 41. P. 108–127.
La Bruyère. Les caractères ou les Mœurs du siècle // Moralistes du XVIIе siècle / Texte établi, présenté et annoté par Patrice Soler. P.: Robert Laffont, 1992.
Le conte merveilleux au XVIIIе siècle: Une poétique expérimentale / Éd. R. Jomand-Baudry, J.-F. Perrin: P.: Kimé, 2002.
Le conte en ses paroles: La figuration de l’oralité dans le conte merveilleux du Classicisme aux Lumières / Éd. A. Defiance, J.-F. Perrin. P.: Desjonquères, 2007.
Madame D*** (d’Aulnoy). Les Contes des fées, 1710.
Madame D*** (d’Aulnoy). Contes nouveaux, ou les Fées à la mode. P.: par la Compagnie des libraires, 1715.
Madame D*** (d’Aulnoy). Suite des Contes nouveaux, ou des Fées à la mode. P.: par la Compagnie des libraires, 1725.
Madame D*** (d’Aulnoy). Histoire de Jean de Bourbon, Prince de Carency. Par l’Auteur des Mémoires et voyage d’Espagne. La Haye, 1692.
Madame D*** (d’Aulnoy). Histoire d’Hypolite, comte de Douglas. P.: Sevestre, 1690.
Madame D*** (d’Aulnoy). Mémoires secrets de Mr L. D. D. O. ou Les Aventures comiques de plusieurs grands princes de la cour de France. P.: Bredou, 1696.
Madame D*** (d’Aulnoy). Mémoires des aventures singulières de la cour de France. La Haye: Alberts, 1692, puis sur la cour d’Angleterre, 1695.
Madame D*** (d’Aulnoy). Mémoires de la cour d’Espagne. P.: Barbin, 1692.
Madame D*** (d’Aulnoy). Nouvelles Espagnolles. P.: Barbin, 1692.
Madame D*** (d’Aulnoy). Nouvelles Espagnoles. La Haye: Chez Meindert Uitwerf, 1693.
Madame D*** (d’Aulnoy). Nouvelles, ou Mémoires historiques. P.: Barbin, 1693.
Mme de Murat. Contes / Éd. critique établie par Geneviève Patard. P.: Honoré Champion, 2006. (Bibliothèque des Génies et des Fées.)
Perrault Charles. L’apologie des femmes. P.: Veuve Coignard, 1694.
Список иллюстраций
Портрет Мари-Катрин д’Онуа.
Эстамп. Худ. неизвестен. Национальная библиотека Франции. Отдел эстампов.
Ил. 1–4
Страницы двухтомного сборника мадам д’Онуа «Новые сказки, или Модные феи» (1698) (Contes nouveaux, ou Les Fées à la mode / Par madame D**. P.: Chez la veuve de Theodore Girard, 1698).
Худ. неизвестен.
Ил. 1. Титульная страница т. 1 изд. 1698 г.
Ил. 2. Начало сказки «Принцесса Карпийон» (изд. 1698, т. 1).
Ил. 3. Начало новеллы «Новый дворянин от мещанства» (изд. 1698, т. 2).
Ил. 4. Начало сказки «Белая Кошка» (изд. 1698, т. 2).
Ил. 5
Ипполит.
Лубочное изображение главного героя романа мадам д’Онуа «История Ипполита, графа Дугласа».
Из собрания Д. А. Ровинского (см.: Ровинский 1881/1: 54).
Ил. 6–13
«История о принце Одольфе лампландийском и Острове вечного веселия».
Лубок по сказке мадам д’Онуа.
Из собрания Д. А. Ровинского (текст см. на с. 807–810 наст. изд.).
Ил. 6.
Ил. 7.
Ил. 8.
Ил. 9.
Ил. 10.
Ил. 11.
Ил. 12.
Ил. 13.
Ил. 14–21
Иллюстрации Уолтера Крейна (Crane, Walter; 1845–1915) к сказке мадам д’Онуа «История принцессы Ясной Звездочки и принца Милона». 1909.
Из изд.: Princess Belle-Etoile. L.; N.-Y.: John Lane. The Bodley Head, 1909. (Walter Crane’s picture book).
Ил. 14. Передняя сторонка переплета изд. 1909 г.
Ил. 15. Форзац изд. 1909 г.
________________
Надписи на гербах:
— вверху — «Ясная Звездочка»;
— в середине слева — «Счастливец»;
— в середине справа — «Солнышко»; внизу — «Милон».
Ил. 16.
Капитан… уверенный, что уловил сияние драгоценных камней, направил корабль навстречу шлюпке. И правда — в ней он обнаружил сокровище, но всего удивительней была для него красота четверых младенцев.
Ил. 17.
«Красавица, — заговорила Фальшь, не теряя ни минуты… — Небеса одарили вас неземной прелестью. Помимо яркой звезды во лбу, про вас рассказывают и другие чудесные вещи. Но одного-то, самого необходимого, вам как раз и недостает. Как жаль!»
Ил. 18.
Тут он заметил, что в водах бассейна тонет горлица; ее перья вымокли, и она, совсем выбившись из сил, уже погружалась на дно. Милону стало жаль ее.
Ил. 19.
Он уж готов был схватить зеленую птичку, как вдруг скала под ним разверзлась, он провалился вниз…
Ил. 20.
Но тут зверь увидел на доспехах принца и броне его коня свое устрашающее отражение… Зверя охватил сильнейший испуг.
Ил. 21.
…принцесса с победоносным видом прошествовала в залу, где находились трое принцев и множество других рыцарей. Она сразу же подбежала к Милону, но он не узнал ее в мужской одежде и в шлеме…
Ил. 22–28
Иллюстрации Эрве (?) Коттена к сборнику «Сказки мадам д’Онуа» (1882) (Contes de madame d’Aulnoy. Illustrés de vignettes par Staal et Ferdinandus et de huit ouvrages en chromolithographie par H. Cottin. P.: Librairie Gamier Frères, 1882).
Ил. 22. Передняя сторонка переплета изд. 1882 г.
Ил. 23. Титульная страница изд. 1882 г.
Ил. 24. «Прелестница и Персинет».
Ил. 25. «Златовласка».
Ил. 26. «Синяя Птица».
Ил. 27. «Вострушка-Золянка».
Ил. 28. «Желтый Карлик».
Ил. 29. «Лесная лань».
Ил. 30. «Белая Кошка».
Ил. 31
Иллюстрация Жана Вебера (Veber, Jean; 1868–1928) к сказке мадам д’Онуа «Великан-людоед и фея». 1905.
Национальная библиотека Франции (далее — НБФ). Отдел эстампов (далее — ОЭ).
Ил. 32–40
Иллюстрации Жозефа Марселя Бретона (Breton, Joseph Marcel; 1879–1955) к сборнику «Сказки мадам д’Онуа» (1921) (Contes de madame d’Aulnoy. P.: Librairie Gamier Frères, 1921).
Ил. 32. Передняя сторонка переплета изд. 1921 г.
Ил. 33. Титульная страница изд. 1921 г.
Ил. 34. «Вострушка-Золянка».
Ил. 35. «Белая Кошка».
Ил. 36. «Синяя птица».
Ил. 37. «Златовласка».
Ил. 38. «Прелестница и Персинет».
Ил. 39. «Желтый Карлик».
Ил. 40. «Лесная лань».
Ил. 41–50
Иллюстрации Клемана-Пьера Марилье (Marillier, С. Р.; 1740–1808) к сказкам мадам д’Онуа, вошедшим в т. 2–4 (1785 г.) 41-томного альманаха «Кабинет фей, или Избранные сказки фей и другие волшебные сказки» (Le Cabinet des fées, ou Collection choisie des contes des fées, et autres contes merveilleux. Amsterdam; P., 1785–1789).
Ил. 41. Титульная страница т. 2 изд. 1785 г.
Ил. 42. «Прелестница и Персинет» (изд. 1785, т. 2).
Ил. 43. «Принцесса Веснянка» (изд. 1785, т. 2).
Ил. 44. «Дон Габриэль Понсе де Леон. Начало» (изд. 1785, т. 2).
Ил. 45. «Фортуната» (изд. 1785, т. 3).
Ил. 46. «Зеленый Змей» (изд. 1785, т. 3).
Ил. 47. «Лесная лань» (изд. 1785, т. 3).
Ил. 48. «Белль-Белль, или Удачливый рыцарь» (изд. 1785, т. 4).
Ил. 49. «Голубь и Голубка» (изд. 1785, т. 4).
Ил. 50. «Принц Вепрь» (изд. 1785, т. 4).
Ил. 51
Иллюстрация Витторио Аюсорнеро (Accomero, V.; 1896–1982) к сказке мадам д’Онуа «Златовласка».
Из изд.: d’Aulnoy Madame, Beaumont Leprince de Madame. Klassiche Französische Märchen. Zürich, 1946.
Ил. 52–56
Страницы сборника «Кабинет фей» (1845) (Contes de Fées contenant La Belle aux cheveux d’or, L’Oiseau bleu, Brinborion, Le Nain jeune / Par Mme la comtesse d’Aulnoy. P.: Le Bailly, 1845).
Худ. неизвестен.
Ил. 52. Титульная страница изд. 1845 г.
Ил. 53. Фронтиспис изд. 1845 г.
________________
В центральном круге — портрет мадам д’Онуа.
Подпись: Мари-Катрин де Барнвиль, графиня д’Онуа. Родилась в 1650. За приятный и обходительный нрав была любима всеми известными людьми своей эпохи; многие ее сочинения, и особенно «Сказки фей», украсили век Людовика XIV, столь щедрый на таланты. Умерла в Париже в январе 1701.
Ил. 54. Начало сказки мадам д’Онуа «Златовласка» (изд. 1845).
Ил. 55. Начало сказки мадам д’Онуа «Синяя птица» (изд. 1845).
Ил. 56. Начало сказки мадам д’Онуа «Желтый Карлик» (изд. 1845).
Ил. 57–60
Страницы сборника «Кабинет фей» (1842) (Contes de Fées, Contenant La Reine de l’île des Fleurs. L’Oiseau bleu. La Belle aux cheveux d’or. Le Prince Desir / Par Mme d’Aulnoy avec une gravure en tête de chaque conte. P.: chez Gauthier, 1842). Худ. неизвестен.
Ил. 57. Титульная страница изд. 1842 г.
Ил. 58. Фронтиспис изд. 1842 г.
________________
В центральном круге — портрет мадам д’Онуа.
Подпись: Мари-Катрин де Барнвиль, графиня д’Онуа. Родилась в 1651, умерла в 1705. Эта дама — автор множества сочинений, но до сих пор славой особенно пользуются ее «Сказки фей».
Ил. 59. Первая страница сказки мадам д’Онуа «Синяя птица» (изд. 1842).
Ил. 60. Первая страница сказки «Златовласка» (изд. 1842).
Ил. 61–73
Иллюстрации Жюль-Мари Дезандре (Désandre, Jules-Marie; XIX в.) к сборнику мадам д’Онуа «Сказки фей» (1868) (Contes de Fées / par Mme d’Aulnoy, Revue par Mile Marie Guenier de Haupt; illustrés par Jules Désandre. P.: Bernardin-Béchet, 1868).
Ил. 61. Титульный лист изд. 1868 г.
Ил. 62. Фронтиспис изд. 1868 г.
Ил. 63. «Лесная лань».
…лань уже слишком приблизилась и невольно залюбовалась им…
Ил. 63-а.
Коленопреклоненная Желтофиоль перевязывала ей руку, из которой изобильно сочилась кровь…
Ил. 63-б.
…вода в источнике забурлила, и выполз оттуда большой рак…
Ил. 64. «Златовласка».
…Галифрон пришел в страшную ярость…
Ил. 64-а.
…телом дракон был с прозеленью желт, с когтями и длинным хвостом, завивавшимся сотней колец.
Ил. 64-б.
…в награду за всю его верную службу заковали Добронрава в колодки по рукам и ногам и заключили в башню…зато маленькая его Попрыгунья по-прежнему была с ним, и утешала его, и прибегала все новости ему рассказывать.
Ил. 65. «Мышка-Добрушка».
Только вскочил злой король с ношей на вороного коня, как взмолилась королева о пощаде…
Ил. 66. «Белая Кошка».
…принц увидел Белую Кошку, красивейшую из всех, какие когда-либо были и будут на свете.
Ил. 67. «Вострушка-Золянка».
«Добро пожаловать, Вострушка», — сказала фея…
Ил. 67-а.
Людоед был в шесть раз выше жены, от его раскатистого голоса дрожал весь дворец, а его кашель грохотал как гром… Великан принес корзину с крышкой, откуда он достал пятнадцать младенцев, выкраденных им по дороге, и проглотил их, точно пятнадцать яиц.
Ил. 67-б.
Тут решила Вострушка, что золотым ключиком должен отпираться какой-нибудь красивый сундучок…
Ил. 68. «Фортуната».
«Интересно, что вы делали у ручья в столь поздний час?» — спросила королева.
Ил. 68-а.
Разрешившись от бремени, фея вручила теплым ветрам корзину, где надежно спрятала сына…
Ил. 68-б.
Войдя к себе, Фортуната первым делом выбросила в окно кочан капусты. Тут она с удивлением услышала, как кто-то закричал: «Ах, я погиб!» Она не придала значения этому жалобному возгласу, ведь капустные кочаны обычно не умеют разговаривать.
Ил. 69. «Лягушка-Благодетельница».
Пещера феи Львицы.
Ил. 69-а.
…тогда принц нанес дракону страшную рану в живот; и тут-то и случилось такое, чему поверить невозможно, хоть это столь же правдиво, как и все в этой сказке: из огромной дыры вылез принц, самый прекрасный и милый из всех, кои на свете есть…
Ил. 69-б.
«Милая государыня, — любезно ответила Лягушка, — мы с подругами попытаемся помочь вам в этой беде».
Ил. 70. «Желтый Карлик».
«Эге-ге, принцесса! Вы, кажется, вообразили, что можете безнаказанно нарушить слово?»
Ил. 70-а.
Добрая сирена тем временем усадила настоящего короля на свой длинный рыбий хвост, и оба, в равной мере довольные, поплыли в открытое море.
Ил. 70-б.
Желтый Карлик, оскорбленный до глубины души, пришпорил своего кота…
Ил. 71. «Синяя птица».
«Вот вам четыре яичка — разбейте их, когда в том будет необходимость, и внутри вы найдете помощь».
Ил. 71-а.
Принцесса как раз сидела у окошка и беседовала с Синей птицей…
Ил. 71-б.
Флорина разбила еще одно яичко — оттуда появилась карета из блестящей стали, изукрашенная золотом и запряженная шестью мышами; кучером был розовый крысенок, а форейтор тоже из крысиной породы…
Ил. 72. «Прелестница и Персинет».
Прелестница села с ним в маленькую повозку, красиво раскрашенную и вызолоченную…
Ил. 73. «Принц Дух».
…остался только Леандр один на один с разъяренным зверем…
Ил. 74
Фронтиспис т. 1 двухтомного сборника «Кабинет фей» (1882) (Contes des Fées, ou Les Fées à la mode: contes choisis publiés en deux volumes. P.: Librairie des bibliophiles, 1882. Т. 1).
Худ. неизвестен.
Ил. 75
Фронтиспис т. 2 двухтомного сборника «Кабинет фей» (1882) (Contes des Fées, ou Les Fées à la mode: contes choisis publiés en deux volumes. P.: Librairie des bibliophiles, 1882. T. 2).
Худ. неизвестен.
Ил. 76–87
Иллюстрации Джона Гилберта (Джилберта) (Gilbert, J.; 1817–1897) к сборнику «Сказки графини д’Онуа» (1855) (Fairy tales by the countess d’Aulnoy. L., 1855).
Ил. 76. Титульный лист изд. 1855 г.
Ил. 77. «Вострушка-Золянка».
Ил. 78. «История принцессы Ясной Звездочки и принца Милона».
Ил. 79. «Белль-Белль, или Удачливый рыцарь».
Ил. 80. «Принцесса Розетта».
Ил. 81. «Златовласка».
Ил. 82. «Золотая ветвь».
Ил. 83. «Голубь и Голубка».
Ил. 84. «Принцесса Карпийон».
Ил. 85. «Белая Кошка».
Ил. 86. «Желтый Карлик».
Ил. 87. «Прелестница и Персинет».
Ил. 88
Мессир Жорж де Скюдери (1601–1697), командующий крепости Нотр-Дам-дела-Гард, капитан.
Худ. Робер Нантёй (Nanteuil, Robert; 1623–1678).
Эстамп. 1666–1667. НБФ. ОЭ.
Ил. 89
Людовико Ариосто (1474–1533).
Худ. неизвестен.
Эстамп. XVI в. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: Как Метимнеем Арионом Греция, | Так Италия гордится Ариостом — | Именами они родственны. | По справедливости, кажется мне, | Пальму первенства Греция уступает Италии.
Ил. 90
Жан-Батист Поклен де Мольер (1622–1673).
Худ. Карл Штёрклин (Störcklin, Carl;?-?).
Эстамп. 1673. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: То Плавт, то Теренций, | А меж тем все — Мольер. | То-то был человек! Признаем же, что Франция, | Потеряв одного, потеряла всех троих.
Ил. 91
Николя Буало (1636–1711).
Худ. Симон-Франсуа Равене (Ravenet, Simon François; 1706–1774).
Эстамп. 1764. НБФ. ОЭ.
Ил. 92
Жан де Лафонтен (1621–1695).
Худ. Жерар Эделинк (Edelynck, Gérard; 1640–1707) и Гиацинт Риго (Rigaud, Hyacinthe; 1659–1695).
Эстамп. 1695. НБФ. ОЭ.
Ил. 93
Оноре д’Юрфе (1567–1625).
Худ. Криспен де Пасс (Passe, Crispin de; 1564?-1637).
Эстамп. 1618–1620. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: Кто захочет увидеть тебя облаченным | Во все украшения, коих ты достоин, | Пусть изобразит Милости, | Честь, Славу и Добродетель.
Ил. 94
Пьер Корнель (1606–1684).
Худ. Бернар Пикар (Picart, Bernard; 1673–1733).
Эстамп. 1716. НБФ. ОЭ.
Ил. 95
Венсан Вуапор (1597–1648).
Худ. Хендрик Козе (Causé, Henricus;?-?).
Эстамп. 1646–1649. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: Таким был Венсан Вуатюр, | Любимец всех лучших умов. | Но лучше, нежели из этой картины, | Ты увидишь это из его творений.
Ил. 96
Шарль Перро (1628–1703).
Худ. Николя-Эдуард Леруж (Lerouge, Nicolas-Édouard; 1808-?) по рис. Шарля Ле Брюна (Le Brun, Charles; 1619–1690).
Эстамп. Ок. 1847. Собрание Высшей национальной школы изящных искусств (Париж).
Ил. 97
Мадлен де Скюдери (1607–1701).
Худ. неизвестен.
Эстамп. 1700–1701. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: Мадлен де Скюдери, прозванная Сапфо, при жизни состояла в Падуанской академии Риковрати и скончалась в Париже 2 июня 1701 г.
В древности Греция, плодовитая на прекрасных духом, | Рукоплескала несравненной Сапфо; | Франция же произвела на свет чудо, | Делающее ей не меньшую честь, — и это Скюдери.
Ил. 98
Жан-Батист Люлли (1632–1687).
Худ. Анри Боннар (Bonnart, Henri; 1642?-1711).
Эстамп. 1687. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: Жан-Батист Люлли, королевский сюринтендант музыки.
За блистательные шедевры неслыханной прелести | В этом мире его принимали за самого бога Гармонии. | А какова слава! Он обязан ею своему гению. | Да разве мог он сделать меньше? Ведь он пел для Людовика!
Ил. 99
Иллюстрация к партитуре оперы Ж.-Б. Люлли «Персей» (1682).
Худ. неизвестен. 1682. НБФ. Отдел музыки.
________________
Подпись: Увертюра с партитурами для скрипок к опере «Персей», представленной в Париже господином Жан-Батистом Люлли, советником и королевским сюринтендантом музыки.
Ил. 100
Первая страница партитуры оперы Ж.-Б. Люлли «Армида» («Армида и Рено»; премьера: 1686).
Худ. Луи Депляс (Desplaces, Louis; 1682–1739). 1700.
НБФ. Отдел Музея оперы (далее — ОМО).
________________
Подзаголовок: Пролог. На сцене — дворцовый зал.
Ил. 101
Первая страница партитуры 4-го действия, IV акта, 1 сцены оперы Ж.-Б. Люлли «Армида».
Худ. Л. Депляс. 1700.
НБФ. ОМО.
Ил. 102
Людовик XIII в образе Геракла.
Худ. Абрахам Босс (Bosse, Abraham; 1604–1676).
Эстамп. 1635. НБФ. ОЭ.
________________
Надпись: «Миротворцу, Отцу отечества, защитнику союзников».
Подпись слева (на древнегреческом; контаминация отрывка из «Одиссеи» Гомера и собственного сочинения неизвестного автора XVII в.):
Привет тебе, владыка, сын Зевесов,
даруй [нрзб, возможно: добродетель] и счастье.
…ты славой до неба достигла;
Ты уподобиться можешь царю беспорочному; страха
Божия полный и многих людей повелитель могучий,
Правду творит он.
(Стк. 1–2 — пер. Н. В. Брагинской;
стк. 3–4 (Одиссея. XIX. 108–111) — пер. В А. Жуковского).
Подпись справа (на латыни):
Прекрасно самым славным между славных быть,
Отчизне помогать, несчастных миловать,
Не быть поспешным в гневе, избегать резни,
Дать мир земле и веку своему покой.
Вот к небу верный путь, вот доблесть высшая.
(Сенека. Октавия. 472–476. Пер. С. А. Ошерова)
Ил. 103
Блеск Короля-Солнца и его королевского дома, восхищающего все четыре стороны света.
(Людовик XIV в образе Аполлона.)
Худ. неизвестен. Эстамп. 1683. НБФ. ОЭ.
________________
Надпись слева внизу:
Блеск Короля-Солнца
И ЕГО КОРОЛЕВСКОГО ДОМА,
ВОСХИЩАЮЩЕГО ВСЕ ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ СВЕТА.
О звезды, сияющие над миром, | Людовик — чудо ослепительнее вас, | Ибо озаряет своим блеском сто разных стран света | И являет там свою несравненную славу.
Народы
Это Солнце своим мягким и всепроникающим сияньем | Оплодотворяет самые неблагодарные края, | И мы подтверждаем: нет у нас иной отрады, | Чем преклониться пред нашим счастьем — Людовиком.
Справа внизу — календарь на 1683 г. (с фазами Луны).
Ил. 104
Умиротворенный король (Людовик XIV) в кругу семьи.
Худ. Николя III де Лармессен (Larmessin, Nicolas III de; 1645?-1725).
Эстамп. 1699. НБФ. ОЭ.
________________
Слева направо:
— дальний ряд: герцог Анжуйский; Монсеньор (Архиепископ), герцог Беррийский; Людовик XIV; Месье, герцог Орлеанский; Мадам, герцогиня Орлеанская, принцесса Пфальцская; Мадам, герцогиня Шартрская; герцогиня Шартрская; герцог Шартрский;
— ближний ряд: герцог Бургундский; герцогиня Бургундская (Аделаида Савойская); король указывает на изображение, очевидно, герцога Лотарингского (маршала, а затем, с 1696 г., генерал-лейтенанта) на поле битвы;
— слева от изображения герцога Лотарингского — бюст Людовика XIII;
— справа от изображения герцога Лотарингского — бюст Генриха IV.
________________
Надпись на медальоне, в центре: «Августейший брак, заключенный Монсеньором, герцогом Лотарингским, и Мадемуазель, первой дочерью герцога Орлеанского, единственного брата Короля. В Фонтенбло, 2 октября 1698 г.»;
— на первом плане, на коленях перед аналоем: Мадемуазель и герцог Эльбёф, т. е. герцог Лотарингский;
— за ними, также на коленях перед аналоем: король (справа) и герцог Орлеанский.
________________
Под медальоном, в центре — календарь на 1699 г.
________________
Надписи в восьмиугольных рамках сверху вниз (слева направо):
— «Аудиенция, которую Король дал в Версале иностранным послам»;
— «В лагере Кудюн, близ Компьеня»;
— «Крещение Мадемуазель Шаре, которую держат на руках Монсеньор (Архиепископ) и Мадам, герцогиня Бургундская, в часовне в Сен-Клу»;
— «Великолепный обед, данный герцогине Бургундской маршалом Буфле-ром в лагере Кудюн, близ Компьеня».
________________
Надписи в четырехугольных рамках:
— слева: «Въезд ее Высочества герцогини Лотарингской в Нанси 11 ноября»;
— справа: «Въезд голландских послов в Париж 24 августа».
Ил. 105
Мария Аделаида Бургундская (1685–1712).
Худ. Этьен Дероше (Desrochers, Étienne Jehandier; 1668–1741).
Эстамп. 1711–1712. НБФ. ОЭ.
________________
Надпись в овале: Мария Аделаида Бургундская, старшая дочь монсеньора, герцога Савойского.
Подпись: «Благодаря выбору Людовика Великого | Выхожу я за юного победителя, | Который возводит меня в достоинство своего высокого рождения. | Мой брак погрузил Ад в раздор | И скоро подарит Франции принцев, | Которые очаруют всю Вселенную».
Ил. 106
Людовик, герцог Бургундский, и Мария Аделаида Савойская, герцогиня Бургундская.
Худ. неизвестен.
Эстамп. 1711–1712. НБФ. ОЭ.
Ил. 107
Мадам де Севинье (1626–1696).
Гравюра Альфреда Эмиля Руссо (Rousseau, Alfred Émile; 1831–1874) по рис. Р. Нантёя.
Эстамп. 1874. Собрание Высшей национальной школы изящных искусств (Париж).
Ил. 108
Месье (Филипп герцог Орлеанский; 1640–1701).
Худ. Жан Дье де Сен-Жан (Saint-Jean, Jean Dieu de; 1655?-1695).
Эстамп. XVII в. НБФ. ОЭ.
Ил. 109
Закон всех искусств. Аллегория.
Худ. Пьер Жиффар (Giffart, Pierre; 1643–1723).
Эстамп. 1672. НБФ. ОЭ.
________________
Текст под заголовком: «По возвращении Короля с увеселений в Виллер-Котре, Шантильи, Сен-Жермен, Вильнев де Сен-Луи, иначе — Версале, по случаю счастливого брака Месье и Мадам, принцессы Пфальцской, дочери курфюрста Пфальцского, коего (венчания. — М. Г.) таинство совершил в Метце Монсеньор Архиепископ Дамбрю<н> 16 ноября 1671 г.».
________________
Тексты к медальонам:
— слева: «Брак между Месье, единственным братом Короля, и Мадам, принцессой Пфальцской, дочерью курфюрста Пфальцского, который совершил Монсеньор Архиепископ Дамбрюн, Епископ означенного места. 16 ноября 1671 г.»;
— справа: «Приятный прием, оказанный Королем Месье и Мадам в их доме в Виллер-Котре по их возвращении со счастливой свадьбы 29 ноября 1671 г.».
________________
Внизу — «Новый календарь на високосный 1672 г.».
Ил. 110
Елизавета Шарлотта Пфальцская, герцогиня Орлеанская (1652–1722).
Худ. Николя IV де Лармессен (1684–1755).
Эстамп. 1670–1671. НБФ. ОЭ.
________________
Надпись в нижней части овала: «Ваял де Лармессен» (лат.).
Подпись: «Елизавета-Шарлотта Пфальцская, герцогиня Орлеанская, дочь Карла Людовика, принца Пфальца Рейнского, и Шарлотты, дочери Вильгельма, ландграфа Гессенского. Эта принцесса родилась 27 мая 1652 г. Она отреклась от своей ереси в Метце, под наставничеством архиепископа Дамбрюна, 15 ноября 1671 г. и на следующий день сочеталась браком с Его Королевским Высочеством Месье, Филиппом Французским, герцогом Орлеанским, единственным братом Короля» (фр.).
Ил. 111
Платье музыканта.
Эстамп. Худ. Н. II де Лармессен (1638?-1695?).
Втор. пол. XVII в. НБФ. Отдел музыки.
Ил. 112
Пастушка, играющая с собакой.
Худ. А. Босс. Эстамп. Ок. 1640. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: «Как приятно смотреть мне на этого пастушка с волынкой, | Чьи сладкие звуки очаровали бы даже короля; | Я млею, слушая их, а моя собачка смешит меня тем, | Что подпрыгивает в такт и пританцовывает вместе со мной».
Ил. 113
Пастушок, играющий на мюзете.
Худ. А. Босс. Эстамп. Ок. 1640. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: «Так люблю я Катэн, верную пастушку мою, | Что голос мой и звуки волынки | Разносятся повсюду — в деревнях и рощах лесных, | Чтобы восславить одну лишь ее».
Ил. 114
Пастушок с посохом.
Худ. А. Босс. Эстамп. Ок. 1640. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: «Вот идет Филлида — эх, счастливая встреча! | О, как был бы я рад заслужить ее благосклонность! | Куда вы так спешите, заносчивая пастушка? | Нельзя ли мне проводить вас?»
Ил. 115
Дама в сопровождении Амура беседует с молодым кавалером.
Худ. А. Босс, Эдуард Экман (Ecman, Édouard; 1600?-1675).
Эстамп. Ок. 1630–1632. НБФ. ОЭ.
Ил. 116
Молодой кавалер, играющий на лютне.
Худ. А. Босс. Эстамп. 1640. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: «Прекрасная Клориза, которой служу я, | Хочу спеть с вами вдвоем; | А если наши души не в согласье — | Тогда отчего же твой прелестный ротик | Произносит столь нежные речи, | Пока моя лютня плачет | От моего любовного недуга?»
Ил. 117
Танец на деревенской площади.
Худ. А. Босс. Эстамп. 1635. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: «Хоть глаза мои ослабли, помогают мне очки: | Вижу, как бодро танцуют кавалеры. | А все ж, когда я был молодой, | Живее отплясывал под погремушки.
Пастушка, чтобы исцелиться от ран, | Которые твой взор наносит моему сердцу, | Хочется мне начать танцевать | С бранля, будь он понежнее.
А тот господин из нашей деревни | Вроде уж слишком проворный — | Боюсь я, возьмет мою женушку за ручку | Да начнет ее поглаживать, на мою беду.
Дудеть в дуду дыханья не хватает, | Покуда нам не поднесут выпить эти ловкие плясуны; | А раз так — желаем им от всей души попрыгать в Луару | Да из нее и напиться».
Ил. 118
Театр Табарена.
Худ. А. Босс. Эстамп. 1618–1620. НБФ. ОЭ.
________________
Надпись: Мир — обман и шарлатан; | Пораскинем мозгами, как Табарен кидает вверх шляпу. | Характер у каждого свой, и всяк мнит себя лучше другого; | И уж точно хитрей и пронырливей; | Даруй нам, Боже, добрый годок!
Ил. 119
Зал в парижском госпитале.
Худ. А. Босс. Эстамп. 1635. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: Вы много преуспеете, | Дабы вкушать блаженство, | Если станете БЛАГОТВОРИТЬ | По примеру этих добрых отцов. | Вы видите, с каким жаром | Собственная их добродетель побуждает их | Помогать ежеминутно | Тем, кто подкошен болезнью. | Они подвизаются, | Как велит им их святое рвение | И во имя исцеления телесного | Помышляют о спасении души. | Подражая им в великодушных заботах, | Вам надлежит использовать ваши горести, | Дабы, подобно им, служить бедным | В скорбях человеческих.
Почтенная и добродетельная дама Франсуаза Робен, вдова покойного Жана Линтлера, при жизни бывшего королевским инженером при строительстве фонтанов.
От вашего покорного слуги Германа Вейера.
Ил. 120
Неразумные девы.
Худ. А. Босс. Эстамп. 1635. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: Взгляни, как эти неразумные девы | Праздно забавляются | Бестолковыми занятиями, | Ставшими их стихией. | Игры, Пиры, Музыка, | Танцы да любовные книжки | — Вот чем занят их ум, | Так они проводят дни и ночи. | О, как этим бессмысленным душам | Нравятся светские безделки! | Их слова и их мысли — | Об одной лишь суете. | Ложным светочем освещена их жизнь, | Они любят то, что им вредит, | И свет, их нахваливая, | Чарует их и разрушает.
Ил. 121
Повитуха показывает Королю монсеньора Дофина.
Худ. А. Босс. Эстамп. 1636–1638. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: «Сир, ваш дорогой Дофин | — Верный образ Вас самого. | Его блаженство будет столь же бесконечно, | Сколь бесподобно ваше».
Ил. 122
Радость Франции, представленная танцующими детьми.
Худ. А. Босс. Эстамп. 1636–1638. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: Дофин, только что родившийся, | Заставляет возрадоваться | Детей, которые увидят, как возрастает | Благо, коим они будут наслаждаться.
Ил. 123
Осень.
Худ. А. Босс. Эстамп. 1635. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: Чему удивляться, если, выпив молодого вина, еще бурливого и неразбавленного водою, душа хочет повеселиться и расслабиться.
Оно и видно по этим кавалерам: здесь, в беседках, виноградом увитых, они, едва не перепившись, бьют горшки и бутылки.
Одни раздают друг другу тумаки, у других — под глазом синяки; и все так разъярились, точно хотят изобразить Менад.
Совсем с ума сошли мужики — плоды осенние собирают, но ни к Вакху, ни к Помоне никакого почтения не проявляют.
Ил. 124
Весна.
Худ. А. Босс. Эстамп. 1635. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: Доволен разум и доволен взор: здесь перед ними во всей красе — изображение Весны, в коем Искусство соединилось с Природою.
Виден и фонтан с кристальными, всегда чистыми струями, а нежное дыхание зефира наполняет воздух ароматами.
Ухаживают за этими цветущими местами садовники — Амуры; они набирают полные корзины лилий, фиалок и роз.
Но даже и эти очаровательные сады не могут ни в чем сравниться с наслаждением двух этих любовников, чья любовь несравненна.
Ил. 125
Зима.
Худ. А. Босс. Эстамп. 1635. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: Спешат, спешат дети Масленицы приняться за работу изо всех сил.
То ли обычай, то ли игра влекут их на кухню; и, стоя у огня, они смеются. «Месье, — говорит одна молодка, — только посмейте ущипнуть меня за сосок — мигом брызну на вас горячим жиром!»
Но это поддразнивание совершенно невинное — и то сразу заканчивается: обычное зубоскальство перед постом.
Ил. 126
Лето.
Худ. А. Босс. Эстамп. 1635. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: Эти любовники, чей надменный дух может обуздать только Амур, вечером идут искупаться в реке.
Бог-победитель зажег пыл в их сердцах, и тайный горит в них огонь; оттого внутри — борение, изнуряющее их до самой глубины душ.
Но, хотя в кавалерах и дамах — одинаковый пыл, напрасно мнят они утихомирить его купанием в водах.
Не развеют ни купание, ни прогулки тех, кого Купидон поразил недугом чрезмерной любви.
Ил. 127
Слух.
Худ. А. Босс. Эстамп. 1635. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: Если внимательно вслушаться в бесконечную сладость | Всех музыкальных ладов в их разнообразных сочетаниях, | [Становится понято: ] | справедливо говорят, что Гармония | Движением небес беседует со Вселенною (фр.). «Мне нравится, как на лире играют чудесно | ловкими пальцами; песнями и чудесами меня восхищает Филомела, | но никакое стройное пение не доставит мне большего удовольствия, | чем то, что превозносит меня искусными хвалами» (лат.).
Ил. 128
Зрение.
Худ. А. Босс. Эстамп. 1635. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: Как разум — для души, как ясное солнце — для мира, | Так для тебя, дорогая моя воспитанница, — | Тот, кто желает различать притворства человеческого разума. | Пусть видит он, что это я — первоначало всех преступлений и всех добродетелей (лат.).
Ни на земле, ни на море ничто не сравнится | С прелестями и способностями, коими обладает Зрение, | Ведь глазами зрят столько красот, | А дневное светило есть Око мира (фр.).
Ил. 129
Осязание.
Худ. А. Босс. Эстамп. 1635. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: «Лишь я охватываю дары всех моих братьев, | Лишь я — вершина наслаждений. | Без меня погибла бы властвующая над землей Киферея | И природа стала бы | Тем, чем была прежде, — ничем» (лат.).
Хоть любовь и рождается от взгляда на красивый предмет, | Глаз все же не может удовлетворить влюбленного, | Ведь, тщась порадовать ту, кому он служит, | Преуспеет он в этом лишь прикосновением (фр.).
Ил. 130
Испанец и его слуга.
Худ. А. Босс, Питер ван Молль (Mol, Pieter van; 1599–1650).
Эстамп. 1640. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: ГОСПОДИН. Если признаки совершенного человека — красота, красноречие, изящество, славные подвиги, смелость, знатность и добродетель, тогда, скажу не хвалясь, счастье мое безоблачно, ибо среди дарований, какими меня наградил Господь, я не вижу ничего сравнимого со мною самим. | А голос мой под стать прекраснейшему виду — заставит вздрогнуть и китайского императора, и Великого Могола, и даже бога Марса; а уж Амур мне так подвластен, что стоит мне удостоить взглядом красавицу, как та сразу оказывается моей рабыней.
СЛУГА. Верьте речам его [, верьте], а если уразуметь ничего толком не можете, так пусть больше поведают те, кто знаком с ним.
Ил. 131
Человек лукавый.
Худ. А. Босс. Эстамп. 1650–1652. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: «Не вижу я иной причины, кроме прихоти гравера, в изображении мечтателя сего лукавцем хитрым. Ибо, если и вошло в него зло, — то не через тех ли опасных животных, что способны обманывать самых хитроумных зверей? Все, что в нем порочного, не есть его истинная сущность; если он и лукав, то лишь по одежке».
Ил. 132
Кондитер.
Худ. А. Босс. Эстамп. 1635. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: Здесь так аппетитно, | Есть самые разные лакомства, | И здесь продают, на радость вкусу, | Всевозможнейшие товары. | Здесь каждый работает в свой черед, | Каждый приложит руку к выпечке: | Один споро месит тесто, | Другой сажает его в печь. | Здесь обретают за деньги | Пирожные и тарталетки, | Пироги из слоеного теста, | Бисквиты и пампушки с кремом. | В этой лавочке разные вкусности | Соблазняют на свой манер | Девочек и мальчиков, | Кормилиц и служанок.
Ил. 133
Кровопускание.
Худ. А. Босс. Эстамп. 1635. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: «Ну же, сударь, смелее, делайте ваше дело, | Я буду держаться молодцом, трите, вяжите | И, конечно, отворите как следует. | Ага, этот кровавый бульон, кажется, вас удивляет. | О, как кровопускание проясняет ум | И освобождает кровь от вредного застоя. | О нежная рука, о приятный укол — | От одного воспоминания меня бросает в жар. | Какую легкость дарит мне выпускание малой толики крови! | Всем лекарствам предпочитаю я пускание крови. | Я чувствую, как силы возвращаются ко мне. | Если вы признаете, что это пошло мне на пользу, | Повторите снова — во мне достаточно храбрости, | Я выдержу столько раз, сколько вы пожелаете».
Ил. 134
Жена, которая побивает мужа.
Худ. А. Босс. Эстамп. 1635. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: Взгляните только на эту мартышку, | Чья похоть не уступает ее жестокости: | Вот она измывается над бедным дурнем, | Который ей муж разве что по названию. |
«Ну-ну, господин плут, — говорит она ему, — | Нечего тут кривить злобные рожи, | Ведь в руках моих — ключи, | Которыми я разобью вам голову». |
Этаким-то безобразием | В сяк был бы потрясен: | Сестра лупит брата, | А курица преследует петушка. |
Меж тем повесе-полюбовнику — одна забава: | Он давненько ждет-поджидает бабенку в ее постели, | Любуясь сей чудной ссорой, | И знай помалкивает, оценивая тумаки [, какими она потчует супруга].
Ил. 135
Новобрачная отходит ко сну.
Худ. А. Босс. Эстамп. 1635. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: Новобрачная. Не спешите так — | Я сама умею раздеваться, | И меня возмущает, что столько народу | Собирается, когда девушка ложится спать.
Женщины. Зачем все эти церемонии? | Вы думаете, она столь дурно воспитана, | Чтобы позволить мальчикам | Одевать ее в рубашку?
Невеста. Позвольте мне без дальних слов | Выставить отсюда вас всех, | Ведь я буду заниматься таким делом, | С которым я справлюсь без вашей помощи.
Ил. 136
Продавец крысиных ядов.
Худ. А. Босс. Эстамп. 1640. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: Идальго, под которым земля дрожала в боях, теперь ходит и покрикивает: «Продаю крысиную смерть!»
Ил. 137
Продавец ликеров.
Худ. А. Босс. Эстамп. 1640. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: «Тот, кто чувствует недомогание, у кого болит сердце, голова, зубы, — примите двойную порцию моего крепленого!»
Ил. 138
Трубочист.
Худ. А. Босс. Эстамп. 1640. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: «Наше дело — прочищать дымоходы сверху донизу; знайте же: нас не только дым, но и огонь не берет!»
Ил. 139
Слепец.
Худ. А. Босс. Эстамп. 1640. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: «Чего уж там — слепец я, несчастье мое — жить, ничего не видя. Каждый шаг мой мне самому опасен, а потому и завишу всецело от палки и моей собаки».
Ил. 140
Продавщица тесьмы.
Худ. Н. III де Лармессен.
Эстамп. 1695–1696. НБФ. ОЭ.
Ил. 141
Трактирщик.
Худ. Н. III де Лармессен.
Эстамп. 1695–1696. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: «Поработали всю недельку — оставьте дома горести и хлопоты, отправляйтесь-ка пошалить в соседнюю деревеньку, там вас ждет лишь одна забота — выпить да сплясать!»
Ил. 142
Детство.
Худ. Н. IV де Лармессен, Николя Ланкре (Lancret, Nicolas; 1690–1743).
Эстамп. 1730–1731. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: О забавы невинной поры, | Когда ни забот, ни хлопот, — | Вспоминая о вас, завидуешь детскому счастью! | Чем больше [с годами] узнаёшь, тем реже радуешься.
Ил. 143
Молодость.
Худ. Н. IV де Лармессен, Н. Ланкре.
Эстамп. 1730–1731. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: Думаете, юность жаждет явить | Свои дарования в жестоких битвах? | О нет — всякий хочет выглядеть победителем в глазах любовницы | И на том ристалище, где торжествует одна лить любовь.
Ил. 144
Старость.
Худ. Н. IV де Лармессен, Н. Ланкре.
Эстамп. 1730–1731. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: О старики! Вы мстите времени, пожравшему ваши дни, | Но сохранившему ясность ваших взоров и влечений. | Вам не хватает этих благ? | То, что вы пока еще видите, с лихвою возместит вам отсутствие беспокойных наслаждений!
Ил. 145
Зима.
Худ. Н. IV де Лармессен, Н. Ланкре.
Эстамп. 1723–1726. НБФ. ОЭ.
Ил. 146
Осень.
Худ. Н. IV де Лармессен, Н. Ланкре.
Эстамп. 1723–1726. НБФ. ОЭ.
Ил. 147
Лето.
Худ. Н. IV де Лармессен, Н. Ланкре.
Эстамп. 1723–1726. НБФ. ОЭ.
Ил. 148–171
Иллюстрации Жан-Батиста Кориолана (Coriolan, Jean-Baptiste; ок. 1590 или 1595–1649) к изданию (1642) сочинения Улиссе Альдрованди (Альдровандус, Улисс; 1522–1605) «История монстров» (Aldrovandi, Ulisse. Monstrorum historia cum Paralipomenis historiae omnium animalium. Bononiae, 1642).
Ил. 148. Титульная страница изд. 1642 г.
Ил. 149. Четырехглазый эфиоп.
Ил. 150. Циклоп.
Ил. 151. Человек с журавлиными шеей и клювом.
Ил. 152. Человек с вывернутыми ступнями.
Ил. 153. Сорокалетний отец и его двадцатилетний сын, тела которых сплошь поросли волосами.
Ил. 154. Мужчина-дикарь из племени циннаминов.
Ил. 155. Волосатая девушка двенадцати лет.
Ил. 156. Ее восьмилетняя сестра, тоже волосатая.
Ил. 157. Женщина из племени циннаминов.
Ил. 158. Мохнатый человек, передвигающийся на четвереньках.
Ил. 159. Кинокефал.
Ил. 160. Сатир.
Ил. 161. Другой сатир с трубой.
Ил. 162. Еще один сатир.
Ил. 163. Морское чудовище — человек-рыба.
Ил. 164. Морское чудовище — рыба-монах.
Ил. 165. Кентавр из Ликофен.
Ил. 166. Гиппопос, или Человек с конскими копытами.
Ил. 167. Другой кентавр.
Ил. 168. Гиганты американские.
Ил. 169. Великанша высиживает человеческого детеныша, родящегося из яйца.
Ил. 170. Знаменитый карлик герцога Шарля де Креки [1623–1687].
Ил. 171. Завязь плода.
Ил. 172
Амур верхом на кентавре.
Худ. неизвестен.
Акварель. 1680. НБФ. ОЭ.
Ил. 173
Чудовище, найденное в королевстве Санта-Фе, в стране Перу, в провинции Чили.
Худ. Л.-А. Бутелу (Boutelou, Louis-Alexandre; 1761-?).
Гравюра. 1784. НБФ. ОЭ.
________________
Подпись: Сие чудовище было найдено в королевстве Санта-Фе, в Перу, в провинции Чили, в озере Фагу а, что в землях Проспер Востон: по ночам оно выходило из воды и пожирало свиней, коров и быков с окрестных полей. Длиною оно в одиннадцать локтей; лицо немного напоминает человеческое; рот так же широк, как и лицо; с каждой стороны — по два зуба длиной с дюйм. На голове — пара рогов по двадцать четыре дюйма в длину, похожие на бычьи; власы свисают до самой земли, уши в четыре дюйма и подобны ушам осла. У него — два крыла, как у летучих мышей, ляжки и ноги — по двадцать пять дюймов в длину с ногтями по восемь дюймов; имеются два хвоста: один, гибкий, служит для захвата добычи, у другого же на конце — острие и предназначено оно для умерщвления; тело сплошь покрыто чешуею. Поймано было многими людьми, расставившими ему западни, в которые оно и угодило, а попав в сети, доставлено было живым к вице-королю, повелевшему кормить его каждодневно быком, волом и коровою, каковых ему и давали вместе с тремя или четырьмя свинками, до которых чудовище, говаривали, оказалось большим лакомкою. Вице-король разослал по всем дорогам земли своей приказы, чтобы драгоценная сия тварь ни в чем не нуждалась, и отправил его с обозом до самого залива Гондурас, откуда оно будет отправлено в Гавану, оттуда — в Бермуды, а потом — на Азорские острова; в три недели должно оно достичь Кадиса, из которого мало-помалу довезут его до Королевской Семьи. Полагают, что поймали самку, дабы продолжила род свой уже в Европе; еще полагают, будто это одна из тех Гарпий, что доселе считались животными из басен.
Ил. 174
Титульная страница издания перевода поэмы Овидия «Метаморфозы» (1702).
________________
Подзаголовок: По-латыни и по-французски, в XV книгах, с новыми историческими, моральными и политическими пояснениями всех мифов и историй. В переводе господина Пьера Дю-Риера Парижского, члена Французской Академии. Новое издание, украшенное прекраснейшими иллюстрациями. Худ. Анри Аббе [Abbé, Henry; XVII в.] и Абрахам ван Дьепенбек [Diepenbeek, Abrahan van; 1596–1675]. Амстердам: П. & Ж. Блаэв, Янссон в Восберге, Боом & Готальс, 1702.
Ил. 175
Титульная страница издания перевода поэмы Овидия «Метаморфозы» (1619).
________________
Заглавие и подзаголовок: «Метаморфозы» Овидия, переложенные в прозе по-французски, во многих местах исправленные и украшенные иллюстрациями к каждой истории и 15 комментариями, содержащими моральные и исторические объяснения. Помимо «Суда Париса», дополнены еще и «Метаморфозой пчел» — переводом из Вергилия, а также несколькими «Письмами [с Понта]» Овидия и другими разнообразными трактатами. Худ. Ж. Матьё [Mathieu, Jean; 1590–1672], И. Брио [Briot, Isаас; 1585–1670]. Париж: у вдовы Ланжелле, возле первой колонны Дворцовой площади, с королевской привилегией, 1619.
Ил. 176
Фронтиспис с портретом автора, римского кавалера, из издания поэмы Овидия «Метаморфозы» (1619).
________________
Подпись: Вот в каком обличье Аполлон объявился в Риме — тело он заимствовал у Овидия.
Ил. 177
Страница из изд. «Календарь и правила поведения пастухов» ([Illustrations de Compost et Kalendrier des bergers]. P.; Genève: Jean Belot, 1457).
Автор и худ. неизвестны. Гравюра на дереве.
________________
Подпись: Пастух обучает других пастухов основам «Календаря…».
Ил. 178
Колесо Зодиака.
Страница из изд. «Календарь и правила поведения пастухов».
Гравюра на дереве.
Ил. 179–180
Иллюстрации А. Майра (Mair, Alexander; 1559–1620?) к атласу звездного неба «Уранометрия» (1603), составленному немецким астрономом и юристом Иоганном Байером (1572–1625) (Bayer, Johannas Rhainanus. Uranometria, omnium asterismorum continens schemata. Auguste Vindelicorum: C. Mangus, 1603).
Ил. 179. Созвездие Змей.
Ил. 180. Созвездие Андромеда.
Ил. 181
Мадемуазель Салле танцует.
Худ. Н. IV де Лармессен, Н. Ланкре.
Эстамп. Сер. XVIII в. НБФ. Коллекция Мишеля Эннена.
________________
Подпись: «Я, мастерица искусства, ведомого самой Гармонией, | Изображаю страсти, выражаю радость, | Сочетаю отточенность движений с пламенным талантом, | Не оскорбляя прелестной Скромности, | От которой прекрасные дамы становятся еще краше».
Ил. 182
Темница Амадиса. Декорация к опере Ж.-Б. Люлли «Амадис».
Худ. неизвестен. 1684. НБФ. ОМО.
Ил. 183
Обложка рукописной партитуры оперы Ж.-Б. Люлли «Изида» (1677). 1700.
Худ. неизвестен. НБФ. Отдел технической обработки книг.
________________
Подзаголовок: Трагедия, положенная на музыку господином де Люлли, конюшим, советником, секретарем Короля и королевского дома, Французской Короны и ее финансов, сюринтендантом музыки Его величества. Продается у сьера Фуко, торговца, улица Сент-Оноре, под вывеской «Ля Регль д’ор», возле площади о-Ша.
Ил. 184
Фронтиспис с портретом автора к изданию сочинения мадам д’Онуа «Рассказ о путешествии в Испанию» (Der Gräfin D’Aunoy Beschreibung ihrer Reise nach Spanien erster Theil mit Figuren. Leipzig: Fritsch, 1696).
Худ. неизвестен.
Ил. 185–186
Простак и простушка.
Макет театральных костюмов.
Худ. Луи-Рене Боке (Louis-Réné Boquet; 1717–1814).
Рисунок. XVIII в. НБФ. ОМО.
Ил. 187
Макет костюма для неизвестного спектакля.
Худ. Л.-Р. Боке. Рисунок. 1754. НБФ. ОМО.
Ил. 188
Макет костюма пажа.
Худ. Л.-Р. Боке. Рисунок. XVIII в. НБФ. ОМО.
Ил. 189
Макет костюма для неизвестного спектакля.
Худ. Л.-Р. Боке. Рисунок. XVIII в. НБФ. ОМО.
Ил. 190
Макет костюма для неизвестного спектакля.
Худ. Л.-Р. Боке. Рисунок. XVIII в. НБФ. ОМО.
Ил. 191
Макет костюма для неизвестного спектакля.
Худ. Л.-Р. Боке. Рисунок. XVIII в. НБФ. ОМО.
Ил. 192
Танцующая крестьянка. Макет театрального костюма.
Худ. Л.-Р. Боке. Рисунок. XVIII в. НБФ. ОМО.
Ил. 193
Пастух. Макет костюма к пасторали «Йемена и Исмений, или Празднество Юпитера».
Худ. Л.-Р. Боке. Рисунок. XVIII в. НБФ. ОМО.
Ил. 194
Галантная пастушка. Макет театрального костюма.
Худ. неизвестен. Рисунок. XVIII в. НБФ. ОМО.
Ил. 195
Африканец и африканка. Макет театральных костюмов.
Худ. Л.-Р. Боке. Рисунок. XVIII в. НБФ. ОМО.
Ил. 196
Пастушка и знатный пастух. Макет театральных костюмов.
Худ. Л.-Р. Боке. Рисунок. XVIII в. НБФ. ОМО.
Ил. 197
Испанка и испанец. Макет театральных костюмов.
Худ. Л.-Р. Боке. Рисунок. XVIII в. НБФ. ОМО.
Ил. 198–199
Макеты костюмов к неизвестным спектаклям.
Худ. Л.-Р. Боке. Рисунок. XVIII в. НБФ. ОМО.
Ил. 200–201
Бретонка и паж. Макет театральных костюмов к водевилю-феерии «Лесная лань» (1845) братьев Коньяр, Теодора (Cogniard, Théodore; 1806–1872) и Жан-Ипполита (Cogniard, Jean-Hippolyte; 1807–1882).
Рисунок. 1845. НБФ. ОМО.
Ил. 202
Селадон бросается в Линьон.
Фламандский гобелен. XVII в.
Дворец Басти д’Юрфе (регион Форе).
Ил. 203
Бассейн фей возле замка Гайяр, принадлежащего великому герцогу Нормандскому.
Худ. неизвестен. Эстамп. 1750. НБФ. ОЭ.
Ил. 204
Жюли д’Анжен в костюме Астреи.
Худ. Клод Дерюэ (Deruet, Claude; 1588–1666). Ок. 1619. Музей изящных искусств (Страсбург).
Ил. 205
Афиша спектакля Театра де Фюнамбюль (Бульвар дю Тампль, 54) «Фея Карабос».
Худ. А. Ван Гелейн (Van Geleyn, А.; XIX–XX вв.).
Пантомима-арлекинада в 12 картинах. В роли Пьеро — М. Кальпестри.
Сезон 1858 г. НБФ.
Приложение — Буклет
(Дополнительные иллюстрации)
Ил. 1. «Синяя птица».
Передняя сторонка обложки изд.: Oiseau bleu / Par Mme d’Aulnoy. P.: Librairie de L’Hachette et Cie, 1869.
Худ. неизвестен.
Ил. 2. «Синяя птица».
Королева приняла гостя, короля Премила, с великими почестями.
(Художник неизвестен. 1869).
Ил. 3. «Синяя птица».
День уже занимался, а Синяя птица и принцесса не могли наговориться.
(Художник неизвестен. 1869).
Ил. 4. «Синяя птица».
Волшебник протяжно протрубил в рог, как было у них с королем условлено…
(Художник неизвестен. 1869).
Ил. 5. «Синяя птица».
«Вот вам, Флорина, четыре яичка, — сказала фея, — разбейте их, когда в том будет надобность, и внутри вы найдете помощь».
(Художник неизвестен. 1869).
Ил. 6. «Синяя птица».
Из разбитого Флориной яичка появилась карета из блестящей стали, изукрашенная золотом и запряженная шестью мышами…
(Художник неизвестен. 1869).
Ил. 7. «Синяя птица».
«Ах, принцесса, — сказал король в ответ, — как жестоко поступили вы с влюбленным, который вас обожал!»
(Художник неизвестен. 1869).
Ил. 8. «Белая Кошка».
Передняя сторонка обложки изд.: The White Cat. N.Y.: McLoughlin Bros., 1877.
Худ. неизвестен.
Ил. 9. «Белая Кошка».
Жил однажды король, и было у него три сына, красивых и храбрых…
(Худ. неизвестен. 1877).
Ил. 10. «Белая Кошка».
В мире не бывало еще такой увлекательной охоты…
(Худ. неизвестен. 1877).
Ил. 11. «Белая Кошка».
Принцы развернули привезенные ими ткани…
(Худ. неизвестен. 1877).
Ил. 12. «Белая Кошка».
Король не знал, какую из собачек выбрать…
(Худ. неизвестен. 1877).
Ил. 13. «Белая Кошка».
«Я хочу снарядить тебя в дорогу, — добавила Кошка, — так, как подобает…»
(Худ. неизвестен. 1877).
Ил. 14. «Белая Кошка».
Кошка сделала королю глубокий реверанс…
(Худ. неизвестен. 1877).
Ил. 15. «Златовласка».
Передняя сторонка обложки изд.: La Belle aux cheveux d’or. P.: Librairie de L’Hachette et Cie.
Худ. неизвестен. XIX в.
Ил. 16. «Златовласка».
Король остановился у той башни и стал слушать…
(Худ. неизвестен. XIX в.).
Ил. 17. «Златовласка».
Куманек карп говорит: «Добронрав, я благодарю вас…»
(Худ. неизвестен. XIX в.).
Ил.18. «Златовласка».
Добронрав отвесил принцессе поклон…
(Худ. неизвестен. XIX в.).
Ил.19. «Златовласка».
Добронрав уворачивался и колол великана мечом…
(Худ. неизвестен. XIX в.).
Ил.20. «Златовласка».
Один из драконов изрыгал из глаз и пасти огонь…
(Худ. неизвестен. XIX в.).
Ил. 21. «Златовласка».
«Госпожа, — молвил Добронрав, — ваш враг мертв».
(Худ. неизвестен. XIX в.).
Ил. 22. «Златовласка».
Задняя сторонка обложки изд. сказки «Златовласка» в серии «Журнал для маленьких детей».
(Худ. неизвестен. XIX в.).
Ил. 23. «Синяя птица».
Передняя сторонка обложки изд.: Oiseau bleu. Epinal: Pellerin et Cie.
Худ. неизвестен. XIX в.
Ил. 24. «Синяя птица».
Дочка короля могла бы сойти за восьмое чудо света…
(Худ. неизвестен. XIX в.).
Ил. 25. «Синяя птица».
Флорина покраснела и стала так хороша…
(Худ. неизвестен. XIX в.).
Ил. 26. «Синяя птица».
Не успела принцесса вернуться в опочивальню…
(Худ. неизвестен. XIX в.).
Ил. 27. «Синяя птица».
Тут король сорвал со своего пальца кольцо…
(Худ. неизвестен. XIX в.).
Ил. 28. «Синяя птица».
Король Премил и вправду прилетел за невестой…
(Худ. неизвестен. XIX в.).
Ил. 29. «Синяя птица».
«Она не станет твоей женой!» — вскричала в гневе Суссио.
(Худ. неизвестен. XIX в.).
Ил. 30. «Синяя птица».
Краплёна все старалась, чтобы луч солнца пал на кольцо короля и поиграл в нем…
(Худ. неизвестен. XIX в.).
Ил. 31. «Синяя птица».
День уже занимался, а Синяя птица и принцесса не могли наговориться…
(Худ. неизвестен. XIX в.).
Ил. 32. «Синяя птица».
Волшебник вместе с королем-Синей птицей ругал и принцессу, и всех женщин на свете…
(Худ. неизвестен. XIX в.).
Ил. 33. «Синяя птица».
«Как! — причитала принцесса. — Неужто не беседовать мне больше с моей птицей?..»
(Худ. неизвестен. XIX в.).
Ил. 34. «Синяя птица».
Три взмаха волшебной палочки, и король снова стал прекрасным…
(Худ. неизвестен. XIX в.).
Ил. 35. «Синяя птица».
Старушка выпрямилась, похорошела, помолодела…
(Худ. неизвестен. XIX в.).
Ил. 36. «Синяя птица».
Флорина стала спрашивать, где найти короля…
(Худ. неизвестен. XIX в.).
Ил. 37. «Синяя птица».
«Провалиться мне на этом месте, что за чудо-пирог!»
(Худ. неизвестен. XIX в.).
Ил. 38. «Синяя птица».
Король вошел, любовь возобладала над обидой…
(Худ. неизвестен. XIX в.).
Ил. 39. «Синяя птица».
Только хотела уродина рот открыть, чтобы обругать Флорину…
(Худ. неизвестен. XIX в.).
Ил. 40. «Синяя птица».
Задняя сторонка обложки изд.: Oiseau bleu. Epinal: Pellerin et Cie.
(Худ. неизвестен. XIX в.).
Ил. 41. «АЛФАВИТ по сказкам фей. Златовласка».
Передняя сторонка обложки изд.: Alphabet des contes des fées. La Belle aux cheveux d’or. Epinal, 1866.
Худ. неизвестен.
Ил. 42. «Златовласка».
Решил молодой король отправить к Златовласке гонца, чтобы предложить сыграть свадьбу…
(Худ. неизвестен. 1866).
Ил. 43. «Златовласка».
Тут заметил Добронрав в траве жирного карпа. Взял он беднягу и пустил обратно в речку.
(Худ. неизвестен. 1866).
Ил. 44. «Златовласка».
Видит Добронрав попавшего в беду ворона — бедную птицу загнал в ловушку здоровенный орел…
(Худ. неизвестен. 1866).
Ил. 45. «АЛФАВИТ по [сказке] Златовласка».
Передняя сторонка обложки изд.: ABC de La Belle aux cheveux d’or. Epinal: Ch. Pinot, 1873.
Худ. неизвестен.
Ил. 46–48
Ил. 46–48. Страницы из букваря для самых маленьких (изд. 1873), предваряющие пересказ («история в картинках», как и ил. 42–44) сказки «Златовласка».
Ил. 46. Страус обитает в пустынях Африки…
Худ. неизвестен. 1873.
Ил. 47. Жюли учится играть на пианино…
Худ. неизвестен. 1873.
Ил. 48. Добрый пес Медор катит повозку с куклой…
Худ. неизвестен. 1873.
Ил. 49. «Избранные сказки мадам д’Онуа».
Передняя сторонка обложки изд.: Contes choisis de Madame d’Aulnoy illustrés de Lithographies par J.-C. Demerville [Demerville, Julien Caboche] et C. Delhomme [Delhomme, Charles] et des dessins sur bois par Gavarni [Gavarni, Paul; 1804–1866], Geniole [Geniole, Alfred Andre; 1813–1861] et Demerville. P. 1847.
Ил. 50. Титульная страница изд. 1847 г.
Ил. 51. Фронтиспис изд. 1847 г.
Худ. Ж.-К. Демервиль.
Ил. 52. «Златовласка».
Начало сказки (Париж, 1847).
Ил. 53. «Златовласка».
Жила-была королевская дочь, краше которой не было никого на свете…
(Худ. Ж.-К. Демервиль, Ш. Дельом. Сер. XIX в.).
Ил. 54. «Златовласка».
Пришел он прямо во дворец, показал склянку Златовласке, а той и сказать-то нечего…
(Худ. Ж.-К. Демервиль, Ш. Дельом. Сер. XIX в.).
Ил. 55. «Золотая Ветвь».
«Ступай же, принц, — сказала фея, трижды коснувшись его Золотой Ветвью, — ты станешь прекрасным и совершенным…»
(Худ. Ж.-К. Демервиль, Ш. Дельом. Сер. XIX в.).
Ил. 56. «Золотая Ветвь».
«Любезная пастушка, — сказал принц Идеал, — что за счастливый случай привел вас сюда?».
(Худ. Ж.-К. Демервиль, Ш. Дельом. Сер. XIX в.).
Ил. 57. «Золотая Ветвь».
Король приказал запереть сына в башне, которая двести лет как пустовала…
(Худ. П. Гаварни, А.-А. Женьоль, Ж.-К. Демервиль. Сер. XIX в.).
Ил. 58. «Золотая Ветвь».
Принцесса Кочерыжица все еще надеялась, что отец во главе своей огромной армии освободит ее из заточения.
(Худ. П. Гаварни, А.-А. Женьоль, Ж.-К. Демервиль. Сер. XIX в.).
Ил. 59. «Мышка-Добрушка».
Прослышав о безмятежном счастье короля-Радости, злой король задумал собрать несметное войско…
(Худ. П. Гаварни, А.-А. Женьоль, Ж.-К. Демервиль. Сер. XIX в.).
Ил. 60. «Мышка-Добрушка».
Бедная королева упала в обморок. Ее отнесли в покои, и все придворные дамы зарыдали.
(Худ. П. Гаварни, А.-А. Женьоль, Ж.-К. Демервиль. Сер. XIX в.).
Ил. 61. «Мышка-Добрушка».
Однажды королева стояла у окошка… Вдруг внизу она заметила старушку с клюкой…
(Худ. П. Гаварни, А.-А. Женьоль, Ж.-К. Демервиль. Сер. XIX в.).
Ил. 62. «Мышка-Добрушка».
Сидя за прялкой, королева заметила, как из дырочки в полу выскочила хорошенькая крохотная мышка.
(Худ. П. Гаварни, А.-А. Женьоль, Ж.-К. Демервиль. Сер. XIX в.).
Ил. 63. «Барашек».
С каким же удивлением увидела Чудо-Грёза на просторной поляне огромного белоснежного барана…
(Худ. Ж.-К. Демервиль, Ш. Дельом. Сер. XIX в.).
Ил. 64. «Барашек».
Не успела принцесса произнести слова хвалы Барану, как перед нею явился сонм прелестнейших нимф.
(Худ. П. Гаварни, А.-А. Женьоль, Ж.-К. Демервиль. Сер. XIX в.).
Ил. 65. «Барашек».
«Поэтому-то, кстати, я, — продолжал Баран, — иной раз и углублялся в лес, где видел вас на охоте, прекрасная принцесса, преследующей легконогого оленя…»
(Худ. П. Гаварни, А.-А. Женьоль, Ж.-К. Демервиль. Сер. XIX в.).
Ил. 66. «Вострушка-Золянка».
Вострушка трижды поклонилась фее…
(Худ. Ж.-К. Демервиль, Ш. Дельом. Сер. XIX в.).
Ил. 67. «Вострушка-Золянка».
Золянка вошла в опочивальню умирающего принца.
(Худ. Ж.-К. Демервиль, Ш. Дельом. Сер. XIX в.).
Ил. 68. «Принцесса Розетта».
«Мы прибыли из дальних краев преподнести вам, сир, сей прекрасный портрет».
(Худ. Ж.-К. Демервиль, Ш. Дельом. Сер. XIX в.).
Ил. 69. «Синяя птица».
Флорина испугалась необычной птицы, но красота оперения и ее нежные слова успокоили девушку.
(Худ. Ж.-К. Демервиль, Ш. Дельом. Сер. XIX в.).
Ил. 70. «Синяя птица».
«Вот вам, Флорина, четыре яичка, — сказала фея, — разбейте их, когда в том будет надобность, и внутри вы найдете помощь».
(Худ. Ж.-К. Демервиль, Ш. Дельом. Сер. XIX в.).
Ил. 71. «Белая Кошка».
Жил однажды король, и было у него три сына, красивых и храбрых…
(Худ. Ж.-К. Демервиль, Ш. Дельом. Сер. XIX в.).
Ил. 72. «Белая Кошка».
Король чувствовал приближение старости…
(Худ. П. Гаварни, А.-А. Женьоль, Ж.-К. Демервиль. Сер. XIX в.).
Ил. 73. «Белая Кошка».
Ворота были из чистого золота и украшены карбункулами…
(Худ. П. Гаварни, А.-А. Женьоль, Ж.-К. Демервиль. Сер. XIX в.).
Ил. 74. «Белая Кошка».
Королева приказала разбить возле замка роскошные шатры и полтора месяца прожила в них вместе со своей свитой…
(Худ. П. Гаварни, А.-А. Женьоль, Ж.-К. Демервиль. Сер. XIX в.).
Ил. 75. Фантазия на тему сказки «Лесная лань».
Худ. Фредерик Клеман (Clement, Frédéric).
Из изд.: Oiseau bleu et autres contes de madame d’Aulnoy. P., 1991.
Ил. 76. Флорина и Синяя птица.
Фантазия на тему сказки «Синяя птица»
Худ. Фр. Клеман. 1991.
Ил. 77. Принцесса Желанная.
Фантазия на тему сказки «Лесная лань».
Худ. Фр. Клеман. 1991.
Ил. 78. Фантазия на тему сказки «Лесная лань».
Худ. Фр. Клеман. 1991.
Ил. 79. «Белая Кошка».
Передняя сторонка переплета.
Худ. Джейнет и Энн Грэхэм Джонстон.
Ил. 80. «Белая Кошка».
Титульный лист изд. 1972.
Худ. Дж. и Э.-Гр. Джонстон.
Ил. 81. «Белая Кошка».
Вдруг все коты принялись мяукать на разные голоса и коготками перебирать струны гитар…
(Худ. Дж. и Э.-Гр. Джонстон. 1972).
Ил. 82. «Белая Кошка».
«Королева и ваши придворные коты, — сказал принц Белой Кошке, — куда остроумнее и учтивее наших…»
(Худ. Дж. и Э.-Гр. Джонстон. 1972).
Ил. 83. «Сказки фей».
Передняя сторонка переплета изд.:
Madame D’Aulnoy. Contes de Fées / Illustrations de Simone d’Avène. P., 1938.
Ил. 84. «Белая Кошка».
Худ. Паулин Эллисон Pauline Ellison).
Ил. 85–87. «Белая Кошка».
Худ. Джорджина Макбейн (Georgina McBain).
Ил. 88. «Сказки д’Онуа».
Передняя сторонка переплета изд.: D’Aulnoy’s Fairy Tales / Illustrated by Gustaf Tenggren [1896–1970].
Philadelphia: David McKay Company, 1923.
Худ. Густаф Тенггрен.
Ил. 89. «Прелестница и Персинет».
Из бочки высыпалась куча пистолей…
(Худ. Густаф Тенггрен. 1923).
Ил. 90. «Прелестница и Персинет».
Из короба выскочило множество маленьких человечков…
(Худ. Густаф Тенггрен. 1923).
Ил. 91. «Златовласка».
Взошел Добронрав на вершину горы и присел отдохнуть немного…
(Худ. Густаф Тенггрен. 1923).
Ил. 92. «Принцесса Веснянка».
Веснянка увидела, как злой Фанфаринет уже занес руку…
(Худ. Густаф Тенггрен. 1923).
Ил. 93. «Апельсиновое дерево».
Принцесса сшила себе наряд из тигриной шкуры…
(Худ. Густаф Тенггрен. 1923).
Ил. 94. «Желтый карлик».
Королева услышала: «Хруп, хруп!»…
(Худ. Густаф Тенггрен. 1923).
Ил. 95. «Вострушка-Золянка».
Людоед-великан прогремел: «Что ж, разогрелась ли печь?»
(Худ. Густаф Тенггрен. 1923).
Ил. 96. «Лесная лань».
Уж этих эфиопок до любовных дел только допусти…
(Худ. Густаф Тенггрен. 1923).
Ил. 97. «Белая Кошка. Старая французская сказка».
Передняя сторонка обложки изд.: The White Cat. An old French fairy tale / Retold by Robert D. San Souci; illustrated by Gennady Spirin [род. 1948]. N.Y.: Orchard Books, 1990.
Худ. Геннадий Спирин.
Ил. 98. «Белая Кошка».
Малютка была окутана покрывалом из черного крепа.
(Худ. Геннадий Спирин. 1990).
Ил. 99. «Белая Кошка».
В мире не бывало еще такой увлекательной охоты…
(Худ. Геннадий Спирин. 1990).
Ил. 100. «Белая Кошка».
Принц сел верхом на коня и поспешно пустился в путь…
(Худ. Геннадий Спирин. 1990).
Ил. 101. «Белая Кошка».
Принц хотел одного — мурлыкать с Белой Кошкой…
(Худ. Геннадий Спирин. 1990).
Ил. 102. «Белая Кошка».
«Я, — возразила Белая Кошка, — приказала устроить морское сражение между кошками и злыми окрестными крысами».
(Худ. Геннадий Спирин. 1990).
Ил. 103. «Белая Кошка».
«Государь, — отвечала принцесса, — я явилась сюда не затем, чтобы отнять у вас королевство, которым вы правите так достойно».
(Худ. Геннадий Спирин. 1990).
Ил. 104. «Белая Кошка».
Два старших принца везли в корзиночках двух собачек…
(Худ. Геннадий Спирин. 1990).
Ил. 105. «Белая Кошка».
Орлица в отчаянии накинулась на похитителей…
(Худ. Геннадий Спирин. 1990).
Ил. 106. «Желтый Карлик».
Возле гнусного Карлика выросли два индюка размером с двух великанов…
(Худ. Геннадий Спирин. 1990).
Ил. 107. Мари-Катрин д’Онуа
Мари-Катрин д’Онуа, урожденная Лё Жюмель де Барнвиль.
Бюст. Скульптор Кристиан Шампань (Champagne, Christian). 2004.
Сад Личностей. Онфлёр (Нижняя Нормандия, Франция).
Комментарии
1
Примечание от верстальщика: файл дополнен иллюстрациями, не включенными в данное издание; в структуре буклет-приложение обозначен как «Приложение — Буклет (Дополнительные иллюстрации)».
По тесту даны ссылки на иллюстрации, включенные в издание (см. «Список иллюстраций»).
(обратно)
2
Въ изданiи б: «купидону».
(обратно)
3
Тамъ же: «зефиръ».
(обратно)
4
Тамъ же: «кфартецiпи».
(обратно)
5
Тамъ же: «скорбуна».
(обратно)
6
Тамъ же, вместо «малинкихъ» стоить «малчековъ».
(обратно)
7
Тамъ же: «меня зовутъ».
(обратно)
8
Тамъ же: «вырезалъ сiи слова…»
(обратно)
9
Тамъ же: «оноb гродъ».
(обратно)
10
Речь идет об основанной в 1599 году знатным венецианским аббатом Федерико Корнаро «Академии приютившихся (под оливой)» (Ricoverare — ит. давать приют), принимавшей в свои ряды и прославленных талантливых женщин.
(обратно)
11
Данная сатира дважды переводилась на русский язык — в 1821 г. С. Аксаковым (см.: Буало 1821) и восемь лет спустя Н. Телепневым (см.: Буало 1829). Однако ни в одном из этих переводов не сохранены строки о том, как молодая жена сначала позволяет себе поведение в духе героинь Мадлен де Скюдери, а затем превращается в модного критика. Ср. в оригинале:
D’abord tu la verras, ainsi que dans Clélie,
Recevant ses amants sous le doux nom d’amis,
S’en tenir avec eux aux petits soins permis:
Puis, bientôt en grande eau sur le fleuve du tendre,
Naviguer à souhait, tout dire, et tout entendre.
Et ne présume pas que Vénus, ou Satan
Souffre qu’elle en demeure aux termes du roman.
(обратно)
12
Подробно о тексте Бюсси-Рабютена см. в монографии Н. Пахсарьян (см.: Пахсарьян 1996). Сам текст недавно опубликован на русском языке (см.: Бюсси-Рабютен 2010).
(обратно)
13
Ср. в оригинале:
La belle antiquité fut toujours vénérable;
Mais je ne crus jamais qu’elle fût adorable.
Je vois les anciens, sans plier les genoux;
Ils sont grands, il est vrai, mais hommes comme nous;
Et l’on peut comparer, sans craindre d’Être injuste,
Le siècle de Louis au beau siecle d’Auguste.
(обратно)
14
Au mauvais gout public la belle y fait la guerre:
Plaint Pradon opprimé des sifflets du parterre:
Rit des vains amateurs du grec et du latin;
Dans la balance met Aristote et Cotin;
Puis, d’une main encor plus fine et plus habile
Pèse sans passion Chapelain et Virgile;
Remarque en ce dernier beaucoup de pauvretés;
Mais pourtant confessant qu’il a quelques beautús,
Ne trouve en Chapelain, quoi qu’ait dit la satire,
Autre défaut, sinon, qu’on ne le sauroit lire;
Et pour faire goûter son livre à l’univers,
Croit qu’il faudrait en prose у mettre tous les vers.
(обратно)
15
В файле — полужирный — прим. верст.
(обратно)
16
При составлении данного материала автор использовал издание «Воспоминаний о путешествии в Испанию» (см.: Aulnoy 2005).
(обратно)
17
Сост. М. А. Гистер.
(обратно)
Примечания
Сост. М. А. Гистер при участии Е. Ю. Шибановой
1
В оригинале первые четыре тома сказок Мари-Катрин д’Онуа носят заглавие «Contes des Fées», дословно — «Сказки фей». Подобное жанровое определение (правда, несколько видоизмененное — «Contes de Fées») вошло в обиход применителыю к волшебным сказкам на рубеже XVII–XVIII вв. Впервые оно встречается именно у мадам д’Онуа (см.: Barchilon 1998).
(обратно)
2
Мадам… — посвящение относится ко всему сборнику сказок. Оно обращено к Елизавете-Шарлотте Баварской (1652–1722), принцессе Палатинской (т. е. Пфальцской), которая в 1671 г. стала супругой Филиппа I Орлеанского, младшего брата Людовика XIV и обладателя титулов «Единственный брат короля» и «Месье».
(обратно)
3
…я не попрошу ни шапки-невидимки или роз Принца-Духа, ни юности Флорины, ни красоты Прелестницы… — Автор называет героев своих собственных произведений из первого тома «Сказок фей»: Принц-Дух — герой одноименной сказки, носящий имя Леандр; Флорина — героиня сказки «Синяя птица»; Прелестница — героиня сказки «Прелестница и Персинет», которой открывается том.
(обратно)
4
Тип сказки, хотя и не без некоторых оговорок: АТ 425 В (Амур и Психея). В творчестве мадам д’Онуа это первая обработка ее излюбленной версии распространенного сказочного сюжета, к которому она будет обращаться неоднократно (см. с. 858–861 наст. изд.). В том же, 1697 г., что и «Сказки фей» мадам д’Онуа, выходит сборник «Сказки сказок» (Les contes des contes) мадемуазель де Ла Форс (1654–1724), а в нем — сказка «Percinette» (в переводе с французского «петрушечка»), где героиня носит женский вариант того же имени, что и герой данной сказки. Перевод этой сказки, под заглавием «Персинетта», см. в Дополнениях наст. изд. Тип сказки де Ла Форс — 310, т. е. о девушке в башне. Героини сказок этого типа часто носят «растительные» имена («Петросинелла», что значит «петрушечка» в сборнике Базиле, «Рапунцель», что значит «репчатый колокольчик» в собрании братьев Гримм). Кроме сходства имен, связи между персонажами разных сказок нет; возможно, д’Онуа таким образом намекает на «подземное» происхождение принца.
Зато Персинет, необыкновенный супруг и волшебный хозяин подземного дворца, заставляет вспомнить Рике с хохолком — подземного принца из одноименных сказок Катрин Бернар (1662–1712) и Шарля Перро (1628–1703). В отличие от героя сказки Бернар, Рике — волшебный помощник у Перро, при своем безобразном облике и необычайном уме, наделен таким добрым сердцем, что принцесса влюбляется в него и выходит за него замуж.
Сюжет об Амуре (Купидоне) и Психее, впервые в европейской литературе обработанный еще Апулеем в романе «Золотой осел» (II в. н. э.), вошел в моду при французском дворе после издания в 1669 г. прозиметрической повести Жана де Лафонтена (1621–1695) «Любовь Психеи и Купидона» (Les Amours de Psyché et de Cupidon) и постановки в 1671 г. в Тюильри «Психеи» — трагедии-балета Ж.-Б. Люлли на либретто, написанное Мольером в соавторстве с П. Корнелем и Ф. Кино. Эта постановка способствовала популярности истории об Амуре и Психее во французской придворной среде. Сказка мадам д’Онуа, в свою очередь, открыла целую серию французских литературных сказок, сюжетно близких к этой истории.
(обратно)
5
Драже (фр. dragée). — Во времена мадам д’Онуа «драже» представляло собой, как правило, обжаренный в сахаре миндаль. В Европе моду на драже при дворе ввело еще семейство Медичи; во Франции оно стало модным во времена Людовика XIV.
(обратно)
6
…волосы огненно-рыжие… — В системе символов XVII в., восходящей к Средневековью, рыжие волосы считались верхом безобразия, поскольку ассоциировались с ведовством и с адским пламенем. Рыжеволосые женщины подозревались в сговоре с нечистым.
(обратно)
7
…вот «Канарское вино», вот «Сен-Лоран», вот Шампанское, вот «Эрмитаж», «Ривезальт», вот «Россоли» и «Персика», а вот «Фенуйе». — Все эти напитки, кроме «Эрмитажа» (известная марка Кот-дю-Рон), «Канарского вина» (т. е. «Мальвазии», вина, производившегося испанскими конкистадорами с XV в.; с XVI в. оно широко экспортировалось в Европу) и Шампанского, относятся к разряду ликерных (крепленых) вин или крепких алкогольных напитков. «Мальвазия» — вино, производящееся на Тенерифе. «Сен-Лоран» — род мускатного вина. «Ривезальт» — сорт мускатного вина, производящегося в одноименном местечке в Русийоне. «Россоли» — сладкий пряный ликер, благоприятный для пищеварения. «Персико» — сладкий пряный ликер, настоянный на персиковых косточках. «Фенуйе» — род водки из семян растения фенхель (семейство «зонтичные»), обладающих анисовым вкусом и запахом. Из всех перечисленных напитков только «Канарское вино» («Мальвазия») и Шампанское относятся к числу дорогих вин, отвечавших в XVII в. требованиям хорошего вкуса. Авторская ирония заключается в том, что Ворчунья предлагает королю низкопробные напитки, а вместо них из бочек появляются драгоценности; при этом, изображая полное равнодушие к сокровищам, она притворно печалится о пропаже дешевых ликеров.
(обратно)
8
Луидор (фр. Louis d’or) — золотая монета, которую начали чеканить во Франции при Людовике XIII.
(обратно)
9
Венера, мать Амуров — древнеримское соответствие древнегреческой Афродиты, богини красоты и любви. Родилась, по одной из версий, рядом с островом Кифера, из морской пены, смешавшейся с семенем и кровью оскопленного Зевсом Крона. По другой версии — дочь Зевса и Дионы. Мать Эрота (Амура). Амур, или Купидон — бог любви в древнеримской мифологии, тождественен Эроту в древнегреческой мифологии. Согласно большинству версий, сын Венеры (Афродиты). В качестве его матери называют также Илифию, Пению (Платон), Нюкту и др. Версии отцовства еще более многообразны. Изображался в виде нагого крылатого мальчика с луком и стрелами.
В качестве стаффажных персонажей, начиная с эпохи Возрождения, Амуры, крылатые младенцы с луком и стрелами, изображаются на картинах во множестве.
(обратно)
10
Она хотела въехать в город на лошади… так делали королевы Испании. — Мадам д’Онуа могла видеть королевскую процессию, будучи в Испании. В своем «Рассказе о путешествии в Испанию» она описывает торжественный выезд в Мадриде в 1680 г. Марии-Луизы Орлеанской, супруги Карла II.
(обратно)
11
…вся ее история… была выгравирована на них… подобного совершенства не бывало и у самого Фидия… — Историю собственной жизни на стенах волшебного дворца видит и Психея в прозиметрической повести-сказке Лафонтена «Любовь Психеи и Купидона» (1669). У Лафонтена также говорится о том, что изображения, выполненные рукой фей, превосходят Фидия. Фидий (ок. 490 до н. э. — ок. 430 до н. э.) — один из величайших скульпторов Древней Греции периода высокой классики. Образ, возможно, навеян тем, что изображениями героев и великих исторических деятелей были украшены стены дворцов в Фонтенбло, Шантийи и Версале.
(обратно)
12
…попросил наступить ему на ногу… и тогда обратить взор на город. — Во многих сказках типа 425 А, В и С хозяин волшебного дворца, будущий супруг героини, обладает волшебным средством, помогающим ей увидеть происходящее у нее дома. Здесь, хотя и в сказке иного типа, этот симптоматичный мотив встречается во французской литературе впервые.
(обратно)
13
Тип сказки: АТ 531 (Благодарные животные). В то же время следует вспомнить романы о Тристане и Изольде, где Белокурая Изольда также относится к типу «златокудрой красавицы», а Тристан, племянник и любимец короля Марка, постоянно подвергается гонениям со стороны придворных завистников. Как и герой народной сказки, Тристан добывает златокудрую красавицу не для себя, а для короля. Как и в романах о Тристане, в сказке король, отправляя героя сватом, не знаком с самой красавицей.
(обратно)
14
…горсточку английских булавок. — Согласно «Всеобщему словарю…» Антуана Фюретьера (1619–1688; см.: Furetière 1690), английские булавки высоко ценились в Европе в XVII в. Не следует путать с современной английской булавкой, изобретенной в середине XIX в.
(обратно)
15
…что обезьяне каштан проглотить… — Аллюзия на басню Жана де Лафонтена «Обезьяна и Кот», где обезьяна заставляет кота таскать каштаны из огня и затем съедает их сама, а кот остается с обожженными лапами. Отсюда выражения «Таскать каштаны из огня» или «Чужими руками жар загребать».
(обратно)
16
…вход в нее сторожат два дракона, и огонь у них извергается из пасти и из глаз… — Подобные драконы сторожат источник, склянку воды которого Психея должна была добыть по приказу Венеры, как в романе Апулея «Метаморфозы, или Золотой осел» (VI, 14), так и в прозиметрической повести-сказке Лафонтена «Любовь Психеи и Купидона».
(обратно)
17
Тип сказки: АТ 432 (близкий к 425, см. Таблицу, с. 957 наст. изд.). В русском фольклоре данный тип представлен сказкой «Финист — Ясный сокол». Впервые во французской литературе встречается в лэ Марии Французской (конец XVII — начало XVIII в.) «Йонек» (Yonec).
Важную роль в сказке играет мезальянс, навязываемый герою отрицательными героинями. Мораль целиком превращается в выпад против браков, заключенных без любви. Это заставляет вспомнить судьбу самой мадам д’Онуа, рано выданной замуж по расчету и несчастливой в браке (см. с. 822 наст. изд. и Основные даты жизни и творчества).
(обратно)
18
…черные одежды сменились зелеными и розовыми… — Речь идет о смене траурного наряда на свадебный. Зеленым во времена мадам д’Онуа часто бывал наряд для первого дня свадьбы; зеленый цвет считался цветом женственности.
(обратно)
19
Флора (лат. Flora) — от flos, floris, т. е. «цветок». Италийская богиня цветения, цветов, колосьев, плодородия.
(обратно)
20
Это было золотое сердце… с надписью: «Единственная меня ранит». — Девиз можно счесть аллюзией на тот, который Филипп III Бургундский (Филипп Добрый, 1396–1467) взял для ордена Золотого Руна, основанного им в 1430 г., в день свадьбы с Изабеллой Португальской: лат. Non Aliud, фр. Autre n’aurai — «Иного (иной) не будет (у меня)». Девиз говорил о верности ордену или, по другим версиям, — супруге, Изабелле Португальской.
(обратно)
21
…деревья, посвященные любви или же грусти: то мирты, то кипарисы. — Мирт (мирта) — южное вечнозеленое древесное растение с маленькими белыми пушистыми цветками и темно-зелеными листьями, содержащими эфирное масло. Атрибут богини Венеры. Миртовый венок с розами в Древней Греции и Риме, а также на Ближнем Востоке был традиционным брачным украшением. Кипарис считался у древних греков и римлян деревом скорби. В древнегреческой мифологии имеется две версии происхождения кипариса. Согласно первой (Овидий. Метаморфозы. X. 106–142), Кипарис был прекрасным юношей, любимцем Аполлона. На охоте он случайно убил своего любимого оленя, горько скорбел, и боги по его просьбе превратили его в дерево печали. По другой версии, первый кипарис вырастил Борей на могиле своей дочери Кипариссы.
(обратно)
22
…как тут не поверить, что ваши дружба и почтение простираются столь далеко, сколь возможно. — Фраза героини, как и весь диалог, весьма типична для прециозной культуры. Дружба (фр. amitié) и почтение (фр. estime) — важные топосы в беседах о любви и нежности в прециозных салонах середины XVII в. и в прециозной литературе. В I книге романа Мадлен де Скюдери (1607–1701) «Клелия, римская история» (1654–1660) предлагается карта Страны Нежности (фр. Pays du Tendre), где путь к Нежности (фр. Tendre) начинается в городке Новая Дружба (фр. Nouvelle Amitié), а один из городов в конце пути находится на реке Почтения (фр. Estime) и называется Нежность-на-Почтении (фр. Tendre sur Estime). Роман-поток «Клелия…» сохранял необычайную популярность до конца XVII в.
(обратно)
23
…Краплёна же пусть себе остается весталкой… — Весталки в Древнем Риме — жрицы Весты, богини домашнего очага, всю жизнь сохранявшие девственность.
(обратно)
24
…зажгла несколько испанских свечек… — то есть ароматических палочек.
(обратно)
25
Синяя птица, времени цвет… — Синий цвет на рубеже XI–XII вв. трактуется европейской культурой как богородичный. Именно поэтому примерно с конца XII в. гербом французского короля становится «лазурный щит, усыпанный золотыми лилиями», отсюда «королевский синий», цвет мундира французской королевской гвардии. В то же время во французской литературной сказке XVII в. существует тенденция называть синий цвет «цветом времени» (фр. couleur du temps). Так, в частности, обозначает цвет платья героини Шарль Перро в сказке «Ослиная шкура». В XIV–XVII вв. синий краситель был одним из самых дорогих, и не каждый мог позволить себе синюю одежду. Собственно, формулировку «цвет времени» в данном случае можно трактовать как «модный цвет»: в конце XVII в. и далее синий цвет в Западной Европе входит в моду, поскольку дорогой натуральный краситель индиго в это время становится доступнее. Синий цвет, в зависимости от оттенка, мог восприниматься и как праздничный, и как траурный (см.: Кирсанова 1997: 46–47; Pastoureau 2002).
(обратно)
26
…стала похожа на Диану, вернувшуюся с охоты. — Диана в древнеримской мифологии — девственная богиня охоты, покровительница диких зверей. Нередко отождествлялась с луной. В древнегреческой мифологии ей соответствует богиня Артемида, дочь Зевса и Латоны, сестра Аполлона. Мифология, связанная с Аполлоном, нередко обыгрывалась в культуре в царствование Людовика XIV, «короля-Солнце» (см., напр., примеч. 18 к «Принцу-Духу»).
(обратно)
27
…зеркало это было двух лье в ширину и шести в высоту. — Большие зеркала в XVII в. — раритет и предмет роскоши. Мурано, близ Венеции, — единственное в те времена место, где производятся и закупаются большие зеркала, в которых человек может видеть себя во весь рост. Вскоре, во время строительства Зеркальной галереи в Версале, секрет производства больших зеркал будет украден в Мурано по приказу начальника и покровителя Перро, министра финансов Жан-Батиста Кольбера.
(обратно)
28
Каждая отражалась в нем какой хотела: рыжая казалась блондинкой, русая — черноволосой… — Согласно принятым в XVII в. представлениям о женской красоте, красавицей могла считаться либо блондинка, либо брюнетка, но не рыжая и не русая.
(обратно)
29
…на ярмарках Сен-Жермен и Сен-Лоран. — Ярмарка Сен-Лоран проходила в парижском предместье Сен-Дени и открывалась 10 августа. Ярмарка в Сен-Жермен открывалась в феврале и закрывалась на Вербное воскресенье. На них разыгрывались балаганные представления.
(обратно)
30
…так отплясывавшие сарабанду и пас-пье, что куда там самому Леансу. — Сарабанда — старинный испанский народный танец в сопровождении гитары или под пение с флейтой и арфой; в XVII–XVIII вв. получил распространение в Западной Европе как медленный бальный танец. Пасс-пье или пас-пье (фр. passe-pied — букв, «выход ножкой») — старинный французский танец, близкий к менуэту и возникший предположительно в Нормандии или северной Бретани. Изначально сельский, танцевавшийся под волынку, он при Людовике XIV исполнялся на придворных балах. Леанс. — Вероятно, имеется в виду знаменитый танцор. Никаких сведений о нем найти не удалось.
(обратно)
31
Эскулап — в древнегреческой мифологии (где он носит имя Асклепий), а затем древнеримской — бог врачевания.
(обратно)
32
Пистоль — старинная испанская монета, бывшая в обращении во Франции, Италии, Германии и некоторых других странах.
(обратно)
33
Гименей — в греческой мифологии божество брака, сын Диониса и Афродиты.
(обратно)
34
Сюжет о том, как фея в облике змеи награждает своего спасителя, во французской литературе до «Сказок фей» встречается в сказке Лафонтена «Собачка, сыплющая золотом и драгоценностями». Благодарная фея в облике ужа есть и в одной из сказок Страпаролы. Мотив спасения змеи — чудесного помощника присутствует и в сказке шевалье де Майи «Благодетель, или Кирибирини» (Le Bienfaisant ou Qumbirini; 1698) (см. Таблицу, с. 954 наст. изд.).
(обратно)
35
Мы, феи… на неделю превращаемся в ужей… — Мотив превращения фей в змей (реже ужей) восходит к средневековым легендам, в частности, к известному кельтскому сказанию о фее Мелюзине, родоначальнице рода Люзиньянов, превращавшейся в змею по субботам.
(обратно)
36
…он, будучи нормандцем… — Нормандцы пользовались славой лгунов и сутяг; нормандской до сих пор называется манера говорить уклончиво. Ср. в баснях Лафонтена, книга 7, басня 7 «La Сонг du Lion» («Двор Льва»): «Ne soyez à la Cour, si vous voulez у plaire, | Ni fade adulateur, ni parleur trop sincère; | Et tâchez quelquefois de répondre en Normand», т. e. «Не будь при дворе, коли хочешь там нравиться, | Ни бессмысленным льстецом, ни слишком честным на слово, | А отвечай иной раз на нормандский манер». Мадам д’Онуа, сама по рождению нормандка, в данном случае следует парижской моде.
(обратно)
37
…послали бы своих амазонок… — Амазонки — согласно древнегреческой мифологии, племя воинственных женщин, обитавших на побережье Черного и Азовского морей. Зачинали детей от мужчин соседних племен, но жили отдельно от них. Мальчиков отдавали отцам, а девочек воспитывали в воинственном духе, обучали боевым искусствам и охоте.
(обратно)
38
Драже. — См. примеч. 1 к «Прелестнице и Персинету».
(обратно)
39
Шабаш. — Старший современник мадам д’Онуа, французский писатель и филолог Антуан Фюретьер в своем «Всеобщем словаре французского языка, содержащем слова как старинные, так и новые» (см.: Furetiere 1690), дает, помимо общеизвестного значения слова «шабаш» как собрания ведьм, еще и распространенное в XVII в. бытовое: так называли скандал, устроенный мужу сварливой женой.
(обратно)
40
…охоту Дианы и ее нимф… — См. примеч. 9 к «Синей птице».
(обратно)
41
Амур. — См. примеч. 5 к «Прелестнице и Персинету».
(обратно)
42
…прелестными китайскими шелками… — Китайский шелк появился в Европе в Средние века. В царствование Франциска I (начиная с 30-х годов XVI в.) производство шелка налаживается в Лионе. Китайские мотивы в интерьере, то есть шинуазри, равно как и китайский фарфор, входят в моду во Франции с конца XVII в.
(обратно)
43
Голубой кот — порода кошек с гладкой серой шерстью.
(обратно)
44
Раминагробис. — Имя впервые встречается в романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Н. Любимовым переведено как Котанмордан (см.: Рабле 1973: 341–349). В нарицательный образ хитрого и самодовольного кота превратилось позднее: в частности, так зовут кота в баснях Лафонтена «Союз крыс» (La Ligue des rats), «Кот, Ласка и Кролик» (Le Chat, La Belette et le Petit Lapin) и «Старый Кот и Мышонок» (Le Vieux Chat et lajeune Souris). Кот Раминагробис упоминается в одном из писем В. Вуатюра.
(обратно)
45
Разве мы не читали в романах о революциях в больших государствах… — Возможно, подразумеваются три исторических события. Первое — Английская революция и гражданская война 1640–1660 гг. Затем «Славная революция» 1688 г. в Англии, когда был свергнут и изгнан король Яков II Стюарт; в 1689 г. был принят ограничивающий права монарха «Билль о правах». Наконец, буржуазная революция в Нидерландах («Восьмидесятилетняя война», 1568–1648), в результате которой возникла Нидерландская республика (северные провинции, объединившиеся против власти Испании). Однако трудно определить, какие романы имеет в виду мадам д’Онуа. Непосредственно о событиях этих революций и гражданских войн ни во французской, ни вообще в европейской литературе XVII в. романов нет. О событиях в Нидерландах вскользь упоминается в повести аббата Сен-Реаль (1643–1792) «Дон Карлос» (Dom Carlos; 1672), а также в испанской новелле Катрин Бернар «Инесса Кордовская» (1696, см. Таблицу, с. 951 наст. изд.). Об Англии незадолго до «Славной революции» пишет сама мадам д’Онуа в «Воспоминаниях об английском дворе» (1695). Возможно, в данной фразе она имеет в виду не столько революции в современном понимании, сколько заговоры. Ей могли быть знакомы разного рода мемуары о Фронде и о разных знаменитых заговорах, в частности, «Мемуары» кардинала де Реца (Жан-Франсуа Гонди, 1613–1679), его же «Заговор графа Фиеско» (La conjuration du comte Jean-Louis de Fiesque; 1639), «Принц» (Le Prince; 1660) Гюэ де Бальзака (1597–1654), или, в устной передаче или рукописях, «Секретная история наиболее знаменитых заговоров» Эсташа Ленобля (1643–1711) (см.: Le Noble 1698).
(обратно)
46
Дух… понял, что это обезьяны… — Обезьян начали активно ввозить в Европу в середине XVII в.; этому охотно покровительствовал сам Людовик XIV. Обезьяны фигурируют, в частности, во многих баснях Лафонтена.
(обратно)
47
Дотель — владелец знаменитой лавки в Париже XVII в., торговавший украшениями и ценной посудой.
(обратно)
48
Бриоше Жан — прозвище Пьера Датлена (1567–1671), знаменитого парижского кукольника, дававшего представления на берегу Сены в середине XVII в. Он часто выступал на ярмарках в Сен-Жермен и Сен-Лоран. Представления пользовались огромным успехом у парижан.
(обратно)
49
Брискамбий. — От «Брюскомбий» — театрального имени актера и сочинителя сатирических фарсов Делорье, одного из комедиантов Бургундского Отеля, крупнейшего драматического театра во Франции в начале XVII в.
(обратно)
50
Персефорет (фр. Perceforet, англ. Perceforest) — Рыцарь Леса; герой рыцарских романов, считавшихся старинными уже во времена мадам д’Онуа, — первое французское издание его приключений датируется 1528 г.
(обратно)
51
Фаготен — ученая обезьяна знаменитого кукольника Бриоше. Фаготен прославился своей «дуэлью» с Сирано де Бержераком. Согласно многочисленным анекдотам, поэт принял необычайных размеров мартышку, корчившую ему рожи, за наглого обидчика, и бросился на нее со шпагой; в ответ обезьяна обнажила свою шпагу, с которой выступала перед публикой, и была убита на месте. История наделала шума, имя Фаготена быстро стало нарицательным, им часто называли ученых обезьян.
(обратно)
52
…взяв лиру, на которой играл лучше Аполлона… — Аполлон — в древнегреческой и древнеримской мифологии сын Зевса и Латоны, бог-покровитель наук и искусств, в т. ч. музыки. Также бог Солнца (в этой функции отождествляется с Гелиосом). В качестве бога Солнца приобретает особую актуальность во французских текстах, написанных после 5 июня 1662 г., когда Людовик XIV появился на сцене в придворном балете в роли «Короля-Солнце», получив с тех пор соответствующее прозвище. С тех пор солнечная тематика активно обыгрывается во французском придворном искусстве.
(обратно)
53
Амур — это змей… — Одна из частых у мадам д’Онуа аллюзий на историю Амура и Психеи.
(обратно)
54
…пистоли, четвертаки, луидоры, золотые экю, нобели, соверены, гинеи, цехины… — Пистоль. — См. примеч. 15 к «Синей птице». Луидор. — См. примеч. 4 к «Прелестнице и Персинету». Экю — старинная золотая или серебряная французская монета различной ценности. Нобель — английская золотая монета с вычеканенной на ней розой дома Йорков или Ланкастеров, имевшая одно время хождение во Франции. Соверен, гинея — английские золотые монеты. Цехин — золотая монета, чеканившаяся в Венеции с XIII в. С середины XVI в. цехины чеканились также в некоторых европейских государствах под названием дукатов.
(обратно)
55
…толпа Амуров, Игр и Услад… — Начиная с эпохи Возрождения маленьких амуров изображали в виде крылатых младенцев (путти). См. также примеч. 8 к «Лесной лани».
(обратно)
56
Игра в кольцо — рыцарская игра, популярная во всей Западной Европе. Соревнование на меткость, когда всадник должен на скаку попасть копьем в кольцо, подвешенное на высоте человеческого роста.
(обратно)
57
Сказка, не имеющая точного фольклорного источника. В ней особенно заметна пародийная интонация.
(обратно)
58
…орел, пролетавший мимо с черепахой в когтях… — Аллюзия на басню Лафонтена «Гороскоп» (кн. VTII, басня 16), в которой орел роняет черепаху на голову Эсхила.
(обратно)
59
Карабос (фр. Carabosse) — имя, типичное для злой феи в бретонских народных сказках. Одно из этимологических объяснений — сочетание французских слов bosse (горб или, применительно к рельефу, холм, бугор) и carat (карат). У феи якобы был горб в 37 каратов. У мадам д’Онуа так зовут злую фею в сказках «Принцесса Веснянка» и «Лесная лань». Карабос становится во французском языке именем нарицательным — так называют безобразную, сгорбленную старуху. Марк Сорьяно отмечал созвучие имени злой феи в данной сказке и имени, придуманного хозяину Котом в сапогах в одноименной сказке Шарля Перро — Маркиз Карабас. При этом этимологическая связь имен Карабас и Карабос крайне сомнительна (см.: Soriano bit).
(обратно)
60
….маленькие позолоченные ножницы и шкатулку с тончайшими иголками. — Феи во французских сказках традиционно заняты рукоделием. Результаты их трудов — «юбка, искусно сшитая из крыльев бабочек», «шарф из паутины, расшитый крыльями летучих мышей» — сближают фей с Парками из античной мифологии, которые прядут нити человеческих судеб и могут оборвать их в любой момент (см. примеч. 4 к «Сен-Клу»).
(обратно)
61
Мерлин — имя великого волшебника из цикла сказаний о короле Артуре. Истории о рыцарях Круглого стола были очень популярны среди придворных особ XVII в. Источниками мадам д’Онуа могли послужить французская эпопея «Ланселот-Грааль» (Lancelot-Graal), иначе «Прозаический Ланселот» или «Вульгата» (Lancelot en prose, Vulgate), созданная около 1230 г., или роман Робера де Борона «Мерлин» (Merlin), написанный в начале XIII в. и напечатанный в 1498 г. В эпоху Возрождения и барокко Мерлин сделался героем народных книг.
(обратно)
62
…несколько прялок из Германии… — В начале XVI в. в Германии была изобретена прялка с ножным приводом. Эти прялки стали продаваться по всей Европе.
(обратно)
63
Принцессы крови (фр. des princesses du sang) — дочери ближайших родственников короля.
(обратно)
64
Окорока по-майнцски (фр. les jambons de Mayence) — окорока, приготовленные особым способом: мясо натирают солью и держат под прессом восемь дней подряд. Затем погружают в винный спирт с добавлением толченых ягод можжевельника, после чего коптят над костром из можжевеловых веток.
(обратно)
65
Шоколад. — Впервые был привезен во Францию в 1615 г., по случаю женитьбы короля Людовика XIII и Анны Австрийской. Но по-настоящему вошел в моду при дворе Людовика XIV (то есть во времена, о которых идет речь в данном повествовании).
(обратно)
66
Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает (фр. honni soit qui mal y pense) — девиз английского ордена Подвязки, ставший устойчивым выражением. Орден Подвязки — высший рыцарский орден Великобритании. Является старейшим на сегодняшний день светским орденом в мире. Всего по уставу рыцарей ордена Подвязки не может быть больше 25 человек, включая королеву. Учрежден королем Эдуардом III 23 апреля 1348 г. По легенде, на балу в Виндзоре графиня Солсбери потеряла подвязку. Король взглянул на упавшую ленту, что вызвало у публики сдержанные смешки, так как его увлечение графиней не было для двора секретом. Тогда король сам поднял с пола подвязку и прикрепил ее себе на рукав, произнеся при этом слова, ставшие девизом ордена.
(обратно)
67
Потайной фонарь — фонарь с жестяным корпусом, оснащенным крышкой, которую закрывают, когда хотят скрыть свет; таким фонарем можно освещать предмет, который необходимо увидеть, оставаясь незамеченным.
(обратно)
68
Вода Венгерской Королевы (фр. L’eau de la reine de Hongrie) — эфирное масло, приготовленное из цветов розмарина, с добавлением винного спирта. Согласно некоторым свидетельствам, бутыль со снадобьем настаивалась в ослином навозе. Получила свое название из-за волшебного действия, которое якобы оказывала на 72-летнюю королеву Венгрии, Елизавету Польскую (Елизавету Локотковну; 1305–1380), супругу короля Венгрии Карла Роберта. Первые духи на спиртовой основе. Во Франции снадобье вошло в обиход при дворе Людовика XIV. Водой пользовались мадам де Севинье и мадам де Ментенон.
(обратно)
69
Овидий — великий римский поэт (43 до н. э. — ок. 18 н. э.), прославившийся любовными элегиями и поэмами «Метаморфозы» и «Искусство любви».
(обратно)
70
Кондитерская «Ле Кок» (фр. Le Coq) — знаменитая кондитерская, которая в XVII в. располагалась в Париже на Университетской улице.
(обратно)
71
Фонтанж — дамская высокая прическа конца XVII в. и одноименный головной убор, состоящий из ряда накрахмаленных кружев. Укреплялся при помощи шпилек и проволочных конструкций и достигал 50–60 см. Назван по имени фрейлины Елизаветы-Шарлотты Баварской и фаворитки короля Людовика XIV герцогини де Фонтанж, которая ввела моду на подобную прическу.
(обратно)
72
Тип сказки: АТ 403 (Подмененная невеста). Мотив подмены невесты встречается в сказках Базиле из «Пентамерона». Есть он и в поэме Адене ле Руа (ок. 1240 — ок. 1300), созданной около 1270 г. «Берта Большеногая» (Berte aus grans piés), о будущей матери Карла Великого Бертарде Лаонской (ок. 720–783). В поэме Берту, невесту, а затем жену Пипина Короткого, подменяет своей дочерью служанка Маргисга. Впоследствии обман обнаруживается, а Пипин случайно встречает свою суженую в лесу и женится на ней. Родителями Берты именуются Флуар и Бланшефлёр из одноименного романа (см. примеч. 12 к «Острову Отрады»).
Подобно Бланшефлёр, принцесса Розетта долгое время живет в заточении в башне.
Мотив подмененной невесты (так же, как и мотив заточения девицы в башню) часто встречается в сказках мадам д’Онуа, напр., в «Синей птице» или «Лесной лани».
(обратно)
73
Буасо (фр. boisseau) — старинная мера сыпучих тел, примерно равная 12,5 литра; ею чаще всего отмеряли хлебную муку.
(обратно)
74
…описалась в кроватку… — Один из наиболее показательных примеров подражания детской речи, которое является важной стилистической характеристикой как для данной сказки мадам д’Онуа, так и для всего собрания.
(обратно)
75
…за ничтожного королька с четырьмя денье за душой. — Денье (фр. denier) — самая мелкая медная монета во Франции XVI в.; в XVII в. начали чеканить грошовую монету в четыре денье.
(обратно)
76
Алкион (греч. Αλχυóνη) — зимородок, птица, обитающая в море и на болотах. Здесь — аллюзия на мифологическую Алкиону, дочь бога ветров Эола и жену фессалийского царя Кейка, утонувшего во время морского путешествия за советом к оракулу. Обезумевшая от горя Алкиона бросилась в море, после чего благодаря милосердию богов они оба были превращены в зимородков (Овидий. Метаморфозы. XI. 270–748).
(обратно)
77
Людовик в том примерам служит нам. — Речь идет, разумеется, о Людовике XIV.
(обратно)
78
У данной сказки нет ни явных литературных источников, ни точных соответствий с каким-либо фольклорным сказочным типом. Средневековый антураж (старая рукопись в донжоне, древние фолианты, витражи и т. п.) сочетается здесь с пасторальной тематикой.
(обратно)
79
Бассет (от ит. bassetta) — карточная игра, необычайно модная в середине XVII в., напоминающая кости или рулетку, но играющаяся с помощью карт. 13 карт кладутся на стол лицевыми сторонами вверх, игроки ставят на ту или иную карту или на несколько сразу. Банкомет открывает карту внизу колоды и сгребает все деньги, поставленные на карты открытого им достоинства. Затем открывается карта, находящаяся сверху колоды, и банкомет выплачивает выигрыш игроку, который ставил на карты этого достоинства. В течение многих раундов у игроков появляются многочисленные возможности для увеличения ставок. Триктрак — род старинной игры в шашки или нарды, собственно, европейское название коротких нард. Играют 2 кости и 15 фишек.
(обратно)
80
Тразимен (фр. Trasimène, ит. Trasimeno) — озеро Тразимено в области Умбрия в Италии. 27 июня 217 г. до н. э., в ходе Второй Пунической войны, там состоялась битва карфагенян под командованием Ганнибала и римской армии под командованием Гая Фланка. Битва закончилась победой карфагенян. Возможно, выбор такого имени для героя сказки обусловлен героическими коннотациями.
(обратно)
81
…с ее сомкнутых ресниц заструились капли и потекли по щекам, подобно слезам Авроры. — Аврора — в древнеримской мифологии богиня утренней и вечерней зари. Тождественна древнегреческой Эос. Слезы Авроры, соответственно, — утренняя роса.
(обратно)
82
…не отрывая взора от спящей красавицы… казалось, он смотрит на солнце… — Поверье о том, что орел способен не мигая смотреть на солнце, благодаря своему прекрасному — «орлиному» — зрению, бытует с античности.
(обратно)
83
…обнаружила украшенный позолотой расписной пастуший посох, а неподалеку у берега — стадо барашков… — Типичное для пасторальной культуры середины XVII в. изображение пастушки. См. примеч. 7 к данной сказке.
(обратно)
84
…играя на флейте и на мюзете… — Флейта и мюзет часто встречаются в пасторальной литературе и изобразительном искусстве. Мюзет — род волынки.
(обратно)
85
…сам облачился в наряд из розовой тафты, отделанный английским кружевам, взяв в руки посох с повязанными лентами, а на пояс повесив сумку, — в таком виде он был прекраснее, чем все Селадоны мира. — Столь же типичное для пасторальной культуры изображение пастуха. См. ил. 202 с изображением Селадона. Селадон — герой романа Оноре д’Юрфе (1568–1625) «Астрея», публиковавшегося с 1607 по 1627 г. и ставшего одним из важнейших текстов прециозной культуры; имя этого персонажа стало синонимом влюбленного пастуха. В нарицательном значении томного воздыхателя нередко встречается в русской классической литературе XIX в.
(обратно)
86
…он шилом начертал на коре рябины такие стихи… — Герои пасторальной литературы весьма часто вырезают стихотворные признания в любви на деревьях; в частности, так делали и герои романа Оноре д’Юрфе — весьма благородная пастушка Астрея и влюбленный в нее Селадон.
(обратно)
87
…в обличье кентавров или сирен… сфинксы… — Перечислены фантастические существа из древнегреческой мифологии. Кентавры — полулюди-полукони. Сирены — в древнегреческой мифологии, хищные полуженщины-полуптицы с прекрасным голосом, своим пением заманивавшие к себе путешественников и пожиравшие их; в данном случае речь идет скорее о скандинавских сиренах — женщинах с рыбьими хвостами. Сфинксы — чудовища с львиным телом и женской головой.
(обратно)
88
Тип сказки: АТ 313 (Волшебный полет/побег), о том, как дочь колдуньи (колдуна), убегая вместе с возлюбленным от матери (отца), превращает себя и своего избранника в разные предметы. В то же время в тексте мадам д’Онуа есть несколько аллюзий на сказку Шарля Перро «Мальчик с пальчик» — единственный, к моменту создания данной сказки, литературный текст о пленниках людоеда.
Данная сказка — один из первых текстов во французской литературе, где романтизируется дикарь (дикарка). Правда, мнимой дикаркой оказывается принцесса. Сцена ее узнавания принцем по медальону — общее место авантюрной литературы.
(обратно)
89
Любима, дочь короля Счастливого острова. — Мотив узнавания потерянного (подброшенного) ребенка благородных родителей по оставленному ими украшению или другому подобному знаку типичен для авантюрной литературы. Он есть, в частности, в комедиях Плавта (254–184 до н. э.) и в романе Лонга (II в. н. э.) «Дафнис и Хлоя» (переведен на французский в XVI в.). Зайду, героиню одноименного романа мадам де Лафайет (1671), ее возлюбленный узнает по браслету.
(обратно)
90
Человечинка. — Здесь, как и в сказке «Вострушка-Золянка», это слово в оригинале дано как char frache, искаж. chair fraiche, «свежее мясо». Выражение chair fraiche использовано в таком «людоедском» контексте Шарлем Перро в сказке «Мальчик с пальчик» (1697). Мадам д’Онуа, фактически заимствовав у Перро это выражение для обозначения «человечинки», заставляет людоедов употреблять его в искаженном виде, тем самым придавая их речи вульгаризирующий оттенок: так же произносит это словосочетание и людоед в сказке «Вострушка-Золянка».
(обратно)
91
Диана. — См. примеч. 9 к «Синей птице».
(обратно)
92
А у людоедов есть обычай… надевают на голову прекрасные золотые короны и в них спят… — Обычай людоедов спать в коронах впервые появляется в сказке Шарля Перро «Мальчик с пальчик». Герой снимает короны со спящих дочек людоеда и надевает их на головы своих братьев. Таким образом он спасает последних: нащупав короны на головах мальчиков, людоед идет к кровати дочерей и съедает их.
(обратно)
93
Сейчас иду, — промолвил боб, — спокойной ночи. — Боб, который отвечает на вопросы вместо сбежавших героев сказки, — мотив «говорящий боб» (Speaking bean). В каталоге сказочных мотивов Томпсона это D1610.3.2 (см.: Thompson 1955–1958).
(обратно)
94
Семимильные сапоги. — Волшебные сапоги великана или людоеда («сапоги-скороходы») часто становятся добычей героя сказок типа АТ 327В (Ребенок побеждает великана) и АТ 328 (Сокровища великана). Последнему из типов в каталоге сказочных мотивов Томпсона соответствует следующий: D1521.1. D1521.1. Seven-league boots, то есть «Семимильные сапоги» (см.: Thompson 1955–1958). Однако именно формулу «Семимильные сапоги» (фр. bottes de sept lieux) мадам д’Онуа, очевидно, заимствует у Шарля Перро.
(обратно)
95
Мерлюзина — редкая, но возможная форма имени Мелюзина (см. примеч. 1 к «Принцу-Духу»). Ниже людоед назовет ее «Мерлюзкой» — гипокористическая форма имени, часто воспринимавшаяся как признак вульгарности.
(обратно)
96
…ну что ж, придется самой итить: теперь я надену сапоги, да быстрее твоего побегу. — В оригинале в этой реплике Истязеллы особенно много просторечий.
(обратно)
97
В один присест она нас съест — вот и весь суд. — Аллюзия сразу на три басни Лафонтена: «Устрица и Двое прохожих», «Кот, Ласочка и Кролик», и «Волк и Ягненок», пародирующие судебные препирательства и заканчивающиеся съедением слабого. Ближе всего к реплике принцессы последние строки басни «Волк и Ягненок»: «Le Loup l’emporte, et puis le mange, | Sans autre forme de procès». Bo всех этих баснях съедание обыгрывается как победа в судебном процессе, в котором выигрывающей стороной оказывается самый сильный или самый хитрый.
(обратно)
98
…как Ясон — за Золотым руном. — Ясон — сын Эсона, царя Иолка. Чтобы получить власть над Иолком, отправился на корабле «Арго», в сопровождении отряда аргонавтов, в Колхиду, в поход за Золотым руном, т. е. шкурой волшебного барана, некогда посланного богиней Нефелой на помощь ее детям, Фриксу и Гелле.
(обратно)
99
Данная сказка не имеет ни литературных, ни прямых фольклорных источников, есть лишь обязательный в фольклорных волшебных сказках волшебный помощник. В данном случае это — фея-мышка. Как и «Принцесса Веснянка», эта сказка в значительной степени пародийна.
(обратно)
100
…танцевали на балах бурре и павану. — Бурре — старинный французский народный парный танец, быстрый и подвижный; возник, предположительно, в XV–XVI вв. С XVI в. получает распространение в придворной среде, по некоторым данным, благодаря Маргарите Валуа. Павана — медленный и торжественный придворный танец испанского происхождения, распространенный в Европе в XVI в.
(обратно)
101
Короткая, но при этом незавершенная зарисовка, обрамляющая две новеллы — «Дон Габриэль Понсе де Леон» и «Дон Фернан Толедский», которые, в свою очередь, также являются обрамлениями: первая — к сказкам «Барашек», «Вострушка-Золянка» и «Фортуната», вторая — к сказкам «Побрякушка», «Желтый Карлик» и «Зеленый Змей».
(обратно)
102
Сен-Клу — западный пригород Парижа, расположенный на берегу Сены, с XV в. там был замок и террасный парк, ставший местом гуляний аристократии. Престиж прогулок в Сен-Клу возрос с тех пор, как в 1658 г. Людовик XIV купил землю в Сен-Клу для своего брата Филиппа Французского, герцога Анжуйского, позднее Орлеанского, носившего титул «Месье». Таким образом, во время создания «Сказок фей» хозяевами дворца и усадьбы в Сен-Клу были Месье и Мадам — брат короля и его супруга, принцесса Пфальцская, которой и посвящены сказки д’Онуа (см. примеч. 1 к «Ее королевскому Высочеству, Мадам»).
(обратно)
103
Госпожа Д… — Madame D***, имя, под которым издавались сказки и новеллы мадам д’Онуа.
(обратно)
104
Сильван (лат. silva, «лес») — в римской мифологии бог лесов, который позднее стал отождествляться с Паном. Дриады — в греческой мифологии нимфы, покровительницы деревьев.
(обратно)
105
Нимфа. — Нимфы (так же, как фавны и сильваны) сродни феям: феи в европейском фольклоре происходят от богинь судьбы, Парок, которых римляне называли Fatae (отсюда, в частности, предсказания и сцены одаривания). Римское имя богинь судьбы — Fata. Родство между фатами и такими низшими божествами древних римлян, как нимфы и фавны, фиксирует, в частности, комментарий Элия Доната (IV в.) к комедии Теренция (195 или 185–159 гг. до н. э.) «Евнух», где упоминаются «Fauni Fatui» (Фавны-Фаты) и «Nymphae Fatuae» (Нимфы-Фаты): (см.: Harf-Lancner 1984: 19). Статуи нимф и фавнов до сих пор составляют важную часть скульптурного ансамбля парка Сен-Клу.
(обратно)
106
Флора. — См. примеч. 2 к «Синей птице».
(обратно)
107
Данная новелла принадлежит к модному в то время литературному жанру (см. ниже, примеч. 2). Кроме того, в ней есть аллюзии на более раннее творчество самой Мари-Катрин д’Онуа: переодевание героев пилигримами отсылает к роману «История Ипполита, графа Дугласа», где героиня Юлия пытается спастись от похищения также в костюме пилигрима. Перед этим Юлию насильно помещают в монастырь — так же донья Хуана пытается поступить с героинями данной новеллы — своими племянницами Исидорой и Мелани.
(обратно)
108
Испанская новелла. — К моменту публикации третьего тома «Сказок фей» Мари-Катрин д’Онуа известна как автор «Испанских новелл» (1692), а также «Воспоминаний об испанском дворе» (1690) и «Воспоминаний о путешествии в Испанию» (1691), которые подписывались «Madame D***» (см. Основные даты жизни и творчества Мари-Катрин д’Онуа в наст. изд.). В XVH в. жанр «испанской новеллы» или «испанского романа» входит в моду с тех пор, как французскому читателю становятся известны «Назидательные новеллы» Сервантеса. Мода сохраняется и в конце века, когда выходит, например, «Инесса Кордовская, испанская новелла» Катрин Бернар (1696).
(обратно)
109
Галисийское королевство. — Галисия со столицей в городе Туй была независимым королевством в 1065–1072 гг., затем формально была присоединена к Кастилии, но до XV в. сохраняла фактическую независимость. В 1475–1480 гг. Галисия окончательно лишается самостоятельности и превращается в одну из провинций Испанской монархии.
(обратно)
110
Дуэнья (исп. dueña) — в Испании и испаноязычных странах, а также начиная с XVII в. во Франции, воспитательница или компаньонка девушки или молодой женщины, как правило, дворянки. Дуэнья обязана сопровождать подопечную повсюду и следить за ее нравственностью. Дуэнья (фр. duègne) фигурирует в «Комическом романе» (Le Roman comique; 1651) Поля Скаррона (1610–1660).
(обратно)
111
Компостела (Сантьяго-де-Компостела) — столица Галисии, центр паломничества и конечный пункт одного из главных в Европе христианских паломнических маршрутов, получившего название «Путь святого Иакова» (исп. Camino de Santiago, фр. Chemin St. Jaques), так как останки апостола Иакова захоронены в кафедральном соборе Сантьяго. В пути паломники проходили всю Западную Европу.
(обратно)
112
Кадис — город на юго-западе Испании, в Андалусии.
(обратно)
113
Понсе де Леон (исп. Ponce de León) — род кастильских дворян, происходит от Педро Понсе де Кабрера и Альдонсы де Леон, внебрачной дочери Альфонсо IX, короля леонского. Глава рода носил следующие титулы: с 1429 г. — графа Аркос (Медельин), с 1471 г. — маркиза Кадис, с 1484 г. — герцога Кадис, с 1493 г. — герцога Аркос (см. ниже). В 1520 г. Карлос I признал за герцогами Аркос статус грандов 1-го ранга.
К этому роду принадлежал Хуан Понсе де Леон (1460–1521), испанский конкистадор, основавший первое европейское поселение на Пуэрто-Рико и в 1513 г. открывший Флориду во время поисков источника вечной молодости (см. примеч. 14 к «Острову Отрады»).
(обратно)
114
…приехав, мы подожжем дом… — Ситуация с поджогом, который устраивает любовник, чтобы проникнуть к своей возлюбленной, изображена, например, в басне Лафонтена «Муж, Жена и Вор». Действие басни происходит в Испании.
(обратно)
115
…волосы убраны под широкую шляпу, обшитую раковинами, посох, фляга из выдолбленной тыквы, плащ и все остальное, что необходимо для паломничества. — Изображен типичный наряд паломника, идущего по «Пути святого Иакова». Раковина в форме гребешка является эмблемой св. Иакова и его паломников.
(обратно)
116
Сьюдад-Родриго — город в провинции Саламанка, примерно в 400 км от Сантьяго-де-Компостела. Здесь либо подразумевается какой-то другой город, либо имеет место типичная для автора географическая неточность.
(обратно)
117
В уединении с Иридой милой жить …не дорожить. — Двустишие из романа Мадлен де Скюдери (1607–1701) «Клелия, римская история» (1654–1660). Роман-поток «Клелия» сохранял необычайную популярность до конца XVII в. Ирида (др.-греч. Ιρις) — в др.-греч. мифологии — богиня и олицетворение радуги. Иначе — Ирис, отсюда название цветка. Во французской поэзии XVII в. встречается как в «Клелии», так и позднее, в частности, у Шарля Перро и Этьена Павийона.
(обратно)
118
Романс (исп. romance) — песня на стихи с любовным, волшебным или героическим сюжетом, исполнявшаяся под аккомпанемент гитары. Романс как жанр испанской лиро-эпической поэзии сложился в фольклоре в XIV в. в результате переработки рыцарских поэм («Песнь о моем Сиде» и др.). Д’Онуа называет романсом не только песни, исполняемые Понсе де Леоном, но и прозаический рассказ, фактически волшебную сказку, т. е. псевдо-романс.
(обратно)
119
Орфей — в древнегреческой мифологии певец и кифаред, чьей песней заслушивались дикие звери, чудовища, деревья и скалы.
(обратно)
120
Виола — род старинных струнных смычковых музыкальных инструментов с ладами на грифе. Развился из испанской виуэлы (исп. vihuela), изначально смычкового, а затем щипкового музыкального инструмента, популярного в Испании в XV–XVI вв., а в XVII в. вытесненного гитарой. Арфа, гитара и виола — инструменты, наиболее используемые в испанской традиционной музыке. Заметим, что девица Роза больше ни разу не упоминается в новелле. Очевидно, она была необходима, чтобы дополнить струнное трио.
(обратно)
121
Амадис — герой средневекового испанского романа об Амадисе Гальском, создававшегося в XIII–XIV вв. Наиболее известная версия написана Гарсией Родригесом де Монтальво в конце XV в. и опубликована в Сарагосе в 1508 г. Известны многочисленные анонимные испанские и португальские версии. Переведенный на французский язык в 1540 г. Никола, сеньором Дез Эссар и активночитаемый во Франции, роман становится особенно популярным в 80-е годы XVII в., после постановки в 1684 г. оперы Ж.-Б. Люлли «Амадис» (либретто Филиппа Кино). Главная тема романа — страстная и верная любовь Амадиса к Ориане, дочери английского короля. Герою сопутствует фея Урганда Неведомая. Многие эпизоды романа об Амадисе пародируются Сервантесом в «Дон-Кихоте Ламанчском».
(обратно)
122
Дон-Кихот — герой романа Сервантеса «Дон-Кихот Ламанчский», или «Хитроумный идальго Дон-Кихот Ламанчский» (El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha). В Испании роман публиковался в 1605–1615 гг.; французский перевод первой части романа, выполненный Сезаром Уденом, появился уже в 1614 г. Полностью роман впервые был переведен на французский Франсуа де Росе и опубликован в 1639 г. К моменту создания сказок мадам д’Онуа «Дон-Кихот» приобрел большую популярность во Франции благодаря многочисленным переизданиям и театральным постановкам. Кроме того, мадам д’Онуа могла ознакомиться с романом и в Испании.
(обратно)
123
…ощутить в душе своей позывы нежности… — Разные стадии развития чувства, куда входит и нежность, — одна из основных тем прециозной культуры, прежде всего прециозного романа. В романе Мадлен де Скюдери «Клелия…» приводится придуманная в кружке госпожи де Рамбуйе (1588–1665) карта «Страны Нежности», где путь из селенья «Новая Дружба» лежит вдоль реки Привязанности к городам «Нежность-на-Благодарности» (на левом берегу) и «Нежность-на-Почтении» (на правом).
(обратно)
124
Терция (испанская) — боевое построение, применявшееся в испанской пехоте в XVI–XVII вв., дробление колонны на три части. Широко использовалась в Испанских Нидерландах.
(обратно)
125
Физиономистика; гороскопы. — В литературе конца XVII в. часто считались шарлатанством и вызывали многочисленные насмешки; иногда выступали темой для светской беседы, как, напр., во втором томе романа мадам де Лафайет «Принцесса Клевская» (Princesse de Clèves; 1678), где герцог Немурский переводит беседу о гороскопах, в которой принимает участие его возлюбленная, в галантное русло.
(обратно)
126
…все это трогает меня не меньше, чем нежная томность Исидоры. — Пара женских персонажей, противопоставленных по характерам и психологически оттеняющих друг друга: напр., меланхолическая Клелия и веселая жизнерадостная Плотина в «Клелии» Мадлен де Скюдери. Если голубоглазая блондинка выступает идеалом мягкой, женственной красоты, то румяная темпераментная брюнетка — пылкой и бурной чувственности.
(обратно)
127
Сьюдад-Реаль — город и одноименная провинция в Кастилье — Ла-Манча.
(обратно)
128
Симпатический порох — порошок купороса, гашенного на солнце, которым лечили раны; при этом обрабатываться могла как сама рана, так и ткань, пропитанная кровью раненого, или даже оружие, нанесшее рану. Симпатическому пороху посвящено, в частности, франкоязычное сочинение английского философа, естествоиспытателя, литератора и дипломата Кенельма Дигби (1603–1665) «Речь о врачевании ран посредством симпатического пороха» (Discours touchant la guérison des playes par la poudre de sympathie; 1658). Антуан Фюретьер (см.: Furetière 1690) называет его в своем словаре «чистым шарлатанством».
(обратно)
129
Святая Инквизиция (лат. Inqnisitio Haereticae Pravitatis Sanctum Officium, «Святая служба расследований еретической греховности») — институт Католической Церкви, созданный для борьбы с ересью. Испанская Инквизиция была учреждена «Католическими королями» Изабеллой I Кастильской и Фернандо II Арагонским с санкции Папы Сикста IV в 1478 г.
(обратно)
130
Контаминация двух типов сказок: АТ 725 (Сны) и АТ 425 (Необыкновенный супруг). Такая контаминация нетипична для фольклора. Среди литературных сюжетов фольклорного происхождения с первым из названных сказочных типов сближается «Король Лир», который, в свою очередь, тяготеет к типу АТ 923 (Мясо любит соль). В данной сказке явную аллюзию на «Короля Лира» можно увидеть в диалоге короля с дочерьми о снах, когда героиня вызывает гнев отца своим простым и бесхитростным ответом. В итоге линия «Снов» получает счастливый конец, который и провоцирует редкий в сказках устного происхождения трагический финал линии «Необыкновенного супруга». В истории безответной любви старой и безобразной феи Чурбанны к герою сказки можно усмотреть аллюзию на историю из рамочного повествования: старая донья Хуана так же безответно любит графа де Агиляра.
(обратно)
131
Бассет. — См. примеч. 1 к «Золотой Ветви». Ланскенет (иначе ландскенет) — также модная карточная игра, в которую играли самые разные слои населения.
(обратно)
132
Антиподы (др.-греч. Αντιπoδες) — в античной географии противоположные точки земного шара и населявшие их существа. Понятие считается впервые введенным Платоном (Тимей. 63а) и Аристотелем (О небе. Кн. IV, гл. первая). Учение об антиподах подвергалось резкой критике еще в античности.
(обратно)
133
Розалида, гипократов глинтвейн — сладкие напитки из подогретого вина с пряностями и фруктами, иногда применявшиеся в лечебных целях.
(обратно)
134
Гербуа — знаменитые парижские повара и кондитеры того времени.
(обратно)
135
…кабинеты, залы и спальни с… огромными зеркалами… — Большие зеркала в XVII в. были необыкновенной роскошью, см. примеч. 10 к сказке «Синяя птица».
(обратно)
136
…которой вы сами правили ловчее, чем Солнце своей колесницей… — Подразумевается колесница бога солнца Гелиоса (по иным вариантам мифа — Аполлона) в древнегреческой мифологии.
(обратно)
137
Аталанта — героиня древнегреческой мифологии, отличавшаяся необычайной быстротой в беге. Ее рука была обещана тому, кто победит ее в состязании. Победа досталась Гиппомену, которому Афродита дала золотые яблоки. На бегу он бросал их одно за одним, а Аталанта останавливалась, чтобы подбирать их, и поэтому проиграла состязание (см.: Овидий. Метаморфозы. X. 560–707).
(обратно)
138
Гиппогриф (иначе иппогриф) — мифическое существо с телом коня, головой и крыльями орла. На гиппогрифе путешествуют герои поэмы Ариосто «Неистовый Роланд», популярной во Франции в XV–XVII в.
(обратно)
139
Буланая масть — одна из самых древних мастей лошади; светло-рыжая, часто с красноватым отливом, с черными гривой и хвостом.
(обратно)
140
…граф не счел нужным прятать свои кружева и дал выбиться на поверхность огненно-красной ленте, которой были обшиты ворот и манжеты его рубашки. — Кружева в это время недавно вошли в моду и были предметом гордости; ленты выполняли двойную функцию: удерживали сборки и контрастным ярким цветом подчеркивали белизну белья.
(обратно)
141
…по французской моде. — Во Франции был моден длинный узкий камзол, без крылышек, в отличие от пурпуэна.
(обратно)
142
Virtuoso (ит.) — виртуоз, мастер. Однако в данном случае слово употреблено в иронически-фигуральном смысле.
(обратно)
143
— Клянусь святым Иаковом, покровителем Испании… — Св. Иаков — один из двенадцати апостолов, один из сыновей Зеведеевых (брат его Иоанн Богослов, евангелист, автор Апокалипсиса; мать Саломея, спутница Христа и апостолов). После сошествия Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы (Деян. 2: 1–4) переправился через Средиземное море и проповедовал Евангелие в Испании и Португалии. Похоронен в соборе в Сантьяго-де-Компостела (см. примеч. 5 к первой части данной новеллы) и считается покровителем Испании.
(обратно)
144
…разница между вами и мною столь же велика, сколь между Фениксом и Вороном. — Аллюзия на басню Лафонтена «Ворона и Лисица» (Le Corbeau et le Renard), где Лисица, уговаривая Ворону спеть, называет ее «Фениксом этого леса».
(обратно)
145
Лукман — полулегендарный арабский мудрец, которому приписывают множество изречений и басен, имеющих явное сюжетное сходство с баснями Эзопа. В XVII в. ему иногда приписывали некоторые басни Эзопа.
(обратно)
146
Эзоп — полулегендарный древнегреческий баснописец V в. до н. э. Сюжеты его басен использовал Лафонтен, он же написал «Жизнь Эзопа-фригийца», которая открывает издание его собственных «Басен».
(обратно)
147
Сказка представляет собой сочетание типов АТ 327 (Мальчик с пальчик — в тексте мадам д’Онуа действительно заметно влияние одноименной сказки Шарля Перро: как и в «Мальчике с пальчик», брошенные в лесу дети три раза ищут дорогу домой, два из них успешно, а третий — тщетно; так же они попадают в дом людоеда и спасаются хитростью) и АТ 510 (Золушка). Мадам д’Онуа ориентируется непосредственно на сказки Шарля Перро.
Первая часть имени героини восходит к сказке мадемуазель Леритье де Вилландон «Вострушка, или Ловкая принцесса» (L’Adroite princesse, ou Les aventures de Finette; 1696). С героиней сказки Леритье «Вострушку-Золянку» роднит не только имя, но и противопоставление двум старшим сестрам (тоже недостойным), а также главное (и заглавное) качество: находчивость.
Вторая часть имени отсылает к «Золушке» Шарля Перро. Вспомним, что героиню Перро злые сестры называют «Cucendron» (фр. cul или, в написании Перро, «ей», что значит «зад» и cendre, т. е. «пепел», «зола»). В конце сказки д’Онуа героиня один раз названа «Cendrillon», т. е. буквально именем Золушки из сказки Перро. Трудно сказать, по небрежности или нарочно героиня названа этим именем, вместо своего обычного (Finette) Cendron.
(обратно)
148
Фея Мерлуза — форма имени Мелюзина, см. примеч. 1 к «Принцу-Духу» и примеч. 7 к «Апельсиновому дереву и Пчеле».
(обратно)
149
…прихватила с собою два фунта масла, несколько яиц и немного молока и муки, чтобы испечь превосходный пирог и угодить фее. — В разных регионах Франции существовала традиция приносить феям подношения в виде лакомств.
(обратно)
150
…приклеили мушки… — Мушки — косметическое средство, бывшее в моде в XVII–XVIII вв. Делались из черной ткани (как правило, тафты или бархата) и наклеивались на лицо, шею, грудь. Применялись для того, чтобы скрыть неровности кожи и оттенить ее белизну.
(обратно)
151
Человечинка. — См. примеч. 1 к «Апельсиновому дереву и Пчеле».
(обратно)
152
Португальские апельсины. — Апельсины во Францию в ХУП в. привозили из Португалии или из Китая.
(обратно)
153
Принц Милон (в оригинале — принц Шери «Chéri» (фр. «милый»)) — прекрасный принц, частый персонаж народных и литературных сказок.
(обратно)
154
Монпелье — город на юге Франции, славящийся одним из лучших медицинских университетов Европы, основанным еще в 1220 г. Там учился, в частности, Франсуа Рабле (ок. 1494–1553).
(обратно)
155
…превосходила красотой Елену Прекрасную. — Речь о героине поэмы Гомера «Илиада», жене царя Менелая, похищенной Парисом, что стало поводом к началу Троянской войны. В древнегреческой мифологии Елена считалась прекраснейшей из женщин.
(обратно)
156
Золушка. — См. преамбулу к данной сказке.
(обратно)
157
Менуэт — старинный французский народный танец, с середины XVII в. ставший бальным и вскоре широко распространившийся по всей Европе.
(обратно)
158
Лима — город в Перу (с 1821 г. — столица), а не в Мексике, как утверждает донья Хуана, а вслед за ней в дальнейшем и граф. Если первую ошибку можно было бы счесть насмешкой автора над необразованной героиней, то вторая свидетельствует о невнимании самого автора к географическим деталям. И Мексика, и Перу в XVI–XVII вв. — колонии Испании; Мексика для европейского читателя ассоциируется с Латинской Америкой вообще, Перу — с Южной Америкой.
(обратно)
159
«Метаморфозы» — мифологическая поэма великого древнеримского поэта Публия Овидия Назона (43 г. до н. э. — 18 г. н. э.); повествует обо всех превращениях героев греческой и римской мифологии в животных или растения, начиная от сотворения мира. Ирида. — См. примеч. 10 к первой части «Дона Габриэля Понсе де Леон».
(обратно)
160
…уехать с нею в Индию. — Индией в литературе XVII в. нередко называют Америку.
(обратно)
161
Херика — город и муниципалитет в Валенсии. До 1098 г. принадлежала Кордовскому халифату. В разное время была баронством, графством, герцогством, принадлежала инфантам Арагонским, но никогда не бывала самостоятельным королевством. О роде Понсе де Леон см. примеч. 1 к сказке «Дон Габриэль Понсе де Леон. Начало».
(обратно)
162
…невинно оклеветанную королеву Гранады, которую ее муж, король Чико, хотел предать казни. — Королева Гранады. — Очевидно, подразумевается Морайма, рано умершая супруга Боабдила. История с ревнивыми подозрениями короля и с ее спасением, очевидно, восходит к роману Хинеса Переса де Иты «Повесть о раздорах Сегри и Абенсеррахов, мавританских рыцарей из Гранады» (М.: Наука, 1981. (Литературные памятники)). Королеву клеветнически обвиняют в любовной связи с одним из Абенсеррахов, мавританского благородного рода в Гранадском эмирате. Невиновность королевы и Абенсеррахов была доказана в поединке четыре на четыре: побежденные рыцари Сегри перед смертью признались в клевете.
Король Чико. — Имеется в виду Мухаммед XVI (1459–1533), прозванный христианами Боабдиль эль Чико (chico — исп. маленький или малыш; здесь скорее в значении «младший» или «молодой») — последний мусульманский король (эмир) Гранады. 2 января 1492 г. Гранада была захвачена Католическими королями Изабеллой Кастильской и Фернандо Арагонским.
(обратно)
163
Де Агиляр — один из древнейших родов Испании. Алонсо де Агиляра, о котором рассказывает дон Луис, идентифицировать не удалось.
(обратно)
164
Аврора. — См. примеч. 3 к «Золотой Ветви».
(обратно)
165
Тип сказки близок к АТ 425 (Необыкновенный супруг). Сказка о девушке, полюбившей заколдованного принца в облике цветка, есть и у Катрин Бернар — «Принц Розовый Куст», и написана она годом раньше, чем «Фортуната». Но полного соответствия устной традиции нет ни в первой, ни во второй.
(обратно)
166
Зефир — в древнегреческой мифологии западный ветер; считался весенним ветром и изображался в виде крылатого юноши, несущего цветы и нередко украшенного ими. См. также примеч. 5 к «Острову Отрады».
(обратно)
167
Флора. — См. примеч. 2 к «Синей птице».
(обратно)
168
…коней, влекущих солнечную колесницу. — В древнегреческой мифологии бог солнца Гелиос объезжает небо на колеснице. В эллинистическую эпоху этот солнечный бог стал отождествляться с Аполлоном и стал также упоминаться под именем Феб. Во французской придворной культуре с солнцем отождествляется Людовик XIV, «король-Солнце», см. примеч. 18 к сказке «Принц-Дух». В 1668–1671 гг. в Версале, резиденции Людовика XIV, был построен Бассейн Аполлона со скульптурным изображением солнечного бога на колеснице («Фонтан Аполлона»), выполненным Жан-Батистом Тюби по эскизам Шарля Лебрена.
(обратно)
169
…зеленый наряд, расшитый золотом, чтобы поразить нас им в первый же день. — Очевидно, речь идет о наряде для первого дня свадьбы; зеленый цвет считался цветом женственности.
(обратно)
170
Пассакалья (иначе пассакалия) — исп. pasacalle, «уличная песня», букв, «проход по улице» (исп. pasar — «проходить» и calle — «улица»). Песня, позднее танец, испанского происхождения; медленная и торжественная, иногда траурная мелодия первоначально исполнялась на улице в виде импровизации на гитаре, служа музыкальным фоном для разъезда гостей после празднеств. С XVII в. исполнялась также на клавишных инструментах. У мадам д’Онуа употребление термина, вероятно, произвольное.
(обратно)
171
Сарабанда. — См. примеч. 13 к «Синей птице».
(обратно)
172
Река Минстрио; Валентия. — Ни такой реки, ни такого города нет ни в Испании, ни в Португалии. Возможно, под «Минстрио» подразумевается Миньо, река в Галисии. «Валентия», в числе прочего, древнеримское название Валенсии, но она довольно далека от предмета устремлений героев.
(обратно)
173
Иеронимитки — женская ветвь монашеского ордена Св. Иеронима, учреждена в Толедо в 1374 г., спустя год после учреждения ордена.
(обратно)
174
Донья Ифигения (де Агиляр). — Имя героини, очевидно, выбрано не случайно. В древнегреческой мифологии Ифигения — дочь царя Микен Агамемнона, которую должны были принести в жертву богине Артемиде в Авлиде, перед началом Троянской войны. Согласно легенде и опиравшейся на нее трагедии Еврипида, Артемида спасла ее и сделала своей жрицей в Тавриде. Ифигения — героиня одноименной трагедии Расина (Iphigénie; 1674). Ифигения де Агиляр — монахиня, т. е. хранит безбрачие, подобно жрице Артемиды. Из пяти (не считая исчезнувшей из повествования после сцены вечернего музицирования девицы Розы) женских персонажей новеллы она одна не имеет любовной интриги. Подобно тому, как Ифигения древнегреческой мифологии неожиданно обретает (в лице пленника, предназначенного для жертвоприношения) своего брата Ореста, Ифигения в данной новелле в лице «пленницы», возможно предназначенной для отречения от мира (т. е. в своем роде тоже в жертву), обретает невесту своего брата, от которой узнает новости о последнем.
(обратно)
175
Он поспешил в Малагу… приехать прямо в Андалусию. — Непонятное пояснение; город и провинция Малага являются частью обширной области Андалусии, куда входит 8 провинций. Ее центром в XVII в. была Кордова (кроме нее — Гранада и Севилья, не Малага). Точных деталей дальнейших перемещений героя в новелле не дается.
(обратно)
176
…монастырь (босоногих) кармелиток в Севилье… — Основан в 1575 г. св. Терезой Авильской (Терезой Иисуса; 1515–1582), одной из святых покровительниц Испании и учредительницей ордена босоногих кармелиток.
(обратно)
177
Тип сказки о принцессе в зверином обличье соотносится с АТ 410 (Заколдованная принцесса в замке). Определенных литературных источников у данной сказки не просматривается. Также не прослеживается четкого соответствия какому-либо устному сказочному типу.
«Побрякушка» — одна из наиболее ироничных сказок мадам д’Онуа. Авторская ирония выражается прежде всего в том, что в большей части сказки прекрасная героиня фигурирует в обезьяньем обличье. Пародийно обыгрывается мотив торжественного посольства за невестой. Не менее карнавально выглядит и рыцарский турнир, столь бесславно закончившийся для принца-героя. Наконец, волшебный помощник Бирока и его царство заставляют вспомнить многочисленные изображения Нептуна в окружении его подводной свиты.
(обратно)
178
…подобно сивилле… — Сивилла в древнегреческой и древнеримской культуре — оракул божества, т. е. прорицательница, вещавшая от имени вопрошаемого людьми бога. Наиболее известны Кумекая и Дельфийская сивиллы.
(обратно)
179
…важный, как римский диктатор, и мудрый, как Катон. — Диктатор — чрезвычайное должностное лицо в Древнем Риме в период Республики (V — вторая половина I в. до н. э.), назначавшееся консулами по решению сената. Катон — здесь, очевидно, подразумевается Марк Порций Катон Старший (Цензор, 234–149 гг. до н. э.), римский государственный деятель и писатель.
(обратно)
180
Марципан — сладость итальянского происхождения (известна с XIV в.), фигурки из пасты на основе толченого миндаля.
(обратно)
181
Фаготен (фр. Fagotin). — См. примеч. 17 к «Принцу-Духу».
(обратно)
182
…время — учитель чудный. — Аллюзия на фразу, которую в комедии Мольера «Школа жен» произносит Орас: «…любовь — учитель чудный» (Мольер 1957. Пер. Василия Гиппиуса).
(обратно)
183
…глядя на игру в кольцо… — См. примеч. 22 к «Принцу-Духу».
(обратно)
184
Шодрэ — деревня в пригороде Парижа, где в 1690-е годы практиковал знаменитый целитель. Насмешки над шарлатанами — общее место сказок мадам д’Онуа и вообще легкой литературы конца XVII в., см., напр., примеч. 21 к «Дону Габриэлю Понсе де Леон. Начало». Шодрэ насмешливо упоминается и у Мольера, в комедии «Мнимый больной».
(обратно)
185
Жила она в бутылке как хамелеоны: питалась воздухом и росой. — Согласно поверьям, сохранявшим актуальность до XVIII в., хамелеоны питаются воздухом (почему часто открывают рот) и росой.
(обратно)
186
Буцефал — необыкновенный свирепый конь (имя переводится с древнегреческого как «бычьеголовый»), которого сумел укротить десятилетний Александр Македонский. В дальнейшем конь стал его любимцем.
(обратно)
187
Оливет — сельский танец. Согласно словарю Фюретьера (см.: Фюретьер 1690), танцуется группой людей, которые змейкой пробегают между тремя деревьями.
(обратно)
188
…с Сеной, Тамис, Евфратом и Гангом, которые, разумеется, съехались издалека, чтобы повеселиться вместе. — Собрание олицетворенных рек заставляет вспомнить статуи-аллегории рек в Версале (два бассейна по проекту Мансара 1685 г. со скульптурными изображениями рек Франции, выполненными братьями Келлер в 1685–1694 гг.). Вспоминается также «Фонтан четырех рек» в Риме, пьяцца Навона, построенный в 1648–1651 гг. по проекту Бернини. Статуи представляют реки Нил, Ганг, Дунай и Рио де Ла Плата. Тамис (Тамис — Дон) — река в России, протекает в современной Республике Северная Осетия — Алания.
(обратно)
189
Вольт и курбет — фигуры манежной езды.
(обратно)
190
…пришлось ему заехать отдохнуть в лунное царство-государство. — Аллюзия на роман Сирано де Бержерака «Иной свет», первая часть которого называется «Государства и империи Луны» (L’Autre Monde ou les Estate et Empires de la lune; написан в 1650, опубл. в 1657).
(обратно)
191
Вторая из двух «испанских новелл», вошедших в обрамление «Сен-Клу».
Немаловажно имя заглавного героя новеллы. В «Рассказе о путешествии в Испанию» фигурирует некий «Дон Фернан Толедский», «испанец высоких достоинств, племянник герцога Альба», к которому рассказчица, очевидно, полна живой симпатии. Отец дона Фернана из данного текста — маркиз Толедский (см. ниже), что дает основания полагать, что речь идет о том же роде Альба. Третий герцог Альба (1507–1582) носил имя Фернандо Альварес де Толедо и Пиментель.
Так же, как в предыдущей «испанской новелле», здесь имеются аллюзии на роман мадам д’Онуа «История Ипполита, графа Дугласа». Подобно отцу героини романа, герои и героини данной новеллы оказываются похищены корсарами. В одну из юных героинь новеллы, возлюбленную дона Фернана, влюбляется пожилой отец последнего и просит ее руки, а в героиню романа Юлию влюбляется старый сенатор Альберти. Оба пожилых неудачливых влюбленных умирают, потерпев фиаско. Подробнее об аллюзиях мадам д’Онуа на собственное творчество см. с. 845 наст. изд.
В новелле есть и еще одна историческая аллюзия, не менее важная и не менее очевидная. Соперничество отца с сыном, когда первый хочет жениться на возлюбленной второго, которую сам же сватает, — не вызывающий сомнений намек на историю короля Испании Филиппа II (1527–1598), который обручил своего сына, инфанта Дона Карлоса (1545–1568), с принцессой Елизаветой Валуа (1545–1568), но после неожиданной смерти своей второй супруги, Марии I Тюдор (1516–1558), королевы Английской, последовавшей в 1558 году, сам женился на Елизавете. Легенда о взаимной любви Елизаветы (Изабеллы) Испанской и Дона Карлоса известна французской читающей публике конца XVII века, в частности, по произведению Катрин Бернар «Инесса Кордовская. Испанская новелла» (1696). Позднее она легла в основу трагедии Шиллера «Дон Карлос».
(обратно)
192
Леонора; Матильда — имена героинь встречаются во французских романах второй половины XVII в.: имя Леонора Сильва носит одна из главных героинь романа Катрин Бернар «Инесса Кордовская» (впервые опубликован в 1696). Матильда Агиляр — героиня одноименного романа Мадлен де Скюдери (Mathilde d’Aguilar; 1667). Элеонора и Матильда — героини еще одного романа Катрин Бернар «Элеонора д’Ивре» (Eléonore d’Yvrée; 1687).
(обратно)
193
Дон Фернан. — Судя по «Рассказу о путешествии в Испанию», мадам д’Онуа различает имена «Фернандо» и «Фернан» (устаревший, практически исчезнувший вариант, встречавшийся в средневековых романсах, но также и просто французское произношение имени Фернандо). Так или иначе, в данном случае мы сохраняем имя в соответствии с оригиналом.
(обратно)
194
Аргус (Аргос или Apr) — в древнегреческой мифологии многоглазый (по некоторым вариантам, стоглазый или тысячеглазый) великан; в переносном смысле — зоркий, недремлющий страж.
(обратно)
195
Эскуриал — королевская резиденция в Испании, дворец, где располагался испанский двор.
(обратно)
196
Марокко. — Упоминание Марокко, очевидно, навеяно дипломатическими контактами Франции с этой африканской страной в момент создания сказки. В 1689 г. посол Франции Франсуа Пиду де Сент-Олон посетил правителя Марокко Муллу Измаила. Французский двор готовился к ответному визиту Абдаллы бен Айша, адмирала и посла Марокко во Франции, состоявшемуся в феврале 1699 г.
(обратно)
197
…приветствовали ее такими причудливыми поклонами… произнося на все лады то «и», то «а», то «о»… — Явная аллюзия на сцену из IV акта комедии Мольера «Мещанин во дворянстве» (1670), в которой появляются слуги, переодетые турками.
(обратно)
198
Escondido a todos | Por ser visto de tus lindos ojos. — Перевод, который дает автор, не точно соответствует смыслу испанской фразы, а сама фраза грамматически не вполне корректна. Фраза, желаемая автором, звучала бы: «Escondido de todos para ver tus lindos ojos». Естественно предположить, что неточность допущена мадам д’Онуа при переводе французской фразы на испанский язык, а не наоборот. Более точный перевод получившейся испанской фразы: «Я прячусь ото всех, чтобы твои прекрасные глаза видели меня».
(обратно)
199
Варенья. — Под вареньями (фр. confitures) подразумеваются засахаренные фрукты; об употреблении шоколада (напитка) см. примеч. 8 к «Принцессе Веснянке».
(обратно)
200
Хотя отдельные мотивы «Желтого Карлика» часто встречаются в фольклоре (слишком разборчивая невеста; «запродажа», т. е. ребенок, обещанный чудовищу), его сюжет и стилистика чисто литературные.
Сказка вошла в четвертый том «Сказок фей» д’Онуа, вышедший, в отличие от трех предыдущих, не в 1697, а в 1698 г.
(обратно)
201
…принцессу наряжали Палладой, или Дианой… — (Афина) Паллада — в древнегреческой мифологии — богиня рациональной и справедливой войны, в отличие от неистового бога войны Ареса. Также богиня мудрости, покровительница наук. Дочь царя богов-олимпийцев Зевса, рожденная из его головы.
(обратно)
202
Тисифона — одна из трех Эриний, богинь мщения, обитательниц Аида (две другие, Алекто и Мегера, упоминаются ниже).
(обратно)
203
…верхом на крылатом грифоне… — Грифоны — мифические существа с головой и крыльями орла и телом льва.
(обратно)
204
…ее жестокое сердце пленилось красотой молодого государя и она решила сделать его своей добычей… — После разлуки влюбленных сюжет, как обычно в литературных (но не фольклорных!) сказках, удваивается: оба героя должны парировать посягательства на их добродетель. Эта схема, пришедшая из романов (она была воспринята барочным романом из греческого), станет ведущей для галантной сказочной повести, сказки и бурлескной поэмы 1730–1740-х годов.
(обратно)
205
…стены этого замка… представляли собой раскаленные зеркала… — Зеркала довольно часто используются в сказках мадам д’Онуа (ср. зеркальные доспехи у героя сказки «История принцессы Ясной Звездочки и принца Милона»).
(обратно)
206
Сирена. — См. примеч. 9 к «Золотой Ветви». В данном случае полуженщина-полурыба — такими предстают сирены в скандинавских легендах. Может быть соотнесена и с сиренами античной мифологии — полуженщинами-полуптицами, заманивавшими мореходов своим прекрасным пением и поедавшими их. О том, как Одиссей избежал гибели, проплывая мимо острова сирен, рассказывается в двенадцатой песни «Одиссеи». И те, и другие сирены считались опасными существами, заманивающими к себе людей.
(обратно)
207
…превратить умерших в деревья. — Подобный конец, характерный для этиологических легенд («Метаморфоз» Овидия), достаточно обычен для д’Онуа — в голубя и голубку превращаются герои ее одноименной сказки. Возможна здесь и литературная реминисценция — так переплетались ветви на могиле Тристана и Изольды. В более поздних литературных сказках подобные «этиологии» почти всегда шутливые, пародийные.
(обратно)
208
Тип сказки: АТ 425 А (Амур и Психея). Среди всех сказок мадам д’Онуа эта сюжетно наиболее близка к истории Амура и Психеи, которая не случайно многократно упоминается в тексте.
(обратно)
209
Карабос. — См. примеч. 2 к «Принцессе Веснянке».
(обратно)
210
Испанская кожа — хорошо выделанная и надушенная кожа. Изделия из надушенной кожи вошли в моду во Франции в XVII в. Производиться они начали в Испании, в Кордове.
(обратно)
211
Фортуна — в древнеримской мифологии богиня и воплощение удачи и, шире, судьбы. Культ Фортуны — италийского происхождения, один из древнейших в Риме.
(обратно)
212
Китайские болванчики — небольшие статуэтки, изображающие божества с подвижной головой. Не случайно подчеркивается, что у любимчика королевы бриллиантовое личико: его голова и тело, очевидно, неоднородны. Мода на китайские вещи и подражания им (шинуазри) достигает своего пика в Европе в XVIII в., в эпоху рококо, но начинает свое существование в XVII в. См. примеч. 8 к «Принцу-Духу».
(обратно)
213
…пьесы Корнеля или Мольера. — Вспомним, что либретто трагедии-балета «Психея» написано Корнелем и Мольером. Пьер Корнель (1606–1684) — великий французский драматург, один из основных (наряду с Жаном Расином) основателей трагедии французского классицизма.
(обратно)
214
…принес ей историю Психеи… — Несомненно, подразумевается книга Лафонтена «Любовь Психеи и Купидона». История королевы Дурнушки почти полностью повторяет историю Психеи.
(обратно)
215
Полишинель — имя марионетки итальянского кукольного театра (Пульчинелла), а также одна из масок актера комедии дель арте. Оба типа итальянского театра пользовались популярностью во Франции в XVII в. Мольер вводит Полишинеля в интермедию комедии «Мнимый больной».
(обратно)
216
Прозерпина — в древнеримской мифологии богиня подземного царства, тождественна Персефоне-Коре в древнегреческой. Дочь Зевса (Юпитера) из Деметры (Цереры). С согласия отца, была похищена царем преисподней Аидом (Плутоном). Из-за скорби по дочери богиня плодородия Деметра перестала посылать урожай, тогда, по договору Зевса с Аидом, Прозерпина-Персефона стала две трети года проводить с матерью на Олимпе, а треть (зимние месяцы) — с мужем, в преисподней.
(обратно)
217
…я сын одного испанского гранда… — Гранды (исп. Grandes) — высшая знать Испании в Средние века и позднее. В придворной иерархии гранды следовали непосредственно за инфантами. В XVI в., в царствование Карла I, титул гранда становится официальным придворным титулом, который, как правило, наследуется, но в исключительных случаях может быть дарован за заслуги.
(обратно)
218
…спускался к ней по вечерам через печную трубу; он вылезал оттуда черный как черт. — Сюжет о любовнике, проникающем к замужней женщине через печную трубу, известен еще по средневековым фаблио, а также по плутовским романам. Позднее будет использован, в частности, Ги де Мопассаном.
(обратно)
219
…отправляйтесь-ка вы в этих железных башмаках прямо в Ад да попросите для меня у Прозерпины Эликсир Долгой Жизни… — Открыв сосуд, полученный от Прозерпины, вопреки запрету, любопытная Психея стала черна, как мавританка, и только смилостивившаяся над ней Венера вернула ей былую красоту.
(обратно)
220
…сам Зевес… — точнее, Зевс, верховное божество древних греков, царь богов-олимпийцев.
(обратно)
221
Плутон — в древнеримской мифологии бог подземного царства мертвых, тождественен Аиду в древнегреческой (см. примеч. 8 к этой сказке).
(обратно)
222
Пандора (др.-греч. Πανδώρα) — «всем одаренная». В древнегреческой мифологии женщина необыкновенной красоты, созданная богами и посланная на землю в наказание людям, вместе с ларцом, содержащим все беды мира и надежду. Досталась в жены титану, младшему брату Прометея, Эпиметею. Последний запрещал супруге открывать ларец (ящик), но любопытная Пандора ослушалась, открыла ящик и выпустила из него беды и болезни, а затем в страхе захлопнула его, оставив в нем надежду.
(обратно)
223
Венецианский залив. — От Кадиса до Венецианского залива около 2900 км морем. На парусных судах конца XVII в. такое расстояние проходили примерно за неделю.
(обратно)
224
Бригантина — парусное двухмачтовое судно. В XVI–XIX вв. бригантины преимущественно использовались пиратами (ит. brigante — разбойник, бандит) и были вооружены пушками.
(обратно)
225
…то были корабли Зороми, знаменитого корсара… — Имя корсара вымышленное. На рубеже XVII–XVIII вв. имена на «3» («Z») стали активно использоваться в романах и новеллах как «ориентальный» атрибут: вспомним Зайду у мадам де Лафайет, Зелиду, Зелинду и Зулему у мадам де Вильдье и т. д. (см.: Hipp 1976: 127).
(обратно)
226
…на франкском наречии… — Франкский язык (иначе лингва франка (от ит. lingua franca)) — изначально — смешанный язык, сложившийся в Средние века в Средиземноморье (Левант) на основе французского, итальянского и провансальского, а позднее также и испанского, греческого, арабского и турецкого языков и служивший для общения арабских и турецких купцов с европейцами, которых в Леванте называли франками, откуда и название языка.
(обратно)
227
Сказка нефольклорного происхождения. Явных литературных источников не имеет.
(обратно)
228
Королева души не чаяла в мальчике и решила сама вскормить его… — Мать, сама вскармливающая ребенка, а не доверяющая это дело кормилице, — явление, естественное в сельской местности, но крайне редкое для благородных семей в XVII в. Своего рода «мода» на кормление грудью приходит только с публикацией романа Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (Julie, ou la nouvelle Héloiïe; 1760): героиня сама кормит своих детей. В первой книге своего педагогического трактата «Эмиль, или О воспитании» (Émile, ou de l’éducation; 1762) Руссо также много пишет о важности грудного вскармливания.
(обратно)
229
…чтобы они привыкали смотреть на солнце, не отрывая взора. — См. примеч. 4 к «Золотой Ветви».
(обратно)
230
Фортуна. — См. примеч. 3 к «Зеленому Змею».
(обратно)
231
Амур, или Купидон. — См. примеч. 5 к «Прелестнице и Персинету».
(обратно)
232
Синий Кентавр. — См. примеч. 9 к «Золотой Ветви».
(обратно)
233
Фея Амазонка. — См. примеч. 3 к «Принцу-Духу».
(обратно)
234
Средние области воздушных путей. — Согласно представлениям о физике того времени, отраженным, в частности, в словаре Фюретьера, воздух делится на три области: верхнюю, среднюю и нижнюю.
(обратно)
235
…и неведомо ей было, что она разговаривает с феей, ибо феи в те времена не были явлением столь обычным, каким стали теперь. — Очевидная ирония и само-ирония: «теперь», т. е. во времена создания сказки, феи становятся обычным явлением, поскольку сказки о них входят в моду, и не в последнюю очередь стараниями самой сочинительницы.
(обратно)
236
Фонтанж. — См. примеч. 14 к «Принцессе Веснянке».
(обратно)
237
Темпейская долина и берега реки Линьон. — Темпейская долина находится между горами Олимп и Осса, по ней протекает Пеней, главная река Фессалии. Единственный проход из Македонии в Фессалию. Долина славилась живописной природой. Линьон — живописная река в Центральной Франции, на берегу которой живут Пастухи и Пастушки, герои и героини романа Оноре д’Юрфе «Астрея», и куда в отчаянии бросается Селадон, главный герой романа, идеальный влюбленный, притворно отвергнутый своей возлюбленной, Астреей. Линь-он — несомненный locus amœnus не только «Астреи», но и многих последующих произведений пасторальной литературы. Приводим два отрывка из начала первой книги «Астреи», где изображается Линьон и главные герои романа на его берегах:
Несколько других источников в разных местах струятся по долине, омывая ее светлыми волнами, а наикрасивейший из них — Линьон, столь же непостоянный в течении, сколь и неясный в истоке. Он змеится по равнине от высоких гор Сервьер и Шальмазель до горы Фёр, где Луара принимает его и, заставляя забыть свое имя, несет в дань океану. <…>
Случилось так, что в этот день влюбленный Пастух, поднявшись засветло, дабы предаться своим мыслям, предоставив стаду пастись на еще не смятой траве, отправился на извилистый берег Линьона ждать прихода прекрасной своей Пастушки, спешившей туда же, ибо, разбуженная жгучим подозрением, она не смогла сомкнуть глаз всю ночь. Едва солнце принялось золотить вершины гор Изур и Марсийи, как Пастух увидал вдали и мгновенно узнал стадо Астреи.(Пахсарьян 2005: 73–76)
(обратно)
238
…смятение, для них самих необъяснимое. — Подобное описание первой встречи влюбленных героев — характерный романный топос, начиная с греческого романа II в. н. э. (см.: Rousset 1984).
(обратно)
239
Аврора. — См. примеч. 3 к «Золотой Ветви».
(обратно)
240
…кинжалом вырезал на коре деревца… — Влюбленные герои романа «Астрея» также часто вырезают стихи на коре деревьев, см. примеч. 8 к «Золотой Ветви». Это характерно для всей пасторальной традиции.
(обратно)
241
Сказка нефольклорного происхождения. Явных литературных источников не имеет.
(обратно)
242
…стала походить на вторую Диану. — См. примеч. 9 к «Синей птице». В данном случае авторская ирония заключается в том, что с девственной Дианой сравнивается беременная королева.
(обратно)
243
Каперс — тернистый кустарник, распространенный на Востоке. Плоды каперса в естественном виде или приготовленные в уксусе, употребляются в пищу как приправа. Также применяется в медицине в виде укрепляющего средства.
(обратно)
244
Принцесса… будет прекраснее самой Афродиты… — См. примеч. 5 к «Прелестнице и Персинету».
(обратно)
245
Луцина (лат. Lucina — «светлая») — одно из имен Юноны, древнеиталийской богини, жены Юпитера. Покровительница новолуния, женственности, деторождения и родов.
(обратно)
246
…взгляните на всех этих фей и феев. — В оригинале «feo» — искусственно созданный мадам д’Онуа мужской род от «fée», т. е. «фея». Неологизм мадам д’Онуа, больше нам во французской литературе не встречавшийся. Совпадение с испанским feo (ужасный, безобразный) приходится считать случайным: о безобразии соответствующих персонажей в данной сказке не упоминается.
(обратно)
247
Стикс — в древнегреческой мифологии река в царстве мертвых, через которую перевозчик Харон переправляет души умерших. В эпосе самая страшная, нерушимая клятва богов — клятва Стиксом.
(обратно)
248
Ахерон (ныне Фанариотикос) — древнее название реки в эпирской области Феспротии, согласно древнегреческой мифологии, уходящей в царство мертвых.
(обратно)
249
…его подвиги в должной мере отражают дух эпохи, о коей и идет речь в моей сказке. — Подобные иронические замечания — общее место сказок прециозной культуры. См. мораль сказки «Барашек».
(обратно)
250
Ифигения. — См. примеч. 6 к окончанию «Дона Габриэля…». Психея — в греческой мифологии олицетворение человеческой души; изображалась в образе девушки с крыльями бабочки. Любовь Психеи и Амура (Купидона) — распространенный сюжет в европейской литературе и изобразительном искусстве.
(обратно)
251
…натекли лужи синей крови, а кровь трехглавого коня была зеленой, что создавало на зелие весьма своеобразный оттенок. — Исходя из классических канонов хорошего вкуса, зеленый и синий цвета считались несочетаемыми, а их смесь — нечистой.
(обратно)
252
Греческий огонь — зажигательная смесь из смолы, нефти, серы, селитры и др., применявшаяся в VII–XV вв. в морских боях и при осаде крепостей. Бочки и прочие сосуды с подожженной смесью забрасывались при помощи метательных машин на корабли или в крепости противника. Греческий огонь не гасится водой. Впервые был применен греками в 673 г.
(обратно)
253
…из огромной дыры вылез принц… — Подобный мотив (из тела враждебного чудовища выходит дружественно настроенный герой) редок в фольклорной сказке, но часто встречается в литературной.
(обратно)
254
Мирт (мирта). — См. примеч. 4 к «Синей птице».
(обратно)
255
Тип сказки: АТ 403 (Белая птица и черная птица или Подмененная невеста). Прямых литературных источников проследить не удается. О ее влиянии на последующих авторов см. с. 870–874 наст. изд.
(обратно)
256
…строить его они пригласили того же архитектора, что возвел дворец Солнца, и он сделал все как там, только в миниатюре. — Довольно прозрачный намек на Людовика XIV (короля-Солнце) и его резиденцию Версаль, строившуюся в течение сорока лет такими архитекторами, как Ле Во, Обрэ и Мансар.
(обратно)
257
…из орлиного дерева… — Орлиное дерево, или каламбак, алойное, или райское, дерево — род ароматической древесины, твердой, смолистой, жирной на ощупь и легко воспламеняемой. Получают обычно из дерева рода Аквилария (лат. Aquilaria), принадлежащего к семейству Волчниковые (Thymelaeaceae). В Восточной Азии высоко ценилось как лекарственное и курительное вещество; до начала XX в. в Европу привозилось очень редко.
(обратно)
258
С тех пор как живут на свете вышивальщики и вышивальщицы, никто не видел ничего подобного… — Любовь к рукоделию роднит фей с богинями судьбы Парками, прядущими и обрывающими нить человеческой жизни (см. примеч. 3 к «Принцессе Веснянке» и примеч. 4 к «Сен-Клу»).
(обратно)
259
Очами грозен, как фракийский бог… <…> Победой увенчав кровавый пир, | Он щедрою рукою дарит мир. — С «духом Фракии» (богом войны Аресом, римским Марсом, который, согласно мифологическим источникам, происходил из Фракии, дикой страны с суровым климатом) сравнивается победоносный Людовик XIV, исполнявший на некоторых придворных балах роль Марса, а не только Аполлона (Солнца).
(обратно)
260
…как будто созданы были к свадьбе какой-нибудь молодой принцессы, такой же милой и любезной, как и та, о коей я рассказываю. — Речь идет о Марии-Аделаиде Савойской, юной супруге герцога Бургундского, внука Людовика XIV, свадьба с которым была отпразднована в 1697 г.
(обратно)
261
…да посмотрите же наконец, как черна моя кожа, а какой приплюснутый нос, а мои пухлые губы! — разве можно быть еще красивее? — Перед нами типичное для данной эпохи описание чернокожего (чернокожей), которое во всех основных чертах является карнавальной противоположностью канона красоты, т. е. каноном безобразия.
(обратно)
262
…боясь палочных ударов поболее, чем те послы, коих отправляли к туркам в Порту. — Фр. Porte Sublime, т. е. «Высокая» или «Блистательная Порта» — резиденция турецкого султана; применяется с XV в. Османская (или Оттоманская) Порта — государство, основанное в северо-западной Анатолии тюркскими племенами под управлением Османа I в 1299 г. и просуществовавшее до 1922 г.
(обратно)
263
Забавы, Смехи, Грации, Услады — все перечисленные существа, кроме граций — стаффажные персонажи, в живописи изображавшиеся в виде младенцев, похожих на Амура, но с крыльями бабочек. Упоминаются Лафонтеном в «Любви Психеи и Купидона» (см. с. 859 наст. изд.).
(обратно)
264
Ты нам напомнила Аделаиду… — См. примеч. 5 к этой сказке.
(обратно)
265
…но едва взойдет утренняя заря, как ей снова придется принять облик лани и бегать по долинам и лесам, как ланям и положено. — По указателю мотивов Томпсона это — мотив D 621.1 (Днем животное, ночью человек) (см.: Thompson 1955–58).
(обратно)
266
…займемся чтением новых сказок о феях… — Довольно частый у мадам д’Онуа намек на моду на сказки, а также и на то, что сочинение сказок в 90-е годы XVII в. становится весьма распространенным среди благородных дам занятием (см. Таблицу, с. 950–957 наст. изд.). Сама формулировка («новые сказки о феях») отсылает к заглавию сборника, в который вошла как данная сказка, так и тексты всех четырех томов второго собрания сказок мадам д’Онуа («Новые сказки, или Модные феи»).
(обратно)
267
…наконец, осмелев, подошла еще ближе и, дотронувшись до него, разбудила. — Мотив, когда героиня, разглядывая спящего возлюбленного, будит его, сближает данную сказку с историей Амура и Психеи (см. с. 858–859 наст. изд.).
(обратно)
268
О Амур, о жестокий варвар, как допустил ты, что несравненную красавицу ранги нежнейший друг ее? — Влюбленный ранит свою возлюбленную стрелой, оружием Амура. Весьма характерный пример метафоры любовного преследования как охоты, распространенной в галантной культуре.
(обратно)
269
Тщетно старалась она развязать путы… — Еще одна галантная метафора: подразумеваются любовные путы.
(обратно)
270
…подарила ей четыре золотых прииска в Индиях… — «Индии», т. е. Америка. — См. примеч. 4 к «Дону Габриэлю Понсе де Леону. Продолжение». Подразумевается золото легендарной страны Эльдорадо (Эль Дорадо, с исп. El Dorado — «золотой», «позолоченный», «позолота»), которую искали в Южной Америке конкистадоры XVI в. Легенда имеет реальные основания, т. к. богатые золотые прииски находили в разных странах Латинской Америки, с первых лет ее колонизации.
(обратно)
271
…принцессы августейшей… — Речь идет о Шарлотте-Елизавете Баварской, которой посвящены все сказки мадам д’Онуа (см. примеч. 1 к «Сен-Клу»).
(обратно)
272
…со старшими. — То есть со сказками всех предыдущих томов.
(обратно)
273
Сильваны с нимфами. — См. примеч. 3, см. примеч. 4 к «Сен-Клу».
(обратно)
274
Новый дворянин от мещанства. — Обыгрывается заглавие комедии Мольера «Мещанин во дворянстве», написанной и поставленной в 1670 г. (первая постановка в замке Шамбор, вторая — в Пале-Рояле) и имевшей большой успех при дворе. В других обрамлениях и сказках мадам д’Онуа также встречаются аллюзии на комедии Мольера.
(обратно)
275
Улица Сен-Дени — богатая торговая улица в большом торговом квартале Ле Аль в Париже (правый берег Сены; улица берет начало неподалеку от знаменитого с XII в. рынка Шампо, он же Ле Аль, впоследствии благодаря Эмилю Золя получившего название «чрева Парижа»).
(обратно)
276
…в Нормандии… — См. примеч. 2 к «Принцу-Духу».
(обратно)
277
Дандинардьер. — Еще одна мольеровская аллюзия: обыгрывается имя заглавного героя комедии «Жорж Данден, или Одураченный муж» (1668).
(обратно)
278
Ален — имя слуги Арнольфа в комедии Мольера «Школа жен» (1662).
(обратно)
279
Маркиз — следующий титул после герцога; его можно было купить, но исключительно вместе с маркизатом, каковым, очевидно, не являются земли, приобретенные Дандинардьером. В желании зваться маркизом проявляется комичное тщеславие героя.
(обратно)
280
…весьма статный слуга-гасконец, не утративший бахвальства, свойственного уроженцам этой местности. — Гасконцы считались бахвалами, фанфаронами, забияками и гордецами. Частью этих качеств позднее Александр Дюма наделяет д’Артаньяна.
(обратно)
281
Вильгельм Завоеватель (или Вильгельм Нормандский, по-французски Гийом; 1027 или 1028–1087) — герцог Нормандский, король Англии с 1066 г.
(обратно)
282
В благодарность тот сделал его, не помню точно кем, но, по-моему, коннетаблем. — Коннетабль — в Средние века во Французском королевстве высшая военная государственная должность.
(обратно)
283
…сухопутным адмиралом… — Такого чина никогда не существовало ни во Франции, ни за ее пределами. Явная насмешка над чванливым невежеством мещанина.
(обратно)
284
Он хоть и был в людском обличье, но глаза его горели адской злобой, ноги словно вывихнуты, а на руках когти. — Характерная для автора насмешка над простонародными суевериями.
(обратно)
285
…на Ришарде… — Имя «Richarde» по-французски означает «богачка».
(обратно)
286
Виржиния; Мартонида. — Характерная для прециозных дам манера заменять свои настоящие имена литературными и вычурными часто подвергалась насмешкам — ср.: героини комедии Мольера «Смешные жеманницы» заменяют свои настоящие имена, Като и Мадлон, романными Аминта и Поликсена.
(обратно)
287
Или один из двенадцати пэров Карла Великого? — У Карла Великого (742, иначе 747 или 748–814) было двенадцать пэров, по числу апостолов.
(обратно)
288
Вода Венгерской Королевы. — См. примеч. 11 к «Принцессе Веснянке».
(обратно)
289
Амадис Гальский. — См. примеч. 14 к «Дону Габриэлю Понсе де Леон. Начало».
(обратно)
290
«Меркюр Галан» (фp. Le Mercure Galant) — журнал, основанный Донно де Визе и выходивший во Франции с 1672 по 1710 г., каждый выпуск которого представлял собой толстый том. В нем, в числе прочего, были впервые напечатаны сказки Шарля Перро «Смешные желания» и «Спящая красавица».
(обратно)
291
…погрузившись в философическую летаргию. — Дандинардьер имеет в виду уединение и безмятежность, якобы любимые философами, но предпочитает более ученое слово.
(обратно)
292
…фаворита Карла VIII и его коннетабля… — Карл VIII (1470–1498) — король Франции с 1483 г., самостоятельно правивший с 1491 г., из династии Валуа. Сын Людовика XI. В 1491 г., осадив Бретань и взяв в жены Анну Бретонскую, присоединил Бретань к Франции. В 1494 г. предпринял Итальянский поход, в августе перешел через Альпы, короновался, принял титул короля Неаполитанского, Иерусалимского и императора Востока, который носил менее года. Поход оказался безрезультатным. Карл VIII не оставил прямых наследников.
(обратно)
293
Эти сказки нынче в моде, все их читают. — Насмешки над недавно возникшей во Франции модой на сказки — общее место в сказках первых французских сказочниц.
(обратно)
294
Тип сказки: АТ 402 (Невеста-мышка). Важна и перекличка с баснями Лафонтена, прокомментированная ниже.
(обратно)
295
…знаменитые сказки об Ослиной Шкуре, о Вострушке, об Апельсиновом дереве, о Прелестнице, о Спящей красавице, о Зеленом Змее и бесчисленное множество других. — «Ослиная шкура», увидевшая свет в 1694 г., — первая из опубликованных волшебных сказок Шарля Перро. «Спящая красавица», написанная годом позже, была опубликована в «Mercure Galant». Финетта (Вострушка) — героиня сказки Мари Жанн Леритье де Вилландон (1664–1734) «Ловкая принцесса, или Приключения Вострушки» (вошла в сборник «Œuvres melées», 1705). Схожее имя (Finette Cendron) носит героиня одноименной сказки мадам д’Онуа («Вострушка-Золянка», см. наст. изд.), так что невозможно установить, какую из сказок имеет в виду автор. «Апельсиновое дерево и Пчела», «Прелестница и Персинет» и «Зеленый Змей» — также сказки мадам д’Онуа, приведенные в настоящем издании. Антологические черты данной сказки и многих других литературных сказок, начиная с конца XVII в., подробно рассмотрены Жаном Франсуа Перреном (см.: Perrin 2004).
(обратно)
296
Принц-Дух — герой одноименной сказки мадам д’Онуа.
(обратно)
297
…но тут другие руки довольно решительно подтолкнули его вперед. — Конечности, отделенные от тел и служащие вместо утвари, нередко встречаются в сказках устного происхождения. Руки без тел, которые встречают героя, служат ему, держат подсвечники и даже подталкивают героя в спину, впоследствии были использованы Жаном Кокто в фильме «Красавица и Чудовище».
(обратно)
298
…большое удобное кресло, само подкатившееся к камину… — Подобные кресла, которые можно было катить, а положение спинки — регулировать и в которых было удобно дремать — распространенный в XVII в. предмет богатой обстановки.
(обратно)
299
Адонис — фригийское божество, олицетворяющее умирающую и воскресающую природу. Юный красавец охотник, погибший от ран, нанесенных диким вепрем. Возлюбленный Афродиты.
(обратно)
300
…вот Салоед, повешенный за ноги на совете крыс, вот Кот в сапогах, маркиз де Карабас, вот Ученый Кот, вот Кошка, превращенная в женщину, и Колдуны, превращенные в котов, а вот и шабаш со всеми его церемониями — словом, самые что ни на есть замечательные картины. — Салоед (Родилард) — имя Кота в баснях Лафонтена «Совет Мышей» и «Кот и старая Крыса». «Кошка, превращенная в женщину» — также басня Лафонтена. Маркиз Карабас и Кот в сапогах — герои одноименной сказки Шарля Перро. Представление о том, что колдуны и ведьмы могут превращаться в котов и кошек, часто встречается в фольклоре разных стран. Также коты и кошки воспринимаются как атрибуты колдунов и ведьм, очевидно, отсюда их связь с шабашем. Как указывает в своем комментарии Надин Жасмен, подобное антологическое перечисление знаменитых котов и кошек, изображенных на картинах в замке, можно рассматривать как пародийную отсылку к изображениям исторических деятелей на стенах и плафонах в галереях Версаля. На то, что антологические перечисления сказочных героев (см. примеч. 1, см. примеч. 2 к этой сказке) становятся общим местом во французских сказках рубежа XVII–XVIII вв., указывает Жан Франсуа Перрен (см.: Perrin 2004:145–171).
(обратно)
301
Мэтр Котаус — в оригинале Минагробис (фр. Minagrobis). Имя является укороченным «Раминагробис» — см. примеч. 10 к «Принцу-Духу».
(обратно)
302
…зеркала тянулись от пола до потолка… — В Европе середины XVII в. большие зеркала — модный и довольно редкий предмет роскоши, см. примеч. 10 к сказке «Синяя птица».
(обратно)
303
Дон-Кихот. — См. примеч. 15 к началу новеллы «Дон Габриэль Понсе де Леон».
(обратно)
304
…собачка, которая прекрасней Большого Пса Сириуса. — Большой Пес — созвездие Южного полушария неба. Сириус — самая яркая звезда этого созвездия.
(обратно)
305
Собачка переливалась всеми цветами радуги, а ее мягкая шерстка и уши свисали до самого пола. — Собачки из волшебных мест, чья шерстка переливается всеми цветами радуги, встречаются в средневековых рыцарских романах. В некоторых версиях романа о Тристане и Изольде такая собачка по имени Пти-Крю, присланная с острова фей Авалона, есть у Жилена, герцога Уэльского. Тристан получает ее в награду за победу над великаном и посылает ее в дар Изольде. Этот эпизод легенды о Тристане и Изольде подробно рассказан Жозефом Бедье, «Тристан и Изольда» (1900), глава 14 («Волшебная погремушка»). Источником Бедье служит соответствующий эпизод из «Романа о Тристане» Тома (начало XIII в.).
(обратно)
306
…в сговоре с Рубакой и Отшельником — крысами, весьма известными в округе, — таковыми их считает Лафонтен, а этот автор всегда говорит только правду. — Имен, упоминаемых мадам д’Онуа в оригинале (фр. Martafax и Lermite), нет в баснях Лафонтена Однако в басне «Мышь, удалившаяся от света» (Le Rat qui s’est retiré du monde), не однажды встречается слово ermite (фр. отшельник). Имя Artarpax (созвучное Martafax) есть в басне «Война Крыс и Ласок» (Le Combat des Rats et des Belettes). Очевидна ирония во фразе «а этот автор всегда говорит только правду» — применительно к Лафонтену, автору басен и сказок.
(обратно)
307
Я мечтаю заполучить такую-то драгоценность из собрания Великого Могола… — Великий Могол — правитель империи Великих Моголов, государства, существовавшего на территории современных Индии, Пакистана и юго-восточного Афганистана с 1526 по 1540 и с 1555 по 1858 г.
(обратно)
308
— Не подумайте, принц, что я всегда была Кошкой или что происхождение мое безвестно. — Как указывает в своем комментарии Надин Жасмен, обретя человеческий облик, героиня переходит от фамильярного обращения на «ты» к изысканному «вы».
(обратно)
309
Каждая сидела в жемчужной раковине, больше той, на которой Венера явилась из морской пены. — По одной из версий мифа (см. примеч. 5 к сказке «Прелестница и Персинет»), богиня Афродита (Венера) родилась из морской пены, откуда ее прозвища Понтия (Морская) и Анадиомена (Выныривающая). Известны фреска из Помпей и другие образцы античного искусства, на которых богиня изображается лежащей или стоящей в раскрытой раковине. Наиболее известное в европейском искусстве и, очевидно, наиболее актуальное для XVII в. произведение искусства с таким сюжетом — картина Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» (1484–1486).
(обратно)
310
Бранль — народный круговой танец, упоминается с XIII в. Около XVI в. становится придворным бальным танцем.
(обратно)
311
…проникнуть в нее можно было только через окна, расположенные очень высоко. — Башня без дверей, где взаперти держат девушку, встречается и в других сказках мадам д’Онуа (см., например, «Голубь и Голубка», «Синяя птица»). В такой же башне держат героиню в средневековом романе «Флуар и Бланшефлёр». В фольклорной традиции это сказочный тип АТ 310, сказка о девице в башне (Рапунцель или, во французской традиции, Persinette — «Петрушечка»). См. также примеч. 12 к «Острову Отрады».
(обратно)
312
«Я чую человечий голос!..» — Ведьма, людоед, лесной демон и прочие сверхъестественные существа, принюхивающиеся к запаху человека — общее место волшебных сказок разных народов.
(обратно)
313
…твоя работа похожа на ту, что делала Пенелопа… — Согласно поэме Гомера «Одиссея», Пенелопа пообещала женихам выбрать себе мужа после того, как закончит ткать покрывало. Днем она ткала, а ночью распускала сотканное за день.
(обратно)
314
О tempora, о mores! (лат. «О времена, о нравы!») — Кичась своей ученостью, Дандинардьер употребляет одно из самых классических и хрестоматийных латинских изречений (Цицерон, «Речи против Каталины»), с которых начинается изучение латыни.
(обратно)
315
Тип сказки: АТ 513 (Наделенные дарами или Одаренные). Этот тип ранее использовал Базиле в нескольких сказках. История любви королевы к героине, переодетой юношей, — довольно частый в творчестве Мари-Катрин д’Онуа случай автоцитирования. В романе «История Ипполита, графа Дугласа» маркиза Бекерли влюбляется в главную героиню романа, Юлию, переодевшуюся паломником и назвавшуюся «Сильвио». Однако к моменту создания романа (1690) мотив влюбленности женщины в женщину, переодетую мужчиной, уже хорошо известен в европейской литературе. Источник, наиболее близкий сюжетно, — комедия Шекспира «Двенадцатая ночь», где переодетая юношей героиня по имени Виола, под вымышленным именем Цезарио, становится пажом герцога Орсино, который проникается к ней необычайной симпатией (и финал комедии оставляет возможность последующего брака между ними). В то же время в Виолу-Цезарио влюбляется Оливия, возлюбленная Герцога. Творчество Шекспира весьма актуально для мадам д’Онуа: видимо, не случайно героиня любовного романа носит имя Юлия, аналогичное имени Джульетта. Кроме того, не будем забывать, что переодевание женщины мужчиной и наоборот — общее место барочного (галантного) романа. Так, главный герой романа «Астрея» вынужден переодеться девушкой и, назвавшись друидессой по имени Алексис, сделаться «подругой» своей возлюбленной Астреи.
(обратно)
316
Пегас — в греческой мифологии крылатый конь, по одной из версий рожденный из тела Медузы после того, как Персей отрубил ей голову. Посейдон дал Пегаса своему сыну Беллерофонту, чтобы тот мог победить чудовище Химеру. Буцефал. — В этой сказке упоминание о коне Александра Македонского (см. примеч. 9 к «Побрякушке») дано скорее в пародийном употреблении: хозяин «улещивает» Камарада.
(обратно)
317
…тайно сочетаться с ним браком… — В подобном несостоявшемся мезальянсе Надин Жасмен предлагает видеть намек на тайный брак кузины Людовика XIV Анны-Марии-Луизы Орлеанской, мадемуазель де Монпансье («Большой Мадемуазель») в 1670 г. с гасконским кадетом Лозюном, которого Людовик XIV, узнавший о мезальянсе, на 10 лет заключил в тюрьму.
(обратно)
318
…я воспеваю и Амура, и Бахуса… — Амур. — См. примеч. 5 к «Прелестнице и Персинету». Бахус — римское написание имени «Вакх» — одного из имен Диониса, бога виноделия в древнегреческой мифологии. Фраза означает: «воспеваю и любовь, и вино».
(обратно)
319
Люлли Жан-Батист (Джованни-Баттиста) (1632–1687) — французский композитор итальянского происхождения, создатель французской национальной оперы, самый популярный композитор Франции середины века, см. примеч. 15 к сказке «Остров Отрады». Авторскую иронию можно увидеть в том, что имя Люлли здесь упоминается почти как нарицательное.
(обратно)
320
Аталанта. — См. примеч. 7 к «Барашку».
(обратно)
321
Семеро одаренных. — Мотив состязания людей, одаренных необыкновенными способностями, принадлежит к сказочному типу АТ 653 (Четверо ловких братьев) и его частному случаю АТ 653 А (Самая драгоценная вещь). До мадам д’Онуа подобный мотив встречается в новеллах Страпаролы и Базиле, а также в сказке г-жи де Мюра «Сказка об отце и четверых его сыновьях» (Le Père et ses quatre fils; 1699).
(обратно)
322
…до каких крайностей дошел Фортунат в обращении с ней. — Обвинение равнодушного возлюбленного в насилии отсылает к Ветхому Завету (Быт. 39: 7–20), где подобным образом жена Потифара обвиняет Иосифа. Однако влюбленность как королевы, так и ее фрейлины в девушку, переодетую юношей, возможно, отсылает, с одной стороны, к комедии Шекспира «Двенадцатая ночь», а с другой — к роману самой мадам д’Онуа «История Ипполита, графа Дугласа», где в главную героиню, Юлию, переодетую юношей, влюбляется маркиза, вторая жена бывшего мужа самой Юлии.
(обратно)
323
…господин Ла Дандинардьер отважнее Александра и Цезаря… — Александр. — Имеется в виду Александр Македонский (ок. 356–323 гг. до н. э.), один из величайших полководцев в истории. Гай Юлий Цезарь (100 или 102–44 г. до н. э.) — древнеримский государственный деятель, консул (в первый раз — в 60 г. до н. э.), диктатор (с 49 г. до н. э.), полководец, писатель.
(обратно)
324
Капор — любой женский головной убор с жесткими полями, прикрывающий щеки.
(обратно)
325
…нравилось изобретать да перекраивать слова и говорить чуднó. — Насмешка над вычурной манерой говорить, принятой у прециозниц.
(обратно)
326
Тип сказки (в начале): 327 С (Ребенок в мешке (у людоеда); по указателю Деларю — Тенез).
(обратно)
327
Фея умела читать по звездам с той же легкостью, с какой в наши дни читают новые сказки, каждый день выходящие в свет. — Насмешливый намек на многочисленные сборники волшебных сказок, опубликованные во Франции в 1690-е годы, а также, собственно, на сборник сказок самой мадам д’Онуа «Новые сказки, или Модные феи», в который и входит данная сказка.
(обратно)
328
Темпейская долина. — См. примеч. 9 к «Принцессе Карпийон».
(обратно)
329
…могла давать уроки музам и самому божественному Аполлону. — Музы — в древнегреческой и древнеримской мифологии — девять дочерей Урана и Геи, богини искусств и наук, составляющие свиту Аполлона. В древнегреческой и римской мифологии Аполлон, сын Зевса и Латоны, — бог-покровитель искусств (и прежде всего музыки) и наук, предводитель муз.
(обратно)
330
Матушка Амуров — перифраз; подразумевается Венера (см. примеч. 5 к «Прелестнице и Персинету»).
(обратно)
331
Юпитер — в древнеримской мифологии царь богов, тождественен древнегреческому Зевсу.
(обратно)
332
…все книги Эскулапа. — Эскулап — латинская форма имени Асклепий. В древнегреческой и древнеримской мифологии — бог-врачеватель, сын Аполлона. За воскрешение из мертвых одного из смертных (по некоторым источникам — Ипполита, сына Тесея) был убит молнией Зевса.
(обратно)
333
Она сорвала мирт, клевер, другие травы и цветы, одни были посвящены Купидону, другие — его матери; потом, взяв перья голубки, пролила на них несколько капель крови голубя, воззвав к покровительству всех божественных сил и фей… — Мирт. — См. примеч. 4 к «Синей птице». Героиня готовит для своего возлюбленного лекарство, но символика ингредиентов, посвященных божествам любви, заставляет вспомнить о любовных зельях или о любовном напитке, выпитом Тристаном и Изольдой.
(обратно)
334
Синяя птица. — Мадам д’Онуа подразумевает собственную одноименную сказку.
(обратно)
335
…дверей в них нет… — Мотив башни без дверей, где взаперти держат девушку, встречается, напр., еще в «Синей птице», «Принцессе Розетте» и «Белой Кошке».
(обратно)
336
…без устали играть одну и ту же роль в этом великом театре мира… — Театр мира (лат. teatrum mundi) — весьма частый мотив культуры барокко. Ср. реплику Жака в комедии Шекспира «Как вам это понравится»: «Весь мир — театр…», заглавие драмы Кальдерона де ла Барка «Великий театр мира» (El gran teatro del mundo; опубл. в 1655) или пьесу Пьера Корнеля «Комическая иллюзия» (L’Illsion comique; 1635).
(обратно)
337
…спускаясь с головокружительных высот Олимпа. — Олимп — самый высокий горный массив в Греции. В древнегреческой мифологии священная гора, на которой обитали боги-олимпийцы.
(обратно)
338
Пафос — город на Кипре, где находился храм Афродиты. Согласно мифам, Афродита была перенесена на Кипр с острова Кифера, где она родилась. На Кипре находился ее храм.
(обратно)
339
Однако мне стало жаль его, и я вернул его на трон, откуда прежде сверг. — В том, что баран оказывается заколдованным королем, можно увидеть аллюзию на сказку самой мадам д’Онуа «Барашек».
(обратно)
340
…в вопросе доблести и происхождения не уступлю дону Иафету Армянскому. — «Дон Иафет (Яфет) Армянский» (Donт Japhet d’Arménie) — заглавие комедии Поля Скаррона (1610–1660). Комедия, написанная и впервые сыгранная в 1651 г., продолжала иметь успех в 1690-е годы. Речь в ней идет не о праотце Ное и его сыновьях (один из которых — Иафет), а о дворе императора Священной Римской империи Карла V Габсбурга (1500–1558). Комизм похвальбы Дандинардьера в данном случае заключается в том, что заглавный герой комедии — не один из праотцев, а шут при дворе императора Карла.
(обратно)
341
Великий Могол. — См. примеч. 13 к «Белой Кошке».
(обратно)
342
Тип сказки: АТ 707 (Птица правды). Данный тип широко распространен в Европе, но русскому читателю прежде всего известен по «Сказке о царе Салтане». При этом о прямом влиянии мадам д’Онуа на Пушкина говорить вряд ли корректно (см. с. 874 наст. изд.).
(обратно)
343
…Бахус занял место Купидона… — То есть «свадебный пир оказался важнее брачной ночи».
(обратно)
344
Как счастлив был Ипполит, когда узнал, что не приходится братом Юлии. — Мадам д’Онуа отсылает к собственному роману «История Ипполита, графа Дугласа» (см. преамбулу к сказке «Остров Отрады»), где завязка интриги построена на заблуждении влюбленных героя и героини, которые считают себя родными братом и сестрой, а в реальности являются кузенами.
(обратно)
345
Сами Антоний с Клеопатрой… восхитились бы отплывавшим кораблем… — Очевидно, подразумевается сражение при Акциуме 2 сентября 31 г. н. э. между флотами Октавиана Августа и Марка Антония (последнее морское сражение, завершившее период гражданских войн). Союзницей Антония выступила египетская царица Клеопатра. В 1672 г. была создана картина Лоренцо А. Кастро «Сражение при Акциуме», очевидно, известная мадам д’Онуа.
(обратно)
346
Лети, священная птица Венеры… — Горлица — птица семейства голубиных; голубь в Древнем Риме считался священной птицей Венеры.
(обратно)
347
Зефир. — См. примеч. 1 к «Фортунате».
(обратно)
348
Сирена. — См. примеч. 9 к «Золотой Ветви».
(обратно)
349
…аргонавты построили для поисков Золотого руна. — То есть корабль «Арго», на котором древнегреческий герой Ясон и его спутники-аргонавты отправились в Колхиду за Золотым руном (шкурой златорунного барана, на котором в свое время прибыл в Колхиду герой Фрике).
(обратно)
350
Перегрина (исп. Peregrina — паломница) — необычайно крупная жемчужина весом более 50 карат, выловленная в середине XVI в. у берегов Панамы. Принадлежала испанскому королю Филиппу II и его супруге Марии Тюдор и осталась в сокровищнице испанской короны. Мария Тюдор и затем несколько последующих королев Испании позировали для парадных портретов с этой жемчужиной. На портрете работы Веласкеса мы видим Филиппа III с Перегриной на шляпе. В «Рассказе о путешествии в Испанию» мадам д’Онуа упоминает эту жемчужину в качестве украшения то испанского короля (письмо 11), то королевы. Обоснование названия жемчужины, которое дается в сказке, разумеется, полностью вымышлено.
(обратно)
351
Finis coronat opus (лат.). — «Конец — делу венец».
(обратно)
352
Саламандра — в алхимии дух огня как первоэлемента. Как в алхимии, так и в геральдике изображалась в виде ящерки.
(обратно)
353
Фавье — известный в то время танцор королевских балетов. Пекур (наст. имя Луи Гийом; 1653 — ок. 1729) — композитор и хореограф Королевской Академии музыки; дебютировал в «Психее» Мольера — Люлли (1671). Считался одним из лучших балетмейстеров своего времени.
(обратно)
354
Бокан, марье и сарабанда. — Бокан. — Название танцу дал сценический псевдоним придумавшего его хореографа. Бокан (настоящее имя Жак Кордье, ок. 1580–1653) — знаменитый танцор при дворе Людовика XIII, а затем английского короля Карла I. Марье (от фр. mariée — невеста) — парный танец-пантомима. Сарабанда. — См. примеч. 13 к «Синей птице».
(обратно)
355
…конь зефирской породы, ибо происходил от Зефира… — Авторский вымысел.
(обратно)
356
Проснитесь, Спящая Красавица — начало модной в конце XVII в. песенки. Ю. М. Лотман пишет в «Комментарии к „Евгению Онегину“»: «Упоминаемая здесь песенка — одно из популярнейших произведений Dufresny (1648–1724), драматурга и автора нескольких известных в свое время романсов и куплетов» (см.: Томашевский 1917: 67–70). Шарль Дюфрени (1648 — ок.1724) был одним из любимцев Людовика XIV и весьма плодовитым автором комических пьес, предвосхитивших драматургию Мариво. В 1710–1713 гг. издатель «Меркюр Галан».
(обратно)
357
…как тот сыплет пословицами наподобие Санчо Пансы… — Санчо Панса — оруженосец Дон-Кихота (см. примеч. 15 к первой части «Дона Габриэля Понсе де Леона»), носитель народной мудрости и здравого смысла.
(обратно)
358
Мэтр Робер был нормандцем и судебные процессы любил не меньше, чем разбитые головы и выкрученные руки. — См. примеч. 2 к «Принцу-Духу».
(обратно)
359
…с клещами на плече, словно Геркулес с палицей. — Геркулес или Геракл в древнегреческой мифологии — герой-полубог (сын Зевса), победитель многочисленных чудовищ, после смерти взятый на Олимп. Изображался с палицей на плече.
(обратно)
360
Александр и Бартало. — Подразумеваются Александр Македонский и Бартоло да Сассоферрато (1313/1314–1357). Последний — прославленный итальянский юрист, родоначальник целой школы в толковании римского права; здесь — образец ума и учености.
(обратно)
361
…сам разгневанный Зевс… — Зевс — верховный бог-громовержец в древнегреческой мифологии.
(обратно)
362
Алкид — имя, полученное при рождении Гераклом (см. примеч. 3 к данной новелле), с которым ранее сравнивался сам Дандинардьер.
(обратно)
363
…я ведь из лунамбул… — Ла Дардинардьер, желая показать свою ученость, путает слова «лунатик» и «сомнамбула».
(обратно)
364
…Марс и Геракл вместе взятые. — Марс в древнеримской мифологии — бог войны, соответствует древнегреческому Аресу. Геракл. — См. примеч. 3 к данной новелле.
(обратно)
365
…пред очарованием которых меркнет сама Аврора. — См. примеч. 3 к «Золотой Ветви».
(обратно)
366
Королевство Трапезундское (точнее, Трапезундская империя) — государство, образовавшееся в 1204 г. на анатолийском побережье Черного моря. Здесь — как пример странно-вычурной экзотики.
(обратно)
367
И заглавием, и сюжетом эта сказка практически повторяет сказку «Король-Свинья» (Il Re Porco) из сборника «Приятные ночи» Джованни Франческо Страпаролы (ок. 1480 — ок. 1557), ночь вторая, сказка I. Сказка с тем же сюжетом и заглавием («Король-Свинья») есть у мадам де Мюра (1699).
(обратно)
368
…трех кормилиц и трех нянек по английской моде… — XVI–XVII вв. в Европе — эпоха пробуждения интереса к ребенку, к его воспитанию, эпоха «открытия детства» (Арьес 1999), воспитательных трактатов и развития образовательных систем. При этом не представляется возможным понять, что автор подразумевает в данном случае. Возможно, имеется в виду то, что в Англии (больше, чем во Франции) предпочитали перекладывать заботы даже о младенцах на плечи кормилиц и нянек, культивируя строго сдержанное отношение родителей к детям.
(обратно)
369
Нонпарель — тончайшие ленточки для отделки белья.
(обратно)
370
Пас-пье и менуэт. — Пас-пье. — См. примеч. 13 к «Синей птице». Менуэт — один из самых популярных танцев в XVI–XVII вв. Любимый танец королевского двора при Людовике XIV.
(обратно)
371
Теорба — струнный щипковый инструмент, басовая разновидность лютни.
(обратно)
372
…и старшую Исмену, и среднюю Зелониду, и младшую Мартезию. — Исмена. — Выбор для героини подобного имени (Исмена — дочь Эдипа, царя Фив, и царицы Иокасты, приходившейся Эдипу матерью; сестра Антигоны; героиня трагедий Эсхила «Семеро против Фив» и Софокла «Эдип в Колоне» и «Антигона») произволен: вероятно, автор просто дает своей героине трагическое имя. Зелонида — героиня трагедии Шарля Клода Женета (1639–1719) «Зелонида, принцесса Спартанская» (опубл. в 1682 г.). Мартезия — в древнегреческой мифологии первая царица амазонок. В 1699 г. в Фонтенбло впервые сыграна музыкальная трагедия «Мартезия, первая царица амазонок», музыка А. К. Детуша (1672–1749), либретто Антуана Удара де ла Мотта (1672–1731). Амазонка по имени Мартезия, деятельная и сострадательная, фигурирует в романе Мадлен де Скюдери «Артамен, или Великий Кир». Очевидно, не случайно сестра с самой трагической участью носит имя героини Софокла, а главная героиня — имя героини Скюдери.
(обратно)
373
Коридон — имя аркадского пастуха; встречается в идиллиях Феокрита и эклогах Вергилия. Упоминается также в романе «Астрея» Оноре д’Юрфе.
(обратно)
374
…готов признаться, что я не Адонис, а грозный вепрь… — Высказывание вепря полно иронии: красавец Адонис (см. примеч. 5 к «Белой Кошке») был убит на охоте вепрем.
(обратно)
375
Рейнграфы — широкие короткие панталоны с буфами, прикреплявшиеся к чулкам многочисленными лентами; мода на рейнграфы была завезена во Францию из Германии, чем и объясняется их название.
(обратно)
376
…чем не тигрица или львица? Ах! Как же обманчив внешний вид! — Моралистический тезис о частом расхождении между привлекательной наружностью и чудовищным характером особенно часто встречается в сказках типа АТ 425 и родственных сказочных типов (напр., о красавице и чудовище, см. с. 858 наст. изд.).
(обратно)
377
Астрея и Селадон — герои пасторального романа Оноре д’Юрфе «Астрея» (см. примеч. 7 к «Золотой Ветви»). Имя Селадона, страстного и верного влюбленного, со временем становится нарицательным.
(обратно)
378
Вепрь набрал апельсинов, сладких лаймов, лимонов… — Цитрусовые в конце XVII в. были редки и дороги. Ср. в сказке Шарля Перро «Золушка»: когда героиня одаривает сестер апельсинами и лимонами, те оценивают подобный дар как большую щедрость и проявление благоволения.
(обратно)
379
…в обществе маленького мавра… — Пажи-мавры или арапчата входят в моду в Европе с конца XVII в.
(обратно)
380
…«колесница Аполлона, управляемая Фаэтоном». — В древнегреческой мифологии сын бога Солнца Гелиоса, выпросивший у него на один день солнечную колесницу. Не сумев удержать коней, Фаэтон погиб. См.: Овидий. Метаморфозы. II. 19–366.
(обратно)
381
— И главное, — сказал он, — не попрекайте их нормандским выговором, ведь они как-никак из Парижа… — Гостьи барона де Сен-Тома — очевидно, родом из Нормандии, но перебрались в Париж, как это часто делали в то время состоятельные провинциалы (в XVI–XVII вв. завершается государственная централизация Франции). Поэтому и в самом Париже часто слышались провинциальные выговоры, становившиеся предметом насмешек. Именно поэтому сам Дандинардьер кичится своим парижским происхождением.
(обратно)
382
Гомер, Геродот, Плутарх, Сенека, Вуатюр, Корнель и даже Арлекин. — В своем комичном бахвальстве необразованного человека Дандинардьер объединяет «древних» (то есть величайших классиков античности) и «новых» (Вуатюр и Корнель), а также Арлекина, маску итальянской комедии дель арте (ит. commedia dell’arte, комедия масок), популярной во Франции с 70-х годов XVI в. Венсан Вуатюр (1597–1648) — поэт, литератор, лингвист, участник салона маркизы де Рамбуйе (носивший в салоне имя Валер), видный деятель прециозной культуры. Пьер Корнель (1606–1684) — великий французский трагик из лагеря «новых»; см. примеч. 5 к «Зеленому Змею».
(обратно)
383
Катон — ветвь древнеримского рода, давшая несколько знаменитых людей; в данном случае имеется в виду, скорее всего, Марк Порций Катон Старший (234–149 гг. до н. э.), писатель и государственный деятель, один из основателей римской литературы. Приор, желая посмеяться над Ла Дандинардьером, вспоминает именно его как истинного классика из «древних».
(обратно)
384
Семь греческих мудрецов — семь наиболее почитаемых философов Древней Греции. Их имена и состав варьировались. Платон (428 или 427–348 или 347 гг. до н. э.) в диалоге «Протагор» упоминает Фалеса Милетского, Питтака Митиленского, Бианта Приенского, Солона Афинского, Клеобула Линдского, Мисона Хенейского и Хилона Спартанского. Разными античными авторами в этот список включались Акусилай, Анаксагор, Анахарсис, Ариотодем, Лас, Леофант, Лин, Орфей, Памфил, Периандр, Пифагор, Ферекид, Эпименид, Эпихарм, Эфор.
(обратно)
385
…никогда не встречала нормандских муз… — Уроженка Нормандии, мадам д’Онуа сама могла называться «нормандской музой».
(обратно)
386
Тип сказки: АТ 675 (Мудрая рыба помогает лодырю). Рыбы-помощники встречаются в двух сказках г-жи де Мюра: «Тюрбо» и «Угриха».
(обратно)
387
Бассет. — См. примеч. 1 к «Золотой Ветви».
(обратно)
388
Ворчунья (фр. Grognon) — злая ведьма из «Прелестницы и Персинета».
(обратно)
389
Сцилла и Харибда — в древнегреческой мифологии морские чудовища, обитавшие по обеим сторонам Мессинского залива. Одиссею и его спутникам удалось провести между ними свой корабль. Кроме того, Дельфин клянется трезубцем Нетуна (Посейдона), бога морской стихии, и другими морскими божествами.
(обратно)
390
…клянусь… тритонами, наядами, а еще отчаявшимся кормчим, что обретает надежду, увидев меня средь волн. — Тритоны и наяды — морские сверхъестественные существа, известные из древнегреческой мифологии. Также древнегреческого происхождения и мифологическое представление о том, что дельфин, увиденный кормчим, предвещает спасение кораблю.
(обратно)
391
Коляска еще летела в средней области воздушных путей… — См. примеч. 7 к «Принцессе Карпийон».
(обратно)
392
Испанская кожа. — См. примеч. 2 к «Зеленому Змею».
(обратно)
393
Луидор, пистоль, экю… — См. примеч. 20 к «Принцу-Духу». Квадрупль — испанская золотая монета.
(обратно)
394
Фортуна — древнеримская богиня судьбы.
(обратно)
395
Как принца нашего горька была судьбина!.. <…> …Счастливцем я б тогда себя считал. — Мораль мадам д’Онуа отсылает читателя к басне Лафонтена «Сократово слово» (Кн. IV, басня 17). Вот соответствующий отрывок в переводе Ю. А. Нелединского-Мелецкого, с моралью:
Наскучивши, Сократ сказал: «Дай бог,
Чтоб дом мой, сколь ни мал,
но быть наполнен мог
Мне верными друзьями!»
Он дельно говорил, и правду познаем
Мы из его наветки.
Друзей названием мы множество найдем;
Но дружбы истинной примеры в свете редки.
(обратно)
396
Меня бы очень устроил маркизат… — См. примеч. 6 к началу «Нового дворянина». Важно, что маркизат — это имение, находящееся именно на приграничной территории, т. е. провинция, находящаяся у границы с соседним государством или другой провинцией. Комизм запроса в том, что в Нормандии маркизата не могло быть.
(обратно)
397
…хоть за Великого Турку… — Титул «Великий Турок» довольно условен. Здесь, очевидно, подразумевается султан Османской империи.
(обратно)
398
Дискордия — латинское имя древнегреческой богини Эриды. Принесла яблоко раздора на свадьбу Пелея и Фетиды, в результате чего началась Троянская война.
(обратно)
399
…ни демоны, ни домовые, ни феи, ведьмы, маги, колдуны, оборотни и никакая прочая нечисть. — Снова насмешка над простонародным суеверием; см. примеч. 11 к первой части данной новеллы.
(обратно)
400
…приходилось доказывать свою родословную до седьмого колена, как рыцарям на Мальте… — Для посвящения в мальтийские рыцари претендент должен был доказать свое благородное происхождение по отцу и по матери.
(обратно)
401
Уж лучше быть повешенным, как соляной контрабандист… — С XIV в. во Франции существовала так называемая соляная регалия, разный уровень цен на соль по регионам. Налог на соль был очень высок, соответственно широко практиковалась контрабанда соли.
(обратно)
402
Ален мой, ты не храбр! — Аллюзия на реплику дона Дьего из трагедии Корнеля «Сид», акт 1, явление 5: «Родриго, храбр ли ты?» (Пер. М. Лозинского).
(обратно)
403
…седлай моего доброго Буцефалушку. — Буцефал. — См. примеч. 9 к «Побрякушке».
(обратно)
404
«Я болен, это так… но если сердце цело, оно не станет ждать, чтоб время подоспело!» — Аллюзия на реплику Родриго из трагедии Корнеля «Сид», акт 2, явление 2: «Я молод, это так; но если сердце смело, оно не станет ждать, чтоб время подоспело!» (Пер. М. Лозинского) Дандинардьер цитирует с искажениями.
(обратно)
405
«С каким теперь врагом я не осилю встречи? Сюда, наваррец, мавр, Кастилья, Арагон!» — Снова цитата из «Сида», на этот раз точная; там же, акт 5, явление 1.
(обратно)
406
…пробуждать лиру Аполлона и лицезреть муз, слагающих гимны в его честь. — См. примеч. 3 к «Голубю и Голубке».
(обратно)
407
…походившие на прелестных Дульсиней… — Дульсинея — идеальная возлюбленная Дон-Кихота, см. примеч. 15 к первой части новеллы «Дон Габриэль Понсе де Леон».
(обратно)
408
Анакреонт (или Анакреон; 570/559–485/478 гг. до н. э.) — древнегреческий поэт, прославившийся любовной лирикой. Часто изображался возлежащим на пиру, в венке из роз.
(обратно)
409
«Остров Отрады» (фр. Île de la Félicité). — Заглавие условное: так озаглавила эту сказку Р. Робер в издании 1984 г. (см.: Robert 1984); в романе сказка отдельного заглавия не имеет.
* * *
Тип сказки: АТ 470В (Край, где не умирают); входит в роман д’Онуа «История Ипполита, графа Дугласа» (1690) в форме вставной галантной сказки. Стоит у истоков жанра французской литературной сказки. До этого фольклорные волшебные сюжеты эпизодически встречались в средневековой литературе (см. с. 851 наст. изд.).
Первая русская версия романа — «Гистория о Ипполите, графе Аглинском, и о Жулии, графине Аглинской же, любезная и всему свету курьозная». Это не перевод, а довольно сильно сокращенный пересказ текста. Имеется несколько лубочных версий романа (о них подробно см.: Веселовский 1887). Первый перевод романа с французского языка (анонимный) вышел в 1801 г. (см.: Онуа 1801).
В романе вставную сказку рассказывает сам граф Ипполит, в поисках возлюбленной Юлии живущий в Италии под именем Гиацинт. Фрагмент из романа, ее непосредственно предваряющий:
Работа над портретом — дело серьезное, и вот аббатиса заскучала; она боялась, как бы этакая серьезность не повредила ее изображению.
— Сдается мне, — промолвила она, — что художники обычно знают множество историй и побасенок, коими тешат тех, кто им позирует. А между тем вы пока еще не поведали мне ничего веселого, и я чувствую, что лицо мое получится поскучневшим, если вы не позабавите меня какой-ни-будь выдумкой.
— Я слишком занят, сударыня, — отвечал ей Кардини (так звали художника), — чтобы забавлять вас, и к тому же не так умен, чтобы усладить ваш слух; но вот перед вами Гиацинт, которого я вожу с собой как раз для развлечения дам, ибо он собеседник весьма приятный.
— Расскажите же нам что-нибудь, Гиацинт, — попросила аббатиса, — раз уж Кардини возложил эту миссию на вас.
Уловка художника заставила Ипполита покраснеть; он был совсем не в настроении беседовать и потому отвечал весьма холодно и сдержанно, что рассказать ему нечего. Однако аббатиса принялась уговаривать его так настойчиво, что он побоялся вызвать ее недовольство решительным отказом. Он тут же сообразил, что она может помешать ему проникнуть туда, где находится единственный предмет его желаний и, пересилив себя, попытался вспомнить какую-нибудь историю или сказку фей. И вот с удивительным изяществом Ипполит начал рассказ <…>.
Фрагмент, непосредственно следующий после сказки:
<…> Когда Ипполит закончил, аббатиса подтвердила, что и ей пришлось только что испытать то же самое, ибо страх, что такая приятная история закончится слишком быстро, тревожил ее и мешал в полную меру насладиться услышанным. Она долго расхваливала искусного рассказчика и продолжала благодарить его, когда как раз вошла камеристка Юлии. Горячо поприветствовав аббатису от имени своей госпожи (которую всё еще удерживала в постели жестокая головная боль), она сообщила, что та просит прислать ей книг, чтобы рассеять скуку.
— Изабель, — ответила аббатиса, — сейчас я не могу послать ей книг, но вот, приведите ей Гиацинта, он развлечет ее лучше любой книги: только что он позабавил меня весьма очаровательной сказкой, и я надеюсь, что, жалея больную, он и ее тоже потешит.
После этих слов она попросила Ипполита следовать за девушкой, и можно догадаться, что тот не замедлил повиноваться.
(обратно)
410
Россия — холодная страна… — Довольно стереотипное для Европы XVII в. восприятие России как холодной, полудикой страны. Об образе России во французской литературной сказке см. статью А. Ф. Строева (см.: Строев 2002). Согласно А. Строеву, источником мадам д’Онуа могло стать «Описание Украины…» (1651) Гийома Левассера де Боплана (см.: Beauplan 1985). В русских лубочных версиях данной сказки начала XVIII в. вместо России подобным же образом изображается Лапландия (см.: Веселовский 1887). Две лубочные версии приводятся в Дополнениях наст. изд.
(обратно)
411
…выстоял в ожесточенной войне с московитами… — Фраза о войне русского принца с московитами, т. е. тоже русскими, кажется странной. А. Строев предлагает версию о том, что мадам д’Онуа подразумевает здесь начало самостоятельного правления юного Петра I, в 1689 г. сместившего свою соправительницу Софью (см.: Строев 2002: 253–254).
(обратно)
412
Эол — в древнегреческой мифологии владыка ветров.
(обратно)
413
Аквилон (др.-рим.), Борей (др.-греч.) — в античной мифологии северный, чаще северо-восточный ветер. В европейском искусстве, как в античности, так и в эпоху Возрождения и позднее, ветры изображались антропоморфно, примерно так же, как в данной сказке.
(обратно)
414
Зефир. — См. примеч. 1 к «Фортунате». Однако в этой сказке д’Онуа явно олицетворяет южный, нежный ветерок (это следует из перечисления всех остальных ветров, см. примеч. 3, см. примеч. 4), что соответствует традиции французской поэзии XVI–XVII вв.
(обратно)
415
Амур. — См. примеч. 5 к «Прелестнице и Персинету».
(обратно)
416
Аврора. — См. примеч. 3 к «Золотой Ветви».
(обратно)
417
Я понесу вас… как Психею по приказу Амура… — Первое у д’Онуа упоминание истории Психеи и Купидона, к которой она с тех пор многократно будет обращаться в своих сказках (см. преамбулу к сказке «Прелестница и Персинет»). Во фразе Зефира нельзя не заметить иронии: услужливый ветер сравнивает Адольфа, мужественного и неприхотливого героя-северянина, с юной и нежной красавицей Психеей. Между тем сюжеты в определенной степени зеркальны: история Амура и Психеи — это сказка о необыкновенном супруге, здесь же мы имеем дело со сказкой о необыкновенной супруге (Отраде).
(обратно)
418
…им случалось даже отдыхать на чудесных горах, на Кавказе и на Афоне… — Кавказ — преимущественно горный регион, расположенный к югу от Восточно-Европейской равнины, на границе Европы и Азии, охватывает территории, принадлежащие России, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, Азербайджану и Армении. Ограничен Черным морем с запада, Каспийским морем с востока. Афон — название горы и одноименного полуострова на севере Восточной Греции. Так же носит название «Святая гора», с VII в. н. э. — место обитания монахов в монастырях и скитах. Упоминаются здесь как горы или горные массивы, с которыми связано множество мифов и легенд, при этом достаточно близкие к России и далекие от Центральной Европы.
(обратно)
419
…по всему острову были расставлены богато накрытые столы, а на них все чего душе угодно. — Страна изобилия — одно из общих мест в фольклорных волшебных сказках.
(обратно)
420
Не успев еще понять, все ли наглухо заперто… <…> запрыгнул поверх цветов в корзину… — Образ башни без дверей восходит к рыцарским средневековым романам, прежде всего к «Флуар и Бланшефлёр» (см. примеч. 17 к «Белой Кошке»). В этом же романе есть и мотив необыкновенного восхождения: герой поднимается в башню к возлюбленной в корзине, в которую ему позволяет сесть подкупленный им страж. В романе, однако, нет ни слова о невесомости героя, напротив, слуги, поднимающие его в корзине, сетуют на ее тяжесть. В фольклорной традиции это сказочный тип АТ 310 (О девушке в башне).
(обратно)
421
Феникс — в мифологиях различных культур птица с великолепным оперением, которая живет около 500 лет, а почувствовав приближение смерти, сжигает себя в своем гнезде и возрождается в виде птенца. Впервые упоминается у Геродота: «…его оперение частично золотистое, а отчасти красное. Видом и величиной он более всего похож на орла» (Геродот. История. II. 73).
(обратно)
422
Источник вечной молодости. — Часто встречается в фольклоре (прежде всего, волшебных сказках) и мифологии разных народов. Легенды о нем в Европе Нового времени обретают популярность после того, как в экспедицию в его поисках отправляется конкистадор, основатель первого европейского поселения в Пуэрто-Рико, Хуан Понсе де Леон (1460–1521). В ходе экспедиции (1513 г.) он открывает Флориду. Имя Понсе де Леон носит герой одной из обрамляющих «испанских» новелл мадам д’Онуа (см. примеч. 1 к новелле «Дон Габриэль Понсе де Леон. Начало»).
(обратно)
423
Таков был Ринальдо в объятиях Армиды, однако слава вырвала его из ее чар. — История о том, как прекрасная принцесса — волшебница Армида удерживала в зачарованных садах на Счастливых Островах своего возлюбленного, франкского рыцаря Ринальдо, забывшего о ратной славе ради любовных утех, — один из сюжетных мотивов поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим» (1581, первый французский перевод — 1595). К моменту создания «Истории Ипполита, графа Дугласа» поэма была переведена еще 3 раза, переводы неоднократно переиздавались. Эпизод с Ринальдо и Армидой приобрел особенную популярность во Франции XVII в. В 1617 г. при дворе был показан балет об Армиде и об освобождении Ринальдо из ее плена («Балет об освобождении Ринальдо, или Балет об Армиде»). В 1686 г. по заказу Людовика XIV Ж.-Б. Люлли написал оперу «Армида» (либретто Ф. Кино), которая сразу обрела популярность среди придворных. Это породило новую моду на историю Ринальдо и Армиды в дворянской интеллектуальной среде.
(обратно)
424
Первый русский пересказ сказки «Île de Félicité» (см. примеч. 1 к «Острову Отрады») в форме лубочного рассказа с восемью иллюстрациями вышел в первой половине XVIII в., когда появляются и первые пересказы всего романа д’Онуа «История Ипполита, графа Дугласа» («Гистория о Иполите, графе Аглинском, и о Жулии, графине Аглинской же, любезная и всему свету курьозная» и «Гистория о графе Иполите и о графини Жулии Английского государства»). Лубочные картинки к сказке сохранились как черно-белые, так и раскрашенные в четыре цвета. Они, как и два варианта текста («История о принце Адолфе лапландийском» (так!) и «История о принце Одолфе Лампландийском и Острове вечного веселия»), известны по собранию Д. А. Ровинского (1824–1895; см.: Ровинский 1881: 156–161), а также по сборной рукописи XVII–XIX вв. (см.: Панченко 1965). В наст. изд. текст лубочной сказки приводится по первому из этих источников. Опечатки, допущенные в нем при воспроизведении, исправлены. Д. А. Ровинский же дает и подробное описание лубочного текста и иллюстраций: На двух листах, в восьми картинках, гравированных на меди, на ахметьевской фабрике, в первой половине XVIII века. Подлинник находится в моем собрании.
Варианты приведены из другого издания (б, находящегося в Публичной библиотеке), награвированного в начале нынешнего века. Последняя строка первой страницы, в издании а, состоит из слов: «или не знаете»; а в издании б, она заканчивается словами: «а теперь их дома».
Содержание картинок в издании а следующее:
1) Адольф разговаривает с матерью ветров.
2) Зефир несет Адольфа на Остров вечного веселия.
3) Дворец на этом острове.
4) Адольф на коленях перед принцессой острова.
5) Адольф разговаривает с принцессой и ее фрейлинами.
6) Адольф уезжает с острова на волшебном коне.
7) Встречает старика (время), упавшего с колесницы.

В издании б картинки сделаны с другого образца и расположены иначе. Содержание их следующее:
1) Адольф разговаривает с матерью ветров.
2) Ветры (в образе людей) переговариваются с матерью. (Этой картинки в издании а нет вовсе).
3) Зефир несет Адольфа на Остров вечного веселия.
4) Адольф на коленях перед принцессой острова (подражание 4-й картинке издания а).
5) Адольф беседует с принцессой.
6) Адольф прощается с принцессой.
7) Встречает время (подражание 7-й картинке издания а).

Не менее подробное описание лубочной сказки, вместе с пересказом романа и анализом перевода соответствующих иллюстрациям пассажей сказки и комментарием к ним, сделал А. Н. Веселовский в работе «Из истории русской переводной повести» (см.: Веселовский 1887). Веселовский пишет также о двух шведских вариантах истории о принце Адольфе, прозаическом (1788 г.) и стихотворном. В первом не исключено влияние русской лубочной сказки. Представленная в настоящем издании лубочная версия «Острова Отрады» — наиболее подробная. Она разбита на восемь отрывков, соответствующих восьми иллюстрациям. Этот текст — первый, где герой из русского принца превращается в «лапландийского». Подобная трансформация вполне естественна: русский читатель просто не поверил бы, что в России повсюду ходят белые медведи, а благородные господа посвящают свой досуг охоте на них. Об этой трансформации см. также в статье А. Строева «Le conte merveilleux et l’image de la Russie» («Волшебная сказка и образ России», см.: Stroev 2002).
(обратно)
425
Тип сказки: АТ 310 (О девушке в башне). Перевод осуществлен по изд.: Cercle des conteuses 2005.
(обратно)
Оглавление
Ее Королевскому Высочеству, Мадам
ТОМ ПЕРВЫЙ
Прелестница и Персинет[4]
Златовласка[13]
Синяя птица[17]
Принц-Дух[34]
ТОМ ВТОРОЙ
Принцесса Веснянка[57]
Принцесса Розетта[72]
Золотая Ветвь[78]
Апельсиновое дерево и Пчела[88]
Мышка-Добрушка[99]
ТОМ ТРЕТИЙ
Сен-Клу[101]. Начало
Дон Габриэль Понсе де Леон[107]
(Испанская новелла)[108]
Начало
Барашек[130]
Дон Габриэль Понсе де Леон
Продолжение
Вострушка-Золянка[147]
Дон Габриэль Понсе де Леон
Продолжение
Фортуната[165]
Дон Габриэль Понсе де Леон. Окончание
Сен-Клу. Окончание
ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ
Побрякушка[177]
Дон Фернан Толедский[191]
(Испанская новелла)
Начало
Желтый Карлик[200]
Дон Фернан Толедский
Продолжение
Зеленый Змей[208]
Дон Фернан Толедский. Окончание
ТОМ ПЕРВЫЙ
Принцесса Карпийон[227]
Лягушка-Благодетельница[241]
Лесная лань[255]
ТОМ ВТОРОЙ
Послание
Новый дворянин от мещанства[274]
Начало
Белая Кошка[294]
Новый дворянин от мещанства
Продолжение
Белль-Белль, или Удачливый рыцарь[315]
ТОМ ТРЕТИЙ
Новый дворянин от мещанства
Продолжение
Голубь и Голубка[326]
Новый дворянин от мещанства
Продолжение
История принцессы Ясной Звездочки и принца Милона[342]
Начало
Новый дворянин от мещанства
Продолжение
История принцессы Ясной Звездочки и принца Милона
Окончание
ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ
Новый дворянин от мещанства
Продолжение
Принц Вепрь[367]
Новый дворянин от мещанства
Продолжение
Дельфин[386]
Новый дворянин от мещанства
Окончание
Мадам д’Онуа
Остров Отрады[409]
История о принце Одолфе Лампладïискомъ и Острове вѣчнаго весѣлия[424]
Мадемуазель де Ла Форс
Персинетта[425]
М. А. Гистер
Мари-Катрин д’Онуа и литературная сказка: у истоков жанра
Жизнь мадам д’Онуа
Мода на сказку в конце «Великого века» и сказки мадам д’Онуа
Особенности поэтики сказок Мари-Катрин д’Онуа
Сказки Мари-Катрин д’Онуа
и жанр литературной сказки во Франции и за ее пределами
Мари-Катрин д’Онуа и Габриэль-Сюзанн де Вильнёв:
волшебная сказка как сентиментальный роман
Мари-Катрин д’Онуа и немецкая литературная сказка
Мари-Катрин д’Онуа в России
Заключение
Указатель имен персонажей сказок мадам д’Онуа
Основные даты жизни и творчества Мари-Катрин д’Онуа{16}
Сказки и сборники сказок{17}
Сводная таблица. 1690–1705 гг
Расшифровка сказочных типов по указателю Аарне — Томпсона
Список сокращений
Список иллюстраций
(Дополнительные иллюстрации)