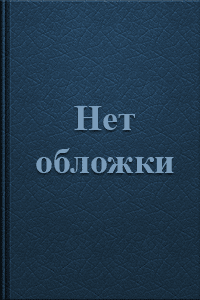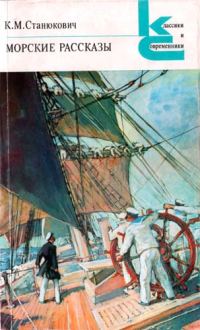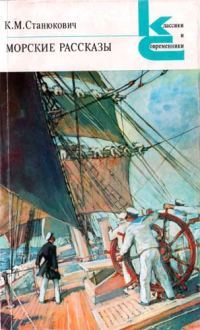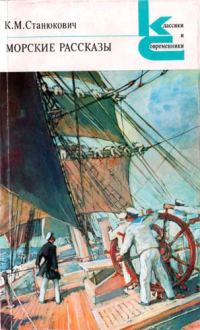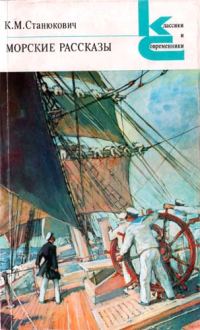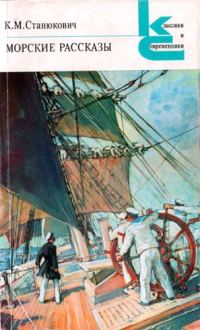Константин Михайлович Станюкович
Морские рассказы
© Асанов Л. Н., наследники, составление, вступительная статья, 1989
© Стуковнин В. В., иллюстрации, 2011
© Оформление серии. ОАО «Издательство «Детская литература», 2011
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
К. М. Станюкович
Прошло уже более ста лет с тех пор, как появились в печати первые морские рассказы Константина Михайловича Станюковича. Всё новые и новые поколения ребят читали их и представляли себе плеск океанских волн, свист ветра в снастях, заливистые боцманские дудки, хлопанье громадных парусов над головой, мечтали о дальних морских дорогах.
Многие замечательные моряки впервые почувствовали тягу к морю, читая книги этого писателя. Да и тот, кто, повзрослев, стал человеком совсем сухопутным, сохранил с детских лет в памяти образы его рассказов: простодушных самоотверженных матросов, суровых боцманов, бывалых офицеров – то искренних и дружелюбных, то высокомерных и жестоких…
А между тем история появления первых морских рассказов Станюковича не менее удивительна, чем многих других его сюжетов.
Читая описания теплых морей, далеких гаваней, где мимо бортов русских судов проплывают кайманы, блестя в темноте рубиново-красными глазами, где днем лучи палящего солнца в считаные минуты высушивают свежевымытую палубу, где вздымают безжалостные ураганы океанские волны, – читая эти страницы, легко представить себе, что где-то там, на дальних широтах и меридианах, и писал Станюкович по горячим следам событий свои рассказы – так наглядно, так явственно запечатлен в них матросский уклад жизни, быт парусного корабля. Легко представить себе эту рукопись, разложенную на столике в офицерской каюте, куда через приотворенный иллюминатор доносится с берегов чужой земли манящий аромат неведомых цветов… Но нет, на самом деле все было не так. И чтобы представить себе обстановку, в которой создавались первые из морских рассказов, нам надо перенестись за многие тысячи верст от океанских берегов, в Азию, где на крутых берегах широкой реки высится старинный русский город Томск.
По пыльным улицам его, мимо приземистых домов, срубленных из вековой сибирской лиственницы, проходил невысокий, изящно сложенный человек с вьющимися каштановыми волосами. Он то спешил в редакцию местной «Сибирской газеты», то на почту – получить вести из столицы, то в полицейскую управу – отмечаться, поскольку жил он здесь на положении ссыльного.
Как же занесла его судьба в этот далекий город?
Константин Михайлович Станюкович родился в 1843 году в городе Севастополе. Город этот расположен в Крыму, на берегу глубокой бухты, удобной для стоянки кораблей, и в те годы он был главной базой русского Черноморского флота. Отец Константина Станюковича был известным моряком, в годы детства будущего писателя он занимал посты командира Севастопольского порта и военного губернатора Севастополя. Характер отца и весь домашний уклад были через много лет описаны в рассказе «Побег», включенном в этот сборник.
Косте шел одиннадцатый год, когда началась Крымская война. Англия, Франция и их союзники напали на Россию, высадили войска в Крыму. Началась героическая оборона Севастополя, длившаяся почти год. Мальчик стал не только свидетелем грозных военных событий, но и участником их: он готовил перевязочные материалы для раненых и сам доставлял их на позиции. За участие в войне он был награжден двумя медалями.
Вскоре после окончания войны Костю отдали в Пажеский корпус, а в конце 1857 года он был переведен в Морской кадетский корпус, готовивший будущих офицеров флота. Казалось бы, судьба моряка была предопределена для юного Станюковича. Но дело в том, что Станюкович был человеком идеи. Еще в детстве он ощутил, что порядочный человек не может спокойно существовать, когда рядом люди живут в страданиях и муке. И у каждого есть свое лицо, свое имя, своя суть. Он с юных лет запомнил жестокость, царившую во флоте и армии, узнал о суровых наказаниях, которым за малейшие провинности подвергались матросы. Сегодняшний стойкий воин, храбрый защитник Отечества завтра должен был безропотно сносить измывательства какого-нибудь негодяя в мундире!.. Мальчик жил с душевной раной и мечтал о том, что сделает что-нибудь доброе, что-нибудь полезное для людей. И что же – он попадает в училище, где царят грубые казарменные порядки, где, кажется, все делается для того, чтобы вытравить из душ воспитанников светлое начало, превратить их в жестоких, бесчувственных военных чиновников, исполнителей чужих приказов. Все это было невыносимо для Станюковича. Особенно тяжелое впечатление произвело на него учебное плавание на корабле «Орел» по Балтике. Белопарусный красавец корабль оказался, при ближайшем рассмотрении, чуть ли не тюрьмой для сотен матросов: там царили жестокие крепостнические нравы и дня не проходило без грубой брани, кулачных расправ, жестоких наказаний.
Станюкович задумал дерзкий шаг: он решил, сломав семейную традицию, не идти на флот, как этого требовал от него отец, а поступить в университет. Когда отец узнал об этом замысле, он был вне себя от гнева. Воспользовавшись своими связями, он устроил так, что сын его, не закончив курса, был назначен в кругосветное плавание на корвете «Калевала» и в октябре 1860 года отправился в море. Пол мира обогнул корвет под русским флагом и через девять месяцев прибыл во Владивосток. Это путешествие впоследствии было описано Станюковичем в знаменитой книге «Вокруг света на „Коршуне“» – возможно, лучшем из всех его произведений.
Во Владивостоке Станюкович по болезни был списан с корабля и отправлен в лазарет. Выздоровев, он затем продолжал службу на нескольких военных кораблях, должность «отправлял по своему званию», как говорилось в тогдашних документах. Юный офицер заслужил расположение начальника русской эскадры Тихого океана, который в 1863 году отправил Станюковича со срочными бумагами сухим путем в Петербург. Так закончилось трехлетнее плавание будущего писателя.
За эти годы совсем еще молодой человек посетил разные страны, повидал самый разный уклад жизни, мир и войну, перенес бури и штили, близко общался с простыми матросами. Большое значение для будущей писательской работы имело то, что Станюковичу пришлось служить на разных судах. Он видел, как отличаются порядки, вся корабельная жизнь, в зависимости от того, кто стоит на капитанском мостике – просвещенный, гуманный человек или грубый, жестокий невежда.
Станюкович пишет первые свои произведения – статьи и путевые очерки, которые печатаются на страницах «Морского сборника».
Вернувшись в Петербург, он хочет выйти в отставку и всецело заняться литературной работой. Решение это вызвало взрыв отцовского гнева. Отец видел в Константине продолжателя традиций «морского рода» Станюковичей. Но теперь грозному адмиралу противостоял уже не юноша, а многое повидавший человек со сложившимися убеждениями. Семейный конфликт завершился победой сына: он ушел со службы и с этого момента должен был сам зарабатывать себе на жизнь.
Чтобы поближе узнать крестьянскую Россию, Станюкович становится сельским учителем во Владимирской губернии. Жизненные впечатления этой поры через много лет были описаны в «Воспоминаниях сельского учителя шестидесятых годов». Молодой человек был буквально потрясен нищетой, бесправием, забитостью мужиков, которые после отмены крепостного права попадали в кабалу к деревенским богатеям, в унизительную зависимость от чиновников.
«Человек за бортом!»
I
Жара тропического дня начинала спадать. Солнце медленно катилось к горизонту.
Подгоняемый нежным пассатом[1], клипер нес всю парусину и бесшумно скользил по Атлантическому океану, узлов по семи. Пусто кругом: ни паруса, ни дымка на горизонте! Куда ни взглянешь, все та же безбрежная водяная равнина, слегка волнующаяся и рокочущая каким-то таинственным гулом, окаймленная со всех сторон прозрачной синевой безоблачного купола. Воздух мягок и прозрачен; от океана несет здоровым морским запахом.
Пусто кругом.
Изредка разве блеснет под лучами солнца яркой чешуйкой, словно золотом, перепрыгивающая летучая рыбка; высоко в воздухе прореет белый альбатрос; торопливо пронесется над водой маленькая петрель[2], спешащая к далекому африканскому берегу; раздастся шум водяной струи, выпускаемой китом, — и опять ни одного живого существа вокруг. Океан да небо, небо да океан — оба спокойные, ласковые, улыбающиеся.
— Дозвольте, ваше благородие, песенникам песни петь? — спросил вахтенный унтер-офицер, подходя к офицеру, лениво шагающему по мостику.
Офицер утвердительно махнул головой, и через минуту стройные звуки деревенской песни, полной шири и грусти, разнеслись среди океана. Довольные, что после дневной истомы наступила прохлада, матросы толпятся на баке, слушая песенников, собравшихся у баковой пушки. Завзятые любители, особенно из старых матросов, обступив певцов тесным кружком, слушают сосредоточенно и серьезно, и на многих загорелых, обветрившихся лицах светится безмолвный восторг. Подавшийся вперед широкоплечий, сутулый старик Лаврентьич, «основательный» матрос из «баковщины», с жилистыми просмоленными руками, без пальца на одной руке, давно оторванного марса-фалом, и цепкими, слегка вывернутыми ногами, — отчаянный пьяница, которого с берега привозят всегда в бесчувствии и с разбитой физиономией (он любит лезть в драку с иностранными матросами за то, что они, по его мнению, «не пьют настояще, а только куражатся», разбавляя водой крепчайший ром, который он дует гольём), — этот самый Лаврентьич, слушая песни, словно замер в какой-то истоме, и его морщинистое лицо с красно-сизым, как слива, носом и щетинистыми усами — обыкновенно сердитое, точно Лаврентьич чем-то недоволен и сейчас выпустит фонтан ругани, — смотрит теперь необыкновенно кротко, смягченное выражением тихой задумчивости. Некоторые матросы тихонько подтягивают; другие, рассевшись по кучкам, вполголоса разговаривают, выражая по временам одобрение то улыбкой, то восклицанием.
И в самом деле, хорошо поют наши песенники! Голоса в хоре подобрались всё молодые, свежие и чистые и спелись отлично. Особенно приводил всех в восторг превосходный бархатный тенорок подголоска Шутикова. Этот голос выделялся среди хора своей красотой, забираясь в самую душу чарующей искренностью и теплотой выражения.
— За самое нутро хватает, подлец! — говорили про подголоска матросы.
Песня лилась за песнью, напоминая матросам, среди тепла и блеска тропиков, далекую родину с ее снегами и морозами, полями, лесами и черными избами, с ее близкими сердцу бездольем и убожеством…
— Вали плясовую, ребята!
Хор грянул веселую плясовую. Тенорок Шутикова так и заливался, так и звенел теперь удальством и весельем, вызывая невольную улыбку на лицах и заставляя даже солидных матросов поводить плечами и притопывать ногами.
Макарка, маленький бойкий молодой матросик, давно уже чувствовавший зуд в своем поджаром, словно в себя подобранном теле, не выдержал и пошел отхватывать трепака под звуки залихватской песни, к общему удовольствию зрителей.
Наконец пение и пляска кончились. Когда Шутиков, сухощавый стройный чернявый матрос, вышел из круга и пошел курить к кадке, его провожали одобрительными замечаниями.
— И хорошо же ты поёшь, ах хорошо, пес тебя ешь! — заметил растроганный Лаврентьич, покачивая головой и прибавляя в знак одобрения непечатное ругательство.
— Ему бы подучиться, да ежели, примерно, генерал-бас понять — так хучь в оперу! — с апломбом вставил молодой наш писарь из кантонистов, Пуговкин, щеголявший хорошим обращением и изысканными выражениями.
Лаврентьич, не терпевший и презиравший «чиновников»[3], как людей, по его мнению, совершенно бесполезных на судне, и считавший как бы долгом чести при всяком случае обры вать их, насупился, бросил сердитый взгляд на белокурого, полнотелого, смазливого писарька и сказал:
— Ты-то у нас опера! Брюхо отрастил от лодырства — и вышла опера!
Среди матросов раздалось хихиканье.
— Да вы понимаете ли, что такое обозначает опера? — заметил сконфуженный писарек. — Эх, необразованный народ! — тихо проговорил он и благоразумно поспешил скрыться.
— Ишь какая образованная мамзеля! — презрительно пустил ему вслед Лаврентьич и прибавил, по своему обыкновению, забористую ругань, но уже без ласкового выражения. — То-то я и говорю, — начал он, помолчав и обращаясь к Шутикову, — важно ты поёшь песни, Егорка!
— Уж что и толковать. Он у нас на все руки. Одно слово — молодца, Егорка!.. — заметил кто-то.
В ответ на одобрения Шутиков только улыбался, скаля белые ровные зубы из-под добродушных пухлых губ.
И эта довольная улыбка, ясная и светлая, как у детей, стоявшая в мягких чертах молодого, свежего лица, подернутого краской загара; и эти большие темные глаза, кроткие и ласковые, как у щенка; и аккуратная, подобранная сухощавая фигура, крепкая, мускулистая и гибкая, не лишенная, однако, крестьянской мешковатой складки, — все в нем притягивало и располагало к себе с первого же раза, как и чудный его голос. И Шутиков пользовался общей приязнью. Все любили его, и он всех, казалось, любил.
Это была одна из тех редких, счастливых, жизнерадостных натур, при виде которых невольно делается светлее и радостнее на душе. Такие люди какие-то прирожденные философы-оптимисты. Его веселый, сердечный смех часто раздавался на клипере. Бывало, он что-нибудь рассказывает и первый же заразительно, вкусно смеется. Глядя на него, и другие невольно смеялись, хотя бы в рассказе Шутикова иногда и не было ничего особенно смешного. Оттачивая какой-нибудь блочок, отскабливая краску на шлюпке или коротая ночную вахту, примостившись на марсе, за ветром, Шутиков обыкновенно тихо подпевал какую-нибудь песенку, а сам улыбался своей хорошей улыбкой, и всем было как-то весело и уютно с ним. Редко когда видели Шутикова сердитым или печальным. Веселое настроение не покидало его и тогда, когда другие готовы были упасть духом, и в такие минуты Шутиков был незаменим.
Помню я, как однажды мы штормовали. Ветер ревел жестокий, кругом бушевала буря, и клипер под штормовыми парусами бросало, как щепку, на океанском волнении, готовом, казалось, поглотить в своих седых гребнях утлое суденышко. Клипер вздрагивал и жалобно стонал всеми членами, сливая свои жалобы со свистом ветра, завывающего в надувшихся снастях. Даже старики матросы, видавшие всякие виды, угрюмо молчали, пытливо посматривая на мостик, где словно приросла к поручням высокая, закутанная в дождевик фигура капитана, зорко взглядывавшего на беснующуюся бурю.
А Шутиков в это время, придерживаясь одной рукой за снасти, чтоб не упасть, занимал небольшую кучку молодых матросов, с испуганными лицами прижавшихся к мачте, по-сторонними разговорами. Он так спокойно и просто «лясничал», рассказывая про какой-то забавный деревенский случай, и так добродушно смеялся, когда долетавшие брызги волн попадали ему в лицо, что это спокойное настроение невольно передавалось другим и ободряло молодых матросов, отгоняя всякую мысль об опасности.
— И где это ты, дьявол, насобачился так ловко горло драть? — снова заговорил Лаврентьич, подсасывая носогрейку с махоркой. — Пел у нас на «Костенкине» один матросик, надо правду сказать, что форменно, шельма, пел… да все не так забористо.
— Так, самоучкой, в пастухах когда жил. Бывало, стадо разбредется по лесу, а сам лежишь под березкой и песни играешь… Меня так в деревне и прозывали: певчий пастух! — прибавил Шутиков, улыбаясь.
И все почему-то улыбнулись в ответ, а Лаврентьич, кроме того, трепанул Шутикова по спине и, в виде особого расположения, выругался в самом нежном тоне, на который только был способен его испитой голос.
II
В эту минуту, расталкивая матросов, в круг торопливо вошел только что выскочивший из палубы плотный пожилой матрос Игнатов.
Бледный и растерянный, с непокрытой, коротко остриженной круглой головой, он сообщил прерывистым от злобы и волнения голосом, что у него украли золотой.
— Двадцать франоков! Двадцать франоков, братцы! — жалобно повторял он, подчеркивая цифру.
Это известие смутило всех. Такие дела бывали редкостью на клипере.
Старики нахмурились. Молодые матросы, недовольные, что Игнатов внезапно нарушил веселое настроение, более с испуганным любопытством, чем с сочувствием, слушали, как он, задыхаясь и отчаянно размахивая своими опрятными руками, спешил рассказать про все обстоятельства, сопровождавшие покражу: как он еще сегодня после обеда, когда команда отдыхала, ходил в свой сундучишко, и все было, слава богу, целехонько, все на своем месте, и как вот сейчас он пошел было за сапожным товаром — и… замок, братцы, сломан. Двадцати франоков нет.
— Это как же? Своего же брата обкрадывать? — закончил Игнатов, обводя толпу блуждающим взглядом.
Его гладкое, сытое, чисто выбритое, покрытое крупными веснушками лицо с небольшими круглыми глазами и острым, словно у ястреба, загнутым носом, отличавшееся всегда спокойной сдержанностью и довольным степенным видом неглупого человека, понимающего себе цену, теперь было искажено отчаянием скряги, который потерял все имущество. Нижняя челюсть вздрагивала; круглые его глаза растерянно перебегали по лицам. Видно было, что покража совсем его расстроила, обнаружив его кулацкую, скаредную натуру.
Недаром же Игнатов, которого некоторые матросы уж начинали почетно величать Семенычем, был прижимистым и жадным к деньгам человеком. Он и в кругосветное плавание пошел, вызвавшись охотником и оставив в Кронштадте жену, торговку на базаре, и двоих детей, с единственной целью прикопить в плавании деньжонок и, выйдя в отставку, заняться в Кронштадте по малости торговлей. Он вел крайне воздержанную жизнь, вина не пил, на берегу денег не тратил. Он копил деньги, копил их упорно, по грошам, знал, где можно выгодно менять золото и серебро, и, под большим секретом, давал мелкие суммы взаймы за проценты надежным людям. Вообще Игнатов был человек оборотистый и рассчитывал сделать хорошее дело, привезя в Россию для продажи сигар и кое-какие японские и китайские вещи. Он и раньше уж занимался такими делишками, когда плавал по летам в Финском заливе: в Ревеле, бывало, закупит килек, в Гельсингфорсе сигар и мамуровки[4] и с выгодой перепродаст в Кронштадте.
Игнатов был рулевым, служил исправно, стараясь ладить со всеми, дружил с баталером и подшкипером, был грамотен и тщательно скрывал, что у него водятся деньжонки, и притом для матроса порядочные.
— Это беспременно подлец Прошка, никто, как он! — закипая гневом, взволнованно продолжал Игнатов. — Даве он все вертелся в палубе, когда я ходил в сундук… Что ж теперь с этим подлецом делать, братцы? — спрашивал он, обращаясь преимущественно к старикам и как бы ища их поддержки. — Неужто я так и решусь денег? Ведь деньги-то у меня кровные. Сами знаете, братцы, какие у матроса деньги. По грошам сбирал… Чарки своей не пью… — прибавил он униженным, жалобным тоном.
Хотя никаких других улик, кроме того, что Прошка «даве вертелся в палубе», не было, тем не менее и сам потерпевший, и слушатели не сомневались, что украл деньги именно Прошка Житин, не раз уже попадавшийся в мелких кражах у товарищей. Ни один голос не раздался в его защиту. Напротив, многие возмущенные матросы осыпали предполагаемого вора бранью.
— Эдакий мерзавец! Только срамит матросское звание… — с сердцем сказал Лаврентьич.
— Да-а… Завелась и у нас паршивая собака.
— Надо его теперь проучить, чтобы помнил, лодырь беспутный!
— Так как же, братцы? — продолжал Игнатов. — Что с Прошкой делать? Ежели не отдаст он добром, я попрошу доложить старшему офицеру. Пусть по форме разберут.
Но эта приятная Игнатову мысль не нашла на баке поддержки. На баке был свой особенный, неписаный устав, строгими охранителями которого, как древле жрецы, были старые матросы.
И Лаврентьич первый энергично запротестовал.
— Это, выходит, с лепортом по начальству? — презрительно протянул он. — Кляузы заводить? Забыл, видно, с перепугу матросскую правилу? Эх вы… народ! — И Лаврентьич для облегчения помянул «народ» своим обычным словом. — Тоже выдумал, а еще матросом считаешься! — прибавил он, бросая на Игнатова не особенно дружелюбный взгляд.
— По-вашему, как же?
— А по-нашему, так же, как прежде учивали. Избей ты собачьего сына Прошку вдрызг, чтобы помнил, да отыми деньги. Вот как по-нашему.
— Мало ли его, подлеца, били! А ежели он не отдаст? Так, значит, и пропадать деньгам? Это за что же? Пусть уж лучше форменно засудят вора… Такую собаку нечего жалеть, братцы.
— Жаден ты к деньгам уж очень, Игнатов. Небось Прошка не все украл… Еще малость осталась? — иронически промолвил Лаврентьич.
— Считал ты, что ли!
— То-то не считал, а только не матросское это дело — кляузы. Не годится! — авторитетно заметил Лаврентьич. — Верно ли я говорю, ребята?
И все почти «ребята», к неудовольствию Игнатова, подтвердили, кто кляузы заводить не годится.
— А теперь веди сюда Прошку! Допроси его при ребятах! — решил Лаврентьич.
И Игнатов, злой и недовольный, подчинился, однако, общему решению и пошел за Прошкой.
В ожидании его матросы теснее сомкнули круг.
III
Прохор Житии, или, как все пренебрежительно называли его, Прошка, был самым последним матросом. Попавший в матросы из дворовых, отчаянный трус, которого только угроза порки могла заставить подняться на марс, где он испытывал неодолимый физический страх, лентяй и лодырь, отлынивавший от работы, и ко всему этому нечистый на руку, Прошка с самого начала плавания стал в положение какого-то отверженного пария[5]. Все им помыкали; боцмана и унтер-офицеры по́ходя, и за дело, и так, за здоро́во живешь, ругали и били Прошку, приговаривая: «У-у, лодырь!» И он никогда не протестовал, а с какой-то привычной тупой покорностью забитого животного переносил побои. После нескольких мелких краж, в которых он был уличен, с ним почти не разговаривали и обращались с пренебрежением. Всякий, кому не лень, мог безнаказанно обругать его, ударить, послать куда-нибудь, поглумиться над ним, словно бы иное отношение к Прошке было немыслимо. И Прошка так, казалось, привык к этому положению загнанной паршивой собаки, что и не ждал иного обращения и переносил всю каторжную жизнь, по-видимому, без особенной тягости, вознаграждая себя на клипере сытной едой да дрессировкой поросенка, которого Прошка учил делать разные штуки, а при съездах на берег — выпивкой и ухаживанием за прекрасным полом, до которого он был большой охотник. На женщин он тратил последний грош и ради них, кажется, таскал деньги у товарищей, несмотря на суровое возмездие, получаемое им в случае поимки. Он был вечный гальюнщик — другой должности ему не было, и состоял в числе шканечных, исполняя обязанность рабочей силы, не требовавшей никаких способностей. И тут ему доставалось, так как он всегда лениво тянул вместе с другими какую-нибудь снасть, делая только вид, как ленивая лукавая лошадь, будто взаправду тянет.
— У-у… подлый лодырь! — ругал его шканечный унтер-офицер, обещая ему ужо́ начистить зубы.
И, разумеется, «чистил».
IV
Забравшись под баркас, Прошка сладко спал, бессмысленно улыбаясь во сне. Сильный удар ноги разбудил его. Он хотел было залезть подальше от этой непрошеной ноги, как новый пинок дал понять Прошке, что он зачем-то нужен и что надо вылезать из укромного местечка. Он выполз, поднялся на ноги и глядел на злое лицо Игнатова тупым взором, словно бы ожидая, что его еще будут бить.
— Ступай за мной! — проговорил Игнатов, едва сдерживаясь от желания тут же истерзать Прошку.
Прошка покорно, словно виноватая собака, пошел за Игнатовым своей медленной, ленивой походкой, переваливаясь, как утка, со стороны на сторону.
Это был человек лет за тридцать, мягкотелый, неуклюжий, плохо сложенный, с несоразмерным туловищем на коротких кривых ногах, какие бывают у портных. (До службы он и был портным в помещичьей усадьбе.) Его одутловатое, землистого цвета лицо с широким плоским носом и большими оттопырившимися ушами, торчащими из-под шапки, было невзрачно и изношено. Небольшие тусклые серые глаза глядели из-под светлых редких бровей с выражением покорного равнодушия, какое бывает у забитых людей, но в то же время в них как будто чувствовалось что-то лукавое. Во всей его неуклюжей фигуре незаметно было и следа матросской выправки; все на нем сидело мешковато и неряшливо, — словом, Прошкина фигура была совсем нерасполагающая.
Когда вслед за Игнатовым Прошка вошел в круг, все разговоры смолкли. Матросы теснее сомкнулись, и взоры всех устремились на вора.
Для начала допроса Игнатов первым делом со всего размаха ударил Прошку по лицу.
Удар был неожиданный. Прошка слегка пошатнулся и безответно снес затрещину. Только лицо его сделалось еще тупее и испуганнее.
— Ты сперва толком пытай, а накласть в кису успеешь! — сердито промолвил Лаврентьич.
— Это ему в задаток, подлецу! — заметил Игнатов и, обратившись к Прошке, сказал: — Признавайся, сволочь, ты у меня золотой из сундука украл?
При этих словах тупое Прошкино лицо мгновенно осветилось осмысленным выражением. Он понял, казалось, всю тяжесть обвинения, бросил испуганный взгляд на сосредоточенно-серьезные, недоброжелательные лица и вдруг побледнел и как-то весь съежился. Тупой страх исказил его черты.
Эта внезапная перемена еще более утвердила всех в мысли, что деньги украл Прошка.
Прошка молчал, потупив глаза.
— Где деньги? Куда ты их спрятал? Сказывай! — продолжал допросчик.
— Я денег твоих не брал! — тихо отвечал Прошка.
Игнатов пришел в ярость.
— Ой, смотри! До смерти изобью, коли ты добром не отдашь денег! — сказал Игнатов, и сказал так злобно и серьезно, что Прошка подался назад.
И со всех сторон раздались неприязненные голоса:
— Повинись лучше, скотина!
— Не запирайся, Прошка!
— Лучше добром отдай!
Прошка видел, что все против него. Он поднял голову, снял шапку и, обращаясь к толпе, воскликнул с безнадежным отчаянием человека, хватающегося за соломинку:
— Братцы! Как перед истинным Богом! Хучь под присягу сичас! Разрази меня на месте!.. Делайте со мной что вгодно, а я денег не брал!
Прошкины слова, казалось, поколебали некоторых. Но Игнатов не дал усилиться впечатлению и торопливо заговорил:
— Не ври, подлая тварь!.. Бога-то оставь! Ты и тогда запирался, когда у Кузьмина из кармана франок вытащил. Помнишь? А как у Левонтьева рубаху украл, тоже шел под присягу, а? Тебе, бесстыжему, присягнуть — что плюнуть!
Прошка снова опустил голову.
— Винись, говорят тебе, скорее. Сказывай, где мои деньги? Нешто я не видел, как ты около вертелся… Сказывай, бессовестный, зачем ты в палубе шнырял, когда все отдыхали? — наступал допросчик.
— Так ходил.
— Так ходил?! Эй, Прошка, не доводи до греха. Признавайся.
Но Прошка молчал.
Тогда Игнатов, словно бы желая испробовать последнее средство, вдруг сразу изменил тон. Теперь он не угрожал, а просил Прошку отдать деньги ласковым, почти заискивающим тоном.
— Тебе ничего не будет… Слышишь?.. Отдай только мои деньги. Тебе ведь пропить, а у меня семейство. Отдай же! — почти молил Игнатов.
— Обыщите меня. Не брал я твоих денег!
— Так ты не брал, подлая душа? Не брал?! — воскликнул Игнатов с побелевшим от злобы лицом. — Не брал?!
И с этими словами он, как ястреб, налетел на Прошку.
Бледный, вздрагивающий всем съежившимся телом Прошка зажмурил глаза и старался скрыть от ударов голову.
Матросы молча хмурились, глядя на эту безобразную сцену. А Игнатов, возбужденный безответностью жертвы, свирепел все более и более.
— По́лно… Будет… будет! — раздался вдруг из толпы голос Шутикова.
И этот мягкий просящий голос точно сразу пробудил человеческие чувства и у других.
Многие из толпы вслед за Шутиковым сердито крикнули:
— Будет… будет!
— Ты прежде обыщи Прошку и тогда учи!
Игнатов оставил Прошку и, злобно вздрагивая, отошел в сторону. Прошка юркнул вон из круга. Несколько мгновений все молчали.
— Ишь ведь, какой подлец… Запирается! — переводя дух, проговорил Игнатов. — Ужо погоди, как я его на берегу разделаю, коли не отдаст денег! — грозился Игнатов.
— А может, это и не он! — вдруг тихо сказал Шутиков.
И та же мысль, казалось, сказывалась на некоторых напряженно-серьезных, насупившихся лицах.
— Не он? Впервые ему, что ли? Это беспременно его дело. Вор известный, чтоб ему!..
И Игнатов, взяв двух человек, ушел обыскивать Прошкины вещи.
— И зол же человек на деньги! Ох, зол! — сердито проворчал Лаврентьич вслед Игнатову, покачивая головой. — А ты не воруй, не срами матросского звания! — вдруг прибавил он неожиданно и выругался — на этот раз, по-видимому, с единственной целью: разрешить недоумение, ясно стоявшее на его лице.
— Так ты, Егор, думаешь, что это не Прошка? — спросил он после минутного молчания. — Кабысь больше некому.
Шутиков промолчал, и Лаврентьич больше не спрашивал и стал усиленно раскуривать свою короткую трубочку.
Толпа стала расходиться.
Через несколько минут на баке стало известно, что ни у Прошки, ни в его вещах денег не нашли.
— Запрятал, шельма, куда-нибудь! — решили многие и прибавляли, что теперь Прошке придется худо: Игнатов не простит ему этих денег.
V
Нежная тропическая ночь быстро спустилась над океаном.
Матросы спали на палубе — внизу было душно, — а на вахте стояло одно отделение. В тропиках, в полосе пассата, вахты спокойные, и вахтенные матросы, по обыкновению, коротают ночные часы, разгоняя дрему беседами и сказками.
В эту ночь, с полуночи до шести, на вахте довелось быть второму отделению, в котором были Шутиков и Прошка.
Шутиков уж рассказал несколько сказок кучке матросов, усевшихся у фок-мачты, и отправился покурить. Выкуривши трубку, он пошел, осторожно ступая между спящими, на шканцы и, разглядев в темноте Прошку, одиноко притулившегося у борта и поклевывавшего носом, тихо окликнул его:
— Это ты, Прошка?
— Я! — встрепенулся Прошка.
— Что я тебе скажу, — продолжал Шутиков тихим ласковым голосом, — ведь Игнатов, сам знаешь, человек какой… Он тебя вовсе изобьет на берегу, безо всякой жалости.
Прошка насторожился… Этот тон был для него неожиданностью.
— Что ж, пусть бьет, а я евойных денег не касался! — ответил после короткого молчания Прошка.
— То-то он не верит и, пока не вернет своих денег, тебе не простит… И многие ребята сумневаются.
— Сказано: не брал! — повторил Прошка с прежним упорством.
— Я, братец, верю, что ты не брал. Слышь, верю, и пожалел, что тебя занапрасно давеча били и Игнатов еще грозит бить… А ты вот чего, Прошка, возьми ты у меня двадцать франоков и отдай их Игнатову. Бог с ним! Пусть радуется на деньги, а мне когда-нибудь отдашь — приневоливать не стану. Так-то оно будет аккуратней… Да, слышь, никому про это не сказывай! — прибавил Шутиков.
Прошка был решительно озадачен и не находил в первую минуту слов. Если б Шутиков мог разглядеть Прошкино лицо, то увидал бы, что оно смущено и необыкновенно взволновано. Еще бы! Прошку жалеют, и мало того, что жалеют, еще предлагают деньги, чтобы избавить его от битья. Это уж было слишком для человека, давно не слыхавшего ласкового слова.
Подавленный, чувствуя, как что-то подступает к горлу, молча стоял он, опустив голову.
— Так бери деньги! — сказал Шутиков, доставая из кармана штанов завернутый в тряпочку весь свой капитал.
— Это как же?.. Ах ты господи! — растерянно бормотал Прошка.
— Эка, глупый… Сказано: получай, не кобенься!
— Получай?! А, братец! Спасибо тебе, добрая твоя душа! — отвечал Прошка дрогнувшим от волнения голосом и вдруг решительно прибавил: — Только твоих денег, Шутиков, не нужно. Я все же чувствую и не хочу перед тобой быть подлецом… Не желаю. Я сам после вахты отдам Игнатову его золотой.
— Так, значит, ты?..
— То-то я! — чуть слышно промолвил Прошка… — Никто бы и не дознался. Деньги-то в пушке запрятаны…
— Эх, Прохор, Прохор! — упрекнул только Шутиков грустным тоном, покачивая головой.
— Теперь пусть он меня бьет… Пусть всю скулу своротит. Сделай ваше одолжение! Бейте подлеца Прошку, жарь его, мерзавца, не жалей! — с каким-то ожесточенным одушевлением против собственной особы продолжал Прошка. — Все перенесу с моим удовольствием… По крайности знаю, что ты пожалел, поверил… Ласковое слово сказал Прошке… Ах ты господи! Вовек этого не забуду!
— Ишь ведь ты какой! — промолвил ласково Шутиков и присел на пушку.
Он помолчал и заговорил:
— Слушай, что я тебе скажу, братец ты мой, брось-ка ты все эти дела, право, брось, ну их!.. Живи, Прохор, как люди живут, по-хорошему. Стань форменным матросом, чтобы всё, значит, как следует… Так-то душевней будет… А то разве самому себе сладко? Я, Прохор, не в укор, а жалеючи! — прибавил Шутиков.
Прошка слушал эти слова и находился под их обаянием. Никто, во всю его жизнь, не говорил с ним так ласково и задушевно. До сей поры его только ругали да били — вот какое было ученье.
И теплое чувство благодарности и умиления охватило Прошкино сердце. Он хотел было выразить их словами, но слова не отыскивались.
Когда Шутиков отошел, пообещав уговорить Игнатова простить Прошку, Прошка не чувствовал уж себя таким ничтожеством, каким считал себя прежде. Долго еще стоял он, посматривая за борт, и раз или два смахнул навертывавшуюся слезу.
Утром, после смены, он принес Игнатову золотой. Обрадованный матрос алчно схватил деньги, зажал их в руке, дал Прошке в зубы и хотел было идти, но Прошка стоял перед ним и повторял:
— Бей еще… Бей, Семеныч! В морду в самую дуй!
Удивленный Прошкиной смелостью, Игнатов презрительно оглядел Прошку и проговорил:
— Я разделал бы тебя, мерзавца, начисто, кабы ты мне не отдал деньги, а теперь не стоит рук марать… Сгинь, сволочь, но только смотри попробуй еще раз ко мне лазить!.. Искалечу! — внушительно прибавил Игнатов и, оттолкнув с дороги Прошку, побежал вниз прятать свои деньги.
Тем и ограничилась расправа.
Благодаря ходатайству Шутикова и боцман Щукин, узнавший о воровстве и собиравшийся «после убирки искровянить стервеца», вместо того довольно милостиво, относительно говоря, потрепал, как он выражался, «Прошкино хайло».
— Испужался Прошка Семеныча-то! Предоставил деньги, а ведь как запирался, шельма! — говорили матросы во время утренней чистки.
VI
С той памятной ночи Прошка беззаветно привязался к Шутикову и был предан ему, как верная собака. Выражать свою привязанность открыто, при всех, он, разумеется, не решался, чувствуя, вероятно, что дружба такого отверженца унизит Шутикова в чужих глазах. Он никогда не заговаривал с Шутиковым при других, но часто взглядывал на него, как на какое-то особенное существо, перед которым он, Прошка, последняя дрянь. И он гордился своим покровителем, принимая близко к сердцу все, до него касающееся. Он любовался, поглядывая снизу, как Шутиков лихо управляется на рее, замирал от удовольствия, слушая его пение, и вообще находил необыкновенно хорошим все, что ни делал Шутиков. Иногда днем, но чаще во время ночных вахт, заметив Шутикова одного, Прошка подходил и топтался около.
— Ты чего, Прохор? — спросит, бывало, приветливо Шутиков.
— Так, ничего! — ответит Прошка.
— Куда ж ты?
— А к своему месту… Я ведь так только! — скажет Прошка, словно бы извиняясь, что беспокоит Шутикова, и уйдет.
Всеми силами старался Прошка чем-нибудь да угодить Шутикову: то предложит ему постирать белье, то починить его гардероб, и часто отходил смущенный, получая отказ от услуг. Однажды Прошка принес щегольски сработанную матросскую рубаху с голландским передом и, несколько взволнованный, подал ее Шутикову.
— Молодец, Житин! Важная, брат, работа! — одобрительно заметил Шутиков после подробного осмотра и протянул руку, возвращая рубаху.
— Это я тебе, Егор Митрич. Уважь… Носи на здоровье.
Шутиков стал было отказываться, но Прошка так огорчился и так просил уважить его, что Шутиков наконец принял подарок.
Прошка был в восторге.
И лодырничать стал Прошка меньше, работая без прежнего лукавства. Бить его стали реже, но отношение к нему оставалось по-прежнему пренебрежительное, и Прошку нередко дразнили, устраивая из этой травли потеху.
Особенно любил дразнить его один из шканечных, забиячный, но трусливый молодой матрос Иванов. Как-то однажды, желая потешить собравшийся кружок, он донимал Прошку своим глумлением. Прошка, по обыкновению, отмалчивался, и Иванов становился все назойливее и безжалостнее в своих шутках.
Случайно проходивший Шутиков, увидав, как травят Прошку, вступился:
— Это, Иванов, не того… нехорошо это. Чего ты пристал к человеку, ровно смола?
— Прошка у нас необидчивый! — со смехом ответил Иванов. — Ну-ка, Прошенька, расскажи, как ты у батюшки шильники таскал и мамзелям опосля носил. Не кочевряжься. Расскажи, Прошенька! — глумился на общую потеху Иванов.
— Не тронь, говорю, человека! — строго повторил Шутиков.
Все были удивлены, что за Прошку, за лодыря и вора Прошку, Шутиков так горячо заступается.
— Да ты чего? — окрысился вдруг Иванов.
— Я-то ничего, а ты не куражься… Ишь тоже нашел над кем куражиться!
Тронутый до глубины души и в то же время боявшийся, чтобы из-за него не было Шутикову неприятностей, Прошка решился подать голос:
— Иванов ничего. Он ведь так только. Шутит, значит.
— А ты съездил бы его по уху — небось перестал бы так шутить.
— Прошка бы съездил?.. — удивленно воскликнул Иванов, до того показалось ему это невероятным. — Ну-ка, попробуй, Прошка! Насыпал бы я тебе, вислоухому, в кису.
— Может, и сам бы съел сдачи.
— Не от тебя ли?
— То-то от меня! — сдерживая волнение, проговорил Шутиков, и его обыкновенно добродушное лицо было теперь строго и серьезно.
Иванов стушевался. И только когда Шутиков отошел, проговорил, насмешливо улыбаясь и указывая на Прошку:
— Однако… Нашел себе приятеля Шутиков!.. Нечего сказать, приятель… Хорош приятель, Прошка-гальюнщик!
После этого происшествия Прошку обижали меньше, зная, что у него есть заступник, а Прошка еще сильнее привязался к Шутикову и скоро доказал, на что способна привязанность его благодарной души.
VII
Это было в Индийском океане, на пути к Зондским островам.
Утро в тот день стояло солнечное, блестящее, но прохладное: относительная близость Южного полюса давала себя знать. Дул свежий ровный ветер, и по небу носились белоснежные перистые облака, представляя собой изящные фантастические узоры. Плавно раскачиваясь, клипер наш летел полным ветром под марселями в один риф, под фоком и гротом, убегая от попутной волны.
Был десятый час на исходе. Вся команда находилась наверху. Вахтенные стояли у своих снастей, а подвахтенные были разведены по работам. Всякий занимался каким-нибудь делом: кто оканчивал чистку меди, кто подскабливал шлюпку, кто вязал мат.
Шутиков стоял на грот-русленях, прикрепленный пеньковым поясом, и учился бросать лот, недавно сменив другого матроса. Вблизи от него был и Прошка. Он чистил орудие и по временам останавливался, любуясь на Шутикова, как тот, набравши много кругов лот-линя (веревки, на которой прикреплен лот), ловко закидывает его назад, словно аркан, и затем, когда веревка вытянется, снова быстрыми ловкими движениями выбирает ее…
Вдруг со шканцев раздался отчаянный крик:
— Человек за бортом!
Не прошло нескольких секунд, как снова зловещий крик:
— Еще человек за бортом!
На мгновение все замерло на клипере. Многие в ужасе крестились.
Вахтенный лейтенант, стоявший на мостике, видел, как мелькнула фигура сорвавшегося человека, видел, как бросился в море другой. Сердце в нем дрогнуло, но он не потерялся. Он бросил с мостика спасательный круг, крикнув бросать спасательные буйки и с юта, и громовым взволнованным голосом скомандовал:
— Фок и грот на гитовы!
С первым окриком все офицеры выскочили наверх. Капитан и старший офицер, оба взволнованные, уж были на мостике.
— Он, кажется, схватился за буек! — проговорил капитан, отрываясь от бинокля. — Сигнальщик, не спускай их с глаз!
— Есть. Вижу!
— Скорей, скорей ложитесь в дрейф да спускайте баркас! — нервно, отрывисто торопил капитан.
Но торопить было нечего. Понимая, что каждая секунда дорога, матросы рвались как бешеные. Через восемь минут клипер уже лежал в дрейфе, и баркас с людьми, под начальством мичмана Лесового, тихо спускался с боканцев.
— С Богом! — напутствовал капитан. — Ищите людей на ост-норд-ост… Да не заходите далеко! — прибавил он.
Упавших в море уже не было видно. В эти восемь минут клипер пробежал по крайней мере милю.
— Кто это упал? — спросил капитан старшего офицера.
— Шутиков. Сорвался, бросая лот… Лопнул пояс.
— А другой?
— Житии! Бросился за Шутиковым.
— Житии? Этот трус и рохля? — удивился капитан.
— Я сам не могу понять! — отвечал Василий Иваныч.
Между тем все глаза были устремлены на баркас, который медленно удалялся от клипера, то скрываясь, то показываясь среди волн. Наконец он совсем скрылся из глаз, не вооруженных биноклем, и кругом был виден один волнующийся океан.
На клипере царила угрюмая тишина. Изредка лишь матросы перекидывались словами вполголоса. Капитан не отрывался от бинокля. Старший штурман и два сигнальщика смотрели в подзорные трубы.
Так прошло долгих полчаса.
— Баркас идет назад! — доложил сигнальщик.
И снова все взоры устремились на океан.
— Верно, спасли людей! — тихо заметил старший офицер капитану.
— Почему вы думаете, Василий Иваныч?
— Лесовой не вернулся бы так скоро!
— Дай Бог! Дай Бог!
Ныряя в волнах, приближался баркас. Издали он казался крошечной скорлупой. Казалось, вот-вот его сейчас захлестнет волной. Но он снова показывался на гребне и снова нырял.
— Молодцом правит Лесовой! Молодцом! — вырвалось у капитана, жадно глядевшего на шлюпку.
Баркас подходил все ближе и ближе.
— Оба в шлюпке! — весело крикнул сигнальщик.
Радостный вздох вырвался у всех. Многие матросы крестились. Клипер словно ожил. Снова пошли разговоры.
— Счастливо отделались! — проговорил капитан, и на его серьезном лице появилась радостная, хорошая улыбка.
Улыбался в ответ и Василий Иванович.
— А Житин-то!.. Трус, трус, а вот подите! — продолжал капитан.
— Удивительно! И матрос-то лодырь, а бросился за товарищем!.. Шутиков покровительствовал ему! — прибавил Василий Иванович в пояснение.
И все дивились Прошке. Прошка был героем минуты.
Через десять минут баркас подошел к борту и благополучно был поднят на боканцы.
Мокрые, вспотевшие и красные, тяжело дыша от усталости, выходили гребцы из баркаса и направлялись на бак. Вышли Шутиков и Прошка, отряхиваясь, словно утки, от воды, оба бледные, взволнованные и счастливые.
Все с уважением смотрели теперь на Прошку, стоявшего перед подошедшим капитаном.
— Молодец, Житии! — сказал капитан, невольно недоумевая при виде этого неуклюжего, невзрачного матроса, рисковавшего жизнью за товарища.
А Прошка переминался с ноги на ногу, видимо робея.
— Ну, ступай переоденься скорей да выпей за меня чарку водки… За твой подвиг представлю тебя к медали, а от меня получишь денежную награду.
Совсем ошалевший Прошка даже не догадался сказать «рады стараться!» и, растерянно улыбаясь, повернулся и пошел своей утиной походкой.
— Снимайтесь с дрейфа! — приказал капитан, поднимаясь на мостик.
Раздалась команда вахтенного лейтенанта. Голос его теперь звучал весело и спокойно. Скоро были поставлены убранные паруса, и минут через пять клипер снова несся прежним курсом, подымаясь с волны на волну, и прерванные работы опять возобновились.
— Ишь ведь ты какой, блоха тебя ешь! — остановил Лаврентьич Прошку, когда тот, переодетый и согревшийся чаркой рома, поднялся вслед за Шутиковым на палубу. — Портной, портной, а какой отчаянный! — продолжал Лаврентьич, ласково трепля Прошку по плечу.
— Без Прохора, братцы, не видать бы мне свету! Как я это окунулся да вынырнул, ну, думаю, шабаш. Богу отдавать душу придется! — рассказывал Шутиков. — Не продержусь, мол, долго на воде-то… Слышу — Прохор голосом кричит. Плывет с кругом и мне буек подал… То-то обрадовал, братцы! Так мы вместе и держались, доколь баркас не подошел.
— А страшно было? — спрашивали матросы.
— А ты думал как? Еще как, братцы-то, страшно! Не дай бог! — отвечал Шутиков, добродушно улыбаясь.
— И как это ты, братец, вздумал? — ласково спросил Прошку подошедший боцман.
Прошка глупо улыбался и, помолчав, ответил:
— Я вовсе и не думал, Матвей Нилыч. Вижу, он упал, Шутиков, значит. Я, значит, господи благослови, да за им…
— То-то и есть! Душа в ём. Ай да молодца, Прохор! Ишь ведь… На-кось покури трубочки-то на закуску! — сказал Лаврентьич, передавая Прошке, в знак особенного благоволения, свою короткую трубочку, и при этом прибавил забористое словечко в самом нежном тоне.
С этого дня Прошка перестал быть прежним загнанным Прошкой и обратился в Прохора.
1887
Ужасный день
I
Весь черный, с блестящей золотой полоской вокруг, необыкновенно стройный, изящный и красивый со своими чуть-чуть наклоненными назад тремя высокими мачтами, военный четырехпушечный клипер «Ястреб» в это хмурое, тоскливое и холодное утро пятнадцатого ноября 186* года одиноко стоял на двух якорях в пустынной Дуйской бухте неприветного острова Сахалина. Благодаря зыби клипер тихо и равномерно покачивался, то поклевывая острым носом и купая штаги в воде, то опускаясь подзором своей круглой кормы.
«Ястреб», находившийся уже второй год в кругосветном плавании, после посещения наших почти безлюдных в то время портов Приморской области, зашел на Сахалин, чтобы запастись даровым углем, добытым ссыльнокаторжными, недавно переведенными в Дуйский пост из острогов Сибири, и идти затем в Нагасаки, а оттуда — в Сан-Франциско, на соединение с эскадрой Тихого океана.
В этот памятный день погода стояла сырая, с каким-то пронизывающим холодом, заставлявшим вахтенных матросов ёжиться в своих коротких бушлатах и дождевиках, а подвахтенных — чаще подбегать к камбузу погреться. Шел мелкий, частый дождик, и серая мгла заволакивала берег. Оттуда доносился только однообразный характерный гул бурунов[6], перекатывающихся через отмели и гряды подводных камней в глубине бухты. Ветер, не особенно свежий, дул прямо с моря, и на совершенно открытом рейде ходила порядочная зыбь, мешавшая, к общему неудовольствию, быстрой выгрузке угля из двух больших неуклюжих допотопных лодок, которые трепались и подпрыгивали, привязанные у борта клипера, пугая «крупу», как называли матросы линейных солдатиков, приехавших с берега на лодках.
С обычной на военных судах торжественностью на «Ястребе» только что подняли флаг и гюйс, и с восьми часов на клипере начался судовой день. Все офицеры, выходившие к подъему флага наверх, спустились в кают-компанию пить чай. На мостике только оставались закутанные в дождевики капитан, старший офицер и вахтенный начальник, вступивший на вахту.
— Позвольте отпустить вторую вахту в баню? — спросил старший офицер, подходя к капитану. — Первая вахта вчера ездила. Второй будет обидно. Я уж обещал. Матросам баня — праздник.
— Что ж, отпустите. Только пусть скорее возвращаются назад. После погрузки мы снимемся с якоря. Надеюсь, сегодня закончим?
— К четырем часам надо закончить.
— В четыре часа я, во всяком случае, ухожу, — спокойно и в то же время уверенно и властно проговорил капитан. — И то мы промешкались в этой дыре! — прибавил он недовольным тоном, указывая своей белой выхоленной маленькой рукой по направлению к берегу.
Он откинул капюшон дождевика с головы, открыв молодое и красивое лицо, полное энергии и выражения спокойной уверенности стойкого и отважного человека, и, слегка прищурив свои серые лучистые и мягкие глаза, с напряженным вниманием всматривался вперед, в туманную даль открытого моря, где белели седые гребни волн. Ветер трепал его светло-русые бакенбарды, и дождь хлестал прямо в лицо. Несколько секунд не спускал он глаз с моря, точно стараясь угадать: не собирается ли оно разбушеваться, и, казалось, успокоенный, поднял глаза на нависшие тучи и потом прислушался к гулу бурунов, шумевших за кормой.
— За якорным канатом хорошенько следите. Здесь подлый грунт, каменистый, — сказал он вахтенному начальнику.
— Есть! — коротко и весело отрезал молодой лейтенант Чирков, прикладывая руку к полям зюйдвестки и, видимо, щеголяя и служебной аффектацией хорошего подчиненного, и своим красивым баритоном, и своим внешним видом заправского моряка.
— Сколько вытравлено цепи?
— Десять сажен каждого якоря.
Капитан двинулся было с мостика, но остановился и еще раз повторил, обращаясь к плотной и приземистой фигуре старшего офицера:
— Так уж пожалуйста, Николай Николаич, чтобы баркас вернулся как можно скорей… Барометр пока хорошо стоит, но, того и гляди, может засвежеть. Ветер прямо в лоб, баркасу и не выгрести.
— К одиннадцати часам баркас вернется, Алексей Петрович.
— Кто поедет с командой?
— Мичман Нырков.
— Скажите ему, чтоб немедленно возвращался на клипер, если начнет свежеть.
С этими словами капитан сошел с мостика и спустился в свою большую комфортабельную капитанскую каюту. Проворный вестовой принял у входа дождевик, и капитан присел у круглого стола, на котором уж был подан кофе и стояли свежие булки и масло.
Старший офицер, ближайший помощник капитана, так сказать «хозяйский глаз» судна и верховный жрец культа порядка и чистоты, по обыкновению поднявшись вместе с матросами, с пяти часов утра носился по клиперу во время обычной его утренней уборки и торопился теперь выпить поскорее стакан-другой горячего чаю, чтобы затем снова выбежать наверх и поторапливать выгрузкой угля. Отдавши вахтенному офицеру приказание собрать вторую вахту на берег, приготовить баркас и дать ему знак, когда люди будут готовы, он торопливо сбежал с мостика и спустился в кают-компанию.
Тем временем к мостику подбежал вызванный боцман Никитин, или Егор Митрич, как почтительно звали его матросы. Приложив растопыренные засмоленные пальцы своей здоровенной мозолистой и шершавой руки к сбитой на затылок намокшей шапке, он внимательно выслушивал приказание вахтенного офицера.
Это был коренастый и крепкий, небольшого роста, сутуловатый пожилой человек самого свирепого вида: с заросшим волосами некрасивым рябым лицом, с коротко подстриженными щетинистыми колючими усами и с выкаченными, как у рака, глазами, над которыми торчали черные взъерошенные клочья. Перешибленный еще давно марса-фалом нос напоминал темно-красную сливу. В правом ухе у боцмана блестела медная сережка.
Несмотря, однако, на такую свирепую наружность и на самое отчаянное сквернословие, которым боцман приправлял и свои обращения к матросам, и свои монологи под пьяную руку на берегу, Егор Митрич был простодушнейшим и кротким существом с золотым сердцем и притом лихим, знающим свое дело до тонкости боцманом. Он никогда не обижал матросов — ни он, ни матросы не считали, конечно, обидой его ругательные импровизации. Сам прежде выученный битьем, он, однако, не дрался и всегда был предстателем и защитником матросов. Нечего и прибавлять, что простой и незаносчивый Егор Митрич пользовался среди команды уважением и любовью.
«Правильный человек Егор Митрич», — говорили про него матросы.
Выслушав приказание вахтенного лейтенанта, боцман вприпрыжку понесся на бак и, вынув из кармана штанов висевшую на длинной медной цепочке такую же дудку, засвистал в нее соловьем. Свист был энергичный и веселый и словно бы предупреждал о радостном известии. Отсвистав и проделав трели с мастерством заправского боцмана, свиставшего в дудку половину своей долгой морской службы, он нагнулся над люком в жилую палубу и, расставив фертом свои цепкие, слегка кривые, короткие ноги, весело зыкнул во всю силу своего могучего голоса, несколько осипшего и от береговых попоек, и от ругани:
— Вторая вахта, в баню! Баркасные, на баркас!
Вслед за громовым окриком боцман сбежал по трапу вниз и обходил жилую палубу и кубрик, повторяя команду и рассыпая направо и налево подбодряющие энергические словечки самым веселым и добродушным тоном:
— Живо, сучьи дети!.. Поворачивайтесь по-матросски, черти!.. Не копайся, идолы! Небось долго париться не дадут… К одиннадцати чтобы беспременно на клипер… В один секунд собирайся, ребята!
Заметив молодого матросика, который и после свистка не трогался с места, Егор Митрич крикнул, стараясь придать своему голосу сердитый тон:
— А ты, Конопаткин, что расселся, ровно собачья мамзель, а? Ай в баню не хочешь, песья твоя душа?
— Иду, Егор Митрич, — проговорил, улыбаясь, матросик.
— То-то иду. Собирай свои потроха… Да не ползи, как вошь по мокрому месту! — рассыпал Егор Митрич перлы своего остроумия при общем одобрительном смехе.
— А скоро уходим отсюдова, Егор Митрич? — остановил боцмана писарь.
— Надо быть, сегодня.
— Скорей бы уйти. Как есть подлое место. Никаких развлечениев!
— Собачье место… Недаром здесь бессчастные люди живут!.. Вали, вали, братцы! — продолжал покрикивать боцман, сдабривая свои окрики самыми неожиданными импровизациями.
Веселые и довольные, что придется попариться в бане, в которой не были уже полтора года, матросы и без понуканий своего любимца Егора Митрича торопливо доставали из своих парусинных мешков по смене чистого белья, запасались мылом и кусками нащипанной пеньки, обмениваясь замечаниями насчет предстоящего удовольствия.
— По крайности матушку-Расею вспомним, братцы. С самого Кронштадта не парились.
— То-то в загранице нет нигде бань, одни ванный. Кажется, и башковатые люди в загранице живут, а поди ж ты! — не без чувства сожаления к иностранцам заметил пожилой баковый матрос.
— Так-таки и нигде? — спросил молодой чернявый матросик.
— Нигде. Без бань живут, чудны́е! Везде у них ванный.
— Эти ванный, чтоб им пусто было! — вставил один из матросов. — Я ходил в Бресте в эту самую ванную. Одна слава что мытье, а форменного мытья нету.
— А хороша здесь, братцы, баня?
— Хорошая, — отвечал матрос, бывший вчера на берегу. — Настоящая жаркая баня. Линейные солдатики строили; тоже, значит, российские люди. Им да вот этим самым несчастным, что роют уголь, только и утеха одна что баня…
— Да, вовсе здесь тяжкое житье!
— И командир ихний, сказывали, зверь.
— Одно слово — каторжное место. И ни тебе кабака, ни тебе бабы!
— Одна завалящая варначка какая-то есть старая… Наши видели.
— Увидишь и ты, не бойсь! — проговорил, смеясь, подошедший Егор Митрич. — Не с лица воду пить! Живо, живо!.. Выползай, кто готов… Нечего-то лясы точить, чтоб вас!
Матросы выходили один за другим наверх с узелками под бушлатами и выстраивались на шканцах. Вышел старший офицер и, снова повторив мичману Ныркову приказание быть к одиннадцати часам на клипере, велел сажать людей на баркас, который уже покачивался у левого борта с поставленными мачтами.
Матросы весело спускались по веревочному трапу, прыгали в шлюпку и рассаживались по банкам. Старший офицер наблюдал за посадкой.
Минут через пять баркас, полный людьми, с поставленными парусами, отвалил от борта с мичманом Нырковым на руле, понесся стрелой с попутным ветром и скоро скрылся в туманной мгле, все еще окутывавшей берег.
II
В кают-компании все были в сборе за большим столом, покрытым белоснежной скатертью. Две горки свежих булок, изделия офицерского кока (повара), масло, лимоны, графинчик с коньяком и даже сливки красовались на столе, свидетельствуя о хозяйственных талантах и запасливости содержателя кают-компании молодого доктора Платона Васильевича, выбранного на эту хлопотливую должность во второй раз. Только что истопленная железная печка позволяла всем сидеть без пальто. Пили чай и болтали, поругивая главным образом проклятый Сахалин, куда судьба занесла клипер. Ругали и открытый рейд с его зыбью, и собачью погоду, и местность, и холод, и медленную грузку угля. Всем, начиная со старшего офицера и кончая самым юным членом кают-компании, только что произведенным в мичманы, румяным и свежим, как яблочко, Арефьевым, эта стоянка в Дуэ была очень неприятна. Подобный берег не манил к себе моряков. Да и что могло манить?.. Неприветен был этот несчастный поселок на оголенном юру бухты, с унылым лесом сзади без конца, с несколькими казармами мрачного вида, в которых жили пятьдесят человек ссыльно-каторжных, выходивших с утра на добычу угля в устроенную вблизи шахту, да полурота солдат линейного сибирского батальона.
Когда старший офицер объявил в кают-компании, что сегодня «Ястреб» непременно уйдет в четыре часа, хотя бы и не весь уголь был принят, все по этому случаю выражали свою радость. Молодые офицеры вновь замечтали вслух о Сан-Франциско и о том, как они там «протрут денежки». Деньги, слава богу, были! В эти полтора месяца плавания с заходами в разные дыры нашего побережья на Дальнем Востоке при всем желании некуда было истратить денег, а впереди еще недели три-четыре до Сан-Франциско — смотришь, и можно спустить все трехмесячное содержание, а при случае и прихватить вперед… После адской скуки всех этих «собачьих дыр» морякам хотелось настоящего берега. Мечтали о хорошем порте со всеми его удовольствиями, только, разумеется, не вслух, и такие солидные люди, как старший офицер, Николай Николаевич, вообще редко съезжавший на берег, а если и съезжавший, то на самое короткое время, чтоб «освежиться», как говорил он, и доктор, и старший артиллерист, и старший механик, и даже отец Спиридоний. Все они с видимым вниманием слушали, когда Сниткин, полный лейтенант с сочными, пухлыми губами и маленькими глазками, всегда веселый и добродушный, немножко враль и балагур, рассказывал о прелестях Сан-Франциско, в котором он был в первое свое кругосветное плавание, и с неумеренною восторженностью, свойственной, кажется, одним морякам, восхвалял красоту и прелесть американок.
— Уж разве так хороши? — спросил кто-то.
— Прелесть! — ответил Сниткин и в доказательство поцеловал даже свои толстые пальцы.
— Помните, Василий Васильич, вы и малаек нам нахваливали. Говорили, что очень недурны собой, — заметил один из мичманов.
— Ну и что же? Они в своем роде недурны, эти черномазые дамы! — со смехом отвечал лейтенант Сниткин, не особенно разборчивый, по-видимому, к цвету кожи прекрасного пола. — Все, батюшка, зависит от точки зрения и обстоятельств, в которых находится злополучный моряк… Ха-ха-ха!
— При всяких обстоятельствах ваши хваленые малайки — мерзость!
— Ишь какой эстетик, скажите пожалуйста! И, однако, несмотря на всю свою эстетику, в Камчатке вы влюбились в заседательшу и все расспрашивали ее, как маринуют бруснику и морошку… А ведь этой даме все сорок, и главное — она форменный сапог! Хуже всякой малайки.
— Ну, положим… — сконфуженно пролепетал мичман.
— Да уж как там ни полагайте, голубчик, а — сапог… Одна бородавка на носу чего стоит! И тем не менее вы ей романсы пели. Значит, такая точка зрения была.
— Вовсе не пел! — защищался юный мичман.
— А помните, господа, как все мы тогда из Камчатки с вареньем ушли? — воскликнул кто-то из мичманов.
Раздался общий взрыв веселого смеха. Снова вспомнили, как после трехдневной стоянки «Ястреба» в Петропавловске, в Камчатке, — стоянки, взбудоражившей всех шесть дам местной интеллигенции и заставившей их на время примириться, забыв вражду, чтобы устроить бал для редких гостей, — каждый из молодых офицеров клипера вечером, в день ухода из Камчатки, вносил в кают-компанию по банке варенья и ставил ее на стол со скромно-торжествующей улыбкой. И то-то было сперва изумления и потом смеха, когда выяснилось, что все эти восемь банок варенья, преимущественно морошки, были подарком одной и той же тридцатилетней дамы, считавшейся первой красавицей среди шести камчатских дам. А между тем каждый, получивший «на память» по банке варенья, считал себя единственным счастливцем, удостоившимся такого особенного внимания.
— Всех обморочила лукавая бабенка! — восклицал Сниткин. — «Вам, — говорит, — одному варенье на память!» И руки жала, и… ха-ха-ха… Ловко! По крайней мере, никому не обидно!
После нескольких стаканов чая и многих выкуренных папирос старшему офицеру, видимо, не хотелось расставаться со своим почетным местом на мягком диване в теплой и уютной кают-компании, особенно в виду оживленных рассказов о Сан-Франциско, напомнивших Николаю Николаевичу, этому мученику своих тяжелых обязанностей старшего офицера, что и ему ничто человеческое не чуждо. Но, раб долга и педант, как и бо́льшая часть старших офицеров, любивший вдобавок напустить на себя вид человека, которому нет ни минуты покоя и который — полюбуйтесь! — за всем должен присмотреть и за все отвечать, он хоть и сделал кислую гримасу, вспомнив, какая наверху пакость, тем не менее решительно поднялся с дивана и крикнул вестовому:
— Пальто и дождевик!
— Куда вы, Николай Николаич? — спросил доктор.
— Странный вопрос, доктор, — отвечал как будто даже обиженно старший офицер. — Точно вы не знаете, что уголь грузят.
И старший офицер пошел наверх «присматривать» и мокнуть, хотя и без его присутствия выгрузка шла своим порядком. Но Николай Николаич все-таки торчал наверху и мок, словно бы в пику кому-то и в доказательство, сколь он претерпевает.
В кают-компании продолжалась веселая болтовня моряков, еще не надоевших друг другу до тошноты, что случается на очень длинных переходах, когда нет новых впечатлений извне. Мичманы расспрашивали лейтенанта Сниткина о Сан-Франциско, кто-то рассказывал анекдоты о «беспокойном адмирале». Все были веселы и беспечны.
Один только Лаврентий Иванович, старший штурман клипера, не принимал участия в разговоре и посасывал свою манилку, постукивая сморщенными костлявыми пальцами по столу далеко не с тем добродушно-спокойным видом, с каким он это делал, когда «Ястреб» был в открытом океане или стоял на якоре на хорошем, защищенном рейде. Вдобавок Лаврентий Иванович не мурлыкал, по обыкновению, себе под нос излюбленного им мотива какого-то старинного романса, и это молчание тоже кое-что значило.
Это был сухощавый, среднего роста человек лет пятидесяти, с открытым, располагающим, еще свежим лицом, добросовестный и педантичный до щепетильности служака, давно уж примирившийся со своим вечно подневольным положением штурмана и скромной карьерой и не злобствовавший, по обычаю штурманов, на флотских. Поседевший на море, на котором провел бо́льшую часть своей одинокой, холостой жизни, он приобрел на нем вместе с богатым опытом, закалкой характера и ревматизмом еще и то несколько суеверное, почтительно-осторожное отношение к хорошо знакомому ему морю, которое делало Лаврентия Ивановича весьма недоверчивым и подозрительным к коварной стихии, показывавшей ему во время долгих плаваний всякие виды.
Видимо, чем-то озабоченный, он то и дело выходил из кают-компании наверх, поднимался на мостик и долгим недоверчивым взглядом своих маленьких, зорких, как у коршуна, глаз глядел на море и озирался вокруг. Туманная мгла, закрывавшая берег, рассеялась, и можно было ясно видеть седые буруны, грохотавшие в нескольких местах бухты, в значительном отдалении от клипера. Поглядывал старый штурман и на надувшийся вымпел, не изменявший своего направления, указывающего, что ветер прямо, как говорят моряки, «в лоб», и на небо, на свинцовом фоне которого начинали прорезываться голубые кружки…
— Дождь-то, слава богу, перестает, Лаврентий Иваныч! — весело заметил вахтенный лейтенант Чирков.
— Да, перестает.
В мягком, приятном баске старого штурмана не слышно было довольной нотки. Напротив, то обстоятельство, что дождь перестает, казалось, не особенно нравилось Лаврентию Ивановичу. И словно бы не доверяя своим зорким глазам, он снял с поручней большой морской бинокль и снова впился в почерневшую даль. Несколько минут разглядывал он мрачные, нависшие над краем моря тучи и, положив на место бинокль, потянул носом, точно собака, воздух и покачал раздумчиво головой.
— Что это вы, Лаврентий Иваныч, все посматриваете?.. Мы, кажется, не проходим опасных мест? — шутливо спросил Чирков, подходя к штурману.
— Не нравится мне горизонт-с! — отрезал старый штурман.
— А что?
— Как бы вскорости не засвежело.
— Эка беда, если и засвежеет! — хвастливо проговорил молодой человек.
— Очень даже беда-с! — внушительно и серьезно заметил старший штурман. — Этот свирепый норд-вест коли заревет вовсю, то надолго, и уж тогда не выпустит нас отсюда… А я предпочел бы штормовать в открытом море, чем здесь, на этом подлеце рейде. Да-с!
— Чего нам бояться? У нас — машина. Разведем пары, в помощь якорям, и шутя отстоимся! — самоуверенно воскликнул Чирков.
Лаврентий Иванович посмотрел на молодого человека со снисходительной улыбкой старого, бывалого человека, слушающего хвастливого ребенка.
— Вы думаете «шутя-а-а»? — протянул он, усмехнувшись. — Напрасно! Вы, батенька, не знаете, что это за подлый норд-вест, а я его знаю. Лет десять тому назад я стоял здесь на шхуне… Слава богу, вовремя убрались, а то бы…
Он не докончил фразы, боясь, как все суеверные люди, даже упоминать о возможности несчастия, и, помолчав, заметил:
— Положим, машина, а все бы лучше подобру-поздорову в море! Ну его к черту, уголь! В Нагасаки можем добрать. Эта хитрая каналья норд-вест сразу набрасывается как бешеный. А уж как он рассвирепеет до шторма, тогда уходить поздно.
— Уж вы всегда, Лаврентий Иваныч, везде страхи видите.
— В ваши годы и я их не видал… Все, мол, трын-трава… На все наплевать, ничего не боялся… Ну а как побывал в переделках, состарившись в море, так и вижу… Знаете ли пословицу: «Береженого и Бог бережет».
— Что ж вы капитану не скажете?
— Что мне ему говорить? Он и сам должен знать, каково здесь отстаиваться в свежую погоду! — не без раздражения ответил старый штурман.
Лаврентий Иванович, однако, скрыл, что еще вчера, как только задул норд-вест, он доложил капитану о «подлости» этого ветра и крайне осторожно выразил мнение, что лучше бы уходить отсюда. Но молодой самолюбивый и ревнивый к власти капитан, которого еще тешили первые годы командирства и который не любил ничьих советов, пропустил, казалось, мимо ушей замечание старшего штурмана и ни слова ему не ответил.
«И без тебя, мол, знаю!» — говорило, по-видимому, самоуверенное и красивое лицо капитана.
Старый штурман вышел из капитанской каюты, несколько обиженный таким «обрывом», и за дверями каюты проворчал себе под нос:
— Молода, в Саксонии не была!
— А все-таки, Лаврентий Иваныч, вы бы доложили капитану! — проговорил лейтенант Чирков, несколько смущенный словами старого штурмана, хотя и старавшийся скрыть это смущение в равнодушном тоне голоса.
— Что мне соваться с докладами? Он сам видит, какая здесь мерзость! — с сердцем ответил Лаврентий Иванович.
В эту минуту на мостик поднялся капитан и стал оглядывать горизонт, весь покрытый зловещими черными тучами. Они, казалось, всё росли и росли, охватывая все большее пространство, и, разрываясь, с поразительной быстротой поднимались по небосклону. Дождь перестал. Кругом, у берегов, прояснялось.
— Баркас еще не отвалил? — спросил капитан вахтенного.
— Нет.
— Поднять позывные!
В спокойном обыкновенно голосе капитана едва слышна была тревожная нотка.
«Небось теперь тревожишься, а вчера и слушать меня не хотел!» — подумал старший штурман, искоса взглядывая на капитана, стоявшего на другой стороне мостика.
— То-то молода, в Саксонии не была! — прошептал Лаврентий Иванович любимую свою присказку.
— Баркас отваливает! — крикнул сигнальщик, все время смотревший на берег в подзорную трубу.
Сильный шквалистый порыв ветра внезапно ворвался в бухту, пронесся по ней, срывая гребешки волн, и прогудел в снастях. «Ястреб», стоявший против ветра, шутя выдержал этот порыв и только слегка дрогнул на своих туго натянутых якорных канатах.
— Прикажите разводить пары́, да чтобы поскорей! — сказал капитан.
Вахтенный офицер дернул ручку машинного телеграфа и крикнул в переговорную трубку. Из машины ответили: «Есть, разводим!»
— Отправьте угольные лодки на берег! Чтоб все было готово к съемке с якоря! — продолжал отдавать приказания капитан повелительным, отрывистым и слегка возбужденным голосом, сохраняя на лице своем обычное выражение спокойной уверенности.
Он заходил, заложив руки в карманы своего теплого пальто, по мостику, но поминутно останавливался: то вглядывался озабоченным взором в свинцовую даль рокотавшего моря, то оборачивался назад и в бинокль следил за баркасом, который медленно подвигался вперед против встречной зыби и ветра.
— А ведь вы были правы, Лаврентий Иваныч, и я жалею, что не послушал вас и не снялся сегодня с рассветом с якоря! — проговорил вдруг капитан громко, и, казалось, нарочно громко, чтоб слышал и Чирков, и старший офицер, поспешивший вбежать на мостик, как только узнал о съемке с якоря.
Сознание в своей неправоте такого уверенного в себе и страшно самолюбивого человека, каким был этот образованный, блестящий и действительно лихой капитан, обнаруживавший не раз во время плавания и отвагу, и хладнокровие, и находчивость настоящего моряка, совсем смягчило сердце скромного Лаврентия Ивановича. И он вдруг смутился и, словно в чем-то оправдываясь и желая в то же время оправдать капитана, промолвил:
— Я, Алексей Петрович, потому позволил себе доложить, что сам испытал, каков десь норд-вест… А в лоции ничего не говорится.
— А, кажется, собирается засвежеть не на шутку! — продолжал капитан, понижая голос. — Взгляните! — прибавил он, взмахнув головой на далекие тучи.
— Штормом попахивает, Алексей Петрович… Уж мне и в ногу стреляет-с, — шутливо промолвил старый штурман.
— Ну, пока он разыграется, мы успеем выйти в море. Пусть себе там нас треплет.
Опять, словно предупреждающий вестник, пронесся порыв, и снова клипер, точно конь на привязи, дернулся на цепях.
Капитан велел спустить брам-стеньги.
— Да живее пары́! — крикнул он в машину.
Брам-стеньги были быстро спущены лихой командой клипера, и старший офицер, командовавший авралом, довольно улыбался, как они «сгорели». Скоро из трубы повалил дым. Баркас с людьми выгребал дружно и споро и приближался к клиперу. Все гребные судна были подняты.
Старый штурман все тревожнее и тревожнее посматривал на грозные тучи, облегавшие горизонт. В серьезном, несколько возбужденном лице капитана, в его походке, жестах, голосе заметно было нетерпение. Он то и дело звонил в машину и спрашивал: «Как пары́?» — видимо торопясь уходить из этой усеянной подводными камнями бухты, вдобавок еще плохо описанной в лоции.
А ветер заметно свежел. Приходилось потравливать якорные цепи, натягивавшиеся при сильных порывах в струну. Клипер при этом подавался назад, по направлению к берегу. Зыбь усиливалась, играя «зайчиками», и «Ястреб» стремительней клевал носом.
— Ну, слава богу, через час уйдем из этой дыры! — радостно говорили мичманы в кают-компании.
— И чтоб в нее никогда не заглядывать больше!
К старшему штурману, спустившемуся в кают-компанию выкурить манилку и погреться, кто-то обратился с вопросом:
— Лаврентий Иваныч! Когда мы придем в Сан-Франциско, как вы думаете? Недельки через четыре увидим американок, а?
— Нечего-то загадывать вперед… Мы ведь в море, а не на берегу.
— Ну, однако, приблизительно, Лаврентий Иваныч? Если все будет благополучно?
— Да что вы пристали: когда да когда? Прежде отсюда надо убраться! — ворчливо промолвил штурман.
— А что, разве так свежо?
— Подите наверх — увидите!
— У нас, Лаврентий Иваныч, машина сильная. Выползем.
Лаврентий Иванович, почти не сомневавшийся, что клипер до шторма уйти не успеет и что ему придется отстаиваться на рейде, ничего не ответил и быстрыми, нервными затяжками торопливо докуривал свою манилку, озабоченный и мрачный, полный самых невеселых дум о положении клипера, если штормяга будет, как он выражался, «форменный».
В эту минуту в кают-компанию влетел весь мокрый, с красным от холода лицом молодой мичман Нырков и возбужденно и весело воскликнул:
— Ну, господа, и анафема, я вам скажу, ветер! Так засвежел на половине дороги, что я думал: нам и не выгрести. Насилу добрались. И волна подлая… Все мы вымокли. Так и хлестало! И что за холод… Совсем замерз. Эй, вестовые! Скорей горячего чаю и коньяку! — крикнул он и пошел в свою каюту переодеваться, счастливый, что благополучно добрался и что в точности выполнил приказание и вернулся к одиннадцати часам. Он, еще совсем молодой моряк, первый раз попавший в дальнее плавание, конечно, стыдился сказать в кают-компании, как ему было жутко на баркасе, захлестываемом волной, как страшно и за себя, и за матросов, и как он, сам трусивший, с небрежным ухарским видом подбадривал усталых, вспотевших гребцов «навалиться», обещая им по три чарки на человека.
«Ах, как приятно, что все это прошло!» — проносилось в голове у молодого мичмана, когда он быстро облачался в сухое белье, предвкушая удовольствие согреться горячим чаем с коньяком.
— Ну, теперь нам нечего ждать… Скорей бы пары́, и айда к американочкам! Не правда ли, Лаврентий Иваныч? — проговорил со смехом веселый лейтенант Сниткин.
Но Лаврентий Иванович только пожал плечами, надел свою походную старенькую фуражку и пошел наверх.
III
Опасения старого штурмана оправдались.
Только что подняли баркас в ростры и принайтовили (привязали) его, как после трех, последовательно налетевших жестоких шквалов заревел шторм, один из тех штормов, которые смущают даже и старых, опытных моряков.
Картина озверевшей стихии была действительно страшная.
По небу, с едва пробивающимися на свинцовом фоне голубыми кусочками, бешено и, казалось, низко неслись черные клочковатые облака и покрывали весь небосклон. Несмотря на утро, кругом стоял полусвет, точно в сумерки. Море, что называется, кипело. Громадные волны шумно и яростно нагоняли одна другую, сталкивались и рассыпались в своих верхушках алмазной пылью, которую подхватывал вихрь и нес дальше. Страшный рев бушующего моря сливался с ревом дьявольского ветра. Встречая в клипере препятствие, он то сердито выл, то проносился каким-то жалобным стоном в такелаже и мачтах, в люках и дулах орудий, гнул стеньги, потрясал поднятые на боканцах шлюпки, срывал непринайтовленные предметы и сердито трепал бесчисленные снасти.
Словно обезумевший, освирепевший зверь, бросался он на маленький клипер, как будто грозя его уничтожить со всеми его обитателями. И «Ястреб», встретивший грудью врага, то и дело вздрагивал на своих вытравленных канатах и, казалось, вот-вот сорвется с натянувшихся, гудевших цепей. Его дергало на них все больше и больше, и он, бедный, точно от боли, скрипел всеми своими членами и стремительно качался, уходя бугшпритом в воду и отряхиваясь при подъеме, точно великан-птица, от воды.
Нахлобучив на лоб фуражку, чтоб ее не сорвало ветром, стоял капитан на мостике, цепко держась одной рукой за поручни. В другой у него был рупор. Ледяной ветер дул ему прямо в лицо, пронизывая его всего холодом, но капитан, не покидавший мостика уже около часа, казалось, не чувствовал ветра, весь сосредоточенный, страшно серьезный и, по-видимому, совершенно спокойный. Однако это спокойствие, стоившее ему усилия, было лишь наружным спокойствием моряка, умеющего владеть собой в серьезные минуты. В душе у этого самолюбивого, отважного человека была мучительная тревога, и все его существо было в том нервном напряжении, которое при частых повторениях нередко преждевременно старит моряков и в нестарые еще годы делает их седыми. Он хорошо понимал опасность положения клипера и вверенных ему людей и, ввиду страшной нравственной ответственности, испытывал жгучие упреки совести. Его самонадеянная уверенность — виной всему. Зачем он не послушал вчера совета старого, много плававшего штурмана?.. Зачем он не ушел?.. И вот теперь…
Конец ознакомительного фрагмента.
Морские рассказы (сборник) (fb2) — Морские рассказы (сборник) 6448K скачать: (fb2) — (epub) — (mobi) — Константин Михайлович Станюкович — Леонид Николаевич Асанов
Константин Михайлович Станюкович
Морские рассказы
© Асанов Л. Н., наследники, составление, вступительная статья, 1989
© Стуковнин В. В., иллюстрации, 2011
© Оформление серии. ОАО «Издательство «Детская литература», 2011
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
К. М. Станюкович
Прошло уже более ста лет с тех пор, как появились в печати первые морские рассказы Константина Михайловича Станюковича. Всё новые и новые поколения ребят читали их и представляли себе плеск океанских волн, свист ветра в снастях, заливистые боцманские дудки, хлопанье громадных парусов над головой, мечтали о дальних морских дорогах.
Многие замечательные моряки впервые почувствовали тягу к морю, читая книги этого писателя. Да и тот, кто, повзрослев, стал человеком совсем сухопутным, сохранил с детских лет в памяти образы его рассказов: простодушных самоотверженных матросов, суровых боцманов, бывалых офицеров – то искренних и дружелюбных, то высокомерных и жестоких…
А между тем история появления первых морских рассказов Станюковича не менее удивительна, чем многих других его сюжетов.
Читая описания теплых морей, далеких гаваней, где мимо бортов русских судов проплывают кайманы, блестя в темноте рубиново-красными глазами, где днем лучи палящего солнца в считаные минуты высушивают свежевымытую палубу, где вздымают безжалостные ураганы океанские волны, – читая эти страницы, легко представить себе, что где-то там, на дальних широтах и меридианах, и писал Станюкович по горячим следам событий свои рассказы – так наглядно, так явственно запечатлен в них матросский уклад жизни, быт парусного корабля. Легко представить себе эту рукопись, разложенную на столике в офицерской каюте, куда через приотворенный иллюминатор доносится с берегов чужой земли манящий аромат неведомых цветов… Но нет, на самом деле все было не так. И чтобы представить себе обстановку, в которой создавались первые из морских рассказов, нам надо перенестись за многие тысячи верст от океанских берегов, в Азию, где на крутых берегах широкой реки высится старинный русский город Томск.
По пыльным улицам его, мимо приземистых домов, срубленных из вековой сибирской лиственницы, проходил невысокий, изящно сложенный человек с вьющимися каштановыми волосами. Он то спешил в редакцию местной «Сибирской газеты», то на почту – получить вести из столицы, то в полицейскую управу – отмечаться, поскольку жил он здесь на положении ссыльного.
Как же занесла его судьба в этот далекий город?
Константин Михайлович Станюкович родился в 1843 году в городе Севастополе. Город этот расположен в Крыму, на берегу глубокой бухты, удобной для стоянки кораблей, и в те годы он был главной базой русского Черноморского флота. Отец Константина Станюковича был известным моряком, в годы детства будущего писателя он занимал посты командира Севастопольского порта и военного губернатора Севастополя. Характер отца и весь домашний уклад были через много лет описаны в рассказе «Побег», включенном в этот сборник.
Косте шел одиннадцатый год, когда началась Крымская война. Англия, Франция и их союзники напали на Россию, высадили войска в Крыму. Началась героическая оборона Севастополя, длившаяся почти год. Мальчик стал не только свидетелем грозных военных событий, но и участником их: он готовил перевязочные материалы для раненых и сам доставлял их на позиции. За участие в войне он был награжден двумя медалями.
Вскоре после окончания войны Костю отдали в Пажеский корпус, а в конце 1857 года он был переведен в Морской кадетский корпус, готовивший будущих офицеров флота. Казалось бы, судьба моряка была предопределена для юного Станюковича. Но дело в том, что Станюкович был человеком идеи. Еще в детстве он ощутил, что порядочный человек не может спокойно существовать, когда рядом люди живут в страданиях и муке. И у каждого есть свое лицо, свое имя, своя суть. Он с юных лет запомнил жестокость, царившую во флоте и армии, узнал о суровых наказаниях, которым за малейшие провинности подвергались матросы. Сегодняшний стойкий воин, храбрый защитник Отечества завтра должен был безропотно сносить измывательства какого-нибудь негодяя в мундире!.. Мальчик жил с душевной раной и мечтал о том, что сделает что-нибудь доброе, что-нибудь полезное для людей. И что же – он попадает в училище, где царят грубые казарменные порядки, где, кажется, все делается для того, чтобы вытравить из душ воспитанников светлое начало, превратить их в жестоких, бесчувственных военных чиновников, исполнителей чужих приказов. Все это было невыносимо для Станюковича. Особенно тяжелое впечатление произвело на него учебное плавание на корабле «Орел» по Балтике. Белопарусный красавец корабль оказался, при ближайшем рассмотрении, чуть ли не тюрьмой для сотен матросов: там царили жестокие крепостнические нравы и дня не проходило без грубой брани, кулачных расправ, жестоких наказаний.
Станюкович задумал дерзкий шаг: он решил, сломав семейную традицию, не идти на флот, как этого требовал от него отец, а поступить в университет. Когда отец узнал об этом замысле, он был вне себя от гнева. Воспользовавшись своими связями, он устроил так, что сын его, не закончив курса, был назначен в кругосветное плавание на корвете «Калевала» и в октябре 1860 года отправился в море. Пол мира обогнул корвет под русским флагом и через девять месяцев прибыл во Владивосток. Это путешествие впоследствии было описано Станюковичем в знаменитой книге «Вокруг света на „Коршуне“» – возможно, лучшем из всех его произведений.
Во Владивостоке Станюкович по болезни был списан с корабля и отправлен в лазарет. Выздоровев, он затем продолжал службу на нескольких военных кораблях, должность «отправлял по своему званию», как говорилось в тогдашних документах. Юный офицер заслужил расположение начальника русской эскадры Тихого океана, который в 1863 году отправил Станюковича со срочными бумагами сухим путем в Петербург. Так закончилось трехлетнее плавание будущего писателя.
За эти годы совсем еще молодой человек посетил разные страны, повидал самый разный уклад жизни, мир и войну, перенес бури и штили, близко общался с простыми матросами. Большое значение для будущей писательской работы имело то, что Станюковичу пришлось служить на разных судах. Он видел, как отличаются порядки, вся корабельная жизнь, в зависимости от того, кто стоит на капитанском мостике – просвещенный, гуманный человек или грубый, жестокий невежда.
Станюкович пишет первые свои произведения – статьи и путевые очерки, которые печатаются на страницах «Морского сборника».
Вернувшись в Петербург, он хочет выйти в отставку и всецело заняться литературной работой. Решение это вызвало взрыв отцовского гнева. Отец видел в Константине продолжателя традиций «морского рода» Станюковичей. Но теперь грозному адмиралу противостоял уже не юноша, а многое повидавший человек со сложившимися убеждениями. Семейный конфликт завершился победой сына: он ушел со службы и с этого момента должен был сам зарабатывать себе на жизнь.
Чтобы поближе узнать крестьянскую Россию, Станюкович становится сельским учителем во Владимирской губернии. Жизненные впечатления этой поры через много лет были описаны в «Воспоминаниях сельского учителя шестидесятых годов». Молодой человек был буквально потрясен нищетой, бесправием, забитостью мужиков, которые после отмены крепостного права попадали в кабалу к деревенским богатеям, в унизительную зависимость от чиновников.
Чем он мог помочь этим людям? Станюкович становится журналистом. В своих очерках и фельетонах он стремится рассказать о тяжелой доле простого народа, разоблачить его притеснителей. Он меняет много мест службы, переезжает из города в город. Широкое знание жизни, накопившийся опыт подталкивают его к художественному творчеству. На страницах одного из самых передовых журналов того времени «Дело» он печатает свою первую пьесу «На то и щука в море, чтобы карась не дремал» и первый роман «Без исхода». Так начинается деятельность Станюковича-писателя.
Станюковичем написано очень много. Это целые циклы статей и фельетонов, откликающихся на все крупные события общественной жизни. Это многочисленные повести и романы, в которых действуют представители самых разных слоев России: столичные чиновники и простые мужики, ученые и великосветские проходимцы, помещики и студенты, купцы и адвокаты… Во многих произведениях писатель старался создать образ положительного героя, человека передовых взглядов, который ищет пути разоблачения всякого жульничества, активной помощи страждущему народу.
Все шире становилась известность писателя, но в это же время к нему все пристальнее начинает присматриваться полиция. Полицейским ищейкам удалось установить, что Станюкович, как один из руководителей журнала «Дело», поддерживал связи с русскими революционерами, жившими за границей, печатал их произведения под псевдонимами, помогал им деньгами. В это время судьба нанесла Станюковичу тяжелый удар: опасно заболела его любимая дочь. Писатель с семьей выехал за границу в надежде, что европейские врачи спасут девочку. Но увы, все было тщетно: она умерла. И в тот момент, когда убитый горем отец возвращался в Россию, его при переезде границы арестовали жандармы, доставили в Петербург и без суда заточили в Петропавловскую крепость. Жена Станюковича долгое время не знала о его судьбе: никто не мог объяснить ей, куда так внезапно и бесследно исчез ее муж.
Много месяцев длилось заточение. За это время произошла финансовая катастрофа: Станюкович лишился всего своего достояния, журнал «Дело» перешел в чужие руки. Наконец судьба заключенного была решена: он был сослан на три года в Сибирь, в Томск. Семья писателя, жена и дети, последовала за ним…
По сибирской реке вниз по течению плыл маломощный колесный пароходик. На нем среди пассажиров был и Станюкович с семьей: как лицу «благородного сословия» ему и здесь полагались некоторые поблажки. А на канате пароходик тянул огромную баржу, трюм которой был битком набит ссыльными и каторжными из простонародья. Грязь, теснота, крепкие решетки, преграждавшие выход на палубу… И вот внезапно пароходик наскакивает на мель. Баржа, влекомая течением реки, медленно надвигается на его корму. Еще минута – и произойдет непоправимое: суда столкнутся. И если у пассажиров пароходика есть еще какие-то шансы на спасение, то плывущие на барже обречены на смерть: им не выбраться из зарешеченного чрева баржи.
И в этот миг всеобщего оцепенения раздался громкий голос Станюковича.
– Руби канат! – крикнул он кормовому матросу, крикнул так, что тот, не задумываясь, рубанул топором по буксирному канату.
Теперь баржа была свободна. Струи течения подхватили ее, и она неспешно миновала застрявший пароходик. Все вздохнули с облегчением…
Итак, Станюкович оказался в Томске. Он завязывает знакомства с политическими ссыльными, которых немало было в этом провинциальном городке, ищет способы как-то содержать свою семью: устраивается на службу, сотрудничает в местной газете… И вот в это самое время ему приходит в голову счастливая мысль: обратиться к воспоминаниям более чем двадцатилетней давности, к поре своей молодости, к событиям своей флотской службы. Так были созданы первые морские рассказы.
Они сразу же завоевали успех. Их перепечатывали журналы, они выходили отдельными сборниками, автор стал получать благодарственные письма, в том числе от бывалых моряков.
К 1888 году, когда закончился срок ссылки и Станюкович с семьей вернулся в столицу, его репутация как морского писателя уже утвердилась. С этого времени и до конца жизни (он умер в 1903 году) морская тема остается главной в его творчестве, в ней писатель нашел себя, с ней остался в истории литературы.
Пора, которую описывает в своих произведениях Станюкович, – это пора заката многовековой истории парусного флота.
Служба матроса была в те годы тяжела и опасна. Матросов набирали по рекрутскому набору из крепостных крестьян. Часто они прежде никогда и моря-то не видели. Трудно даже представить себе, что они испытывали, когда впервые по команде поднимались на высокую мачту, чтоб, разбежавшись по реям, на страшной высоте, при сильной качке, крепить громадные паруса. А способ обучения был один – кулачный. Брань, зуботычины, порки были обыденным явлением. Станюкович подчеркивает, что пишет о временах ушедших (телесные наказания были отменены на флоте одновременно с отменой крепостного права), недаром многие его рассказы носят подзаголовок «Из дальнего прошлого». И вот такой простой матрос, неграмотный, часто забитый, становится главным героем прозы Станюковича. Приглядываясь к нему, писатель открывает лучшие свойства его души: чувство собственного достоинства, привязанность к товарищам, отзывчивость на добро, самоотверженность и отвагу, терпение, мудрый, простодушный, ясный взгляд на жизнь. Матрос – труженик, привыкший к тяжелой работе, исполняющий ее с лихостью, несмотря на смертельный риск.
Конечно, как говорится, в семье не без урода, и среди матросов попадаются люди жадные, жестокие, барские холуи. Но как бы они ни изворачивались, а все-таки команда видит их насквозь и никогда не наградит своим расположением. Спаянные тяжелым трудом, тесной совместной жизнью, общими опасностями, матросы хорошо знают, чего кто стоит. Жмоту, негодяю не место в их трудовой семье.
Точно и проницательно судят матросы о своем начальстве. Жесткая, жестокая даже, корабельная дисциплина не дает им высказать впрямую своего отношения к офицерам. Но моральная оценка дана каждому. И как же человечна, как же доброжелательна, снисходительна эта оценка! Кажется, не только доброго поступка, всего лишь доброго слова со стороны офицера достаточно, чтоб матросы пошли за ним в огонь и в воду! Разным людям судьба доверила командование матросской массой: есть среди них и достойные офицеры, пекущиеся о славе Российского флота, есть и отъявленные негодяи, карьеристы и жулики. Такая вопиющая несправедливость! Разве не отражает она несправедливость, царившую в те времена во всем русском обществе? К этой мысли исподволь подводит читателя Станюкович.
Можно поражаться силе памяти писателя. Через десятилетия пронес он с юных годов множество черт и черточек морской жизни, показал морскую службу во всем ее многообразии. Мы словно воочию видим и белопарусный корабль, и низковатый кубрик, и каюты с полами, обитыми клеенкой, и кают-компании, где ведут бесконечные беседы свободные от вахты офицеры…
Служба и быт, штормы и штили, труд и учение, авралы и отдых – все это отобразил Станюкович в своих произведениях. Но все же не морской колорит рассказов делает их столь привлекательными для читателя. Изображению могущественной и грозной стихии, перед которой, казалось бы, особенно заметно, насколько мал человек и слаб, противостоят величие души народной, мужество и доблесть моряков, их самоотверженное служение Родине.
Леонид Асанов
Морские рассказы
«Человек за бортом!»
I
Жара тропического дня начинала спадать. Солнце медленно катилось к горизонту.
Подгоняемый нежным пассатом[1], клипер нес всю парусину и бесшумно скользил по Атлантическому океану, узлов по семи. Пусто кругом: ни паруса, ни дымка на горизонте! Куда ни взглянешь, все та же безбрежная водяная равнина, слегка волнующаяся и рокочущая каким-то таинственным гулом, окаймленная со всех сторон прозрачной синевой безоблачного купола. Воздух мягок и прозрачен; от океана несет здоровым морским запахом.
Пусто кругом.
Изредка разве блеснет под лучами солнца яркой чешуйкой, словно золотом, перепрыгивающая летучая рыбка; высоко в воздухе прореет белый альбатрос; торопливо пронесется над водой маленькая петрель[2], спешащая к далекому африканскому берегу; раздастся шум водяной струи, выпускаемой китом, – и опять ни одного живого существа вокруг. Океан да небо, небо да океан – оба спокойные, ласковые, улыбающиеся.
– Дозвольте, ваше благородие, песенникам песни петь? – спросил вахтенный унтер-офицер, подходя к офицеру, лениво шагающему по мостику.
Офицер утвердительно махнул головой, и через минуту стройные звуки деревенской песни, полной шири и грусти, разнеслись среди океана. Довольные, что после дневной истомы наступила прохлада, матросы толпятся на баке, слушая песенников, собравшихся у баковой пушки. Завзятые любители, особенно из старых матросов, обступив певцов тесным кружком, слушают сосредоточенно и серьезно, и на многих загорелых, обветрившихся лицах светится безмолвный восторг. Подавшийся вперед широкоплечий, сутулый старик Лаврентьич, «основательный» матрос из «баковщины», с жилистыми просмоленными руками, без пальца на одной руке, давно оторванного марса-фалом, и цепкими, слегка вывернутыми ногами, – отчаянный пьяница, которого с берега привозят всегда в бесчувствии и с разбитой физиономией (он любит лезть в драку с иностранными матросами за то, что они, по его мнению, «не пьют настояще, а только куражатся», разбавляя водой крепчайший ром, который он дует гольём), – этот самый Лаврентьич, слушая песни, словно замер в какой-то истоме, и его морщинистое лицо с красно-сизым, как слива, носом и щетинистыми усами – обыкновенно сердитое, точно Лаврентьич чем-то недоволен и сейчас выпустит фонтан ругани, – смотрит теперь необыкновенно кротко, смягченное выражением тихой задумчивости. Некоторые матросы тихонько подтягивают; другие, рассевшись по кучкам, вполголоса разговаривают, выражая по временам одобрение то улыбкой, то восклицанием.
И в самом деле, хорошо поют наши песенники! Голоса в хоре подобрались всё молодые, свежие и чистые и спелись отлично. Особенно приводил всех в восторг превосходный бархатный тенорок подголоска Шутикова. Этот голос выделялся среди хора своей красотой, забираясь в самую душу чарующей искренностью и теплотой выражения.
– За самое нутро хватает, подлец! – говорили про подголоска матросы.
Песня лилась за песнью, напоминая матросам, среди тепла и блеска тропиков, далекую родину с ее снегами и морозами, полями, лесами и черными избами, с ее близкими сердцу бездольем и убожеством…
– Вали плясовую, ребята!
Хор грянул веселую плясовую. Тенорок Шутикова так и заливался, так и звенел теперь удальством и весельем, вызывая невольную улыбку на лицах и заставляя даже солидных матросов поводить плечами и притопывать ногами.
Макарка, маленький бойкий молодой матросик, давно уже чувствовавший зуд в своем поджаром, словно в себя подобранном теле, не выдержал и пошел отхватывать трепака под звуки залихватской песни, к общему удовольствию зрителей.
Наконец пение и пляска кончились. Когда Шутиков, сухощавый стройный чернявый матрос, вышел из круга и пошел курить к кадке, его провожали одобрительными замечаниями.
– И хорошо же ты поёшь, ах хорошо, пес тебя ешь! – заметил растроганный Лаврентьич, покачивая головой и прибавляя в знак одобрения непечатное ругательство.
– Ему бы подучиться, да ежели, примерно, генерал-бас понять – так хучь в оперу! – с апломбом вставил молодой наш писарь из кантонистов, Пуговкин, щеголявший хорошим обращением и изысканными выражениями.
Лаврентьич, не терпевший и презиравший «чиновников»[3], как людей, по его мнению, совершенно бесполезных на судне, и считавший как бы долгом чести при всяком случае обры вать их, насупился, бросил сердитый взгляд на белокурого, полнотелого, смазливого писарька и сказал:
– Ты-то у нас опера! Брюхо отрастил от лодырства – и вышла опера!
Среди матросов раздалось хихиканье.
– Да вы понимаете ли, что такое обозначает опера? – заметил сконфуженный писарек. – Эх, необразованный народ! – тихо проговорил он и благоразумно поспешил скрыться.
– Ишь какая образованная мамзеля! – презрительно пустил ему вслед Лаврентьич и прибавил, по своему обыкновению, забористую ругань, но уже без ласкового выражения. – То-то я и говорю, – начал он, помолчав и обращаясь к Шутикову, – важно ты поёшь песни, Егорка!
– Уж что и толковать. Он у нас на все руки. Одно слово – молодца, Егорка!.. – заметил кто-то.
В ответ на одобрения Шутиков только улыбался, скаля белые ровные зубы из-под добродушных пухлых губ.
И эта довольная улыбка, ясная и светлая, как у детей, стоявшая в мягких чертах молодого, свежего лица, подернутого краской загара; и эти большие темные глаза, кроткие и ласковые, как у щенка; и аккуратная, подобранная сухощавая фигура, крепкая, мускулистая и гибкая, не лишенная, однако, крестьянской мешковатой складки, – все в нем притягивало и располагало к себе с первого же раза, как и чудный его голос. И Шутиков пользовался общей приязнью. Все любили его, и он всех, казалось, любил.
Это была одна из тех редких, счастливых, жизнерадостных натур, при виде которых невольно делается светлее и радостнее на душе. Такие люди какие-то прирожденные философы-оптимисты. Его веселый, сердечный смех часто раздавался на клипере. Бывало, он что-нибудь рассказывает и первый же заразительно, вкусно смеется. Глядя на него, и другие невольно смеялись, хотя бы в рассказе Шутикова иногда и не было ничего особенно смешного. Оттачивая какой-нибудь блочок, отскабливая краску на шлюпке или коротая ночную вахту, примостившись на марсе, за ветром, Шутиков обыкновенно тихо подпевал какую-нибудь песенку, а сам улыбался своей хорошей улыбкой, и всем было как-то весело и уютно с ним. Редко когда видели Шутикова сердитым или печальным. Веселое настроение не покидало его и тогда, когда другие готовы были упасть духом, и в такие минуты Шутиков был незаменим.
Помню я, как однажды мы штормовали. Ветер ревел жестокий, кругом бушевала буря, и клипер под штормовыми парусами бросало, как щепку, на океанском волнении, готовом, казалось, поглотить в своих седых гребнях утлое суденышко. Клипер вздрагивал и жалобно стонал всеми членами, сливая свои жалобы со свистом ветра, завывающего в надувшихся снастях. Даже старики матросы, видавшие всякие виды, угрюмо молчали, пытливо посматривая на мостик, где словно приросла к поручням высокая, закутанная в дождевик фигура капитана, зорко взглядывавшего на беснующуюся бурю.
А Шутиков в это время, придерживаясь одной рукой за снасти, чтоб не упасть, занимал небольшую кучку молодых матросов, с испуганными лицами прижавшихся к мачте, по-сторонними разговорами. Он так спокойно и просто «лясничал», рассказывая про какой-то забавный деревенский случай, и так добродушно смеялся, когда долетавшие брызги волн попадали ему в лицо, что это спокойное настроение невольно передавалось другим и ободряло молодых матросов, отгоняя всякую мысль об опасности.
– И где это ты, дьявол, насобачился так ловко горло драть? – снова заговорил Лаврентьич, подсасывая носогрейку с махоркой. – Пел у нас на «Костенкине» один матросик, надо правду сказать, что форменно, шельма, пел… да все не так забористо.
– Так, самоучкой, в пастухах когда жил. Бывало, стадо разбредется по лесу, а сам лежишь под березкой и песни играешь… Меня так в деревне и прозывали: певчий пастух! – прибавил Шутиков, улыбаясь.
И все почему-то улыбнулись в ответ, а Лаврентьич, кроме того, трепанул Шутикова по спине и, в виде особого расположения, выругался в самом нежном тоне, на который только был способен его испитой голос.
II
В эту минуту, расталкивая матросов, в круг торопливо вошел только что выскочивший из палубы плотный пожилой матрос Игнатов.
Бледный и растерянный, с непокрытой, коротко остриженной круглой головой, он сообщил прерывистым от злобы и волнения голосом, что у него украли золотой.
– Двадцать франоков! Двадцать франоков, братцы! – жалобно повторял он, подчеркивая цифру.
Это известие смутило всех. Такие дела бывали редкостью на клипере.
Старики нахмурились. Молодые матросы, недовольные, что Игнатов внезапно нарушил веселое настроение, более с испуганным любопытством, чем с сочувствием, слушали, как он, задыхаясь и отчаянно размахивая своими опрятными руками, спешил рассказать про все обстоятельства, сопровождавшие покражу: как он еще сегодня после обеда, когда команда отдыхала, ходил в свой сундучишко, и все было, слава богу, целехонько, все на своем месте, и как вот сейчас он пошел было за сапожным товаром – и… замок, братцы, сломан. Двадцати франоков нет.
– Это как же? Своего же брата обкрадывать? – закончил Игнатов, обводя толпу блуждающим взглядом.
Его гладкое, сытое, чисто выбритое, покрытое крупными веснушками лицо с небольшими круглыми глазами и острым, словно у ястреба, загнутым носом, отличавшееся всегда спокойной сдержанностью и довольным степенным видом неглупого человека, понимающего себе цену, теперь было искажено отчаянием скряги, который потерял все имущество. Нижняя челюсть вздрагивала; круглые его глаза растерянно перебегали по лицам. Видно было, что покража совсем его расстроила, обнаружив его кулацкую, скаредную натуру.
Недаром же Игнатов, которого некоторые матросы уж начинали почетно величать Семенычем, был прижимистым и жадным к деньгам человеком. Он и в кругосветное плавание пошел, вызвавшись охотником и оставив в Кронштадте жену, торговку на базаре, и двоих детей, с единственной целью прикопить в плавании деньжонок и, выйдя в отставку, заняться в Кронштадте по малости торговлей. Он вел крайне воздержанную жизнь, вина не пил, на берегу денег не тратил. Он копил деньги, копил их упорно, по грошам, знал, где можно выгодно менять золото и серебро, и, под большим секретом, давал мелкие суммы взаймы за проценты надежным людям. Вообще Игнатов был человек оборотистый и рассчитывал сделать хорошее дело, привезя в Россию для продажи сигар и кое-какие японские и китайские вещи. Он и раньше уж занимался такими делишками, когда плавал по летам в Финском заливе: в Ревеле, бывало, закупит килек, в Гельсингфорсе сигар и мамуровки[4] и с выгодой перепродаст в Кронштадте.
Игнатов был рулевым, служил исправно, стараясь ладить со всеми, дружил с баталером и подшкипером, был грамотен и тщательно скрывал, что у него водятся деньжонки, и притом для матроса порядочные.
– Это беспременно подлец Прошка, никто, как он! – закипая гневом, взволнованно продолжал Игнатов. – Даве он все вертелся в палубе, когда я ходил в сундук… Что ж теперь с этим подлецом делать, братцы? – спрашивал он, обращаясь преимущественно к старикам и как бы ища их поддержки. – Неужто я так и решусь денег? Ведь деньги-то у меня кровные. Сами знаете, братцы, какие у матроса деньги. По грошам сбирал… Чарки своей не пью… – прибавил он униженным, жалобным тоном.
Хотя никаких других улик, кроме того, что Прошка «даве вертелся в палубе», не было, тем не менее и сам потерпевший, и слушатели не сомневались, что украл деньги именно Прошка Житин, не раз уже попадавшийся в мелких кражах у товарищей. Ни один голос не раздался в его защиту. Напротив, многие возмущенные матросы осыпали предполагаемого вора бранью.
– Эдакий мерзавец! Только срамит матросское звание… – с сердцем сказал Лаврентьич.
– Да-а… Завелась и у нас паршивая собака.
– Надо его теперь проучить, чтобы помнил, лодырь беспутный!
– Так как же, братцы? – продолжал Игнатов. – Что с Прошкой делать? Ежели не отдаст он добром, я попрошу доложить старшему офицеру. Пусть по форме разберут.
Но эта приятная Игнатову мысль не нашла на баке поддержки. На баке был свой особенный, неписаный устав, строгими охранителями которого, как древле жрецы, были старые матросы.
И Лаврентьич первый энергично запротестовал.
– Это, выходит, с лепортом по начальству? – презрительно протянул он. – Кляузы заводить? Забыл, видно, с перепугу матросскую правилу? Эх вы… народ! – И Лаврентьич для облегчения помянул «народ» своим обычным словом. – Тоже выдумал, а еще матросом считаешься! – прибавил он, бросая на Игнатова не особенно дружелюбный взгляд.
– По-вашему, как же?
– А по-нашему, так же, как прежде учивали. Избей ты собачьего сына Прошку вдрызг, чтобы помнил, да отыми деньги. Вот как по-нашему.
– Мало ли его, подлеца, били! А ежели он не отдаст? Так, значит, и пропадать деньгам? Это за что же? Пусть уж лучше форменно засудят вора… Такую собаку нечего жалеть, братцы.
– Жаден ты к деньгам уж очень, Игнатов. Небось Прошка не все украл… Еще малость осталась? – иронически промолвил Лаврентьич.
– Считал ты, что ли!
– То-то не считал, а только не матросское это дело – кляузы. Не годится! – авторитетно заметил Лаврентьич. – Верно ли я говорю, ребята?
И все почти «ребята», к неудовольствию Игнатова, подтвердили, кто кляузы заводить не годится.
– А теперь веди сюда Прошку! Допроси его при ребятах! – решил Лаврентьич.
И Игнатов, злой и недовольный, подчинился, однако, общему решению и пошел за Прошкой.
В ожидании его матросы теснее сомкнули круг.
III
Прохор Житии, или, как все пренебрежительно называли его, Прошка, был самым последним матросом. Попавший в матросы из дворовых, отчаянный трус, которого только угроза порки могла заставить подняться на марс, где он испытывал неодолимый физический страх, лентяй и лодырь, отлынивавший от работы, и ко всему этому нечистый на руку, Прошка с самого начала плавания стал в положение какого-то отверженного пария[5]. Все им помыкали; боцмана и унтер-офицеры по́ходя, и за дело, и так, за здоро́во живешь, ругали и били Прошку, приговаривая: «У-у, лодырь!» И он никогда не протестовал, а с какой-то привычной тупой покорностью забитого животного переносил побои. После нескольких мелких краж, в которых он был уличен, с ним почти не разговаривали и обращались с пренебрежением. Всякий, кому не лень, мог безнаказанно обругать его, ударить, послать куда-нибудь, поглумиться над ним, словно бы иное отношение к Прошке было немыслимо. И Прошка так, казалось, привык к этому положению загнанной паршивой собаки, что и не ждал иного обращения и переносил всю каторжную жизнь, по-видимому, без особенной тягости, вознаграждая себя на клипере сытной едой да дрессировкой поросенка, которого Прошка учил делать разные штуки, а при съездах на берег – выпивкой и ухаживанием за прекрасным полом, до которого он был большой охотник. На женщин он тратил последний грош и ради них, кажется, таскал деньги у товарищей, несмотря на суровое возмездие, получаемое им в случае поимки. Он был вечный гальюнщик – другой должности ему не было, и состоял в числе шканечных, исполняя обязанность рабочей силы, не требовавшей никаких способностей. И тут ему доставалось, так как он всегда лениво тянул вместе с другими какую-нибудь снасть, делая только вид, как ленивая лукавая лошадь, будто взаправду тянет.
– У-у… подлый лодырь! – ругал его шканечный унтер-офицер, обещая ему ужо́ начистить зубы.
И, разумеется, «чистил».
IV
Забравшись под баркас, Прошка сладко спал, бессмысленно улыбаясь во сне. Сильный удар ноги разбудил его. Он хотел было залезть подальше от этой непрошеной ноги, как новый пинок дал понять Прошке, что он зачем-то нужен и что надо вылезать из укромного местечка. Он выполз, поднялся на ноги и глядел на злое лицо Игнатова тупым взором, словно бы ожидая, что его еще будут бить.
– Ступай за мной! – проговорил Игнатов, едва сдерживаясь от желания тут же истерзать Прошку.
Прошка покорно, словно виноватая собака, пошел за Игнатовым своей медленной, ленивой походкой, переваливаясь, как утка, со стороны на сторону.
Это был человек лет за тридцать, мягкотелый, неуклюжий, плохо сложенный, с несоразмерным туловищем на коротких кривых ногах, какие бывают у портных. (До службы он и был портным в помещичьей усадьбе.) Его одутловатое, землистого цвета лицо с широким плоским носом и большими оттопырившимися ушами, торчащими из-под шапки, было невзрачно и изношено. Небольшие тусклые серые глаза глядели из-под светлых редких бровей с выражением покорного равнодушия, какое бывает у забитых людей, но в то же время в них как будто чувствовалось что-то лукавое. Во всей его неуклюжей фигуре незаметно было и следа матросской выправки; все на нем сидело мешковато и неряшливо, – словом, Прошкина фигура была совсем нерасполагающая.
Когда вслед за Игнатовым Прошка вошел в круг, все разговоры смолкли. Матросы теснее сомкнулись, и взоры всех устремились на вора.
Для начала допроса Игнатов первым делом со всего размаха ударил Прошку по лицу.
Удар был неожиданный. Прошка слегка пошатнулся и безответно снес затрещину. Только лицо его сделалось еще тупее и испуганнее.
– Ты сперва толком пытай, а накласть в кису успеешь! – сердито промолвил Лаврентьич.
– Это ему в задаток, подлецу! – заметил Игнатов и, обратившись к Прошке, сказал: – Признавайся, сволочь, ты у меня золотой из сундука украл?
При этих словах тупое Прошкино лицо мгновенно осветилось осмысленным выражением. Он понял, казалось, всю тяжесть обвинения, бросил испуганный взгляд на сосредоточенно-серьезные, недоброжелательные лица и вдруг побледнел и как-то весь съежился. Тупой страх исказил его черты.
Эта внезапная перемена еще более утвердила всех в мысли, что деньги украл Прошка.
Прошка молчал, потупив глаза.
– Где деньги? Куда ты их спрятал? Сказывай! – продолжал допросчик.
– Я денег твоих не брал! – тихо отвечал Прошка.
Игнатов пришел в ярость.
– Ой, смотри! До смерти изобью, коли ты добром не отдашь денег! – сказал Игнатов, и сказал так злобно и серьезно, что Прошка подался назад.
И со всех сторон раздались неприязненные голоса:
– Повинись лучше, скотина!
– Не запирайся, Прошка!
– Лучше добром отдай!
Прошка видел, что все против него. Он поднял голову, снял шапку и, обращаясь к толпе, воскликнул с безнадежным отчаянием человека, хватающегося за соломинку:
– Братцы! Как перед истинным Богом! Хучь под присягу сичас! Разрази меня на месте!.. Делайте со мной что вгодно, а я денег не брал!
Прошкины слова, казалось, поколебали некоторых. Но Игнатов не дал усилиться впечатлению и торопливо заговорил:
– Не ври, подлая тварь!.. Бога-то оставь! Ты и тогда запирался, когда у Кузьмина из кармана франок вытащил. Помнишь? А как у Левонтьева рубаху украл, тоже шел под присягу, а? Тебе, бесстыжему, присягнуть – что плюнуть!
Прошка снова опустил голову.
– Винись, говорят тебе, скорее. Сказывай, где мои деньги? Нешто я не видел, как ты около вертелся… Сказывай, бессовестный, зачем ты в палубе шнырял, когда все отдыхали? – наступал допросчик.
– Так ходил.
– Так ходил?! Эй, Прошка, не доводи до греха. Признавайся.
Но Прошка молчал.
Тогда Игнатов, словно бы желая испробовать последнее средство, вдруг сразу изменил тон. Теперь он не угрожал, а просил Прошку отдать деньги ласковым, почти заискивающим тоном.
– Тебе ничего не будет… Слышишь?.. Отдай только мои деньги. Тебе ведь пропить, а у меня семейство. Отдай же! – почти молил Игнатов.
– Обыщите меня. Не брал я твоих денег!
– Так ты не брал, подлая душа? Не брал?! – воскликнул Игнатов с побелевшим от злобы лицом. – Не брал?!
И с этими словами он, как ястреб, налетел на Прошку.
Бледный, вздрагивающий всем съежившимся телом Прошка зажмурил глаза и старался скрыть от ударов голову.
Матросы молча хмурились, глядя на эту безобразную сцену. А Игнатов, возбужденный безответностью жертвы, свирепел все более и более.
– По́лно… Будет… будет! – раздался вдруг из толпы голос Шутикова.
И этот мягкий просящий голос точно сразу пробудил человеческие чувства и у других.
Многие из толпы вслед за Шутиковым сердито крикнули:
– Будет… будет!
– Ты прежде обыщи Прошку и тогда учи!
Игнатов оставил Прошку и, злобно вздрагивая, отошел в сторону. Прошка юркнул вон из круга. Несколько мгновений все молчали.
– Ишь ведь, какой подлец… Запирается! – переводя дух, проговорил Игнатов. – Ужо погоди, как я его на берегу разделаю, коли не отдаст денег! – грозился Игнатов.
– А может, это и не он! – вдруг тихо сказал Шутиков.
И та же мысль, казалось, сказывалась на некоторых напряженно-серьезных, насупившихся лицах.
– Не он? Впервые ему, что ли? Это беспременно его дело. Вор известный, чтоб ему!..
И Игнатов, взяв двух человек, ушел обыскивать Прошкины вещи.
– И зол же человек на деньги! Ох, зол! – сердито проворчал Лаврентьич вслед Игнатову, покачивая головой. – А ты не воруй, не срами матросского звания! – вдруг прибавил он неожиданно и выругался – на этот раз, по-видимому, с единственной целью: разрешить недоумение, ясно стоявшее на его лице.
– Так ты, Егор, думаешь, что это не Прошка? – спросил он после минутного молчания. – Кабысь больше некому.
Шутиков промолчал, и Лаврентьич больше не спрашивал и стал усиленно раскуривать свою короткую трубочку.
Толпа стала расходиться.
Через несколько минут на баке стало известно, что ни у Прошки, ни в его вещах денег не нашли.
– Запрятал, шельма, куда-нибудь! – решили многие и прибавляли, что теперь Прошке придется худо: Игнатов не простит ему этих денег.
V
Нежная тропическая ночь быстро спустилась над океаном.
Матросы спали на палубе – внизу было душно, – а на вахте стояло одно отделение. В тропиках, в полосе пассата, вахты спокойные, и вахтенные матросы, по обыкновению, коротают ночные часы, разгоняя дрему беседами и сказками.
В эту ночь, с полуночи до шести, на вахте довелось быть второму отделению, в котором были Шутиков и Прошка.
Шутиков уж рассказал несколько сказок кучке матросов, усевшихся у фок-мачты, и отправился покурить. Выкуривши трубку, он пошел, осторожно ступая между спящими, на шканцы и, разглядев в темноте Прошку, одиноко притулившегося у борта и поклевывавшего носом, тихо окликнул его:
– Это ты, Прошка?
– Я! – встрепенулся Прошка.
– Что я тебе скажу, – продолжал Шутиков тихим ласковым голосом, – ведь Игнатов, сам знаешь, человек какой… Он тебя вовсе изобьет на берегу, безо всякой жалости.
Прошка насторожился… Этот тон был для него неожиданностью.
– Что ж, пусть бьет, а я евойных денег не касался! – ответил после короткого молчания Прошка.
– То-то он не верит и, пока не вернет своих денег, тебе не простит… И многие ребята сумневаются.
– Сказано: не брал! – повторил Прошка с прежним упорством.
– Я, братец, верю, что ты не брал. Слышь, верю, и пожалел, что тебя занапрасно давеча били и Игнатов еще грозит бить… А ты вот чего, Прошка, возьми ты у меня двадцать франоков и отдай их Игнатову. Бог с ним! Пусть радуется на деньги, а мне когда-нибудь отдашь – приневоливать не стану. Так-то оно будет аккуратней… Да, слышь, никому про это не сказывай! – прибавил Шутиков.
Прошка был решительно озадачен и не находил в первую минуту слов. Если б Шутиков мог разглядеть Прошкино лицо, то увидал бы, что оно смущено и необыкновенно взволновано. Еще бы! Прошку жалеют, и мало того, что жалеют, еще предлагают деньги, чтобы избавить его от битья. Это уж было слишком для человека, давно не слыхавшего ласкового слова.
Подавленный, чувствуя, как что-то подступает к горлу, молча стоял он, опустив голову.
– Так бери деньги! – сказал Шутиков, доставая из кармана штанов завернутый в тряпочку весь свой капитал.
– Это как же?.. Ах ты господи! – растерянно бормотал Прошка.
– Эка, глупый… Сказано: получай, не кобенься!
– Получай?! А, братец! Спасибо тебе, добрая твоя душа! – отвечал Прошка дрогнувшим от волнения голосом и вдруг решительно прибавил: – Только твоих денег, Шутиков, не нужно. Я все же чувствую и не хочу перед тобой быть подлецом… Не желаю. Я сам после вахты отдам Игнатову его золотой.
– Так, значит, ты?..
– То-то я! – чуть слышно промолвил Прошка… – Никто бы и не дознался. Деньги-то в пушке запрятаны…
– Эх, Прохор, Прохор! – упрекнул только Шутиков грустным тоном, покачивая головой.
– Теперь пусть он меня бьет… Пусть всю скулу своротит. Сделай ваше одолжение! Бейте подлеца Прошку, жарь его, мерзавца, не жалей! – с каким-то ожесточенным одушевлением против собственной особы продолжал Прошка. – Все перенесу с моим удовольствием… По крайности знаю, что ты пожалел, поверил… Ласковое слово сказал Прошке… Ах ты господи! Вовек этого не забуду!
– Ишь ведь ты какой! – промолвил ласково Шутиков и присел на пушку.
Он помолчал и заговорил:
– Слушай, что я тебе скажу, братец ты мой, брось-ка ты все эти дела, право, брось, ну их!.. Живи, Прохор, как люди живут, по-хорошему. Стань форменным матросом, чтобы всё, значит, как следует… Так-то душевней будет… А то разве самому себе сладко? Я, Прохор, не в укор, а жалеючи! – прибавил Шутиков.
Прошка слушал эти слова и находился под их обаянием. Никто, во всю его жизнь, не говорил с ним так ласково и задушевно. До сей поры его только ругали да били – вот какое было ученье.
И теплое чувство благодарности и умиления охватило Прошкино сердце. Он хотел было выразить их словами, но слова не отыскивались.
Когда Шутиков отошел, пообещав уговорить Игнатова простить Прошку, Прошка не чувствовал уж себя таким ничтожеством, каким считал себя прежде. Долго еще стоял он, посматривая за борт, и раз или два смахнул навертывавшуюся слезу.
Утром, после смены, он принес Игнатову золотой. Обрадованный матрос алчно схватил деньги, зажал их в руке, дал Прошке в зубы и хотел было идти, но Прошка стоял перед ним и повторял:
– Бей еще… Бей, Семеныч! В морду в самую дуй!
Удивленный Прошкиной смелостью, Игнатов презрительно оглядел Прошку и проговорил:
– Я разделал бы тебя, мерзавца, начисто, кабы ты мне не отдал деньги, а теперь не стоит рук марать… Сгинь, сволочь, но только смотри попробуй еще раз ко мне лазить!.. Искалечу! – внушительно прибавил Игнатов и, оттолкнув с дороги Прошку, побежал вниз прятать свои деньги.
Тем и ограничилась расправа.
Благодаря ходатайству Шутикова и боцман Щукин, узнавший о воровстве и собиравшийся «после убирки искровянить стервеца», вместо того довольно милостиво, относительно говоря, потрепал, как он выражался, «Прошкино хайло».
– Испужался Прошка Семеныча-то! Предоставил деньги, а ведь как запирался, шельма! – говорили матросы во время утренней чистки.
VI
С той памятной ночи Прошка беззаветно привязался к Шутикову и был предан ему, как верная собака. Выражать свою привязанность открыто, при всех, он, разумеется, не решался, чувствуя, вероятно, что дружба такого отверженца унизит Шутикова в чужих глазах. Он никогда не заговаривал с Шутиковым при других, но часто взглядывал на него, как на какое-то особенное существо, перед которым он, Прошка, последняя дрянь. И он гордился своим покровителем, принимая близко к сердцу все, до него касающееся. Он любовался, поглядывая снизу, как Шутиков лихо управляется на рее, замирал от удовольствия, слушая его пение, и вообще находил необыкновенно хорошим все, что ни делал Шутиков. Иногда днем, но чаще во время ночных вахт, заметив Шутикова одного, Прошка подходил и топтался около.
– Ты чего, Прохор? – спросит, бывало, приветливо Шутиков.
– Так, ничего! – ответит Прошка.
– Куда ж ты?
– А к своему месту… Я ведь так только! – скажет Прошка, словно бы извиняясь, что беспокоит Шутикова, и уйдет.
Всеми силами старался Прошка чем-нибудь да угодить Шутикову: то предложит ему постирать белье, то починить его гардероб, и часто отходил смущенный, получая отказ от услуг. Однажды Прошка принес щегольски сработанную матросскую рубаху с голландским передом и, несколько взволнованный, подал ее Шутикову.
– Молодец, Житин! Важная, брат, работа! – одобрительно заметил Шутиков после подробного осмотра и протянул руку, возвращая рубаху.
– Это я тебе, Егор Митрич. Уважь… Носи на здоровье.
Шутиков стал было отказываться, но Прошка так огорчился и так просил уважить его, что Шутиков наконец принял подарок.
Прошка был в восторге.
И лодырничать стал Прошка меньше, работая без прежнего лукавства. Бить его стали реже, но отношение к нему оставалось по-прежнему пренебрежительное, и Прошку нередко дразнили, устраивая из этой травли потеху.
Особенно любил дразнить его один из шканечных, забиячный, но трусливый молодой матрос Иванов. Как-то однажды, желая потешить собравшийся кружок, он донимал Прошку своим глумлением. Прошка, по обыкновению, отмалчивался, и Иванов становился все назойливее и безжалостнее в своих шутках.
Случайно проходивший Шутиков, увидав, как травят Прошку, вступился:
– Это, Иванов, не того… нехорошо это. Чего ты пристал к человеку, ровно смола?
– Прошка у нас необидчивый! – со смехом ответил Иванов. – Ну-ка, Прошенька, расскажи, как ты у батюшки шильники таскал и мамзелям опосля носил. Не кочевряжься. Расскажи, Прошенька! – глумился на общую потеху Иванов.
– Не тронь, говорю, человека! – строго повторил Шутиков.
Все были удивлены, что за Прошку, за лодыря и вора Прошку, Шутиков так горячо заступается.
– Да ты чего? – окрысился вдруг Иванов.
– Я-то ничего, а ты не куражься… Ишь тоже нашел над кем куражиться!
Тронутый до глубины души и в то же время боявшийся, чтобы из-за него не было Шутикову неприятностей, Прошка решился подать голос:
– Иванов ничего. Он ведь так только. Шутит, значит.
– А ты съездил бы его по уху – небось перестал бы так шутить.
– Прошка бы съездил?.. – удивленно воскликнул Иванов, до того показалось ему это невероятным. – Ну-ка, попробуй, Прошка! Насыпал бы я тебе, вислоухому, в кису.
– Может, и сам бы съел сдачи.
– Не от тебя ли?
– То-то от меня! – сдерживая волнение, проговорил Шутиков, и его обыкновенно добродушное лицо было теперь строго и серьезно.
Иванов стушевался. И только когда Шутиков отошел, проговорил, насмешливо улыбаясь и указывая на Прошку:
– Однако… Нашел себе приятеля Шутиков!.. Нечего сказать, приятель… Хорош приятель, Прошка-гальюнщик!
После этого происшествия Прошку обижали меньше, зная, что у него есть заступник, а Прошка еще сильнее привязался к Шутикову и скоро доказал, на что способна привязанность его благодарной души.
VII
Это было в Индийском океане, на пути к Зондским островам.
Утро в тот день стояло солнечное, блестящее, но прохладное: относительная близость Южного полюса давала себя знать. Дул свежий ровный ветер, и по небу носились белоснежные перистые облака, представляя собой изящные фантастические узоры. Плавно раскачиваясь, клипер наш летел полным ветром под марселями в один риф, под фоком и гротом, убегая от попутной волны.
Был десятый час на исходе. Вся команда находилась наверху. Вахтенные стояли у своих снастей, а подвахтенные были разведены по работам. Всякий занимался каким-нибудь делом: кто оканчивал чистку меди, кто подскабливал шлюпку, кто вязал мат.
Шутиков стоял на грот-русленях, прикрепленный пеньковым поясом, и учился бросать лот, недавно сменив другого матроса. Вблизи от него был и Прошка. Он чистил орудие и по временам останавливался, любуясь на Шутикова, как тот, набравши много кругов лот-линя (веревки, на которой прикреплен лот), ловко закидывает его назад, словно аркан, и затем, когда веревка вытянется, снова быстрыми ловкими движениями выбирает ее…
Вдруг со шканцев раздался отчаянный крик:
– Человек за бортом!
Не прошло нескольких секунд, как снова зловещий крик:
– Еще человек за бортом!
На мгновение все замерло на клипере. Многие в ужасе крестились.
Вахтенный лейтенант, стоявший на мостике, видел, как мелькнула фигура сорвавшегося человека, видел, как бросился в море другой. Сердце в нем дрогнуло, но он не потерялся. Он бросил с мостика спасательный круг, крикнув бросать спасательные буйки и с юта, и громовым взволнованным голосом скомандовал:
– Фок и грот на гитовы!
С первым окриком все офицеры выскочили наверх. Капитан и старший офицер, оба взволнованные, уж были на мостике.
– Он, кажется, схватился за буек! – проговорил капитан, отрываясь от бинокля. – Сигнальщик, не спускай их с глаз!
– Есть. Вижу!
– Скорей, скорей ложитесь в дрейф да спускайте баркас! – нервно, отрывисто торопил капитан.
Но торопить было нечего. Понимая, что каждая секунда дорога, матросы рвались как бешеные. Через восемь минут клипер уже лежал в дрейфе, и баркас с людьми, под начальством мичмана Лесового, тихо спускался с боканцев.
– С Богом! – напутствовал капитан. – Ищите людей на ост-норд-ост… Да не заходите далеко! – прибавил он.
Упавших в море уже не было видно. В эти восемь минут клипер пробежал по крайней мере милю.
– Кто это упал? – спросил капитан старшего офицера.
– Шутиков. Сорвался, бросая лот… Лопнул пояс.
– А другой?
– Житии! Бросился за Шутиковым.
– Житии? Этот трус и рохля? – удивился капитан.
– Я сам не могу понять! – отвечал Василий Иваныч.
Между тем все глаза были устремлены на баркас, который медленно удалялся от клипера, то скрываясь, то показываясь среди волн. Наконец он совсем скрылся из глаз, не вооруженных биноклем, и кругом был виден один волнующийся океан.
На клипере царила угрюмая тишина. Изредка лишь матросы перекидывались словами вполголоса. Капитан не отрывался от бинокля. Старший штурман и два сигнальщика смотрели в подзорные трубы.
Так прошло долгих полчаса.
– Баркас идет назад! – доложил сигнальщик.
И снова все взоры устремились на океан.
– Верно, спасли людей! – тихо заметил старший офицер капитану.
– Почему вы думаете, Василий Иваныч?
– Лесовой не вернулся бы так скоро!
– Дай Бог! Дай Бог!
Ныряя в волнах, приближался баркас. Издали он казался крошечной скорлупой. Казалось, вот-вот его сейчас захлестнет волной. Но он снова показывался на гребне и снова нырял.
– Молодцом правит Лесовой! Молодцом! – вырвалось у капитана, жадно глядевшего на шлюпку.
Баркас подходил все ближе и ближе.
– Оба в шлюпке! – весело крикнул сигнальщик.
Радостный вздох вырвался у всех. Многие матросы крестились. Клипер словно ожил. Снова пошли разговоры.
– Счастливо отделались! – проговорил капитан, и на его серьезном лице появилась радостная, хорошая улыбка.
Улыбался в ответ и Василий Иванович.
– А Житин-то!.. Трус, трус, а вот подите! – продолжал капитан.
– Удивительно! И матрос-то лодырь, а бросился за товарищем!.. Шутиков покровительствовал ему! – прибавил Василий Иванович в пояснение.
И все дивились Прошке. Прошка был героем минуты.
Через десять минут баркас подошел к борту и благополучно был поднят на боканцы.
Мокрые, вспотевшие и красные, тяжело дыша от усталости, выходили гребцы из баркаса и направлялись на бак. Вышли Шутиков и Прошка, отряхиваясь, словно утки, от воды, оба бледные, взволнованные и счастливые.
Все с уважением смотрели теперь на Прошку, стоявшего перед подошедшим капитаном.
– Молодец, Житии! – сказал капитан, невольно недоумевая при виде этого неуклюжего, невзрачного матроса, рисковавшего жизнью за товарища.
А Прошка переминался с ноги на ногу, видимо робея.
– Ну, ступай переоденься скорей да выпей за меня чарку водки… За твой подвиг представлю тебя к медали, а от меня получишь денежную награду.
Совсем ошалевший Прошка даже не догадался сказать «рады стараться!» и, растерянно улыбаясь, повернулся и пошел своей утиной походкой.
– Снимайтесь с дрейфа! – приказал капитан, поднимаясь на мостик.
Раздалась команда вахтенного лейтенанта. Голос его теперь звучал весело и спокойно. Скоро были поставлены убранные паруса, и минут через пять клипер снова несся прежним курсом, подымаясь с волны на волну, и прерванные работы опять возобновились.
– Ишь ведь ты какой, блоха тебя ешь! – остановил Лаврентьич Прошку, когда тот, переодетый и согревшийся чаркой рома, поднялся вслед за Шутиковым на палубу. – Портной, портной, а какой отчаянный! – продолжал Лаврентьич, ласково трепля Прошку по плечу.
– Без Прохора, братцы, не видать бы мне свету! Как я это окунулся да вынырнул, ну, думаю, шабаш. Богу отдавать душу придется! – рассказывал Шутиков. – Не продержусь, мол, долго на воде-то… Слышу – Прохор голосом кричит. Плывет с кругом и мне буек подал… То-то обрадовал, братцы! Так мы вместе и держались, доколь баркас не подошел.
– А страшно было? – спрашивали матросы.
– А ты думал как? Еще как, братцы-то, страшно! Не дай бог! – отвечал Шутиков, добродушно улыбаясь.
– И как это ты, братец, вздумал? – ласково спросил Прошку подошедший боцман.
Прошка глупо улыбался и, помолчав, ответил:
– Я вовсе и не думал, Матвей Нилыч. Вижу, он упал, Шутиков, значит. Я, значит, господи благослови, да за им…
– То-то и есть! Душа в ём. Ай да молодца, Прохор! Ишь ведь… На-кось покури трубочки-то на закуску! – сказал Лаврентьич, передавая Прошке, в знак особенного благоволения, свою короткую трубочку, и при этом прибавил забористое словечко в самом нежном тоне.
С этого дня Прошка перестал быть прежним загнанным Прошкой и обратился в Прохора.
1887
Ужасный день
I
Весь черный, с блестящей золотой полоской вокруг, необыкновенно стройный, изящный и красивый со своими чуть-чуть наклоненными назад тремя высокими мачтами, военный четырехпушечный клипер «Ястреб» в это хмурое, тоскливое и холодное утро пятнадцатого ноября 186* года одиноко стоял на двух якорях в пустынной Дуйской бухте неприветного острова Сахалина. Благодаря зыби клипер тихо и равномерно покачивался, то поклевывая острым носом и купая штаги в воде, то опускаясь подзором своей круглой кормы.
«Ястреб», находившийся уже второй год в кругосветном плавании, после посещения наших почти безлюдных в то время портов Приморской области, зашел на Сахалин, чтобы запастись даровым углем, добытым ссыльнокаторжными, недавно переведенными в Дуйский пост из острогов Сибири, и идти затем в Нагасаки, а оттуда – в Сан-Франциско, на соединение с эскадрой Тихого океана.
В этот памятный день погода стояла сырая, с каким-то пронизывающим холодом, заставлявшим вахтенных матросов ёжиться в своих коротких бушлатах и дождевиках, а подвахтенных – чаще подбегать к камбузу погреться. Шел мелкий, частый дождик, и серая мгла заволакивала берег. Оттуда доносился только однообразный характерный гул бурунов[6], перекатывающихся через отмели и гряды подводных камней в глубине бухты. Ветер, не особенно свежий, дул прямо с моря, и на совершенно открытом рейде ходила порядочная зыбь, мешавшая, к общему неудовольствию, быстрой выгрузке угля из двух больших неуклюжих допотопных лодок, которые трепались и подпрыгивали, привязанные у борта клипера, пугая «крупу», как называли матросы линейных солдатиков, приехавших с берега на лодках.
С обычной на военных судах торжественностью на «Ястребе» только что подняли флаг и гюйс, и с восьми часов на клипере начался судовой день. Все офицеры, выходившие к подъему флага наверх, спустились в кают-компанию пить чай. На мостике только оставались закутанные в дождевики капитан, старший офицер и вахтенный начальник, вступивший на вахту.
– Позвольте отпустить вторую вахту в баню? – спросил старший офицер, подходя к капитану. – Первая вахта вчера ездила. Второй будет обидно. Я уж обещал. Матросам баня – праздник.
– Что ж, отпустите. Только пусть скорее возвращаются назад. После погрузки мы снимемся с якоря. Надеюсь, сегодня закончим?
– К четырем часам надо закончить.
– В четыре часа я, во всяком случае, ухожу, – спокойно и в то же время уверенно и властно проговорил капитан. – И то мы промешкались в этой дыре! – прибавил он недовольным тоном, указывая своей белой выхоленной маленькой рукой по направлению к берегу.
Он откинул капюшон дождевика с головы, открыв молодое и красивое лицо, полное энергии и выражения спокойной уверенности стойкого и отважного человека, и, слегка прищурив свои серые лучистые и мягкие глаза, с напряженным вниманием всматривался вперед, в туманную даль открытого моря, где белели седые гребни волн. Ветер трепал его светло-русые бакенбарды, и дождь хлестал прямо в лицо. Несколько секунд не спускал он глаз с моря, точно стараясь угадать: не собирается ли оно разбушеваться, и, казалось, успокоенный, поднял глаза на нависшие тучи и потом прислушался к гулу бурунов, шумевших за кормой.
– За якорным канатом хорошенько следите. Здесь подлый грунт, каменистый, – сказал он вахтенному начальнику.
– Есть! – коротко и весело отрезал молодой лейтенант Чирков, прикладывая руку к полям зюйдвестки и, видимо, щеголяя и служебной аффектацией хорошего подчиненного, и своим красивым баритоном, и своим внешним видом заправского моряка.
– Сколько вытравлено цепи?
– Десять сажен каждого якоря.
Капитан двинулся было с мостика, но остановился и еще раз повторил, обращаясь к плотной и приземистой фигуре старшего офицера:
– Так уж пожалуйста, Николай Николаич, чтобы баркас вернулся как можно скорей… Барометр пока хорошо стоит, но, того и гляди, может засвежеть. Ветер прямо в лоб, баркасу и не выгрести.
– К одиннадцати часам баркас вернется, Алексей Петрович.
– Кто поедет с командой?
– Мичман Нырков.
– Скажите ему, чтоб немедленно возвращался на клипер, если начнет свежеть.
С этими словами капитан сошел с мостика и спустился в свою большую комфортабельную капитанскую каюту. Проворный вестовой принял у входа дождевик, и капитан присел у круглого стола, на котором уж был подан кофе и стояли свежие булки и масло.
Старший офицер, ближайший помощник капитана, так сказать «хозяйский глаз» судна и верховный жрец культа порядка и чистоты, по обыкновению поднявшись вместе с матросами, с пяти часов утра носился по клиперу во время обычной его утренней уборки и торопился теперь выпить поскорее стакан-другой горячего чаю, чтобы затем снова выбежать наверх и поторапливать выгрузкой угля. Отдавши вахтенному офицеру приказание собрать вторую вахту на берег, приготовить баркас и дать ему знак, когда люди будут готовы, он торопливо сбежал с мостика и спустился в кают-компанию.
Тем временем к мостику подбежал вызванный боцман Никитин, или Егор Митрич, как почтительно звали его матросы. Приложив растопыренные засмоленные пальцы своей здоровенной мозолистой и шершавой руки к сбитой на затылок намокшей шапке, он внимательно выслушивал приказание вахтенного офицера.
Это был коренастый и крепкий, небольшого роста, сутуловатый пожилой человек самого свирепого вида: с заросшим волосами некрасивым рябым лицом, с коротко подстриженными щетинистыми колючими усами и с выкаченными, как у рака, глазами, над которыми торчали черные взъерошенные клочья. Перешибленный еще давно марса-фалом нос напоминал темно-красную сливу. В правом ухе у боцмана блестела медная сережка.
Несмотря, однако, на такую свирепую наружность и на самое отчаянное сквернословие, которым боцман приправлял и свои обращения к матросам, и свои монологи под пьяную руку на берегу, Егор Митрич был простодушнейшим и кротким существом с золотым сердцем и притом лихим, знающим свое дело до тонкости боцманом. Он никогда не обижал матросов – ни он, ни матросы не считали, конечно, обидой его ругательные импровизации. Сам прежде выученный битьем, он, однако, не дрался и всегда был предстателем и защитником матросов. Нечего и прибавлять, что простой и незаносчивый Егор Митрич пользовался среди команды уважением и любовью.
«Правильный человек Егор Митрич», – говорили про него матросы.
Выслушав приказание вахтенного лейтенанта, боцман вприпрыжку понесся на бак и, вынув из кармана штанов висевшую на длинной медной цепочке такую же дудку, засвистал в нее соловьем. Свист был энергичный и веселый и словно бы предупреждал о радостном известии. Отсвистав и проделав трели с мастерством заправского боцмана, свиставшего в дудку половину своей долгой морской службы, он нагнулся над люком в жилую палубу и, расставив фертом свои цепкие, слегка кривые, короткие ноги, весело зыкнул во всю силу своего могучего голоса, несколько осипшего и от береговых попоек, и от ругани:
– Вторая вахта, в баню! Баркасные, на баркас!
Вслед за громовым окриком боцман сбежал по трапу вниз и обходил жилую палубу и кубрик, повторяя команду и рассыпая направо и налево подбодряющие энергические словечки самым веселым и добродушным тоном:
– Живо, сучьи дети!.. Поворачивайтесь по-матросски, черти!.. Не копайся, идолы! Небось долго париться не дадут… К одиннадцати чтобы беспременно на клипер… В один секунд собирайся, ребята!
Заметив молодого матросика, который и после свистка не трогался с места, Егор Митрич крикнул, стараясь придать своему голосу сердитый тон:
– А ты, Конопаткин, что расселся, ровно собачья мамзель, а? Ай в баню не хочешь, песья твоя душа?
– Иду, Егор Митрич, – проговорил, улыбаясь, матросик.
– То-то иду. Собирай свои потроха… Да не ползи, как вошь по мокрому месту! – рассыпал Егор Митрич перлы своего остроумия при общем одобрительном смехе.
– А скоро уходим отсюдова, Егор Митрич? – остановил боцмана писарь.
– Надо быть, сегодня.
– Скорей бы уйти. Как есть подлое место. Никаких развлечениев!
– Собачье место… Недаром здесь бессчастные люди живут!.. Вали, вали, братцы! – продолжал покрикивать боцман, сдабривая свои окрики самыми неожиданными импровизациями.
Веселые и довольные, что придется попариться в бане, в которой не были уже полтора года, матросы и без понуканий своего любимца Егора Митрича торопливо доставали из своих парусинных мешков по смене чистого белья, запасались мылом и кусками нащипанной пеньки, обмениваясь замечаниями насчет предстоящего удовольствия.
– По крайности матушку-Расею вспомним, братцы. С самого Кронштадта не парились.
– То-то в загранице нет нигде бань, одни ванный. Кажется, и башковатые люди в загранице живут, а поди ж ты! – не без чувства сожаления к иностранцам заметил пожилой баковый матрос.
– Так-таки и нигде? – спросил молодой чернявый матросик.
– Нигде. Без бань живут, чудны́е! Везде у них ванный.
– Эти ванный, чтоб им пусто было! – вставил один из матросов. – Я ходил в Бресте в эту самую ванную. Одна слава что мытье, а форменного мытья нету.
– А хороша здесь, братцы, баня?
– Хорошая, – отвечал матрос, бывший вчера на берегу. – Настоящая жаркая баня. Линейные солдатики строили; тоже, значит, российские люди. Им да вот этим самым несчастным, что роют уголь, только и утеха одна что баня…
– Да, вовсе здесь тяжкое житье!
– И командир ихний, сказывали, зверь.
– Одно слово – каторжное место. И ни тебе кабака, ни тебе бабы!
– Одна завалящая варначка какая-то есть старая… Наши видели.
– Увидишь и ты, не бойсь! – проговорил, смеясь, подошедший Егор Митрич. – Не с лица воду пить! Живо, живо!.. Выползай, кто готов… Нечего-то лясы точить, чтоб вас!
Матросы выходили один за другим наверх с узелками под бушлатами и выстраивались на шканцах. Вышел старший офицер и, снова повторив мичману Ныркову приказание быть к одиннадцати часам на клипере, велел сажать людей на баркас, который уже покачивался у левого борта с поставленными мачтами.
Матросы весело спускались по веревочному трапу, прыгали в шлюпку и рассаживались по банкам. Старший офицер наблюдал за посадкой.
Минут через пять баркас, полный людьми, с поставленными парусами, отвалил от борта с мичманом Нырковым на руле, понесся стрелой с попутным ветром и скоро скрылся в туманной мгле, все еще окутывавшей берег.
II
В кают-компании все были в сборе за большим столом, покрытым белоснежной скатертью. Две горки свежих булок, изделия офицерского кока (повара), масло, лимоны, графинчик с коньяком и даже сливки красовались на столе, свидетельствуя о хозяйственных талантах и запасливости содержателя кают-компании молодого доктора Платона Васильевича, выбранного на эту хлопотливую должность во второй раз. Только что истопленная железная печка позволяла всем сидеть без пальто. Пили чай и болтали, поругивая главным образом проклятый Сахалин, куда судьба занесла клипер. Ругали и открытый рейд с его зыбью, и собачью погоду, и местность, и холод, и медленную грузку угля. Всем, начиная со старшего офицера и кончая самым юным членом кают-компании, только что произведенным в мичманы, румяным и свежим, как яблочко, Арефьевым, эта стоянка в Дуэ была очень неприятна. Подобный берег не манил к себе моряков. Да и что могло манить?.. Неприветен был этот несчастный поселок на оголенном юру бухты, с унылым лесом сзади без конца, с несколькими казармами мрачного вида, в которых жили пятьдесят человек ссыльно-каторжных, выходивших с утра на добычу угля в устроенную вблизи шахту, да полурота солдат линейного сибирского батальона.
Когда старший офицер объявил в кают-компании, что сегодня «Ястреб» непременно уйдет в четыре часа, хотя бы и не весь уголь был принят, все по этому случаю выражали свою радость. Молодые офицеры вновь замечтали вслух о Сан-Франциско и о том, как они там «протрут денежки». Деньги, слава богу, были! В эти полтора месяца плавания с заходами в разные дыры нашего побережья на Дальнем Востоке при всем желании некуда было истратить денег, а впереди еще недели три-четыре до Сан-Франциско – смотришь, и можно спустить все трехмесячное содержание, а при случае и прихватить вперед… После адской скуки всех этих «собачьих дыр» морякам хотелось настоящего берега. Мечтали о хорошем порте со всеми его удовольствиями, только, разумеется, не вслух, и такие солидные люди, как старший офицер, Николай Николаевич, вообще редко съезжавший на берег, а если и съезжавший, то на самое короткое время, чтоб «освежиться», как говорил он, и доктор, и старший артиллерист, и старший механик, и даже отец Спиридоний. Все они с видимым вниманием слушали, когда Сниткин, полный лейтенант с сочными, пухлыми губами и маленькими глазками, всегда веселый и добродушный, немножко враль и балагур, рассказывал о прелестях Сан-Франциско, в котором он был в первое свое кругосветное плавание, и с неумеренною восторженностью, свойственной, кажется, одним морякам, восхвалял красоту и прелесть американок.
– Уж разве так хороши? – спросил кто-то.
– Прелесть! – ответил Сниткин и в доказательство поцеловал даже свои толстые пальцы.
– Помните, Василий Васильич, вы и малаек нам нахваливали. Говорили, что очень недурны собой, – заметил один из мичманов.
– Ну и что же? Они в своем роде недурны, эти черномазые дамы! – со смехом отвечал лейтенант Сниткин, не особенно разборчивый, по-видимому, к цвету кожи прекрасного пола. – Все, батюшка, зависит от точки зрения и обстоятельств, в которых находится злополучный моряк… Ха-ха-ха!
– При всяких обстоятельствах ваши хваленые малайки – мерзость!
– Ишь какой эстетик, скажите пожалуйста! И, однако, несмотря на всю свою эстетику, в Камчатке вы влюбились в заседательшу и все расспрашивали ее, как маринуют бруснику и морошку… А ведь этой даме все сорок, и главное – она форменный сапог! Хуже всякой малайки.
– Ну, положим… – сконфуженно пролепетал мичман.
– Да уж как там ни полагайте, голубчик, а – сапог… Одна бородавка на носу чего стоит! И тем не менее вы ей романсы пели. Значит, такая точка зрения была.
– Вовсе не пел! – защищался юный мичман.
– А помните, господа, как все мы тогда из Камчатки с вареньем ушли? – воскликнул кто-то из мичманов.
Раздался общий взрыв веселого смеха. Снова вспомнили, как после трехдневной стоянки «Ястреба» в Петропавловске, в Камчатке, – стоянки, взбудоражившей всех шесть дам местной интеллигенции и заставившей их на время примириться, забыв вражду, чтобы устроить бал для редких гостей, – каждый из молодых офицеров клипера вечером, в день ухода из Камчатки, вносил в кают-компанию по банке варенья и ставил ее на стол со скромно-торжествующей улыбкой. И то-то было сперва изумления и потом смеха, когда выяснилось, что все эти восемь банок варенья, преимущественно морошки, были подарком одной и той же тридцатилетней дамы, считавшейся первой красавицей среди шести камчатских дам. А между тем каждый, получивший «на память» по банке варенья, считал себя единственным счастливцем, удостоившимся такого особенного внимания.
– Всех обморочила лукавая бабенка! – восклицал Сниткин. – «Вам, – говорит, – одному варенье на память!» И руки жала, и… ха-ха-ха… Ловко! По крайней мере, никому не обидно!
После нескольких стаканов чая и многих выкуренных папирос старшему офицеру, видимо, не хотелось расставаться со своим почетным местом на мягком диване в теплой и уютной кают-компании, особенно в виду оживленных рассказов о Сан-Франциско, напомнивших Николаю Николаевичу, этому мученику своих тяжелых обязанностей старшего офицера, что и ему ничто человеческое не чуждо. Но, раб долга и педант, как и бо́льшая часть старших офицеров, любивший вдобавок напустить на себя вид человека, которому нет ни минуты покоя и который – полюбуйтесь! – за всем должен присмотреть и за все отвечать, он хоть и сделал кислую гримасу, вспомнив, какая наверху пакость, тем не менее решительно поднялся с дивана и крикнул вестовому:
– Пальто и дождевик!
– Куда вы, Николай Николаич? – спросил доктор.
– Странный вопрос, доктор, – отвечал как будто даже обиженно старший офицер. – Точно вы не знаете, что уголь грузят.
И старший офицер пошел наверх «присматривать» и мокнуть, хотя и без его присутствия выгрузка шла своим порядком. Но Николай Николаич все-таки торчал наверху и мок, словно бы в пику кому-то и в доказательство, сколь он претерпевает.
В кают-компании продолжалась веселая болтовня моряков, еще не надоевших друг другу до тошноты, что случается на очень длинных переходах, когда нет новых впечатлений извне. Мичманы расспрашивали лейтенанта Сниткина о Сан-Франциско, кто-то рассказывал анекдоты о «беспокойном адмирале». Все были веселы и беспечны.
Один только Лаврентий Иванович, старший штурман клипера, не принимал участия в разговоре и посасывал свою манилку, постукивая сморщенными костлявыми пальцами по столу далеко не с тем добродушно-спокойным видом, с каким он это делал, когда «Ястреб» был в открытом океане или стоял на якоре на хорошем, защищенном рейде. Вдобавок Лаврентий Иванович не мурлыкал, по обыкновению, себе под нос излюбленного им мотива какого-то старинного романса, и это молчание тоже кое-что значило.
Это был сухощавый, среднего роста человек лет пятидесяти, с открытым, располагающим, еще свежим лицом, добросовестный и педантичный до щепетильности служака, давно уж примирившийся со своим вечно подневольным положением штурмана и скромной карьерой и не злобствовавший, по обычаю штурманов, на флотских. Поседевший на море, на котором провел бо́льшую часть своей одинокой, холостой жизни, он приобрел на нем вместе с богатым опытом, закалкой характера и ревматизмом еще и то несколько суеверное, почтительно-осторожное отношение к хорошо знакомому ему морю, которое делало Лаврентия Ивановича весьма недоверчивым и подозрительным к коварной стихии, показывавшей ему во время долгих плаваний всякие виды.
Видимо, чем-то озабоченный, он то и дело выходил из кают-компании наверх, поднимался на мостик и долгим недоверчивым взглядом своих маленьких, зорких, как у коршуна, глаз глядел на море и озирался вокруг. Туманная мгла, закрывавшая берег, рассеялась, и можно было ясно видеть седые буруны, грохотавшие в нескольких местах бухты, в значительном отдалении от клипера. Поглядывал старый штурман и на надувшийся вымпел, не изменявший своего направления, указывающего, что ветер прямо, как говорят моряки, «в лоб», и на небо, на свинцовом фоне которого начинали прорезываться голубые кружки…
– Дождь-то, слава богу, перестает, Лаврентий Иваныч! – весело заметил вахтенный лейтенант Чирков.
– Да, перестает.
В мягком, приятном баске старого штурмана не слышно было довольной нотки. Напротив, то обстоятельство, что дождь перестает, казалось, не особенно нравилось Лаврентию Ивановичу. И словно бы не доверяя своим зорким глазам, он снял с поручней большой морской бинокль и снова впился в почерневшую даль. Несколько минут разглядывал он мрачные, нависшие над краем моря тучи и, положив на место бинокль, потянул носом, точно собака, воздух и покачал раздумчиво головой.
– Что это вы, Лаврентий Иваныч, все посматриваете?.. Мы, кажется, не проходим опасных мест? – шутливо спросил Чирков, подходя к штурману.
– Не нравится мне горизонт-с! – отрезал старый штурман.
– А что?
– Как бы вскорости не засвежело.
– Эка беда, если и засвежеет! – хвастливо проговорил молодой человек.
– Очень даже беда-с! – внушительно и серьезно заметил старший штурман. – Этот свирепый норд-вест коли заревет вовсю, то надолго, и уж тогда не выпустит нас отсюда… А я предпочел бы штормовать в открытом море, чем здесь, на этом подлеце рейде. Да-с!
– Чего нам бояться? У нас – машина. Разведем пары, в помощь якорям, и шутя отстоимся! – самоуверенно воскликнул Чирков.
Лаврентий Иванович посмотрел на молодого человека со снисходительной улыбкой старого, бывалого человека, слушающего хвастливого ребенка.
– Вы думаете «шутя-а-а»? – протянул он, усмехнувшись. – Напрасно! Вы, батенька, не знаете, что это за подлый норд-вест, а я его знаю. Лет десять тому назад я стоял здесь на шхуне… Слава богу, вовремя убрались, а то бы…
Он не докончил фразы, боясь, как все суеверные люди, даже упоминать о возможности несчастия, и, помолчав, заметил:
– Положим, машина, а все бы лучше подобру-поздорову в море! Ну его к черту, уголь! В Нагасаки можем добрать. Эта хитрая каналья норд-вест сразу набрасывается как бешеный. А уж как он рассвирепеет до шторма, тогда уходить поздно.
– Уж вы всегда, Лаврентий Иваныч, везде страхи видите.
– В ваши годы и я их не видал… Все, мол, трын-трава… На все наплевать, ничего не боялся… Ну а как побывал в переделках, состарившись в море, так и вижу… Знаете ли пословицу: «Береженого и Бог бережет».
– Что ж вы капитану не скажете?
– Что мне ему говорить? Он и сам должен знать, каково здесь отстаиваться в свежую погоду! – не без раздражения ответил старый штурман.
Лаврентий Иванович, однако, скрыл, что еще вчера, как только задул норд-вест, он доложил капитану о «подлости» этого ветра и крайне осторожно выразил мнение, что лучше бы уходить отсюда. Но молодой самолюбивый и ревнивый к власти капитан, которого еще тешили первые годы командирства и который не любил ничьих советов, пропустил, казалось, мимо ушей замечание старшего штурмана и ни слова ему не ответил.
«И без тебя, мол, знаю!» – говорило, по-видимому, самоуверенное и красивое лицо капитана.
Старый штурман вышел из капитанской каюты, несколько обиженный таким «обрывом», и за дверями каюты проворчал себе под нос:
– Молода, в Саксонии не была!
– А все-таки, Лаврентий Иваныч, вы бы доложили капитану! – проговорил лейтенант Чирков, несколько смущенный словами старого штурмана, хотя и старавшийся скрыть это смущение в равнодушном тоне голоса.
– Что мне соваться с докладами? Он сам видит, какая здесь мерзость! – с сердцем ответил Лаврентий Иванович.
В эту минуту на мостик поднялся капитан и стал оглядывать горизонт, весь покрытый зловещими черными тучами. Они, казалось, всё росли и росли, охватывая все большее пространство, и, разрываясь, с поразительной быстротой поднимались по небосклону. Дождь перестал. Кругом, у берегов, прояснялось.
– Баркас еще не отвалил? – спросил капитан вахтенного.
– Нет.
– Поднять позывные!
В спокойном обыкновенно голосе капитана едва слышна была тревожная нотка.
«Небось теперь тревожишься, а вчера и слушать меня не хотел!» – подумал старший штурман, искоса взглядывая на капитана, стоявшего на другой стороне мостика.
– То-то молода, в Саксонии не была! – прошептал Лаврентий Иванович любимую свою присказку.
– Баркас отваливает! – крикнул сигнальщик, все время смотревший на берег в подзорную трубу.
Сильный шквалистый порыв ветра внезапно ворвался в бухту, пронесся по ней, срывая гребешки волн, и прогудел в снастях. «Ястреб», стоявший против ветра, шутя выдержал этот порыв и только слегка дрогнул на своих туго натянутых якорных канатах.
– Прикажите разводить пары́, да чтобы поскорей! – сказал капитан.
Вахтенный офицер дернул ручку машинного телеграфа и крикнул в переговорную трубку. Из машины ответили: «Есть, разводим!»
– Отправьте угольные лодки на берег! Чтоб все было готово к съемке с якоря! – продолжал отдавать приказания капитан повелительным, отрывистым и слегка возбужденным голосом, сохраняя на лице своем обычное выражение спокойной уверенности.
Он заходил, заложив руки в карманы своего теплого пальто, по мостику, но поминутно останавливался: то вглядывался озабоченным взором в свинцовую даль рокотавшего моря, то оборачивался назад и в бинокль следил за баркасом, который медленно подвигался вперед против встречной зыби и ветра.
– А ведь вы были правы, Лаврентий Иваныч, и я жалею, что не послушал вас и не снялся сегодня с рассветом с якоря! – проговорил вдруг капитан громко, и, казалось, нарочно громко, чтоб слышал и Чирков, и старший офицер, поспешивший вбежать на мостик, как только узнал о съемке с якоря.
Сознание в своей неправоте такого уверенного в себе и страшно самолюбивого человека, каким был этот образованный, блестящий и действительно лихой капитан, обнаруживавший не раз во время плавания и отвагу, и хладнокровие, и находчивость настоящего моряка, совсем смягчило сердце скромного Лаврентия Ивановича. И он вдруг смутился и, словно в чем-то оправдываясь и желая в то же время оправдать капитана, промолвил:
– Я, Алексей Петрович, потому позволил себе доложить, что сам испытал, каков десь норд-вест… А в лоции ничего не говорится.
– А, кажется, собирается засвежеть не на шутку! – продолжал капитан, понижая голос. – Взгляните! – прибавил он, взмахнув головой на далекие тучи.
– Штормом попахивает, Алексей Петрович… Уж мне и в ногу стреляет-с, – шутливо промолвил старый штурман.
– Ну, пока он разыграется, мы успеем выйти в море. Пусть себе там нас треплет.
Опять, словно предупреждающий вестник, пронесся порыв, и снова клипер, точно конь на привязи, дернулся на цепях.
Капитан велел спустить брам-стеньги.
– Да живее пары́! – крикнул он в машину.
Брам-стеньги были быстро спущены лихой командой клипера, и старший офицер, командовавший авралом, довольно улыбался, как они «сгорели». Скоро из трубы повалил дым. Баркас с людьми выгребал дружно и споро и приближался к клиперу. Все гребные судна были подняты.
Старый штурман все тревожнее и тревожнее посматривал на грозные тучи, облегавшие горизонт. В серьезном, несколько возбужденном лице капитана, в его походке, жестах, голосе заметно было нетерпение. Он то и дело звонил в машину и спрашивал: «Как пары́?» – видимо торопясь уходить из этой усеянной подводными камнями бухты, вдобавок еще плохо описанной в лоции.
А ветер заметно свежел. Приходилось потравливать якорные цепи, натягивавшиеся при сильных порывах в струну. Клипер при этом подавался назад, по направлению к берегу. Зыбь усиливалась, играя «зайчиками», и «Ястреб» стремительней клевал носом.
– Ну, слава богу, через час уйдем из этой дыры! – радостно говорили мичманы в кают-компании.
– И чтоб в нее никогда не заглядывать больше!
К старшему штурману, спустившемуся в кают-компанию выкурить манилку и погреться, кто-то обратился с вопросом:
– Лаврентий Иваныч! Когда мы придем в Сан-Франциско, как вы думаете? Недельки через четыре увидим американок, а?
– Нечего-то загадывать вперед… Мы ведь в море, а не на берегу.
– Ну, однако, приблизительно, Лаврентий Иваныч? Если все будет благополучно?
– Да что вы пристали: когда да когда? Прежде отсюда надо убраться! – ворчливо промолвил штурман.
– А что, разве так свежо?
– Подите наверх – увидите!
– У нас, Лаврентий Иваныч, машина сильная. Выползем.
Лаврентий Иванович, почти не сомневавшийся, что клипер до шторма уйти не успеет и что ему придется отстаиваться на рейде, ничего не ответил и быстрыми, нервными затяжками торопливо докуривал свою манилку, озабоченный и мрачный, полный самых невеселых дум о положении клипера, если штормяга будет, как он выражался, «форменный».
В эту минуту в кают-компанию влетел весь мокрый, с красным от холода лицом молодой мичман Нырков и возбужденно и весело воскликнул:
– Ну, господа, и анафема, я вам скажу, ветер! Так засвежел на половине дороги, что я думал: нам и не выгрести. Насилу добрались. И волна подлая… Все мы вымокли. Так и хлестало! И что за холод… Совсем замерз. Эй, вестовые! Скорей горячего чаю и коньяку! – крикнул он и пошел в свою каюту переодеваться, счастливый, что благополучно добрался и что в точности выполнил приказание и вернулся к одиннадцати часам. Он, еще совсем молодой моряк, первый раз попавший в дальнее плавание, конечно, стыдился сказать в кают-компании, как ему было жутко на баркасе, захлестываемом волной, как страшно и за себя, и за матросов, и как он, сам трусивший, с небрежным ухарским видом подбадривал усталых, вспотевших гребцов «навалиться», обещая им по три чарки на человека.
«Ах, как приятно, что все это прошло!» – проносилось в голове у молодого мичмана, когда он быстро облачался в сухое белье, предвкушая удовольствие согреться горячим чаем с коньяком.
– Ну, теперь нам нечего ждать… Скорей бы пары́, и айда к американочкам! Не правда ли, Лаврентий Иваныч? – проговорил со смехом веселый лейтенант Сниткин.
Но Лаврентий Иванович только пожал плечами, надел свою походную старенькую фуражку и пошел наверх.
III
Опасения старого штурмана оправдались.
Только что подняли баркас в ростры и принайтовили (привязали) его, как после трех, последовательно налетевших жестоких шквалов заревел шторм, один из тех штормов, которые смущают даже и старых, опытных моряков.
Картина озверевшей стихии была действительно страшная.
По небу, с едва пробивающимися на свинцовом фоне голубыми кусочками, бешено и, казалось, низко неслись черные клочковатые облака и покрывали весь небосклон. Несмотря на утро, кругом стоял полусвет, точно в сумерки. Море, что называется, кипело. Громадные волны шумно и яростно нагоняли одна другую, сталкивались и рассыпались в своих верхушках алмазной пылью, которую подхватывал вихрь и нес дальше. Страшный рев бушующего моря сливался с ревом дьявольского ветра. Встречая в клипере препятствие, он то сердито выл, то проносился каким-то жалобным стоном в такелаже и мачтах, в люках и дулах орудий, гнул стеньги, потрясал поднятые на боканцах шлюпки, срывал непринайтовленные предметы и сердито трепал бесчисленные снасти.
Словно обезумевший, освирепевший зверь, бросался он на маленький клипер, как будто грозя его уничтожить со всеми его обитателями. И «Ястреб», встретивший грудью врага, то и дело вздрагивал на своих вытравленных канатах и, казалось, вот-вот сорвется с натянувшихся, гудевших цепей. Его дергало на них все больше и больше, и он, бедный, точно от боли, скрипел всеми своими членами и стремительно качался, уходя бугшпритом в воду и отряхиваясь при подъеме, точно великан-птица, от воды.
Нахлобучив на лоб фуражку, чтоб ее не сорвало ветром, стоял капитан на мостике, цепко держась одной рукой за поручни. В другой у него был рупор. Ледяной ветер дул ему прямо в лицо, пронизывая его всего холодом, но капитан, не покидавший мостика уже около часа, казалось, не чувствовал ветра, весь сосредоточенный, страшно серьезный и, по-видимому, совершенно спокойный. Однако это спокойствие, стоившее ему усилия, было лишь наружным спокойствием моряка, умеющего владеть собой в серьезные минуты. В душе у этого самолюбивого, отважного человека была мучительная тревога, и все его существо было в том нервном напряжении, которое при частых повторениях нередко преждевременно старит моряков и в нестарые еще годы делает их седыми. Он хорошо понимал опасность положения клипера и вверенных ему людей и, ввиду страшной нравственной ответственности, испытывал жгучие упреки совести. Его самонадеянная уверенность – виной всему. Зачем он не послушал вчера совета старого, много плававшего штурмана?.. Зачем он не ушел?.. И вот теперь…
– Пары́! Когда же пары́?! – крикнул он, дергая порывисто ручку машинного телеграфа.
Из машины ответили, что пары́ будут готовы через десять минут.
Десять минут в такой анафемский шторм, грозивший в каждое мгновение сорвать с якорей клипер, ведь это целая вечность! Работая машиной, в помощь якорям, еще возможно удержаться и отстаиваться.
И капитан, обыкновенно сдержанный и не бранившийся, хорошо зная, что пары́ не могли быть раньше подняты, тем не менее крикнул в машину через переговорную трубку резкое, грубое слово, заставившее бедного старшего механика, и без того надрывавшегося, побледнеть как полотно и судорожно сжать кулаки.
Теперь уже капитан не вглядывался, как раньше, вперед, в даль моря, на просторе которого ему бы так хотелось быть в настоящую минуту, штормуя с крепким и добрым своим «Ястребом» под штормовыми парусами, задраивши люки и носясь по волнам, как закупоренный бочонок, пока шторм не пройдет. Он часто оборачивался и тревожно посматривал по направлению к берегу – туда, где среди беснующегося моря выделялась широкой извивающейся белой лентой сплошная седая пена бурунов на длинной каменистой гряде, чуть-чуть влево от поселка. Эта гряда, беспокоившая капитана, несмотря на свою отдаленность, лежала как раз против моря, в глубине открытого для норд-веста рейда. По двум другим его сторонам тянулись прямые обрывистые берега, вблизи которых там и сям тоже грохотали буруны. И только направо был маленький заливчик, омывающий устье небольшой лощины, свободный, по-видимому, от подводных камней.
– Готов ли запасный якорь? – спрашивал капитан старшего офицера, после того как тот доложил, что палубы и трюм им осмотрены и что все в исправности: орудия наглухо закреплены и все задраено.
– Готов.
– Цепи все вытравлены?
– Все. В струну вытягиваются, Алексей Петрович. Как бы, не дай бог, не лопнули и мы не потеряли бы якорей, – с сокрушением проговорил старший офицер.
И без того капитана мучило это обстоятельство, а тут еще старший офицер напоминает! И капитан, видимо сдерживая себя, нетерпеливо проговорил:
– Лопнут, тогда и будем об этом сокрушаться, Николай Николаич, а теперь рано еще! – и прибавил: – Помпы чтоб были в исправности!
– Есть! – ответил старший офицер и, несколько обиженный, считавший, что капитан недостаточно ценит его постоянную «каторжную» работу, сошел с мостика, чтобы осмотреть лично помпы, почти не думая в своем заботливом служебном усердии, для чего они могут понадобиться.
Старший штурман, обыкновенно тревожившийся перед опасностью, теперь, когда опасность уже наступила, с каким-то фаталистическим спокойствием стоял у компаса, заложив руки в карманы своего куцего пальто на заячьем меху и удерживаясь на стремительно качающемся мостике своими врозь расставленными, привычными к качке «морскими» ногами. По-видимому, «форменный» штормяга с его возможными последствиями не очень пугал Лаврентия Ивановича, который не раз на своем веку бывал лицом к лицу со смертью.
«Что будет, то будет!» – говорила, казалось, и его поза, говорило и его решительно-покойное лицо, говорил и серьезно-вдумчивый, твердый взгляд его небольших серых глаз, посматривавших на буруны.
Лейтенант Чирков, несмотря на ухарски небрежный вид лихого моряка, который ничего не боится, видимо, трусил и, бледный, при каждом вздрагивании клипера тихонько крестился и взволнованным голосом кричал:
– На баке! За канатом смотреть!
Почти все офицеры вышли из теплой кают-компании наверх и с вытянутыми лицами посматривали вокруг на разыгравшуюся «анафему». О выходе в море нечего было и думать. А сколько времени будет реветь проклятый шторм, кто его знает?
– Ах, если бы меня с баркасом захватил этот шторм! Погибли бы мы все! – говорил, ища сочувствия, мичман Нырков и чувствовал себя бесконечно счастливым, что он не захватил его.
Прошло пять необыкновенно долгих для капитана минут. Сейчас пары́ будут готовы, и мучительное беспокойство пройдет. «Ястреб», несмотря на усиливающийся шторм, пока держался на якорях и не дрейфовал.
Но в ту же секунду, как капитан об этом подумал, клипер необыкновенно сильно вздрогнул, рванувшись назад, с бака донесся какой-то резкий, отрывистый лязг, и в то же мгновение боцман Егор Митрич стремглав подбежал к шканцам и прокричал громовым голосом:
– Цепи лопнули!
Точно обрадовавшись, что избавился от цепей, «Ястреб» метнулся в сторону, по ветру, и его понесло назад.
Брошенный немедленно запасный якорь на минуту задержал клипер. Он помотался и снова почуял свободу. Словно срезанная ножом, лопнула и эта цепь.
– Полный ход вперед! Лево на борт! – громким твердым голосом скомандовал внезапно побледневший капитан.
Слава богу! Машина застучала, и винт забурлил за кормой. Клипер был остановлен в его опасном беге и поставлен против ветра.
Серьезное лицо капитана прояснилось. Но ненадолго.
Несмотря на усиленную работу машины, клипер едва удерживался на месте против жестокого ветра. Шторм крепчал, и «Ястреб» стал заметно дрейфовать назад.
– Самый полный ход вперед!..
Еще чаще стала машина отбивать такты, но мог ли «Ястреб» устоять против этого адского урагана?
Ах, если б шторм ослабел!
Вдруг корма дрогнула, словно коснувшись какого-то препятствия. Винт перестал буравить воду, сломанный в тот момент, когда «Ястреб» прочертил кормой, вероятно, у камня.
Теперь, совсем беспомощный, без винта, без якорей, не слушая более руля, став лагом поперек волнения, клипер стремительно несся на длинную гряду камней, к седой пене бурунов, грохотавших в недалеком расстоянии.
Машина, теперь бесполезная, застопорила.
IV
Крик ужаса вырвался из сотни человеческих грудей и застыл на исказившихся лицах и в широко раскрытых глазах, устремленных с каким-то бессмысленным вниманием на белеющую вдали, точно вздутую, ленту. Все сразу поняли и почувствовали неминуемость гибели и то, что всего какой-нибудь десяток минут отделяет их от верной смерти. Не могло быть никакого сомнения в том, что на этой длинной гряде камней, к которой шторм нес клипер с ужасающей быстротой, он разобьется вдребезги и нет никакой надежды спастись среди водяных громад беснующегося моря. При этой мысли отчаяние и тоска охватывали души, отражаясь на судорожно подергивающихся, смертельно бледных лицах, на неподвижных зрачках и вырывающихся вздохах отчаяния.
Казалось, сама смерть уже глядела с бесстрастной жестокостью на эту горсть моряков из этих рокочущих, веющих ледяным холодом, высоких свинцовых волн, которые бешено скачут вокруг, треплют бедный клипер, бросая его с бока на бок, как щепку, и вкатываются своими верхушками на палубу, обдавая ледяными брызгами.
Матросы снимали фуражки, крестились и побелевшими устами шептали молитвы. По некоторым лицам текли слезы. На других, напротив, стояло выражение необыкновенно суровой серьезности. Один совсем молодой матрос, Опарков, добродушный, веселый парень, попавший прямо от сохи в «дальнюю» и страшно боявшийся моря, вдруг громко ахнул, захохотал безумным смехом и, размахивая как-то наотмашь руками, подбежал к борту, вскочил на сетки и с тем же бессмысленным хохотом прыгнул в море и тотчас же исчез в волнах.
Еще другой, такой же молодой, обезумевший от отчаяния матрос хотел последовать примеру товарища и с диким воплем бросился было к борту, но боцман Егор Митрич схватил его за шиворот и угостил самой отборной руганью. Эта ругань привела матросика в сознание. Он виновато отошел от борта, широко крестясь и рыдая, как малый ребенок.
– Так-то лучше! – ласково проговорил Егор Митрич дрогнувшим голосом, чувствуя бесконечную жалость к этому матросику. – Бога вспомни, а не то чтобы самому жизни решаться, глупая твоя башка, так твою так! А ты, матросик, не плачь. Господь, может, еще и вызволит, – прибавил, утешая, старый боцман, сам не имевший никакой надежды на спасение и готовый, казалось, безропотно покориться Воле Божией, посылавшей смерть.
Несколько старых матросов, соблюдая традиции, спустились на кубрик, спешно надели чистые рубахи и, подойдя к большому образу Николая Чудотворца, что находился в жилой палубе, прикладывались к нему, молились и уходили наверх, чтоб гибнуть на людях.
Несмотря на весь ужас положения, среди команды не было той паники, которая охватывает обыкновенно людей в подобные минуты. Привычка к строгой морской дисциплине, присутствие на мостике капитана, старшего офицера, вахтенного начальника и старого штурмана, которые не покидали своих мест, точно клипер не стремился к гибели, сдерживали матросов. И они, словно испуганные бараны, жались друг к другу, сбившись в толпу у грот-мачты, и с трогательной покорностью отчаяния переводили взгляды с моря на капитана.
На шканцах и под мостиком стояли офицеры с бледными, искаженными ужасом лицами. Еще недавно веселый, смеющийся толстый лейтенант Сниткин вздрагивал всем своим рыхлым телом, точно в лихорадке, едва удерживаясь на ногах от охватившего его страха. Он торопливо крестился, как-то жалобно и растерянно глядел на других и, словно стыдясь своего малодушия, пробовал улыбаться, но вместо улыбки выходила какая-то страдальческая гримаса. Доктор Платон Васильевич то и дело жмурился, точно у него вдруг заболели глаза, и затем с какой-то жадной внимательностью впивался глазами в море и снова жмурился. Бесконечно скорбное выражение светилось на его умном, симпатичном лице. В голове его проносилась мысль о горячо любимой им молодой жене и позднее раскаяние, что он ушел в плавание, вместо того чтоб выйти в отставку. И он, сам не замечая, громко повторял: «Зачем?.. Зачем?.. Зачем?» – и опять жмурил глаза.
Нырков, только что радовавшийся, что избавился от опасности потонуть на баркасе, старался скрыть свой ужас и страх перед надвигающейся несомненной смертью. Стыд показаться перед бесстрашным, казалось ему, капитаном, офицерами и матросами заставлял этого доброго, славного молодого мичмана делать невероятные усилия, чтоб казаться спокойным, готовым умереть, «как следует доблестному моряку». А между тем он чувствовал, что сердце его замирает в жгучей тоске и холодные струйки пробегают по спине. «Стыдно, стыдно!» – думает он, с безнадежной, безмолвной мольбой поднимая свои бархатные темные глаза на небо, по которому несутся черные, мрачные тучи. Но в них он видит все ту же смерть, которая, казалось, витает над клипером.
Совсем юный мичман Арефьев, почти мальчик, не хотел верить, что приходится умирать. За что же? Он так молод, так полон жизни! «Только что произвели в мичмана – и вдруг умирать? Нет, это невозможно!» – думает он, вспоминая в это мгновение и мать-старушку, и сестру Соню, и гимназиста брата Костю, и эту маленькую столовую с кукушкой на стене, в которой так уютно и славно и где все его так любят, и чувствуя, как непроизвольно текут по его лицу слезы. Он отворачивается, чтобы другие не видели этих слез, и напрасно старается удержать их.
Старший артиллерист и старший механик, оба пожилые люди, выбежав наверх и увидав положение клипера, бросились в свои каюты и стали прятать в карманы деньги и ценные вещи. У обоих из них семьи в Кронштадте. Оба они отказывали себе во всем, редко съезжали на берег, чтобы не тратиться и кое-что скопить в плаванье для близких. Наполнив карманы и как будто сделав самое главное дело, они вернулись наверх и только тогда, казалось, сознали, что не спасти им ни скопленных денег, ни ценных вещей и что семьи их осиротеют. И они с каким-то диким ужасом в глазах озирались вокруг, машинально в то же время ощупывая карманы. Отец Спиридоний, жирный, круглый и гладкий, словно кот, откормившийся после постной монашеской трапезы на обильном кают-компанейском столе, с развевающейся рясой и клобуком на голове, уцепившись за одну из стоек, поддерживающих мостик, громко и, казалось, бессмысленно произносил молитвы, вздрагивая челюстями и вытаращив в диком страхе свои большие круглые глаза.
И офицеры, сбившиеся в кучу на шканцах, и матросы, толпившиеся у грот-мачты, то и дело взглядывали на капитана.
И взгляды эти точно говорили: «Спаси нас!»
V
Словно затравленный волк, бледный и озлобленный, с горящими глазами, все еще не теряя самообладания, капитан, точно приросший к мостику, жадно и сердито озирался вокруг, ища спасения людей и клипера. Казалось, он чувствовал эти взгляды, полные мольбы и укора, устремленные на него, и мысль, что он виноват в гибели, снова пронеслась в его голове, заставив болезненно дрогнуть мускулы его напряженного, страшно серьезного в эту минуту лица. Спасения, казалось, не было. Прошло не более минуты, как клипер понесся на гряду, и капитан, переживший в эту минуту целую вечность, к ужасу своему, не находил исхода. Еще десяток минут – и клипер вскочит на камни, и там общая смерть…
Но вдруг глаза его впились в небольшой заливчик, вдавшийся в берег справа, впились и блеснули радостным блеском, озарив все его лицо. И в то же мгновение он крикнул в рупор громким, уверенным и повелительным голосом:
– Паруса ставить! Марсовые к вантам!.. Живо! Каждая секунда дорога, молодцы! – прибавил он.
Этот уверенный голос пробудил во всех какую-то смутную надежду, хотя никто и не понимал пока, к чему ставятся паруса.
Только старый штурман, уже приготовившийся к смерти и по-прежнему спокойно стоявший у компаса, весь встрепенулся и с восторженным удивлением взглянул на капитана.
«Молодчага! Выручил!» – подумал он, любуясь, как старый морской волк, находчивостью капитана и догадавшись, в чем дело.
И штурман снова оживился и стал смотреть в бинокль на этот самый заливчик, почти закрытый возвышенными берегами.
– Я выбрасываюсь на берег! – отрывисто, резко и радостно проговорил капитан, обращаясь к старшему офицеру и к старшему штурману. – Кажется, там чисто… Камней нет? – прибавил он, указывая закостеневшей рукой, красной, как говядина, на заливчик, омывающий лощинку.
– Не должно быть! – отвечал старый штурман.
– А как глубина у берега?
– По карте двадцать фут.
– И отлично! В полветра мигом долетим.
– Как бы в эдакий шторм не сломало мачт! – вставил старший офицер.
– Есть о чем говорить теперь! – небрежно кинул капитан и, подняв голову, крикнул в рупор: – Живо, живо, молодцы!
Но «молодцы», стремительно качавшиеся на реях и цепко держась ногами на пертах, и без подбадривания, в надежде на спасение, торопились отвязывать марселя и вязать рифы, несмотря на адский ветер, грозивший каждое мгновение сорвать их с рей в море или на палубу. Одной рукой держась за рею и прижавшись к ней, другой, свободной рукой каждый марсовой делал свое адски трудное дело на страшной высоте, при ледяном вихре. Приходилось цепляться зубами за мякоть паруса и рвать до крови ногти.
Наконец минут через восемь, во время которых клипер приблизился к бурунам настолько близко, что можно было видеть простым глазом черневшие по временам высокие камни, паруса были поставлены, и «Ястреб», с марселями в четыре рифа и под стакселем, снова, как послушный конь на доброй узде, бросился к ветру и, накренившись, почти чертя воду бортом, понесся теперь к берегу, оставив влево за собой страшную пенящуюся ленту бурунов.
Все перекрестились. Надежда на спасение засветилась на всех лицах, и боцман Егор Митрич уж ругался с прежним одушевлением за невытянутый шкот у стакселя и с заботливой тревогой посматривал наверх, на гнувшиеся мачты.
– Спасайте-ка свои хронометры, Лаврентий Иваныч, – сказал капитан, когда клипер был уже близко от берега, – удар будет сильный, когда мы врежемся.
Старый штурман пошел спасать хронометры и инструменты.
Клипер, словно чайка, летел с попутным штормом прямо на берег. Мертвое молчание царило на палубе.
– Держись, ребята, крепче! – весело крикнул капитан, сам вцепившись в поручни. – Марса-фалы отдай! Стаксель долой!
Паруса затрепыхались, и «Ястреб» со всего разбега выскочил носом в устье лощины, глубоко врезавшись всем своим корпусом в мягкий песчаный грунт.
Все, как один человек, невольно обнажили головы.
VI
– Спасибо, ребята, молодцами работали!.. – говорил капитан, обходя команду.
– Рады стараться, вашескородие! – радостно отвечали матросы.
– За вас вечно будем Бога молить! – слышались голоса.
Капитан приказал выдать людям по две чарки водки и скорее варить им горячую пищу. Вслед за тем он вместе со старшим офицером спустился вниз осматривать повреждения клипера. Повреждений оказалось не особенно много, и воды в трюме почти не было. Только при ударе тронуло машину да своротило камбуз.
– А молодец «Ястреб»! Крепкое судно, Николай Николаич.
– Доброе судно! – любовно отвечал старший офицер.
– Сегодня пусть отдохнет команда, да и здесь стоять нам хорошо… шторм нас не побеспокоит, – продолжал капитан, – ас завтрашнего утра станем помаленьку выгружать тяжести и провизию и еще вытянем подальше клипер, чтобы спокойнее зимовать и не бояться ледохода.
– Есть, – проговорил старший офицер.
– Провизии у нас ведь довольно до весны?
– На шесть месяцев.
– И, значит, отлично прозимуем в этой дыре, – заметил капитан, поднимаясь из машины.
Радостные, счастливые, иззябшие и страшно голодные, спустились офицеры в кают-компанию и торопили вестовых подать водки и чего-нибудь закусить да скорей затопить печку. Об обеде пока нечего было и думать. Все заготовленное с утра пропало в свороченном на сторону камбузе.
– Вот тебе и Сан-Франциско! – проговорил после нескольких минут взволнованного молчания лейтенант Сниткин, оправившийся от страха и несколько сконфуженный, что видели его отчаянное малодушие.
– Молите Бога, что вас не едят теперь рыбы! – серьезно заметил Лаврентий Иванович и с видимым наслаждением опрокинул себе в рот объемистую рюмку рома и закусил честером[7]. – Если бы не наш умница капитан, были бы мы в настоящую минуту на дне морском. Он нас вызволил… Гениальная находчивость! Лихой моряк!
И старый штурман «дернул» другую.
Все в один голос соглашались с Лаврентием Ивановичем, а мичман Нырков восторженно воскликнул:
– Я просто влюбился в него после сегодняшнего дня!.. И какое дьявольское присутствие духа!..
В эту минуту двери отворились. Все смолкли. Вошел капитан вместе со старшим офицером.
– Ну, господа, – проговорил он, снимая фуражку, – вместо Сан-Франциско будем зимовать здесь, в этой трущобе… Что делать?! Не послушал я вчера нашего уважаемого Лаврентия Иваныча. Не ушел. А теперь раньше весны отсюда не уйдем… При первой возможности я дам знать начальнику эскадры, и он пришлет за нами одно из судов. Оно отведет нас в док, мы починимся и снова будем плавать на «Ястребе»… Да что это вы, господа, на меня так странно смотрите? – вдруг прибавил капитан, заметив общие удивленные взгляды, устремленные на его голову.
– Вы поседели, Алексей Петрович, – тихо, с каким-то любовным почтением проговорил старый штурман.
Действительно, его белокурая красивая голова была почти седа.
– Поседел?! Ну, это еще небольшая беда, – промолвил капитан. – Могла быть беда несравненно бо́льшая… А что, господа, не позволите ли у вас закусить? – прибавил он. – Страшно есть хочется.
Все радостно усадили его на диван.
Весной за клипером пришел сам «беспокойный адмирал» на корвете «Резвый» и отдал в приказе благодарность капитану за его находчивость и мужество, «с какими он спас в критические минуты экипаж и вверенное ему судно». Через несколько дней «Ястреб» был приведен на буксире в Гонконг и, починившись в доке, через месяц, по-прежнему стройный, красивый и изящный, плыл к берегам Австралии.
1893
Куцый
I
В роскошное раннее тропическое утро на сингапурском рейде, где собралась русская эскадра Тихого океана, плававшая в шестидесятых годах, новый старший офицер, барон фон дер Беринг, худощавый, долговязый и необыкновенно серьезный блондин лет тридцати пяти, в первый раз обходил в сопровождении старшего боцмана Гордеева корвет «Могучий», заглядывая во все самые сокровенные его закоулки. Барон только вчера вечером перебрался на «Могучий», переведенный с клипера «Голубь» по распоряжению адмирала, и теперь знакомился с судном.
Несмотря на желания педантичного барона, в качестве «новой метлы», к чему-нибудь да придраться, это оказалось решительно невозможным. «Могучий», находившийся в кругосветном плавании уже два года, содержался в образцовом порядке и сиял сверху донизу умопомрачающей чистотой. Недаром же прежний старший офицер, милейший Степан Степанович, назначенный командиром одного из клиперов, – любимый и офицерами и матросами, – клал всю свою добрую, бесхитростную душу на то, чтобы «Могучий» был, как выражался Степан Степанович, «игрушкой», которой мог бы любоваться всякий понимающий дело моряк.
И действительно, «Могучим» любовались во всех портах, которые он посещал.
Обходя медлительной, несколько развалистой походкой нижнюю жилую палубу, барон Беринг вдруг остановился на кубрике и вытянул свой длинный белый указательный палец, на котором блестел перстень с фамильным гербом старинного рода курляндских баронов Беринг. Палец этот указывал на лохматого крупного рыжего пса, сладко дремавшего, вытянув свою неказистую, далеко не породистую морду, в укромном и прохладном уголке матросского помещения.
– Это что такое?! – внушительно и строго спросил барон, после секунды-другой торжественного молчания.
– Собака, ваше благородие! – поспешил ответить боцман, подумавший, что старший офицер не разглядел в полутемноте кубрика собаку и принял ее за что-нибудь другое.
– Ду-у-рак! – спокойно, не повышая голоса, отчеканил барон. – Я сам вижу, что это собака, а не швабра. Я спрашиваю: почему собака здесь? Разве можно на военном судне держать собак! Чья это собака?
– Конвертская, ваше благородие!
– Боцман… Как твоя фамилия?
– Гордеев, ваше благородие!
– Боцман Гордеев! Выражайся яснее: я тебя не понимаю. Что значит корветская собака? – продолжал барон все тем же медленным, тихим и нудящим голосом, произнося слова с той отчетливостью, с какой говорят русские немцы, и останавливая на лице боцмана свои большие, светлые и холодные голубые глаза.
Пожилой боцман, которого до сих пор все, кажется, отлично понимали, за исключением разве тех случаев, когда он, случалось, возвращался с берега пьяный вдрызг, недоумевая смотрел в бесстрастное, белое, отливавшее румянцем, безусое продолговатое лицо, опушенное рыжеватыми бакенбардами в виде котлет, и, видимо, удрученный этим назойливым допросом, вместо ответа ожесточенно заморгал своими маленькими серыми глазами.
– Так какая же это корветская собака?
– Матросская, значит, обчая, ваше благородие! – объяснил с угрюмым видом боцман и в то же время сердито подумал: «Не понимаешь, что ли, долговязый!»
Но «долговязый», казалось, не понимал и сказал:
– Что ты мне вздор рассказываешь!.. У каждой собаки должен быть хозяин.
– То-то у ей нет, ваше благородие. Она приблудная.
– Какая? – переспросил барон, видимо не зная значения этого слова.
– Приблудная, ваше благородие. В Кронштадте увязалась за одним нашим матросиком и явилась на конверт, когда он вооружался в гавани. С той поры Куцый и ходит с нами. Так его назвали по причине хвоста, ваше благородие! – прибавил в виде пояснения боцман.
– Собаки на военном судне – беспорядок. Они только гадят палубу.
– Осмелюсь доложить, ваше благородие, что Куцый собака понятливая и ведет себя как следовает. За ей насчет этого ничего дурного не замечено! – вступился боцман за Куцего. – Прежний старший офицер, Степан Степаныч, дозволяли ее держать, потому как Куцый, можно сказать, исправная собака и команда ее любит.
– Слишком много вам позволяли прежде, как посмотрю, и распустили. Я вас всех подтяну, слышишь? – строго заметил барон, которому объяснения боцмана показались несколько фамильярными, и сам он, казалось, не особенно трепетал перед старшим офицером.
– Слушаю, ваше благородие.
Барон на секунду задумался и наморщил лоб, решая в своем уме участь Куцего. И боцман, весьма благоволивший к Куцему, со страхом ждал этого решения.
Наконец старший офицер проговорил:
– Если я когда-нибудь замечу, что эта собака изгадит мне палубу, я прикажу ее выкинуть за борт. Понял?
– Понял, ваше благородие!
– И помни, что я два раза не повторяю своих приказаний, – внушительно прибавил барон, по-прежнему не возвышая своего скрипучего однотонного голоса.
Боцман Гордеев, старый служака, видавший на своем веку немало разного начальства и умевший понимать людей, и без этого предупреждения уже сообразил, что этот долговязый даром что говорит тихо, без пыла, а такая «чума», с которой всем служить будет очень «нудно», не то что со Степаном Степанычем.
Услыхав несколько раз свою кличку, Куцый потянулся, открывая глаза, лениво поднялся, сделал несколько шагов, выходя из темного угла поближе к свету, и, как смышленый, понимающий дисциплину пес, при виде незнакомого человека в офицерской форме почтительно вильнул несколько раз своим обрубком.
– Фуй, какая отвратительная собака! – брезгливо процедил барон, кидая взгляд, полный презрения, на невзрачную и неуклюжую большую дворнягу с жесткой всклокоченной рыжей шерстью, обгрызенными, стоящими торчком ушами и широкой мордой, местами покрытой плешинами, словно изъеденной молью.
Только необыкновенно умные и добрые глаза Куцего, пристально оглядывавшие барона, несколько скрашивали его уродливую наружность. Но этих глаз барон, верно, не заметил.
– Чтоб я не встречал никогда этой мерзкой собаки! – проговорил барон.
И с этими словами он повернулся и поднялся наверх, сопровождаемый удрученным и нахмурившимся боцманом.
Поджав свой обрубок – следы злой шутки одного кронштадтского повара, – Куцый побрел, прихрамывая на одну, давно сломанную переднюю лапу, в свой темный уголок, чуя, надо думать, что не имел счастья понравиться этому долговязому человеку с рыжими баками и со злым взглядом, который не предвещал ничего хорошего.
Один матрос, слышавший слова старшего офицера, ласково потрепал общего корветского любимца, который в ответ благодарно вылизывал шершавую матросскую руку.
II
Испытывая чувство тоскливого угнетения, обычное в простом русском человеке, которого донимают нотациями и «жалкими» словами, боцман еще целую четверть часа, если не более, выслушивал, стоя навытяжку в каюте барона и теребя в нетерпении фуражку, его длинные, обстоятельные и монотонные наставления о том, какие отныне будут порядки на корвете, чего он будет требовать от боцманов и унтер-офицеров, как должны вести себя матросы, что такое, по понятиям барона, настоящая дисциплина и как он будет беспощадно взыскивать за пьянство на берегу.
Отпущенный наконец из каюты с напутствием «хорошо запомнить все, что сказано, и передать кому следует», боцман радостно вздохнул и, весь красный, словно после бани, выскочил наверх и пошел на бак выкурить поскорее трубочку махорки.
Там его тотчас же обступили почти все представители баковой аристократии: фельдшер, баталер, подшкипер, машинист, два писаря и несколько унтер-офицеров.
– Ну что, Аким Захарыч, каков старший офицер? Как он вам показался? – спрашивали боцмана со всех сторон.
Боцман в ответ только безнадежно махнул своей волосатой красной и жилистой рукой и сердито плюнул в кадку.
И этот жест, и энергичный плевок, и раздраженное выражение загорелого, красно-бурого лица боцмана, опушенного черными, с проседью, бакенбардами, с красным, похожим на картофелину носом и с нахмуренными бровями – словом, все, казалось, говорило: дескать, лучше и не спрашивайте!
– Сердитый? – спросил кто-то.
Но боцман не тотчас ответил. Он сделал сперва две-три отчаянные затяжки, сплюнул опять и, значительно оглядев всех слушателей, жаждавших услышать оценку такого умного и авторитетного человека, наконец выпалил, несколько понижая, однако, свои зычный голос, стяжавший горлу боцмана репутацию «медной глотки»:
– Прямо сказать: чума турецкая!
Столь убежденная и решительная оценка произвела на присутствующих весьма сильное впечатление. Еще бы! После двухлетнего плавания со старшим офицером, который, по выражению матросов, был «добер» и «жалел» людей, не обременяя их непосильными работами и учениями, дрался редко – и то с пыла, а не от жестокости – и снисходительно относился к матросской слабости – «нахлестаться» на берегу, иметь дело с «чумой» показалось очень непривлекательным. Немудрено, что все лица внезапно сделались серьезными и задумчивыми.
С минуту длилось сосредоточенное и напряженное молчание.
– В каких, однако, смыслах он чума, Аким Захарыч? – заговорил молодой курчавый фельдшер, которому, по его должности, предстояло менее других опасности иметь столкновения со старшим офицером. Знай себе доктора да лазарет, и шабаш!
– Во всяких смыслах, братец ты мой, чума! То есть вовсе нудный человек. Зудит, как пила, и никакой не дает тебе передышки, немчура долговязая! Сейчас вот в каюте донимал. Глядит это на меня рыбьим глазом, а сам: зу-зу-зу, зу-зу-зу, – передразнил барона боцман. – Я, говорит, вас всех подтяну. У меня, говорит, новые порядки станут. Я, говорит, за береговое пьянство буду взыскивать во всей строгости… Одно слово – зудил без конца. Совсем в тоску привел.
– Унтерцер, что вчерась на катере с «Голубя» привез нового старшего офицера, тоже его не хвалил. Сказывал, что карактерный и упрямый и всех на клипере разговором нудил, – вставил один из унтер-офицеров. – На «Голубе» все рады, что он ушел, потому приставал, ровно смола… А драться, сказывали, не дерется и не порет, но только наказывает по-своему: на ванты босыми ногами ставит, на ноки на высидку посылает. Сказывал – очень придирчив и много о себе полагает этот самый… как его по фамилии?..
– Берников, что ли, – ответил боцман, переделывая немецкую фамилию на русский лад. – Из немецких баронов. А о себе он напрасно полагает, потому полагать-то ему нечего! – авторитетно прибавил боцман.
– А что?
– А то, что в ём большого рассудка незаметно. Это по всем его словам оказывает. И на понятие туг. Давече, я вам скажу, не мог взять вдомек, что Куцый конвертская собака… Какая, говорит, конвертская? Непременно ему хозяина подавай…
– Из-за чего у вас о собаке-то разговор вышел? – спросил кто-то.
– А вот поди ж ты! Не понравился ему наш Куцый, и шабаш! Нельзя, говорит, на судне держать собаку. И грозился, что прикажет выкинуть Куцего за борт, если он нагадит на палубе… И чтобы я, говорит, его не встречал!
– И что ему Куцый? Мешает, что ли?
– То-то все ему мешает, анафеме. И животную бессловесную и тую притеснил… Да, братцы, послал нам Господь цацу, нечего сказать. Другое житье пойдет. Не раз вспомним Степан Степаныча, дай Бог ему, голубчику, здоровья! – промолвил боцман и, выбив трубочку, опустил ее в карман своих штанов.
– Капитан-то наш ему большого хода не даст, я так полагаю, – заметил молодой фельдшер. – Не допустит очень-то безобразничать. Шалишь, брат! Не те нонче права… Вот теперь мужикам волю дают, и всем права будут, чтобы по закону.
– Недосмотреть-то всего капитану. Главная причина, что старший офицер ближе всего до нас касается! – возразил боцман.
– Можно и до капитана дойти, в случае чего. Так, мол, и так! – хорохорился фельдшер.
– Прыток больно! А ты рассуди, что и капитану, стало быть, быдто зазорно против своего же брата идти и срамить его, скажем, из-за какого-нибудь унтерцера. В этом самая загвоздка и есть! Нет, братец ты мой, поодиночке жаловаться не порядок, только здря начальство расстроишь, а толку не будет: тебе же попадет! В старину бывала другая правила! – прибавил боцман, строго охранявший прежние традиции, так сказать, обычного матросского права.
– Какая, Аким Захарыч?
– А такая, что ежели, примерно, безо всякого, можно сказать, рассудка изматывали нашего брата матроса и вовсе уже не ставало терпения, значит, от тиранства, тогда команда шла на отчаянность: выстроится, как следует, во фрунт и через боцманов объявит командиру претензию.
– И что ж, выходил толк?
– Глядя по человеку. Иной вместо разборки велит перепороть половину команды, ну а другой выслушает и рассудит по совести. Помню, раз на смотру – я еще тогда первый год служил – объявили мы адмиралу Чаплыгину претензию на командира Занозова – форменный зверь был! – так вместо разборки дела у нас на корабле, братец ты мой, целый день порка была. Так стон и стоял, и мне сто линьков всыпали – вот тебе и вся претензия! Опять же в другой раз тоже объявили мы претензию капитану Чулкову – теперь он в адмиралы вышел – на старшего офицера. Так совсем другой оборот. Выслушал это Чулков, насупимшись, грозный такой, однако, обещал по форме рассудить.
– Ну и что же? Рассудил?
– Рассудил. Через неделю старший офицер списался с фрегата, быдто по болезни, и мы вздохнули… И ничего нам не было. Вот, братец ты мой, какие дела бывали… Известно, шли на фарт.
– Ну, наш командир небось не даст команды в обиду!
– На капитана одна и надежда, а все-таки недоглядеть ему за всем. Зазудит нас долговязая немца!
Еще несколько времени продолжались толки о новом старшем офицере. Все решили пока что ждать поступков. Может, он и испугается капитана и не станет менять порядков, заведенных Степан Степанычем. Эти соображения несколько успокоили собравшихся. И тогда молодой писарек из кантонистов, отчаянный франт с аметистовым перстеньком на мизинце, спросил:
– А как же теперь насчет берега будет, Аким Захарыч? Отпустит он нас на Сингапур посмотреть?
– Об этом разговору не было.
– Так вы доложили бы старшему офицеру, Аким Захарыч.
– Ужо доложу.
– Всякому лестно, я думаю, погулять на берегу. Здесь, говорят, в Сингапуре, очень даже любопытно. И насчет красы природы, и насчет ресторантов. И лавки, говорят, хорошие. Уж вы доложите, Аким Захарыч, а то неизвестно еще, сколько простоим, того и гляди, без удовольствия останемся.
В эту минуту на бак со всех ног прибежал молодой вестовой Ошурков и сказал боцману:
– Аким Захарыч! Вас старший офицер требует.
– Что ему еще?
– Не могу знать. У себя в каюте сидит и какие-то бумаги перебирает.
– Опять зудить начнет! Эка…
И, выпустив звучную ругань, боцман побежал к старшему офицеру.
– А ты у нового старшего офицера остаешься, Вань, вестовым? – спрашивали на баке у Ошуркова.
– То-то остаюсь. Ничего не поделаешь… Придется с им терпеть. По всему видно, что занозу мне Бог послал заместо Степан Степаныча. Уж он мне зудил насчет евойных, значит, порядков. Чтобы, говорит, как машина, все сполнял!
III
Ненависть нового старшего офицера к Куцему и его угроза выбросить матросскую собаку за борт были встречены общим глухим ропотом команды. Все, казалось, удивлялись этой бессмысленной жестокости – лишить матросов их любимца, который в течение двух лет плавания доставлял им столько развлечений среди однообразия и скуки судовой жизни и был таким добрым, ласковым и благодарным псом, платившим искренней привязанностью за доброе к нему отношение людей, которое он наконец нашел после нескольких лет бродяжнической и полной невзгод жизни на улицах Кронштадта.
Смышленый и переимчивый, быстро усваивавший разные предметы матросского преподавания, каких только штук не проделывал этот смешной и некрасивый Куцый, вызывая общий смех матросов и удивляя их своей действительно необыкновенной понятливостью! И сколько удовольствия и утехи доставлял он нетребовательным морякам, заставляя их хоть на время забывать и тяжелую морскую жизнь на длинных океанских переходах, и долгую разлуку с родиной!
Он ходил на задних лапах с самым серьезным выражением на своей умной морде, носил поноску, лазил на ванты и стоял там, пока ему не кричали: «С марсов долой!» Сердито скалил зубы и ворчал, если его спрашивали: «Куцый, хочешь, брат, линьков?» – и, напротив, строил радостную гримасу, виляя весело своим обрубком, когда ему говорили: «Хочешь на берег?» Когда раздавался свисток и вслед за тем окрик боцмана: «Пошел все наверх!» – Куцый вместе с подвахтенными летел стремглав наверх, какая бы ни была погода, и дожидался на баке, пока не свистали: «Подвахтенных вниз!» А во время шторма он почти всегда бывал наверху и развлекал вахтенных во время их тяжелых вахт. Когда свистали к водке, Куцый вместе с матросами присутствовал при раздаче и затем во время обеда обходил на задних лапах сидящих по артелям матросов, отовсюду получая щедрые подачки, и весело брехал в знак благодарности.
После обеда, когда подвахтенные отдыхали, Куцый неизменно ложился у ног Кочиева, пожилого и угрюмого бакового матроса, горького пьяницы, к которому питал необыкновенно нежные чувства и выказывал трогательную преданность. Он глядел матросу, что называется, в глаза и всегда почти вертелся около него, видимо несказанно довольный, когда Кочнев погладит его. Во время ночных вахт Куцый обязательно бывал при Кочневе, и, когда тот сидел на носу, на часах, обязанный «смотреть вперед», Куцый нередко исполнял вместо своего приятеля обязанности часового. Он добросовестно мок под дождем, продуваемый насквозь свежим ветром, и, насторожив изгрызенные уши, зорко всматривался вперед, в темноту ночи, предоставляя матросу, закутанному в дождевик и согретому шерстью собаки, слегка вздремнуть, поклевывая носом. Завидев огонь встречного судна или внезапно выросший силуэт «купца», не носящего по беспечности огней, Куцый громко лаял и будил задремавшего часового.
На берег Куцый всегда съезжал с Кочиевым, шел с ним до ближайшего кабака и, отлучившись на часок, чтоб взглянуть на береговых собак, возвращался, иногда изгрызенный, к своему другу и уже не выпускал его из глаз. Он внимательно и с видимым сочувствием слушал пьяные монологи матроса, подавал реплики виляньем обрубка или ласковым визгом, если пьяный Кочнев вел с ним беседу на какие-нибудь, должно быть, невеселые темы, и сторожил матроса, когда тот валялся на улице в бесчувственном состоянии, пока не подходили товарищи и не подбирали его.
Одним словом, Куцый выказывал истинно собачью привязанность к тому человеку, который доставил ему, гонимому бродяге, каждое утро рисковавшему попасть на аркан фурманщика[8], спокойный приют на корвете и сытую, приятную жизнь среди добрых людей, выразивших бродяге с первого же его появления на корвете самое милое и любезное внимание, которого он уж давно не видал.
В свою очередь и угрюмый, малообщительный матрос был сильно привязан к своему найденышу, оказавшему такие блистательные способности, не говоря уже о прекрасных нравственных качествах, и, кажется, только с ним одним и вел под пьяную руку длинные интимные беседы. Он рассказывал Куцему о том, как он неправильно, из-за одного «подлого человека», был сдан в матросы, и о своей жене, которая живет вроде быдто «форменной барыни», и о дочери, которая знать его не хочет… И Куцый, казалось, понимал, что этот угрюмый матрос, пивший джин стаканчик за стаканчиком в каком-нибудь иностранном кабачке, рассказывает невеселые вещи.
Знакомство с Куцым произошло совершенно случайно. Это было в Кронштадте в один ненастный и холодный воскресный день, после обеда, дня за три до отхода «Могучего» в кругосветное плавание. Порядочно «треснувши» и выписывая ногами самые затейливые вензеля, Кочнев возвращался из кабака на корвет, стоявший в военной гавани, как где-то в переулке заметил собаку, угрюмо прижавшуюся к водосточной трубе и вздрагивающую от холода. Жалкий вид этой намокшей, с выдающимися ребрами, видимо бесприютной, собаки, и притом самой неказистой наружности, обличавшей бродягу, тронул пьяненького матроса.
– Ты, брат, чей будешь?.. Видно, бездомный пес, а? – проговорил он заплетающимся языком, останавливаясь около собаки.
Собака подозрительно взглянула своими умными глазами на матроса, точно соображая: дать ли ей немедленно тягу или выждать, не уйдет ли этот человек. Но несколько дальнейших слов, произнесенных ласковым тоном, видимо, успокоили ее насчет его недобрых намерений, и она жалобно завыла. Матрос подошел еще ближе и погладил ее; она лизнула ему руку, видимо тронутая лаской, и завыла еще сильней.
Тогда Кочнев стал шарить у себя в карманах. Этот жест возбудил в собаке жадное внимание.
– Голоден небось, бедный! – говорил матрос. – А ты потерпи… Вот и нашел, на твое счастье! – прибавил он, вынимая наконец из штанов медную монетку.
Он зашел в мелочную лавочку и через минуту бросил собаке куски черного хлеба и отрезки рубцов, купленных им на свои не пропитые еще две копейки.
Собака с алчностью бросилась на пищу и в несколько секунд сожрала все и снова вопросительно смотрела на матроса.
– Ну, валим на конверт… Там тебя накормят до отвалу, коли ты такой голодный… Матросы – добрые ребята… Не бойся! И переночуешь на конверте, а то что за радость мокнуть на дожде… Идем, собака!
Он ласково свистнул. Собака двинулась за ним и не без некоторого смущения вошла по сходням на корвет и вслед за матросом очутилась на баке среди толпы людей, испуганная и будто сконфуженная своим непривлекательным видом.
– Бродягу, братцы, нашел! – проговорил Кочнев, указывая на собаку.
Несчастный ее вид возбудил жалость в матросах. Ее стали гладить и повели вниз кормить. Скоро она, наевшись досыта, заснула недалеко от камбуза (кухни) и, не веря своему счастью, часто тревожно просыпалась во сне.
Наутро, разбуженная чисткой верхней палубы, собака испуганно озиралась, но Кочнев значительно успокоил ее, поставил перед ней чашку с жидкой кашицей, которой завтракали матросы.
Спустя несколько времени, когда палуба была вымыта, Кочнев вывел ее наверх, на бак, и предложил матросам оставить ее на корвете.
– Пущай плавает с нами.
Предложение было принято с полным сочувствием. Обратились к боцману с просьбой испросить разрешение старшего офицера, и, когда разрешение было получено, на баке поднялся вопрос, какую дать этому псу кличку.
Все посматривали на весьма неказистую собаку, которая в ответ на ласковые взгляды повиливала обрубком хвоста и благодарно лизала руки матросов, которые гладили ее.
– Окромя как Куцым, никак его не назвать! – предложил кто-то.
Кличка понравилась. И с той же минуты Куцый был принят в число экипажа «Могучего».
Первоначальным воспитанием его занялся Кочнев и выказал блестящие педагогические способности. Через неделю уже Куцый понял неприкосновенность сверкавшей белизной палубы и строгость моряков относительно чистоты и сделался исправной собакой. В первую же трепку в Балтийском море он обнаружил и свои морские качества. Его нисколько не укачивало, он ел с таким же аппетитом, как и в тихую погоду, и не выказывал ни малейшего малодушия при виде громадных волн, разбивающихся о бока корвета. Вскоре смышленый и ласковый Куцый сделался общим любимцем и забавлял матросов своими штуками.
И такого-то славного пса грозили выкинуть за борт!
Весть об этом взволновала едва ли не более всех Кочиева, и он решил принять все меры, чтобы этот долговязый дьявол не встречал Куцего. И в тот же день, когда Куцый с веселым, беззаботным видом выскочил наверх, как только что просвистали к водке, Кочиев отвел его вниз и, указав место в самом темном уголке кубрика, проговорил:
– Сиди, Куцый, здесь смирно, а то беда! Ужо я принесу тебе пообедать!
IV
Прошел месяц.
За это время матросы достаточно присмотрелись к новому старшему офицеру и невзлюбили его. Он, правда, до сих пор никого не наказал линьками, никого не ударил и вообще не обнаруживал жестокости, и тем не менее барона ненавидели за его придирчивость, мелочность, за то, что он приставал «как смола», «зудил» провинившегося в чем-нибудь матроса без конца и затем наказывал самым чувствительным образом: оставлял виновного без берега, лишая таким образом матроса единственного удовольствия дальних плаваний. А то ставил на ванты или посылал на «высидку» на нок и – что казалось матросам еще обиднее – оставлял без чарки водки, столь любимой моряками.
Барона ненавидели и боялись и за эти наказания, и за его бессердечный педантизм, не оставлявший без внимания ни малейшего отступления от расписания судовой жизни. Все чувствовали над собой гнет какой-то бездушной, упрямой машины и, главное, понимали, что в душе барон презирает матроса и смотрит на него исключительно как на рабочую силу. Никогда ни доброго слова, ни шутки! Всегда один и тот же ровный и спокойный скрипучий голос, в котором чуткое ухо слышало высокомерно-презрительную нотку. Всегда этот жесткий взгляд голубых бесстрастных глаз!
Не пользовался он и уважением как моряк. На баке, этом матросском клубе, где даются меткие оценки офицерам, находили, что он далеко не «орел», каким был Степан Степаныч, а мокрая курица, выказавшая трусость во время шторма, прихватившего корвет по выходе из Сингапура. И дело он, по мнению старых матросов, понимал не до тонкости, хотя и всюду совал свой нос. И «башковатости» в нем было немного, а только одно упрямство. Одним словом, барона терпеть не могли и иначе не звали как Чертовой зудой. Всякий опасался его наставлений, словно чумы.
Вначале барон вздумал было изменить порядки на корвете и вместо прежних недолгих ежедневных учений стал «закатывать» учения часа по три подряд, утомляя матросов, и без того утомленных шестичасовыми вахтами на ходу. Но, спасибо капитану, он скоро умерил усердие старшего офицера.
И об этом юркий капитанский вестовой Егорка рассказывал на баке так:
– Призвал он, этто, братцы, Чертову зуду к себе и говорит: «Вы, говорит, Карла Фернандыч, напрасно новые порядки заводите и людей зря мучаете учениями. Пусть, говорит, по-старому остается».
– Что ж на это Зуда?
– Покраснел весь, ровно рак вареный, Зуда проклятая, и в ответ: «Слушаю-с, говорит, но только я полагал, что как для пользы службы…» – «Извините, господин барон, – это ему капитан вперебой, – я, говорит, и без вас понимаю, какая, говорит, польза службы есть… И польза, говорит, службы требовает, чтобы матросов зря не нудили. Ему, говорит, матросу, и без ученьев есть дела много, вахту справлять, и у нас, говорит, матросы лихо работают и молодцы, говорит… Так уж вы о пользе службы не извольте очинно беспокоиться… а затем, говорит, я больше ничего не желаю вам сказать…» Так черт долговязый и ушел ошпаренный! – заключил Егорка, к общему удовольствию собравшихся матросов.
Вообще барон фон дер Беринг пришелся как-то «не ко двору» со своими новыми порядками и взглядами на дисциплину. В кают-компании нового старшего офицера тоже невзлюбили, особенно молодежь, вся пропитанная новыми веяниями шестидесятых годов и жаждавшая приложить их к делу гуманным обращением с матросами. Чем-то старым, архаическим веяло от взглядов барона, завзятого крепостника и консерватора. Безусловно, честный и убежденный, не скрывавший своих, как он говорил, «священных принципов», всегда несколько напыщенный и самолюбивый, прилизанный и до тошноты аккуратный, барон возбуждал неприязнь в веселых молодых офицерах, которые считали его ограниченным, тупым педантом и сухим человеком, мнившим себя непогрешимым и глядевшим на всех с высоты своего курляндского баронства. Не нравился он и «париям» флотской службы: штурману, артиллеристу и механику. И без того обидчивые и мнительные, они отлично чувствовали в его изысканно-вежливом обращении снисходительное презрение завзятого барона, сознающего свое превосходство.
Не пришелся по вкусу новый старший офицер и капитану. Он не очень-то был благодарен адмиралу, наградившему его такой «немецкой колбасой», и не догадывался, конечно, что хитрый адмирал нарочно назначил барона старшим офицером именно к нему, на «Могучий», уверенный, что командир «Могучего» скоро «сплавит» барона, и адмирал, таким образом, «умоет руки» и отошлет его с эскадры в Россию.
В кают-компании почти никто не разговаривал с бароном, исключая служебных дел, и он был каким-то чужим в дружной семье офицеров «Могучего». Только мичманы подчас не отказывали себе в удовольствии подразнить барона, громя крепостников и консерваторов, не понимающих значения великих реформ, и расхваливая в присутствии барона Степана Степановича. «Вот-то приятно было с ним служить! Вот-то был знающий и дельный старший офицер и добрый товарищ! И как его любили матросы, и как он сам понимал матроса и любил его! И как они для него старались!»
– Его даже и Куцый любил! – восклицал курчавый белокурый мичман Кошутич, особенно любивший «травить» эту «немецкую аристократическую дубину». – А Куцего что-то не видать нынче наверху, господа… Прячется бедная собака. Что бы это значило, а? – прибавлял нарочно мичман, знавший об угрозе старшего офицера.
Барон только надувался, словно индюк, не обращая, по-видимому, никакого внимания на все эти шпильки, и с тупым упрямством ограниченного человека не изменял своего поведения и как будто игнорировал общую к себе нелюбовь.
В течение этого месяца Куцый действительно не показывался на глаза старшего офицера, хоть сам и увидал его еще раз издали, причем Кочнев, указавший на барона, проговорил: «Берегись его, Куцый!» – и проговорил таким страшным голосом, что Куцый присел на задние лапы. Прежняя привольная жизнь Куцего изменилась. По утрам, во время обычных обходов старшего офицера, Куцый скрывался где-нибудь в уголке трюма или кочегарной, указанном ему Кочиевым, который немало употребил усилий, чтоб приучить собаку сидеть не шелохнувшись в темном уголке. И во время авралов уж Куцый не выбегал наверх.
Благодаря урокам своего наставника довольно было проговорить: «Зуда идет!» – чтобы Куцый, поджав свой обрубок, стремительно улепетывал вниз и забивался куда-нибудь в самое сокровенное местечко, откуда выходил только тогда, когда раздавался в люк успокоительный свист какого-нибудь матроса. На верхнюю палубу Куцего выводили матросы в то время, когда барон обедал или спал, и в эти часы забавлялись по-прежнему забавными штуками умной собаки. «Не бойся, Куцый, – успокаивали его матросы. – Зуды нет». И матросы, оберегая своего любимца, ставили часовых, когда Куцый, бывало, давал свои представления на баке. Только по ночам, особенно по темным безлунным тропическим ночам, выспавшийся за день Куцый свободно разгуливал по баку и дружелюбно вертелся около матросов, но уже не дежурил с Кочиевым на часах, не смотрел вперед и не лаял, как прежде, при виде огонька. Кочнев его не брал с собой, оберегая своего фаворита от гнева Чертовой зуды, которого угрюмый матрос ненавидел, казалось, больше, чем другие.
Но, несмотря на все эти предосторожности, над бедным Куцым в скором времени разразилась гроза.
V
Был знойный палящий день в Китайском море. На голубом небе – ни облачка, и на море стоял мертвый штиль. Еще с рассвета наступило безветрие, паруса лениво повисли, и капитан приказал развести пары́. Скоро загудели пары́, и «Могучий», убрав паруса, пошел полным ходом, взявши курс на Нагасаки.
Старший офицер, особенно заботившийся о том, чтобы «Могучий» пришел в Нагасаки, где адмирал назначил «рандеву», в щегольском виде, уже в третий раз обходил сегодня корвет, придираясь ко всем и донимая всех своими нотациями. Он, видимо, был не в духе, хотя все было в идеальном порядке, все наверху горело и сияло под блестящими лучами ослепительного жгучего солнца, повисшего, словно раскаленный шар, над заштилевшим морем. Барон только что имел снова не особенно приятное объяснение с капитаном и считал себя несколько обиженным. В самом деле, все его предположения, направленные, как он был уверен, к пользе службы, систематически отвергались этим «бесхарактерным человеком», как презрительно называл барон капитана, и отношения их с каждым днем делались все суше и суше. Вдобавок и эти мичманы то и дело подпускали ему всякие шпильки, но так, что не было никакой возможности сделать им замечания. И барон, озлобленный и надутый, высокомерно думал о том, как трудно служить порядочному человеку с этими глупыми русскими «демократами», не понимающими настоящей дисциплины и готовыми подрывать престиж власти.
Спустившись в жилую палубу и занятый своими размышлениями, он без обычного внимания заглядывал во все уголки, приближаясь к кубрику, как вдруг мимо его ног стремглав пронесся Куцый и выбежал наверх.
– Мерзкая собака! – проговорил барон, несколько испуганный неожиданным появлением Куцего, и, остановившись, невольно взглянул на место, по которому тот пробежал.
И в то же мгновение взгляд барона впился в одну точку палубы, как раз под люком трапа, ведущего на бак, и на лице его появилась брезгливая гримаса.
– Боцмана послать! – крикнул барон.
Через несколько секунд явился боцман Гордеев.
– Это что тако-о-е? – медленно процедил барон, указывая пальцем на палубу.
Боцман взглянул по направлению длинного белого пальца с перстнем и смутился.
– Что это такое, спрашиваю я тебя, Гордеев?
– Сами изволите видеть, ваше благородие…
И боцман угрюмо назвал, что это такое.
Барон выдержал паузу и сказал:
– Ты помнишь, что я тебе говорил?
– Помню, ваше благородие! – еще угрюмей отвечал боцман.
– Так чтобы через пять минут эта паршивая собака была за бортом!
– Осмелюсь доложить, ваше благородие, – заговорил боцман самым почтительным тоном, полным мольбы, – что собака нездорова… И фершал ее осматривал, говорит: брюхом больна, но только скоро на поправку пойдет… В здоровом, значит, виде Куцый никогда бы не осмелился, ваше благородие!.. Простите, ваше благородие, Куцего! – промолвил боцман дрогнувшим голосом.
– Гордеев! Я не имею привычки повторять приказаний… Мало ли какого вы мне наврете вздора… Через пять минут явись ко мне и доложи, что приказание мое исполнено…. Да выскоблить здесь палубу! – прибавил барон.
С этими словами он повернулся и ушел.
– У-у, идол! – злобно прошептал вслед барону боцман.
Он поднялся наверх и взволнованно проговорил, подходя к Кочневу, который поджидал Куцего, чтоб увести его вниз.
– Ну, брат, беда! Сейчас Чертова зуда увидал внизу, что Куцый нагадил, и…
Боцман не окончил и только угрюмо качнул головой.
Кочнев понял, в чем дело, и внезапно изменился в лице. Мускулы на нем дрогнули. Несколько секунд он стоял в каком-то суровом, безмолвном отчаянии.
– Ничего не поделаешь с этим подлецом! А уж как жалко собаку! – прибавил боцман.
– Захарыч! Захарыч! – заговорил наконец матрос умоляющим, прерывающимся голосом. – Да ведь Куцый больной. Рази можно с больной собаки требовать? Уж, значит, вовсе брюхо прихватило, ежели он решился на это… Он умный. Понимает. Никогда с им этого не было. И то сколько раз выбегал сегодня наверх… Захарыч, будь отец родной! Доложи ты этому дьяволу!
– Нешто я ему не докладывал? Уж как просил за Куцего. Никакого внимания. Чтобы, говорит, через пять минут Куцый был за бортом!
– Захарыч! Сходи еще, попроси! Собака, мол, больна.
– Что ж, я пойду. Только вряд ли… Зверь! – промолвил боцман и пошел к старшему офицеру.
В это время Куцый, невеселый по случаю болезни, осунувшийся, с мутными глазами, со сконфуженным видом, словно чувствуя свою виновность, подошел к Кочиеву и лизнул ему руку. Тот с какой-то порывистой ласковостью гладил собаку, и угрюмое его лицо светилось необыкновенной нежностью.
Через минуту боцман вернулся. Мрачный его вид ясно говорил, что попытка его не увенчалась успехом.
– Разжаловать грозил! – промолвил сердито боцман.
– Братцы! – воскликнул тогда Кочнев, обращаясь к собравшимся на баке матросам. – Слышали, что злодей выдумал? Какие его такие права, чтобы топить конвертскую собаку? Где такое положенье?
Лицо угрюмого матроса было возбуждено. Глаза его сверкали.
Среди матросов поднялся ропот. Послышались голоса:
– Это он над нами куражится, Зуда проклятая!
– Не смеет, чума турецкая!
– За что топить животную!
– Так вызволим, братцы, Куцего! Дойдем до капитана! Он добер, он рассудит! Он не дозволит! – взволнованно и страстно говорил угрюмый матрос, не отпуская от себя Куцего, словно бы боясь с ним разлучиться.
– Дойдем! – раздались одобрительные голоса.
– Аким Захарыч! Станови нас во фрунт всю команду.
Дело начинало принимать серьезный оборот. Аким Захарыч озабоченно почесал затылок.
В эту минуту на баке показался молодой мичман Кошутич, любимец матросов. При появлении офицера матросы затихли. Боцман обрадовался.
– Вот, ваше благородие, – обратился он к мичману, – старший офицер приказал кинуть Куцего за борт, и команда этим очень обижается. За что безвинно губить собаку? Пес он, как вам известно, справный, два года ходил с нами. И вся его вина, ваше благородие, что он брюхом заболел…
Боцман объяснил, из-за чего вышла вся эта «дрязга», и прибавил:
– Уж вы не откажите, ваше благородие, заступитесь за Куцего. Попросите, чтоб нам его оставили.
И Куцый, точно понимая, что речь о нем, ласково смотрел на мичмана и тихо помахивал своим обрубком.
– Вон, ваше благородие, и Куцый вас просит.
Возмущенный до глубины души, мичман обещал заступиться за Куцего. На баке волнение улеглось. В лице Кочиева светилась надежда.
VI
– Барон! – взволнованно проговорил мичман, влетая в кают-компанию. – Вся команда просит вас отменить приказание насчет Куцего и позволить ему жить на свете. За что же, барон, лишать матросов собаки?! Да и какое она совершила преступление, барон?
– Это не ваше дело, мичман Кошутич, – ответил барон. – И я прошу вас не забываться и мнений своих мне не выражать. Собака будет за бортом!
– Вы думаете?
– Прошу вас замолчать! – проговорил барон и побледнел.
– Так вы хотите взбунтовать команду, что ли, своей жестокостью?! – воскликнул мичман, полный негодования. – Ну, это вам не удастся. Я иду сейчас к капитану.
И Кошутич бросился в капитанскую каюту.
Все, бывшие в кают-компании, взглянули на старшего офицера с видимой неприязненностью. Барон, бледный, с презрительной улыбкой на губах, нервно теребил одну бакенбарду.
Минуты через две капитанский вестовой доложил барону, что его просит к себе капитан.
– Что там за история с собакой, барон? – спросил капитан и как-то кисло поморщился.
– Никакой истории нет. Я приказал ее выкинуть за борт, – холодно отвечал барон.
– За что же?
– Я предупреждал, что если увижу, что она гадит, я прикажу ее выкинуть за борт. Я увидал, что она нагадила, и приказал ее выкинуть за борт. Смею полагать, что приказание старшего офицера должно быть исполнено, если только дисциплина во флоте действительно существует!
«О немецкая дубина!» – подумал капитан, и лицо его еще более сморщилось.
– А я попрошу вас, барон, немедленно отменить ваше распоряжение и впредь оставить собаку в покое. Она на корвете с моего разрешения… Мне жаль, что приходится вам отменять свое же приказание, но нельзя же отдавать подобные приказания и без всякого повода раздражать людей.
– В таком случае, господин капитан, я имею честь просить вас отменить самому мое приказание, а я считаю это для себя невозможным. И кроме того…
– Что еще? – сухо спросил капитан.
– Я болен и исполнять обязанностей старшего офицера не могу.
– Так подайте рапорт. И, быть может, вам береговой климат будет полезнее.
Барон поклонился и вышел.
На другой же день после прихода в Нагасаки барон фон дер Беринг, к общему удовольствию, списался с корвета, и на «Могучий» был назначен другой старший офицер. Матросы вздохнули.
С отъездом барона Куцый снова зажил свободной жизнью и стал пользоваться еще большим расположением матросов, так как благодаря ему корвет избавился от Чертовой зуды.
По-прежнему Куцый съезжал на берег вместе со своим другом Кочиевым и сторожил его; по-прежнему смотрел вперед и забавлял матросов разными штуками, причем при окрике «Зуда идет!» стремительно улепетывал вниз, но тотчас же возвращался, хорошо понимая, что врага его уже нет на корвете.
1894
Побег
I
Солнце быстро поднималось в бирюзовую высь безоблачного неба, обещая жаркий день.
Оно заливало ярким блеском и эти зеркальные, совсем заштилевшие приглубые севастопольские бухты, далеко врезавшиеся в берега, и стоявшие на рейде многочисленные военные корабли, фрегаты, бриги, шхуны и тендера прежнего Черноморского флота, и красавец Севастополь, поднимавшийся над морем в виде амфитеатра и сверкавший своими фортами, церквами, домами и домиками слободок среди зеленых куп садов, бульваров и окрестных хуторов.
Был шестой час на исходе прелестного августовского утра.
На кораблях давно уже кипела работа.
К подъему флагов, то есть к восьми часам, все суда приводили в тот обычный щегольский вид умопомрачающей чистоты и безукоризненного порядка, каким вообще отличались суда Черноморского флота.
С раннего утра тысячи матросских рук терли, мыли, скоблили, оттирали, или, по выражению матросов, «наводили чистоту» на палубы, на пушки, на медь – словом, на все, что было на палубах и под ними до самого трюма.
Давно работали в доках, адмиралтействе, в разных портовых мастерских, расположенных по берегу. Среди грохота молотков и лязга пил порою раздавалась дружная «Дубинушка», при которой русские люди как-то скорее поднимают тяжести и ворочают громадные бревна.
Опустели и мрачные блокшивы, стоявшие на мертвых якорях, словно прокаженные, вдали от других судов, в самой глубине корабельной бухты.
Это плавучие «мертвые дома».
Подневольные жильцы их, арестанты военно-арестантских рот, с четырех часов уже разведены по разным работам.
В толстых холщовых рубахах и таких же штанах, в уродливых серых шапках на бритых головах, они прошли, звякая кандалами, несколькими партиями в сопровождении конвойных солдат по пустым еще улицам и возвратятся домой только вечером, когда наступит прохлада и весь город высыпет на бульвары и Графскую пристань.
И тогда во мраке чу́дной южной ночи эти блокшивы замигают огоньками фонарей и среди тишины бухты раздадутся протяжные оклики часовых, каждые пять минут один за другим выкрикивающих: «Слушай!»
Проснулись и слободки, окаймлявшие город, с их маленькими белыми, похожими на мазанки домами, населенными преимущественно семьями отставных и служащих матросов, артиллерийских солдат, казенных мастеровых и вообще бедным рабочим людом.
Рынок – этот клуб большинства населения, расположенный у артиллерийской бухты, – давно кишел народом.
Шумные и оживленные кучки толкались между ларьками, среди телячьих и бараньих туш, кур, уток и разной дичи, среди массы зелени и разнообразных овощей юга, гор арбузов и пахучих дынь и множества фруктов, привезенных из ближних садов. Торговали, кричали и сердились. Тут же делились последними новостями и сбывали поношенное платье и старую обувь.
У самого берега бухты стояли рыбачьи суда соседнего городка Балаклавы со свежей рыбой. Какой только не было! И камбала, и скумбрия, и жирная кефаль, и бычки, и маленькая золотистая султанка, которую лакомки считают за самую вкусную рыбу Черного моря. Только что наловленные устрицы лежали в корзинках и предлагались поварам и кухаркам.
Тут же, рядом с рыбным рынком, в прозрачной, словно хрусталь, воде заливчика бухты, отливавшей изумрудом, купалась толпа мальчишек. С веселым смехом бросались они в воду, плескались, обдавали один другого брызгами, плавали и ныряли, словно утки, соревнуясь в своем искусстве друг перед другом и перед глазеющей публикой.
Над рынком, залитым блеском веселого южного солнца, стоял непрерывный говор толпы. Речь изобиловала неправильностями языка южных городов и звучала мягким тоном малороссийского акцента. Среди этой речи порой выделялось торопливое, громкое и в то же время вкрадчивое «сюсюканье» продавцов рыбы и устриц, халвы и рахат-лукума – этих увлекающихся балаклавских греков с их смуглыми мясистыми лицами, горбатыми носами, черными с поволокой глазами, напоминающими крупные маслины, и с быстрыми жестами оголенных мускулистых рук цвета темной бронзы.
Слышались и гортанные звуки татар, сидевших на корточках у корзин с грушами, виноградом и яблоками, с выражением горделивого бесстрастия на своих красивых лицах с классическими чертами, напоминающими о чистой арийской крови их предков – генуэзцев и греков, когда-то живших в Крыму. Порой разносились, покрывая говор толпы, отчаянные клятвы «дам рынка» – бойких, задорных торговок-матросок – и их энергичная брань, приправленная самыми великорусскими импровизациями, которым мог бы позавидовать любой боцман, и вызывавшими громкий и сочувственный смех рыночной публики.
Все здесь жило полной жизнью большого и оживленного морского города.
Никто, разумеется, в этой шумной толпе и не предвидел, что скоро Севастополь будет в развалинах и что эти прелестные и оживленные бухты опустеют и на поверхности рейда, где стоит теперь Черноморский флот, будут торчать, словно кресты над могилами, верхушки мачт потопленных кораблей.
II
В начале восьмого часа этого веселого, светлого утра в детской большого казенного дома командира порта и севастопольского военного губернатора худенький мальчик, лет восьми или десяти, с необыкновенно подвижным лицом и бойкими карими глазами, торопливо оканчивал свой туалет при помощи старой няни Агафьи.
– Да ну же, скорей, няня! Ты всегда копаешься! – нетерпеливо и властно говорил мальчик в то время, как низенькая и коренастая Агафья расчесывала не спеша его кудрявые, непокорные, густые каштановые волосы.
– Ишь ведь, попрыгун! Ни минуты не постоит смирно. Всегда торопится, точно на пожар, – ворчала няня, любовно посматривая в то же время на своего любимца. – Да не вертись же, говорят! Так тебя и не причесать. Будешь нечесаный, как уличный мальчишка.
Но мальчик, видимо не особенно тронутый такими замечаниями и испытывавший неодолимую тоску от долгого чесания, когда солнце так весело играет в комнате и в растворенное окно врывается струя свежего воздуха вместе с ароматом цветов сада, уже выдернул не вполне причесанную кудрявую голову из рук няни и, улыбающийся, жизнерадостный и веселый, стал быстро надевать курточку.
– Дай хоть пригладить вихры, Васенька!
– И так хорошо, няня.
– Нечего сказать, «хорошо»! Адмиральский сын – и торчат вихры. Небось папенька заметит – не похвалит.
Вася уже не слыхал последних слов няни Агафьи, которую любил и не ставил ни в грош, зная, что она вполне в его руках и исполнит все его прихоти. Он выскочил из детской, на ходу застегивая курточку, и, пробежав анфиладу комнат, остановился у запертых дверей кабинета.
Веселое лицо мальчика тотчас же приняло тревожное выражение. Он несколько секунд простоял у дверей, не решаясь войти, и в голове его пробежала обычная мысль о том, что ходить каждое утро к отцу, для того чтоб пожелать ему доброго утра, – весьма неприятная обязанность, без которой можно бы и обойтись.
«А все-таки нужно», – мысленно проговорил он и, тихо приотворив двери, вошел.
В большом кабинете, у письменного стола, сидел, опустив глаза на бумаги, худощавый высокий старик в летнем халате, с гладко выбритыми морщинистыми щеками, отливавшими здоровым румянцем, причесанный по-старинному, с высоким коком темных, чуть-чуть седевших волос, который возвышался посредине головы вроде петушиного гребня. Короткие подстриженные седые усы торчали щетинкой.
Эти колючие «тараканьи» усы всегда особенно пугали мальчика, наводя на него трепет, когда они нервно и быстро двигались, обнаруживая вместе с подергиванием плеч и движением скул дурное расположение духа сурового и непреклонного адмирала, которого решительно все в доме, начиная с адмиральши, боялись как огня.
– Доброго утра, папенька! – тихо, совсем тихо проговорил дрогнувшим от волнения голосом Вася, приблизившись к письменному столу и не спуская с отца замирающего, словно бы очарованного взгляда, полного того выражения, какое бывает в глазах у маленькой птички, увидавшей перед собой ястреба.
Слыхал ли отец приветствие сына и нарочно, как это случалось не раз, не обращал на него ни малейшего внимания, заставляя мальчика недвижно стоять у стола бесконечную минуту-другую, или, занятый бумагами, действительно не замечал Васи, – трудно было решить, но он не поворачивал головы.
Так прошло несколько долгих секунд.
А в раскрытые окна кабинета, полного прохлады, глядели густые акации и тенистые, раскидистые орешники, не пропускавшие лучей солнца, с крупными грецкими орехами в зеленой скорлупе, и невольно напоминали Васе о том, что там, в верхнем саду, вдали от дома, его ждут многие удовольствия, радости и приятные встречи, о которых никто из домашних и не догадывался. А усы отца стояли неподвижно, и скулы морщинистых щек не двигались.
И мальчик, ощутив прилив мужества, решился снова проговорить, несколько повышая свой мягкий высокий тенорок:
– Доброго утра, папенька!
Быстрым, энергичным движением адмирал вскинул голову и остановил серьезный, сосредоточенный и, казалось, недовольный взгляд на своем младшем сыне– Вениамине семьи[9].
И что-то мягкое и даже нежное на мгновение смягчило эти суровые черты и засветилось в этих маленьких серых глазах, властных и острых, сохранивших, несмотря на то что адмиралу было шестьдесят лет, живость, энергию и блеск молодости.
– Здравствуй! – отрывисто и резко проговорил адмирал.
И против обыкновения, вместо того чтобы кивнуть головой, давая этим знать, что мальчик может уйти, он сегодня потрепал своей костлявой рукой по заалевшей щеке сына и продолжал тем же резким повелительным тоном:
– Здоров, конечно? Скоро в Одессу… учиться. Первого сентября поедешь на пароходе. Ну, ступай!
Вася не заставил себя ждать.
Он быстро исчез из кабинета и облегченно и радостно вздохнул, точно освободившись от какой-то тяжести, когда очутился в диванной, рядом со спальной матери, которая, как и сестры, еще спала.
Наскоро выпив стакан молока, приготовленный няней Агафьей, он сунул в карман незаметно от няньки несколько кусков сахару и бросился в сад.
Миновав цветники, оранжереи и теплицы нижнего сада, он торопливо перепрыгивал ступеньки небольших лестниц, отделяющих террасу от огромного сада, длинные аллеи которого окаймлялись густыми шпалерами винограда, а на грядах, расположенных по самой средине террас и обложенных красиво дерном, росли правильными рядами всевозможные фруктовые деревья, полные крупных пушистых персиков, сочных груш, больших желтых и зеленых слив, янтарных ранетов, миндаля, грецких орехов и белой и красной шелковицы.
Этот громадный, возвышающийся террасами сад, выходивший на три улицы и обнесенный вокруг каменной стеной, с его роскошными цветниками у дома, с оранжереями, теплицами, с его беседками, обвитыми пахучими цветами, и большим деревянным бельведером, откуда открывался чудный вид на Севастополь и его окрестности и откуда год спустя Вася в подзорную трубу смотрел, как двигались французские войска длинной синеющей лентой через Инкерманскую долину, направляясь к южной стороне города, – этот сад содержался в образцовом порядке и сиял чистотой, пленяя глаза, главным образом благодаря работе арестантов.
Партия их, человек в двенадцать – пятнадцать, ранним утром, как только солнце поднималось над городом, входила в большую калитку верхнего сада с задней улицы и работала в нем часов до трех или до четырех, пока двое конвойных солдатиков дремали, опершись на ружья, у калитки или где-нибудь в саду.
Арестанты, приходившие ежедневно, кроме праздников, на работу в сад командира порта, обыкновенно были одни и те же. Они таскали откуда-то ушаты с водой, поливали цветники и гряды, пололи траву, подстригали деревья, мели дорожки, посыпали аллеи свежим гравием и потом утрамбовывали их – одним словом, делали все, что приказывал главный садовник, вольнонаемный немец, аккуратный Карл Карлович.
Работа была не из тяжелых, и арестанты, по-видимому, были довольны, что им приходилось заниматься садом, и старались изо всех сил.
Вот к этим-то людям, отбывающим суровое наказание за свои вины, и торопился Вася.
III
Несмотря на суровое приказание матери и сестер не только не разговаривать с этими отверженными людьми, но даже и не подходить к ним близко, мальчик весело взбегал с террасы на террасу и окидывал зорким взглядом длинные аллеи, предвкушая удовольствие поболтать с арестантами и попользоваться частью их завтрака – хорошим куском красного сочного арбуза, заедая его, как и арестанты, ломтем черного хлеба, круто посыпанного солью. И тем и другим они радушно делились с барчуком, наперерыв угощая его.
Он находил этот завтрак самым лучшим на свете – куда вкуснее всяких изысканных блюд, подаваемых у них за обедом, – а в компании этих бритых людей, позвякивающих кандалами, чувствовал себя несравненно приятнее, веселее и свободнее, чем дома, особенно во время обедов, когда все домашние сидели молчаливые и подавленные, а он сам насильно глотал ложки противного супа, чтобы не навлечь гнева почти всегда сурового отца, и с нетерпением ждал конца обеда, безмолвный, не смея шевельнуться.
Познакомился он и сошелся с арестантами только нынешним летом, благодаря тому что бегал в сад один и что вообще за ним не было никакого надзора. До этого времени он их очень боялся и, забегая в верхний сад, чтоб полакомиться фруктами, старался прошмыгнуть мимо них в почтительном отдалении и обязательно бегом. Тогда он считал всех этих людей в серых шапках, роющих в саду землю или развозящих в тачках песок, способными на всякие злодейства, готовыми даже, как уверяла его еще давно няня Агафья, когда он капризничал, унести мальчика и потом его зажарить и съесть, хотя бы он был и адмиральский сын. Эти слова няни в свое время произвели глубокое впечатление на Васю, несмотря на то что другие лица, как, например, мать, сестры и братья, не заходили в своих обвинениях так далеко. По крайней мере, он ни от кого не слыхал подтверждения Агафьиных слов. Но, во всяком случае, отзывы, которые иногда как бы мимоходом бросались при мальчике об арестантах, не оставляли ни малейшего сомнения в том, что эти люди совмещают в себе столько пороков, что и не сосчитать, и если б их выпустить на волю, то они дали бы себя знать! Недаром же им бреют головы и держат в кандалах.
Так однажды говорил старичок генерал, приехавший с визитом к матери Васи, возмущенный по поводу какой-то жалобы, поданной арестантами на то, что их плохо кормят и не дают всего, что им по закону полагается. Этот старичок, прикосновенный, кажется, к делу о растрате арестантских сумм, разумеется, и не думал, что в скором времени, когда Севастополь будет в опасности перед неприятелем, всех этих арестантов выпустят на волю и снимут с них кандалы и они сделаются такими же доблестными защитниками осажденного города, как и остальные.
Все эти рассказы еще сильнее подстрекали любопытство мальчика, и, несмотря на страх, внушаемый ему этими ужасными людьми, он, однако, иногда решался наблюдать их, но, разумеется, на таком расстоянии, чтобы в случае какой-либо опасности дать немедленно тягу.
Их разговоры самого мирного характера, долетавшие до ушей Васи, добродушное мурлыканье какой-нибудь песенки во время работы и, наконец, многие другие наблюдения совсем не соответствовали тому представлению об арестантах, которые имел мальчик с чужих слов, и несколько поколебали его веру в справедливость показаний няни Агафьи.
Особенно поразили его два факта.
Однажды весной он увидал, как один из арестантов, пожилой высокий брюнет с сердитым взглядом больших, глубоко сидящих глаз, с нависшими черными всклоченными бровями, которого Вася считал самым страшным и боялся более других, заметив выпавшего из гнезда крошечного воробушка, тотчас же подошел к нему, взял его и, бережно зажав в руке, полез на дерево и положил на место, к радости беспокойно вертевшейся около и тревожно чирикавшей воробьихи. И когда он слез с дерева и принялся снова рассыпать из тачки на аллею песок, лицо его, к удивлению Васи, светилось лаской и добротой.
В другой раз арестанты нашли в саду заброшенного щенка, маленького, облезлого, худого, и отнеслись к нему с большой внимательностью и даже нежностью. Вася видел, как они совали ему в рот разжеванный мякиш черного хлеба, как положили его в укромный уголок, заботливо прикрыв его какой-то тряпкой, и слышал, как они решили взять его с собой, и это решение, видно, обрадовало всех.
– А то пропадет! – заметил тот же страшный арестант с нависшими бровями. – А я, братцы, за ним ходить буду заместо, значит, няньки! – прибавил он с веселым смехом.
По соображениям Васи, эти факты, во всяком случае, свидетельствовали, что и этим страшным людям не чужды проявления добрых чувств.
Для разрешения своих сомнений Вася вскоре обратился к старому денщику – матросу Кирилле, бывшему у них в доме одним из лакеев, с вопросом: правда ли, что арестанты уносят мальчиков и потом едят их?
Вместо ответа Кирилла, человек вообще солидный, серьезный и даже несколько мрачный, так громко рассмеялся, открывая свой большой рот, что Вася даже несколько сконфузился, сообразивши, что попал впросак, предложивши, видимо, нелепый вопрос.
– Кто это вам сказал, барчук? – спросил наконец Кирилла со смехом.
– Няня.
– Набрехала она вам, Василий Лександрыч, вроде хавроньи, а вы взяли да и поверили! Слыханное ли это дело, чтобы, с позволения сказать, ели человеков? Во всем крещеном свете нет такого положения, хоть кого вгодно спросите. Есть, правда, один такой остров, далеко отсюда, за окиянами, где вовсе дикие люди живут, похожие на обезьянов, так те взаправду жрут, черти, человечье мясо. Мне один матрос сказывал, что ходил на дальнюю[10] и везде побывал. Жрут, говорит, и крысу, и всякую насекомую, и змею, и человека, ежели чужой к им попадается. Но, окромя этого самого острова, нигде этим не занимаются, чтобы мальчиков есть. А русский человек и подавно на это не согласится. Это вас нянька нарочно пужала. Известно – баба! Не понимает, дурья башка, что брешет дитю! – пренебрежительным тоном прибавил Кирилла.
– Да я и не поверил няне. Я сам знаю, что людей не едят! – оправдывался задетый за живое самолюбивый мальчик. – Я так только спросил. И я знаю, что арестанты вовсе не страшные! – прибавил Вася не вполне, однако, уверенным тоном, втайне желая получить на этот счет разъяснения такого знающего человека, каким он считал Кириллу.
– С чего им быть страшными? Такие же люди, как и все мы. Только незадачливые, значит, несчастные люди – вот и всё.
– А за что же они, Кирилла, попали в арестанты?
– А за разные дела, барчук. Они ведь все из солдат да из матросов. Долго ли до греха при строгой-то службе? Кои и за настоящие, прямо сказать, нехорошие вины… На грабеж пустился или в воровстве попался. Ну и избывает свой грех… А кои из-за своего непокорного карахтера.
– Как так? – спросил Вася, не понимая Кириллу.
– А так. Не стерпел, значит, утеснениев, взбунтовался духом от боя да порки – ну и сдерзничал начальству на службе, – вот и арестантская куртка! А то и за пьянство попасть можно, всяко бывает! Ты и не ждешь, а вдруг очутишься в арестантских ротах.
– За что же?
– А за то, ежели, примерно, нравный человек да напорется на какого-нибудь зверя командира, который порет безо всякого рассудка и за всякий, можно сказать, пустяк. Терпит-терпит человек, да наконец и не вытерпит, да от обиды в сердцах и нагрубит… Небось расправа коротка! Проведут сквозь строй, вынесут замертво и потом в арестанты. И вы, барчук, не верьте, что про них нянька брешет. И бояться их нечего, пренебрегать ими не годится. Их жалеть надо, вот что я вам скажу, барчук, – заключил Кирилла.
После таких разъяснений, вполне, казалось, подтверждавших и собственные наблюдения Васи, он значительно меньше стал бояться арестантов, рисковал подходить к ним поближе и вглядывался в эти самые обыкновенные, по большей части добродушные лица, не имеющие в себе ничего злодейского. И они разговаривали, шутили и смеялись точно так, как и другие люди, а ели – казалось Васе – необыкновенно аппетитно и вкусно.
И однажды, когда Вася жадно глядел, как они утром уписывали, запивая водой, ломти черного хлеба, посыпанные солью, – один из арестантов с таким радушием предложил барчуку попробовать «арестантского хлебца», что Вася не отказался и с большим удовольствием съел два ломтя и пробыл в их обществе. И все смотрели на него так доброжелательно, так ласково, все так добродушно говорили с ним, что Вася очень жалел, когда шабаш[11] кончился и арестанты разошлись по работам, приветливо кивая головами своему гостю.
С тех пор между адмиральским сыном и арестантами завязалось прочное знакомство, о котором Вася, разумеется, благоразумно умалчивал, зная, что дома его за это не похвалят. И чем ближе он узнавал их, тем более и более убеждался, что и няня, и мать, и сестры, и старичок генерал решительно заблуждаются, считая их ужасными людьми. Напротив, по мнению Васи, они были славные и добрые, и он только удивлялся, за что таких людей, которые так усердно работали, так хорошо к нему относились, баловали его самодельными игрушками и так гостеприимно угощали его, – за что, в самом деле, им обрили головы и на ноги надели кандалы, лишив, бедных, возможности бегать, как бегает он.
Вася со всеми своими новыми знакомыми был в хороших отношениях, но более всего подружился с одним молодым, белокурым, небольшого роста, стройным арестантом с голубыми ласковыми глазами. Он не знал, за что попал этот человек в арестанты, и не интересовался знать, решив почему-то, что, верно, не за важную вину.
Он чувствовал какую-то особенную привязанность к этому арестанту с задумчивым грустным взглядом и за то, что тот рассказывал отличные сказки, и за то, что он был часто грустен, и за его мягкий, ласковый голос, и за его необыкновенно добрую и приятную улыбку – короче, решительно за все.
Звали его Максимом. Арестанты называли его еще «соловьем» за то, что часто во время работы он пел песни, и пел их замечательно хорошо.
Когда мальчик, бывало, слушал его пение, полное беспредельной тоски, невольное чувство бесконечной жалости к этому певцу в кандалах охватывало его маленькое сердце и к горлу подступали слезы.
И нередко, нервно потрясенный, он убегал.
IV
Вася попал в сад как раз вовремя.
Арестанты только что зашабашили на полчаса и, расположившись кто кучками, кто в одиночку в конце одной из аллей, под тенью стены, завтракали казенным черным хлебом и купленными на свои копейки арбузами.
Вася подбежал к ним и, веселый, зарумянившийся, полный радости жизни, весело кивал головой в ответ на общие приветствия с добрым утром. С разных сторон раздавались голоса:
– Каково почивали, барчук?
– Нянька не пужала вас?
– Не угодно ли кавуна[12], барчук?
– У меня добрый кавун!
– Барчук с Максимкой будет завтракать. Максимка нарочно большой кавун на рынке взял.
– А где же Максим? – спрашивал Вася, ища глазами своего приятеля.
– А вон он, от людей под виноградник забился. Идите к нему, барчук, да прикажите ему не ску́чить. А то он опять вовсе заскучил.
– Отчего?
– А спросите его… Видно, не привык еще к нашему арестантскому положению. Тоскует, что птица в неволе.
– А вчерась дома еще от унтерцера попало! – вставил чернявый пожилой арестант с нависшими всклоченными бровями, придававшими его рябоватому лицу несколько свирепый вид.
– За что попало? – поинтересовался Вася.
– А ежели по совести сказать, то вовсе здря… Не приметил Максимка унтерцера и не осторонился, а этот дьявол его в зубы… Да раз, да другой! Это хучь кому, а обидно, как вы полагаете, барчук? Еще если бы за дело, а то здря! – объяснял пожилой арестант главную причину обиды.
Вася, и по собственному опыту своей недолгой еще жизни знавший, как обидно, когда, бывало, и его наказывали дома не всегда справедливо, а так, в минуты вспышки гнева отца или дурного расположения матери, поспешил согласиться, что это очень обидно и что унтер-офицер, побивший Максима, действительно дьявол, которому он охотно бы «начистил морду».
Вызвав последними словами, заимствованными им из арестантского жаргона, одобрительный смех и замечание, что «барчук рассудил правильно», Вася поспешил к своему приятелю Максиму.
– Здравствуй, Максим! – проговорил он, когда залез под виноградник и увидал молодого арестанта, около которого лежали только что нарезанные куски арбуза и несколько ломтей черного хлеба.
– Доброго утра, паныч! – ответил Максим своим мягким голосом с сильным малороссийским акцентом. – Каково почивали? Попробуйте, какой кавунок добрый… Кушайте на здоровье! – прибавил он, подавая Васе кусок арбуза и ломоть хлеба и ласково улыбаясь при этом своими большими и грустными глазами. – Я вас дожидался.
– Спасибо, Максим. Я присяду около тебя… Можно?
– Отчего не можно? Садитесь, паныч. Здесь хорошо, прохладно.
Вася присел и, вынув из кармана несколько кусков сахара и щепотку чая, завернутого в бумажку, подал их арестанту и проговорил:
– Вот возьми… Чаю выпьешь…
– Спасибо, паныч… Добренький вы… Только как бы вам не досталось, что вы сахар да чай из дому уносите.
– Не бойся, Максим, не достанется. И никто не узнает… У нас все спят. Только папенька встал и сидит в кабинете. Да у нас чаю и сахару много! – торопливо объяснял Вася, желая успокоить Максима, и с видимым наслаждением принялся уплетать сочный арбуз, заедая его черным хлебом и не обращая большого внимания на то, что сок заливал его курточку.
Сунув чай и сахар в карман штанов, Максим тоже принялся завтракать.
– Еще, паныч? – проговорил он, заметив, что Вася уже съел один кусок.
– А тебе мало останется? – заметил мальчик, видимо колебавшийся между желанием съесть еще кусок и не обидеть арестанта.
– Хватит. Да мне что-то и есть не хочется.
– Ну так я еще съем кусочек.
Скоро арбуз и хлеб были покончены, и тогда Вася спросил:
– А ты что такой невеселый, Максим?
– Веселья не много, паныч, в арестантах.
– В кандалах больно?
– В неволе погано, паныч. И на службе было тошно, а в арестантах еще тошнее.
– Ты был солдатом или матросом?
– Матросом, паныч, в сорок втором экипаже служил… Может, слыхали про капитана первого ранга Богатова… Он у нас был командиром корабля «Тартарархов»[13].
– Я его знаю. Он у нас бывает. Такой толстый, с большим пузом…
– Так из-за этого самого человека я и в арестанты попал. Нехай ему на том свете попомнится за то, что он меня несчастным сделал.
– Что ж ты, нагрубил ему?
– То-то, нагрубил… Я, паныч, был матрос тихий, смирный, а он довел меня до затмения… Так сек, что и не дай боже!
– За что же?
– А за всё. И винно и безвинно… За флотскую часть. Два раза в гошпитале из-за его лежал. Ну, душа и не стерпела. Назвал его злодеем. Злодей и есть. И засудили меня, паныч. Гоняли скрозь строй, а потом в арестанты. Уж лучше было бы потерпеть… Может, от этого человека избавился и к другому бы попал – не такому злодею. По крайности, в матросах все-таки на воле жил. А тут, сами знаете, паныч, какая есть арестантская доля… Хоть пропадай с тоски! И всякий может тобой помыкать. Известно – арестант! – прибавил с грустною усмешкой Максим.
Вася, слушавший Максима с глубоким участием, после нескольких секунд раздумья проговорил с самым решительным видом:
– Так отчего ты, Максим, не убежишь, если тебе так нехорошо?
Радостный огонек блеснул в глазах арестанта при этих словах, и он ответил:
– А вы как думаете?.. Давно убег бы, коли б можно было, паныч. Пошел бы до своей стороны…
– А где твоя сторона?
– В Каменец-Подольской губернии. Может, слыхали город Проскуров. Так от него верстов десять наша деревня. Поглядел бы на мать да на батьку и пошел бы за австрийскую границу шукать доли! – продолжал Максим взволнованным шепотом, весь оживившийся и словно бы невольно высказывая свою давно лелеянную заветную мечту о побеге. – Только вы смотрите, паныч, никому не сказывайте насчет того, что я вам говорю, а то меня до смерти засекут! – прибавил Максим и словно бы испугался, что поверил свою тайну барчуку. Долго ли ему разболтать!
Вася торжественно перекрестился и со слезами на глазах объявил, что ни одна душа не узнает о том, что говорил Максим. Он может быть спокоен, что за него Максима не высекут. Хоть он и маленький, а держать слово умеет.
И когда Максим, по-видимому, успокоился этим уверением, Вася, и сам внезапно увлеченный мыслью о побеге Максима за австрийскую границу, о которой, впрочем, имел очень смутное понятие, продолжал таинственно серьезным тоном заговорщика:
– Ты говоришь, что нельзя убежать, а я думаю, что очень даже легко.
– А как же, паныч? – с ласковой улыбкой спросил Максим.
– А ты разбей здесь у нас в саду кандалы… Я тебе молоток принесу. А потом перелезь через стену да и беги на австрийскую границу.
Максим печально усмехнулся:
– В арестантской-то одёже? Да меня зараз поймают.
– А ты ночью.
– Ночью с блокшивы не убечь. Мы за железными запорами, да и часовые пристрелят…
Возбужденное лицо Васи омрачилось. И он печально произнес:
– Значит, так и нельзя убежать?
Арестант не отвечал и как-то напряженно молчал. Казалось, будто какая-то мысль озарила его, и его худое, бледное лицо вдруг стало необыкновенно возбужденным, а глаза загорелись огоньком. Он как-то пытливо и тревожно глядел на мальчика, точно хотел проникнуть в его душу, точно хотел что-то сказать и не решался.
– Что ж ты молчишь, Максим? Или боишься, что я тебя выдам? – обиженно промолвил Вася.
– Нет, паныч. Вы не обидите арестанта. В вас душа добрая! – сказал уверенно и серьезно Максим и, словно решившись на что-то очень для него важное, прибавил почти шепотом: – А насчет того, чтоб убечь, так оно можно, только не так, как вы говорите, паныч.
– А как?
– Коли б, примерно, достать платье.
– Какое?
– Женское, скажем, такое, как ваша нянька носит.
– Женское? – повторил мальчик.
– Да, и, примерно, платок бабий на голову… Тогда можно бы убечь!
Вася на секунду задумался и вслед за тем решительно проговорил:
– Я тебе принесу нянино платье и платок.
– Вы принесете, паныч?
От волнения он не мог продолжать и, вдруг схватив руку Васи, прижал ее к губам и покрыл поцелуями. В ответ Вася крепко поцеловал арестанта.
– Как же вы это сделаете? А как поймают?
– Не бойся, Максим. Никто не поймает. Я ловко это сделаю, когда все будут спать. Только куда его положить?
– А сюда, под виноградник. Да накройте его листом, чтобы не видно было.
– А то не прикрыть ли землей? Как ты думаешь, Максим? – с серьезным, деловым видом спрашивал Вася.
– Нет, что уж вам трудиться, паныч, довольно и листом. Сюда никто и не заглянет.
– Ну ладно. А я завтра рано-рано утром все сюда принесу. А то еще лучше ночью… Я не побоюсь ночью в сад идти. Чего бояться?
– Благослови вас Боже, милый паныч. Я буду век за вас молиться.
– Эй! На работу! – донесся издали голос конвойного.
– Я еще к тебе прибегу, Максим. Мы ведь больше не увидимся. Завтра тебя не будет! – с грустью в голосе произнес Вася.
С этими словами он вылез из виноградника и пошел в дом.
V
Целый день Вася находился в возбужденном состоянии, озабоченный предстоявшим предприятием. Увлеченный этими мыслями, он даже ни разу не подумал о том, что грозит ему, если отец как-нибудь узнает о его поступке. План похищения няниного платья и молотка, который он вчера видел в комнате, поглотил его всего, и он уже сделал днем рекогносцировку в нянину комнату, увидел, где лежит молоток, и наметил платье, висевшее на гвозде. День этот тянулся для него невыносимо долго. Он то и дело выбегал в сад, озабоченно ходил по аллеям и часто подбегал к Максиму, когда видел его одного. Подбегал и перекидывался таинственными словами.
– Прощай, голубчик Максим. Может быть, завтра уж ты будешь далеко! – проговорил он со слезами на глазах перед тем, как арестанты собирались уходить из сада.
– Прощайте, паныч! – шепнул арестант, взглядывая на мальчика взглядом, полным неописуемой благодарности.
Арестанты выстроились и ушли, позвякивая кандалами. Вася долго еще провожал их глазами.
По счастью, никто из домашних не обратил внимания на взволнованный вид мальчика. Правда, за обедом отец два раза бросил на него взгляд, от которого Вася замер от страха. Ему показалось, что отец прочел в душе его намерения и вот сейчас крикнет ему: «Я все знаю, негодный мальчишка!»
Но вместо этого отец только спросил:
– Отчего не ешь?
– Я ем, папенька.
– Мало. Надо есть за обедом! – крикнул он.
И Вася, не чувствовавший ни малейшего аппетита, усердно набивал себе рот, втайне обрадованный, что отец ни о чем не догадывается.
К вечеру молоток уже лежал под кроватью Васи. Пошел он в этот день спать ранее обыкновенного, хотя за чайным столом и сидели гости и рассказывали интересные вещи.
Когда он подошел к матери, она взглянула на него и озабоченно спросила, ощупывая его голову:
– Ты, кажется, болен, Вася? У тебя все лицо горит.
– Я здоров, мама. Устал, верно.
Он поцеловал ее нежную белую руку, простился с сестрами и гостями и, довольный, что отца не было дома и что не нужно было с ним прощаться, пробежал в детскую.
– Няня, спать! – крикнул он.
– Что сегодня рано? Или набегался?
– Набегался. Устал, няня! – говорил он, стараясь не глядеть ей в глаза и чувствуя некоторое угрызение совести перед человеком, которого собирался ограбить.
Няня раздела его и предложила ему рассказать сказку, но он отказался. Ему спать хочется. Он сейчас заснет.
– Ну так спи, родной!
Она поцеловала Васю, перекрестила его и хотела было уходить, как Вася вдруг проговорил:
– А знаешь, няня, после моих именин я подарю тебе новое платье.
– Спасибо, голубчик. Что это тебе взбрело на ум, к чему мне платье? У меня и так много платьев.
– А сколько?
– Да шесть будет, окромя двух шерстяных.
– А-а! – удовлетворенно произнес мальчик и прибавил: – Так я тебе, няня, что-нибудь другое подарю. После именин у меня будет много денег.
– Ишь ты, добрый мой! Спасибо на посуле… Ну, спи, спи. И я пойду спать.
Через несколько времени Вася услышал из соседней комнаты храп няни Агафьи.
Нервы его были слишком натянуты, и он не засыпал, решивши не спать до того времени, пока не заснут все в доме и он может безопасно пробраться в сад через диванную, тихонько отворив двери в сад, которые обыкновенно запирались на ключ. Мать не услышит, а спальня отца в другом конце дома. Наконец можно выпрыгнуть и из окна: невысоко.
До него доносились звуки корабельных колоколов, каждые полчаса отбивавших склянки. Он слышал монотонное и протяжное: «Слушай!» – перекрикивающихся в отдалении часовых и думал упорно и настойчиво о том, что он не должен заснуть и не заснет, – думал, как он отворит окно, прислушается, все ли тихо, и как пройдет к няне на цыпочках за платьем, думал о Максиме, как он завтра обрадуется и удерет на австрийскую границу. И ему там будет хорошо, и его никто не поймает. И никто не узнает, что это он, Вася, помог ему убежать. И ему приятно было сознавать, что он будет его спасителем.
Эти мысли, бродившие в его возбужденной голове, сменились другими. И он убежит за австрийскую границу, если в пансионе, в Одессе, куда его отвезут в сентябре, будет нехорошо и его будут сечь. Дома сечет отец – он смеет, а другие не смеют! Непременно удерет, разыщет Максима и поселится вместе с ним. Эта мысль казалась ему соблазнительной, но еще соблазнительнее была другая, внезапно пришедшая, – как он уже большим и генералом после долгого отсутствия вдруг подъедет на белом красивом коне к дому и как все удивятся, что он генерал. И отец не высечет его: он уже большой, а будет изумлен, что он такой молодой и уже генерал. И мать, и сестры, и братья – все будут удивлены, и все будут поздравлять его. И он расскажет, почему он бежал и как отличился на войне.
«Хо-ро-шо!» – подумал он, потягиваясь и не сознавая ясно, бредит ли он наяву или засыпает.
– Нельзя спать! – прошептал он и тотчас же заснул.
Что-то точно толкнуло его в бок, и он проснулся и быстро присел на постели, испуганный, что проспал и обманул Максима, и первое мгновение не мог сообразить, сколько теперь времени. Он протер глаза и озирался вокруг. Сквозь белую штору пробивался слабый свет. Слава богу! Еще, кажется, не поздно.
Он вскочил с постели, отдернул штору и взглянул в окно. Только что рассветало, и в саду стоял еще полумрак.
– Пора!
Едва ступая босыми ножонками, пробрался он в комнату няни, взял оттуда платье и платок, лежавший около ее постели, и вернулся к себе. Через несколько секунд он уж был одет, все похищенное свернуто и завязано в два полотенца.
Надо было решить вопрос: как пробраться в сад – через окно или идти через комнаты? Тихонько растворив окно, он заглянул вниз и отвернулся – слишком высоко! Тогда он снял с себя башмаки и в одних чулках вышел за двери.
Сердце его сильно билось, когда он, затаив дыхание, прислушиваясь к каждому шороху, пробирался по коридору мимо комнат сестер и наконец вошел в диванную. Вот и дверь… Осторожно повернул он ключ… Раз, два… раздался шум… Он на минуту замер в страхе и со всех ног пустился в сад, перепрыгивая ступеньки лестниц. Вот и вторая терраса сверху… Стремглав добежав до конца аллеи, он положил платье в указанное место, набросал на него кучу виноградных листьев и побежал домой.
Когда он благополучно вернулся и лег в постель, его трясло, точно в лихорадке. Он был бесконечно счастлив и в то же время страшно трусил, что вдруг все откроется и отец прикажет его самого отдать в арестанты.
VI
Проснулся он на другой день поздно. Няня стояла перед ним. Он вспомнил все, что было ночью, и поглядел на нее. Ничего. Она, по обыкновению, ласковая и добрая – видно, ни о чем не догадывается. На голове ее другой платок.
– Ишь, соня… Заспался сегодня. Вставай, уже девятый час.
Вася быстро поднялся, оделся и позволил сегодня няньке расчесать основательно свои кудри.
– А не видал ты где-нибудь, Васенька, моего платка с головы? Искала, искала – нигде не могла найти, точно скрозь землю провалился! – озабоченно проговорила она, обыскивая Васину кровать.
– Нет, няня, не видал.
– Чудно́е дело! – прошептала старуха.
– Да ты, няня, не тревожься. Я тебе новый платок куплю.
– Не в том дело. Не жаль платка, а куда он девался?
И когда Вася был готов, няня сказала:
– А папенька сердитый сегодня.
– Отчего?
– У нас, Васенька, беда случилась.
– Беда? Какая беда, няня?
– Один арестант из сада убежал утром.
У Васи радостно забилось сердце. Однако он постарался скрыть свое волнение и с напускным равнодушием спросил:
– Убежал? Как же он убежал?
– То-то и диво. Только что хватились. Платье свое арестантское оставил и убежал. Все дивуются: откуда он достал платье? Не голый же ушел. Теперь идет переборка. Всех допрашивает конвойный офицер. И папеньке доложили. Прогневался. Вдруг из губернаторского сада арестант убежал!
Ни жив ни мертв явился Вася в кабинет отца. Действительно, адмирал был не в духе и в ответ на обычное «здравствуйте, папенька» только кивнул головой. С облегченным сердцем ушел Вася, убедившись, что отец ничего не знает, и вскоре услышал крики отца, который распекал явившегося к нему с рапортом полицеймейстера. Вася целый день провел в тревоге, ожидая, что вот-вот его позовут на допрос к отцу.
Но никто его не звал. За обедом отец даже был в духе и соблаговолил сказать адмиральше, высокой, полной, пожилой женщине, сохранившей еще следы былой красоты:
– А ты слышала, что сегодня случилось? Каналья арестант убежал из нашего сада.
– Как же это он мог?
– Арестанты показывают, что у него с собой узелок был, когда их вели с блокшива. Верно, там платье и было. Он переоделся и убежал. Комендант совсем распустил их. Уж я ему говорил. И конвойные плохо смотрят. Ну да недолго побегает. Сегодня или завтра, верно, поймают. Как проведут сквозь строй – не захочет бегать!
У Васи ёкнуло сердце. Неужели поймают?
Однако когда через несколько дней мать спросила отца, поймали ли арестанта, тот сердито отвечал:
– Нет. Словно в воду канул, мерзавец! И никак не могли узнать, откуда он достал платье!
Когда через неделю Вася уже совсем успокоился и вышел утром в сад, пожилой арестант с всклоченными черными бровями, срезывавший гнилые сучья с дерева, таинственно поманил мальчика к себе и, когда тот подошел к нему, осторожно, чтобы никто не видал, сунул ему в руки маленький резной крестик и проговорил:
– Максимка приказал вам передать, барчук!
И, ласково глядя на Васю, прибавил необыкновенно нежным голосом:
– Пошли вам Бог всего хорошего, добрый барчук!
1896
Максимка
Посвящается Тусику
I
Только что пробил колокол. Было шесть часов прелестного тропического утра на Атлантическом океане.
По бирюзовому небосклону, бесконечно высокому и прозрачно-нежному, местами подернутому, словно белоснежным кружевом, маленькими перистыми облачками, быстро поднимается золотистый шар солнца, жгучий и ослепительный, заливая радостным блеском водяную холмистую поверхность океана. Голубые рамки далекого горизонта ограничивают его беспредельную даль.
Как-то торжественно-безмолвно кругом.
Только могучие светло-синие волны, сверкая на солнце своими серебристыми верхушками и нагоняя одна другую, плавно переливаются с тем ласковым, почти нежным ропотом, который точно нашептывает, что в этих широтах, под тропиками, вековечный старик океан всегда находится в добром расположении духа.
Бережно, словно заботливый, нежный пестун, несет он на своей исполинской груди плывущие корабли, не угрожая морякам бурями и ураганами.
Пусто вокруг!
Не видно сегодня ни одного белеющего паруса, не видно ни одного дымка на горизонте. Большая океанская дорога широка.
Изредка блеснет на солнце серебристою чешуйкой летучая рыбка, покажет черную спину играющий кит и шумно выпустит фонтан воды, высоко прореет в воздухе темный фрегат или белоснежный альбатрос, пронесется над водой маленькая серая петрель, направляясь к далеким берегам Африки или Америки, – и снова пусто. Снова рокочущий океан, солнце да небо, светлые, ласковые, нежные.
Слегка покачиваясь на океанской зыби, русский военный паровой клипер «Забияка» быстро идет к югу, удаляясь все дальше и дальше от севера, мрачного, угрюмого и все-таки близкого и дорогого севера.
Небольшой, весь черный, стройный и красивый со своими тремя чуть-чуть подавшимися назад высокими мачтами, сверху донизу покрытыми парусами, «Забияка» с попутным и ровным, вечно дующим в одном и том же направлении северо-восточным пассатом бежит себе миль по семи-восьми в час, слегка накренившись своим подветренным бортом. Легко и грациозно поднимается «Забияка» с волны на волну, с тихим шумом рассекает их своим острым водорезом, вокруг которого пенится вода и рассыпается алмазной пылью. Волны ласково лижут бока клипера. За кормой стелется широкая серебристая лента.
На палубе и внизу идет обычная утренняя чистка и уборка клипера к подъему флага, то есть к восьми часам утра, когда на военном судне начинается день.
Рассыпавшись по палубе в своих белых рабочих рубахах с широкими откидными синими воротами, открывающими жилистые, загорелые шеи, матросы, босые, с засученными до колен штанами, моют, скребут и чистят палубу, борта, пушки и медь – словом, убирают «Забияку» с той щепетильной внимательностью, какой отличаются моряки при уборке своего судна, где всюду, от верхушек мачт до трюма, должна быть умопомрачающая чистота и где все, доступное кирпичу, суконке и белилам, должно блестеть и сверкать.
Матросы усердно работали и весело посмеивались, когда горластый боцман Матвеич, старый служака с типичным боцманским лицом старого времени, красным и от загара, и от береговых кутежей, с выкаченными серыми глазами, «чумея», как говорили матросы, во время «убирки», выпаливал какую-нибудь уж очень затейливую ругательную импровизацию, поражавшую даже привычное ухо русского матроса. Делал Матвеич это не столько для поощрения, сколько, как он выражался, «для порядка».
Никто за это не сердился на Матвеича. Все знают, что Матвеич добрый и справедливый человек, кляуз не заводит и не злоупотребляет своим положением. Все давно привыкли к тому, что он не мог произнести трех слов без ругани, и порой восхищаются его бесконечными вариациями. В этом отношении он был виртуоз.
Время от времени матросы бегали на бак, к кадке с водой и к ящику, где тлел фитиль, чтобы наскоро выкурить трубочку острой махорки и перекинуться словом. Затем снова принимались чистить и оттирать медь, наводить глянец на пушки и мыть борта, и особенно старательно, когда приближалась высокая худощавая фигура старшего офицера, с раннего утра носившаяся по всему клиперу, заглядывая то туда, то сюда.
Вахтенный офицер, молодой блондин, стоявший вахту с четырех до восьми часов, уже давно разогнал дрему первого получаса вахты. Весь в белом, с расстегнутой ночной сорочкой, он ходит взад и вперед по мостику, вдыхая полной грудью свежий воздух утра, еще не накаленный жгучим солнцем. Нежный ветер приятно ласкает затылок молодого лейтенанта, когда он останавливается, чтобы взглянуть на компас – по румбу ли правят рулевые, или на паруса – хорошо ли они стоят, или на горизонт – нет ли где шквалистого облачка.
Но все хорошо, и лейтенанту почти нечего делать на вахте в благодатных тропиках.
И он снова ходит взад и вперед и слишком рано мечтает о том времени, когда вахта кончится и он выпьет стакан-другой чаю со свежими, горячими булками, которые так мастерски печет офицерский кок, если только водку, которую он требует для поднятия теста, не вольет в себя.
II
Вдруг по палубе пронесся неестественно-громкий и тревожный окрик часового, который, сидя на носу судна, смотрел вперед:
– Человек в море!
Матросы кинули мгновенно работы и, удивленные и взволнованные, бросились на бак и устремили глаза на океан.
– Где он, где? – спрашивали со всех сторон часового, молодого белобрысого матроса, лицо которого вдруг побелело как полотно.
– Вон, – указывал дрогнувшей рукой матрос. – Теперь скрылся. А я сейчас видел, братцы. На мачте держался… Привязан, что ли, – возбужденно говорил матрос, напрасно стараясь отыскать глазами человека, которого только что видел.
Вахтенный лейтенант вздрогнул от окрика часового и впился глазами в бинокль, наводя его в пространство перед клипером.
Сигнальщик смотрел туда же в подзорную трубу.
– Видишь? – спросил молодой лейтенант.
– Вижу, ваше благородие. Левее извольте взять.
Но в это мгновение и офицер увидел среди волн обломок мачты и на ней человеческую фигуру.
И взвизгивающим дрожащим голосом, торопливым и нервным, он крикнул во всю силу своих здоровых легких:
– Свистать всех наверх! Грот и фок на гитовы! Баркас к спуску!
И, обратившись к сигнальщику, возбужденно прибавил:
– Не теряй из глаз человека!
– Пошел все наверх! – рявкнул сипловатым баском боцман после свистка в дудку.
Словно бешеные, матросы бросились к своим местам.
Капитан и старший офицер уже вбегали на мостик. Полусонные, заспанные офицеры, надевая на ходу кителя, поднимались по трапу на палубу.
Старший офицер принял команду, как всегда бывает при аврале, и, как только раздались его громкие отрывистые командные слова, матросы стали исполнять их с какой-то лихорадочной порывистостью. Все в их руках точно горело. Каждый словно бы понимал, как дорога каждая секунда.
Не прошло и семи минут, как почти все паруса, за исключением двух-трех, были убраны. «Забияка» лежал в дрейфе, недвижно покачиваясь среди океана, и баркас с шестнадцатью гребцами и офицером у руля спущен был на воду.
– С Богом! – крикнул с мостика капитан на отваливший от борта баркас.
Гребцы наваливались изо всех сил, торопясь спасти человека.
Но в эти семь минут, пока остановился клипер, он успел пройти больше мили, и обломка мачты с человеком не видно было и в бинокль.
По компасу заметили все-таки направление, в котором находилась мачта, и по этому направлению выгребал баркас, удаляясь от клипера.
Глаза всех моряков «Забияки» провожали баркас. Какой ничтожной скорлупкой казался он, то показываясь на гребнях больших океанских волн, то скрываясь за ними.
Скоро он казался маленькой черной точкой.
III
На палубе царила тишина.
Только порой матросы, теснившиеся на юте и на шканцах, менялись между собой отрывистыми замечаниями, произносимыми вполголоса:
– Должно, какой-нибудь матросик с потопшего корабля.
– Потопнуть кораблю здесь трудно. Разве вовсе плохое судно.
– Нет, видно, столкнулся с каким другим ночью.
– А то и сгорел.
– И всего-то один человек остался, братцы!
– Может, другие на шлюпках спасаются, а этого забыли.
– Живой ли он?
– Вода теплая. Может, и живой.
– И как это, братцы, акул-рыба его не съела. Здесь этих самых акулов страсть!
– Да-a, милые! Опасная эта флотская служба. Ах какая опасная! – произнес, подавляя вздох, совсем молодой чернявый матросик с серьгой, первогодок, прямо от сохи попавший в кругосветное плавание.
И с омраченным грустью лицом он снял шапку и медленно перекрестился, точно безмолвно моля Бога, чтобы он сохранил его от ужасной смерти где-нибудь в океане.
Прошло три четверти часа общего томительного ожидания.
Наконец сигнальщик, не отрывавший глаза от подзорной трубы, весело крикнул:
– Баркас пошел назад!
Когда он стал приближаться, старший офицер спросил сигнальщика:
– Есть на нем спасенный?
– Не видать, ваше благородие! – уже не так весело отвечал сигнальщик.
– Видно, не нашли! – проговорил старший офицер, подходя к капитану.
Командир «Забияки», низенький, коренастый и крепкий брюнет пожилых лет, заросший сильно волосами, покрывавшими мясистые щеки и подбородок густой черной заседевшею щетиной, с небольшими круглыми, как у ястреба, глазами, острыми и зоркими, – недовольно вздернул плечом и, видимо сдерживая раздражение, проговорил:
– Не думаю-с. На баркасе исправный офицер и не вернулся бы так скоро, если б не нашел человека-с.
– Но его не видно на баркасе.
– Быть может, внизу лежит, потому и не видно-с… А впрочем-с, скоро узнаем.
И капитан заходил по мостику, то и дело останавливаясь, чтобы взглянуть на приближавшийся баркас. Наконец он взглянул в бинокль и хоть не видел спасенного, но по спокойно-веселому лицу офицера, сидевшего на руле, решил, что спасенный на баркасе.
И на сердитом лице капитана засветилась довольная улыбка.
Еще несколько минут – и баркас подошел к борту и вместе с людьми был поднят на клипер.
Вслед за офицером из баркаса стали выходить гребцы, красные, вспотевшие, с трудом переводившие дыхание от усталости. Поддерживаемый одним из гребцов, на палубу вышел и спасенный – маленький негр, лет десяти-одиннадцати, весь мокрый, в рваной рубашке, прикрывавшей небольшую часть его худого, истощенного, черного, отливавшего глянцем тела.
Он едва стоял на ногах и вздрагивал всем телом, глядя ввалившимися большими глазами с какою-то безумной радостью и в то же время недоумением, словно не веря своему спасению.
– Совсем полумертвого с мачты сняли! Едва привели в чувство бедного мальчишку, – докладывал капитану офицер, ездивший на баркасе.
– Скорей его в лазарет! – приказал капитан.
Мальчика тотчас же отнесли в лазарет, вытерли насухо, уложили в койку, покрыли одеялами, и доктор начал его отхаживать, вливая в рот ему по нескольку капель коньяку.
Он жадно глотал влагу и умоляюще глядел на доктора, показывая на рот.
А наверху ставили паруса, и минут через пять «Забияка» снова шел прежним курсом, и матросы снова принялись за прерванные работы.
– Арапчонка спасли! – раздавались со всех сторон веселые матросские голоса.
– И какой же он щуплый, братцы!
Некоторые бегали в лазарет узнавать, что с арапчонком.
– Доктор отхаживает. Небось выходит!
Через час марсовой Коршунов принес известие, что арапчонок спит крепким сном, после того как доктор дал ему несколько ложечек горячего супа.
– Нарочно для арапчонка, братцы, кок суп варил, вовсе, значит, пустой, безо всего, так, отвар быдто, – с оживлением продолжал Коршунов, довольный и тем, что ему, известному вралю, верят в данную минуту, и тем, что он на этот раз не врет, и тем, что его слушают.
И, словно бы желая воспользоваться таким исключительным для него положением, он торопливо продолжает:
– Фершал, братцы, сказывал, что этот самый арапчонок по-своему что-то лопотал, когда его кормили, просил, значит: дайте больше, мол, этого самого супу. И хотел даже вырвать у доктора чашку. Однако не допустили: значит, брат, сразу нельзя… Помрет, мол.
– Что ж арапчонок?
– Ничего, покорился.
В эту минуту к кадке с водой подошел капитанский вестовой Сойкин и закурил окурок капитанской сигары. Тотчас же общее внимание было обращено на вестового, и кто-то спросил:
– А не слышно, Сойкин, куда денут потом арапчонка?
Рыжеволосый, веснушчатый, франтоватый, в собственной тонкой матросской рубахе и в парусинных башмаках, Сойкин не без достоинства пыхнул дымком сигары и авторитетным тоном человека, имеющего кое-какие сведения, проговорил:
– Куда деть? Оставят на Надежном мысу, когда, значит, придем туда.
«Надежным мысом» он называл мыс Доброй Надежды.
И, помолчав с важным видом, не без пренебрежения прибавил:
– Да и что с им делать, с черномазой нехристью? Вовсе даже дикие люди.
– Дикие не дикие, а все божья тварь. Пожалеть надо! – промолвил старый плотник Захарыч.
Слова Захарыча, видимо, вызвали общее сочувствие среди кучки курильщиков.
– А как же арапчонок оттель к своему месту вернется? Тоже и у его, поди, отец с матерью есть! – заметил кто-то.
– На Надежном мысу всяких арапов много. Небось дознаются, откуда он, – ответил Сойкин и, докурив окурок, вышел из круга.
– Тоже вестовщина!.. Полагает о себе! – сердито пустил ему вслед старый плотник.
IV
На другой день мальчик-негр хотя и был очень слаб, но настолько оправился после нервного потрясения, что доктор, добродушный пожилой толстяк, радостно улыбаясь своей широкой улыбкой, потрепал ласково мальчика по щеке и дал ему целую чашку бульона, наблюдая, с какою жадностью глотал он жидкость и как потом благодарно взглянул своими большими черными выпуклыми глазами, зрачки которых блестели среди белков.
После этого доктор захотел узнать, как мальчик очутился в океане и сколько времени он голодал, но разговор с пациентом оказался решительно невозможным, несмотря даже на выразительные пантомимы доктора. Хотя маленький негр, по-видимому, был сильнее доктора в английском языке, но так же, как и почтенный доктор, безбожно коверкал несколько десятков английских слов, которые были в его распоряжении.
Они друг друга не понимали.
Тогда доктор послал фельдшера за юным мичманом, которого все в кают-компании звали Петенькой.
– Вы, Петенька, отлично говорите по-английски, поговорите-ка с ним, а у меня что-то не выходит! – смеясь, проговорил доктор. – Да скажите ему, что дня через три я его выпущу из лазарета! – прибавил доктор.
Юный мичман, присев около койки, начал свой допрос, стараясь говорить короткие фразы тихо и раздельно, и маленький негр, видимо, понимал если не все, о чем спрашивал мичман, то, во всяком случае, кое-что и спешил отвечать рядом слов, не заботясь об их связи, но зато подкрепляя их выразительными пантомимами.
После довольно продолжительного и трудного разговора с мальчиком-негром мичман рассказал в кают-компании более или менее верную в общих чертах историю мальчика, основанную на его ответах и мимических движениях.
Мальчик был на американском бриге «Бетси» и принадлежал капитану («большому мерзавцу», – вставил мичман), которому чистил платье, сапоги и подавал кофе с коньяком или коньяк с кофе. Капитан звал слугу своего «боем»[14], и мальчик уверен, что это его имя. Отца и матери он не знает. Капитан год тому назад купил маленького негра в Мозамбике и каждый день бил его. Бриг шел из Сенегала в Рио с грузом негров. Две ночи тому назад бриг сильно стукнуло другое судно (эту часть рассказа мичман основал на том, что маленький негр несколько раз проговорил: «Кра, кра, кра» – и затем слабо стукнул своим кулачком по стенке лазаретной каютки), и бриг пошел ко дну. Мальчик очутился в воде, привязался к обломку мачты и провел на ней почти двое суток…
Но несравненно красноречивее всяких слов, если бы такие и мог сказать мальчик о своей ужасной жизни, говорило и его удивление, что с ним ласково обращаются, и забитый его вид, и эти благодарные его взгляды загнанной собачонки, которыми он смотрел на доктора, фельдшера и на мичмана, и главное – его покрытая рубцами, блестящая черная худая спина с выдающимися ребрами.
Рассказ мичмана и показания доктора произвели сильное впечатление в кают-компании. Кто-то сказал, что необходимо поручить этого бедняжку покровительству русского консула в Каптоуне и сделать в пользу негра сбор в кают-компании.
Пожалуй, еще большее впечатление произвела история маленького негра на матросов, когда в тот же день под вечер молодой вестовой мичмана, Артемий Мухин, или, как все его звали, Артюшка, передавал на баке рассказ мичмана, причем не отказал себе в некотором злорадном удовольствии украсить рассказ некоторыми прибавлениями, свидетельствующими о том, какой был дьявол этот американец капитан.
– Каждый день, братцы, он мучил арапчонка. Чуть что, сейчас в зубы: раз, другой, третий, да в кровь, а затем снимет с крючка плетку, – а плетка, братцы, отчаянная, из самой толстой ремешки, – и давай лупцевать арапчонка! – говорил Артюшка, вдохновляясь собственной фантазией, вызванной желанием представить жизнь арапчонка в самом ужасном виде. – Не разбирал, анафема, что перед им безответный мальчонка, хоть и негра. У бедняги и посейчас вся спина исполосована. Доктор сказывал: страсть поглядеть! – добавил впечатлительный и увлекавшийся Артюшка.
Но матросы, сами бывшие крепостные и знавшие по собственному опыту, как еще в недавнее время полосовали им спины, и без Артюшкиных прикрас жалели арапчонка и посылали по адресу американского капитана самые недобрые пожелания, если только этого дьявола уж не сожрали акулы.
– Небось у нас уж объявили волю крестьянам, а у этих мериканцев, значит, крепостные есть? – спросил какой-то пожилой матрос.
– То-то, есть!
– Чудно́ что-то! Вольный народ, а поди ж ты-ы! – протянул пожилой матрос.
– У их арапы быдто вроде крепостных! – объяснял Артюшка, слыхавший кое-что об этом в кают-компании. – Из-за этого самого у их промеж себя и война идет[15]. Одни мериканцы, значит, хотят, чтобы все арапы, что живут у их, были вольные, а другие на это никак не согласны – это те, которые имеют крепостных арапов, – ну и жарят друг дружку, страсть!.. Только господа сказывали, что которые мериканцы за арапов стоят, те одолеют! Начисто разделают помещиков мериканских! – не без удовольствия прибавил Артюшка.
– Небось Господь им поможет! И арапу на воле жить хочется… И птица клетки не любит, а человек и подавно! – вставил плотник Захарыч.
Чернявый молодой матросик-первогодок, тот самый, который находил, что флотская служба очень «опасная», с напряженным вниманием слушал разговор и наконец спросил:
– Теперь, значит, Артюшка, этот самый арапчонок вольный будет?
– А ты думал как? Известно, вольный! – решительно проговорил Артюшка, хотя в душе и не вполне был уверен в свободе арапчонка, не имея решительно никаких понятий об американских законах насчет прав собственности.
Но его собственные соображения решительно говорили за свободу мальчика. «Чёрта-хозяина» нет, к рыбам в гости пошел, так какой тут разговор!
И он прибавил:
– Теперь арапчонку только новый пачпорт выправить на Надежном мысу. Получи пачпорт – и айда на все четыре стороны!
Эта комбинация с паспортом окончательно рассеяла его сомнения.
– То-то и есть! – радостно воскликнул чернявый матросик-первогодок.
И на его добродушном румяном лице с добрыми, как у щенка, глазами засветилась тихая светлая улыбка, выдававшая радость за маленького несчастного негра.
Короткие сумерки быстро сменились чу́дной, ласковой тропической ночью. Небо зажглось мириадами звезд, ярко мигающих с бархатной выси. Океан потемнел вдали, сияя фосфорическим блеском у бортов клипера и за кормой.
Скоро просвистали на молитву, и затем подвахтенные, взявши койки, улеглись спать на палубе.
А вахтенные матросы коротали вахту, притулившись у снастей, и лясничали вполголоса. В эту ночь во многих кучках говорили об арапчонке.
V
Через два дня доктор, по обыкновению, пришел в лазарет в семь часов утра и, обследовав своего единственного пациента, нашел, что он поправился, может встать, выйти наверх и есть матросскую пищу. Объявил он об этом маленькому негру больше знаками, которые были на этот раз быстро поняты поправившимся и повеселевшим мальчиком, казалось уже забывшим недавнюю близость смерти. Он быстро вскочил с койки, обнаруживая намерение идти наверх погреться на солнышке, в длинной матросской рубахе, которая сидела на нем в виде длинного мешка, но веселый смех доктора и хихиканье фельдшера при виде черненького человечка в таком костюме несколько смутили негра, и он стоял среди каюты, не зная, что ему предпринять, и не вполне понимая, к чему доктор дергает его рубаху, продолжая смеяться.
Тогда негр быстро ее снял и хотел было юркнуть в двери нагишом, но фельдшер удержал его за руку, а доктор, не переставая смеяться, повторял:
– No, no, no[16]…
И вслед за тем знаками приказал негру надеть свою рубашку-мешок.
– Во что бы одеть его, Филиппов? – озабоченно спрашивал доктор щеголеватого курчавого фельдшера, человека лет тридцати. – Об этом-то мы с тобой, братец, и не подумали.
– Точно так, вашескобродие, об этом мечтания не было. А ежели теперь обрезать ему, значит, рубаху примерно до колен, вашескобродие, да, с позволения сказать, перехватить талию ремнем, то будет даже довольно обоюдно, вашескобродие, – заключил фельдшер, имевший несчастную страсть употреблять некстати слова, когда он хотел выразиться покудрявее или, как матросы говорили, «позанозистее».
– То есть как «обоюдно»? – улыбнулся доктор.
– Да так-с, обоюдно… Кажется, всем известно, что обозначает «обоюдно», вашескобродие! – обиженно проговорил фельдшер. – Удобно и хорошо, значит.
– Едва ли это будет «обоюдно», как ты говоришь. Один смех будет, вот что, братец. А впрочем, надо же как-нибудь одеть мальчика, пока не попрошу у капитана разрешения сшить мальчику платье по мерке.
– Очень даже возможно хороший костюм сшить. На клипере есть матросы по портной части. Сошьют.
– Так устраивай свой обоюдный костюм!
Но в эту минуту в двери лазаретной каюты раздался осторожный, почтительный стук.
– Кто там? Входи! – крикнул доктор.
В дверях показалось сперва красноватое, несколько припухлое, неказистое лицо, обрамленное русыми баками, с подозрительного цвета носом и воспаленными, живыми и добрыми глазами, а вслед за тем и вся небольшая, сухощавая, довольно ладная и крепкая фигура фор-марсового Ивана Лучкина.
Это был пожилой матрос, лет сорока, прослуживший во флоте пятнадцать лет и бывший на клипере одним из лучших матросов – и отчаянных пьяниц, когда попадал на берег. Случалось, он на берегу пропивал все свое платье и являлся на клипер в одном белье, ожидая на следующее утро наказания с самым, казалось, беззаботным видом.
– Это я, вашескобродие, – проговорил Лучкин сиповатым голосом, переступая большими ступнями босых жилистых ног и теребя засмоленной шершавой рукой обтянутую штанину.
В другой руке у него был узелок.
Он глядел на доктора с тем застенчиво-виноватым выражением и в лице и в глазах, которое часто бывает у пьяниц и вообще у людей, знающих за собой порочные слабости.
– Что тебе, Лучкин? Заболел, что ли!
– Никак нет, вашескобродие, – я вот платье арапчонку принес. Думаю: голый, так сшил и мерку еще раньше снял. Дозвольте отдать, вашескобродие.
– Отдавай, братец. Очень рад! – говорил доктор, несколько изумленный. – Мы вот думали, во что бы одеть мальчика, а ты раньше нас подумал о нем.
– Способное время было, вашескобродие, – как бы извинялся Лучкин.
И с этими словами он вынул из ситцевого платка маленькую матросскую рубаху и такие же штаны, сшитые из холста, встряхнул их и, подавая ошалевшему мальчику, весело и уже совсем невиноватым тоном, каким говорил с доктором, сказал, ласково глядя на негра:
– Получай, Максимка! Одёжа самая, братец ты мой, вери гут[17]. Одевай да носи на здоровье, а я посмотрю, как сидит… Вали, Максимка!
– Отчего ты его Максимкой зовешь? – рассмеялся доктор.
– А как же, вашескобродие? Максимка и есть, потому как его в день святого угодника Максима спасли, он и выходит Максимка. Опять же имени у арапчонка нет, а надо же его как-нибудь звать.
Радости мальчика не было пределов, когда он облачился в новую, чистую пару. Видимо, такого платья он никогда не носил.
Лучкин осмотрел свое изделие со всех сторон, обдергал и пригладил рубаху и нашел, что платье во всем аккурате.
– Ну, теперь валим наверх, Максимка. Погрейся на солнышке! Дозвольте, вашескобродие.
Доктор, сияя добродушной улыбкой, кивнул головой, и матрос, взяв за руку негра, повел его на бак и, показывая его матросам, проговорил:
– Вот он и Максимка! Небось теперь забудет идола-мериканца, знает, что российские матросы его не забидят.
И он любовно трепал мальчика по плечу и, показывая на его курчавую голову, сказал:
– Ужо, брат, и шапку справим… И башмаки будут, дай срок!
Мальчик ничего не понимал, но чувствовал по всем этим загорелым лицам матросов, по их улыбкам, полным участия, что его не обидят.
И он весело скалил свои ослепительно белые зубы, нежась под горячими лучами родного ему южного солнца.
С этого дня все стали его звать Максимкой.
VI
Представив матросам на баке маленького, одетого по-матросски негра, Иван Лучкин тотчас же объявил, что будет «доглядывать» за Максимкой и что берет его под свое особое покровительство, считая, что это право принадлежит исключительно ему уж в силу того, что он «обрядил мальчонка» и дал ему, как он выразился, «форменное прозвище».
О том, что этот заморенный, худой маленький негр, испытавший на заре своей жизни столько горя у капитана-американца, возбудил необыкновенную жалость в сердце одинокого как перст матроса, жизнь которого, особенно прежде, тоже была не из сладких, и вызвал желание сделать для него возможно приятными дни пребывания на клипере, – о том Лучкин не проронил ни слова. По обыкновению русских простых людей, он стыдился перед другими обнаруживать свои чувства и, вероятно, поэтому объяснил матросам желание «доглядывать» за Максимкой исключительно тем, что «арапчонок занятный, вроде облизьяны, братцы».
Однако на всякий случай довольно решительно заявил, бросая внушительный взгляд на матроса Петрова, известного задиру, любившего обижать безответных и робких первогодков-матросов, – что если найдется такой, «прямо сказать, подлец», который забидит сироту, то будет иметь дело с ним, с Иваном Лучкиным.
– Небось искровяню морду в самом лучшем виде! – прибавил он, словно бы в пояснение того, что значит иметь с ним дело. – Забижать дите – самый большой грех. Какое ни на есть оно: хрещеное или арапское, а все дите… И ты его не забидь! – заключил Лучкин.
Все матросы охотно признали заявленные Лучкиным права на Максимку, хотя многие скептически отнеслись к рачительному исполнению принятой им добровольно на себя хлопотливой обязанности.
Где, мол, такому «отчаянному матросне» и забулдыге-пьянице возиться с арапчонком?
И кто-то из старых матросов не без насмешки спросил:
– Так ты, Лучкин, значит, вроде быдто няньки будешь у Максимки?
– То-то за няньку! – отвечал с добродушным смехом Лучкин, не обращая внимания на иронические усмешки и улыбки. – Нешто я в няньки не гожусь, братцы? Не к барчуку ведь! Тоже и этого черномазого надо обрядить. Другую смену одёжи сшить, да башмаки, да шапку справить. Дохтур исхлопочет, чтобы, значит, товар казенный выдали. Пущай Максимка добром вспомнит российских матросиков, как оставят его, беспризорного, на Надежном мысу. По крайности, не голый будет ходить.
– Да как же ты, Лучкин, будешь лопотать с этим самым арапчонком? Ни ты его, ни он тебя!..
– Небось договоримся! Еще как будем-то говорить! – с какой-то непостижимой уверенностью произнес Лучкин. – Он даром что арапского звания, а понятливый. Я его, братцы, скоро по-нашему выучу. Он поймет.
И Лучкин ласково взглянул на маленького негра, который, притулившись к борту, любопытно озирался вокруг.
И негр, перехватив этот полный любви и ласки взгляд матроса, тоже в ответ улыбался, оскаливая зубы, широкой благодарной улыбкой, понимая без слов, что этот матрос друг ему.
Когда в половине двенадцатого часа были окончены все утренние работы и вслед за тем вынесли на палубу ендову с водкой и оба боцмана и восемь унтер-офицеров, ставши в кружок, засвистали призыв к водке, который матросы не без остроумия называют «соловьиным пением», – Лучкин, радостно улыбаясь, показал мальчику на свой рот, проговорив: «Сиди тут, Максимка!» – и побежал на шканцы, оставив негра в некотором недоумении.
Недоумение его, впрочем, скоро разрешилось.
Острый запах водки, распространявшийся по всей палубе, и удовлетворенно-серьезные лица матросов, которые, возвращаясь со шканцев, утирали усы своими засмоленными шершавыми руками, напомнили маленькому негру о том, что и на «Бетси» раз в неделю матросам давали по стакану рома, и о том, что капитан пил его ежедневно и, как казалось мальчику, больше, чем бы следовало.
Лучкин, уже вернувшийся к Максимке и после большой чарки водки бывший в благодушном настроении, весело трепанул мальчика по спине и, видимо желая поделиться с ним приятными впечатлениями, проговорил:
– Бон[18] водка! Бери гут шнапс, Максимка, я тебе скажу.
Максимка сочувственно кивнул головой и промолвил:
– Вери гут!
Это быстрое понимание привело Лучкина в восхищение, и он воскликнул:
– Ай да молодца, Максимка! Все понимаешь… А теперь валим, мальчонка, обедать. Небось есть хочешь?
И матрос довольно наглядно задвигал скулами, открывая рот.
И это понять было нетрудно, особенно когда мальчик увидал, как снизу один за другим выходили матросы-артельщики, имея в руках изрядные деревянные баки (мисы) со щами, от которых шел вкусный пар, приятно щекотавший обоняние.
И маленький негр довольно красноречиво замахал головой, и глаза его блеснули радостью.
– Ишь ведь, все понимает! Башковатый! – промолвил Лучкин, начинавший уже несколько пристрастно относиться и к арапчонку, и к своему умению разговаривать с ним понятно, и, взяв Максимку за руку, повел его.
На палубе, прикрытой брезентами, уже расселись, поджав ноги, матросы небольшими артелями, человек по двенадцать, вокруг дымящихся баков со щами из кислой капусты, запасенной еще из Кронштадта, и молча и истово, как вообще едят простолюдины, хлебали варево, заедая его размоченными сухарями.
Осторожно ступая между обедающими, Лучкин подошел с Максимкой к своей артели, расположившейся между грот– и фок-мачтами, и проговорил, обращаясь к матросам, еще не начинавшим, в ожидании Лучкина, обедать:
– А что, братцы, примете в артель Максимку?
– Чего спрашиваешь зря? Садись с арапчонком! – проговорил старый плотник Захарыч.
– Может, другие которые… Сказывай, ребята! – снова спросил Лучкин.
Все в один голос отвечали, что пусть арапчонок будет в их артели, и потеснились, чтобы дать им обоим место.
И со всех сторон раздались шутливые голоса:
– Небось не объест твой Максимка!
– И всю солонину не съест!
– Ему и ложка припасена, твоему арапчонку.
– Да я, братцы, по той причине, что он негра… некрещеный, значит, – промолвил Лучкин, присевши к баку и усадивши около себя Максимку. – Но только я полагаю, что у Бога все равны. Всем хлебушка есть хочется.
– А то как же? Господь на земле всех терпит. Небось не разбирает. Это вот разве который дурак, как вестовщина Сойкин, мелет безо всякого рассудка об нехристях! – снова промолвил Захарыч.
Все, видимо, разделяли мнение Захарыча. Недаром же русские матросы с замечательной терпимостью относятся к людям всех рас и исповеданий, с какими приходится им встречаться.
Артель отнеслась к Максимке с полным радушием. Один дал ему деревянную ложку, другой придвинул размоченный сухарь, и все глядели ласково на затихшего мальчика, видимо не привыкшего к особенному вниманию со стороны людей белой кожи, и словно бы приглашали его этими взглядами не робеть.
– Однако и начинать пора, а то щи застынут! – заметил Захарыч.
Все перекрестились и начали хлебать щи.
– Ты что же не ешь, Максимка, а? Ешь, глупый! Шти, братец, скусные. Гут щи! – говорил Лучкин, показывая на ложку.
Но маленький негр, которого на бриге никогда не допускали есть вместе с белыми и который питался объедками один, где-нибудь в темном уголке, робел, хотя и жадными глазами посматривал на щи, глотая слюну.
– Эка пужливый какой! Видно, застращал арапчонка этот самый дьявол мериканец! – промолвил Захарыч, сидевший рядом с Максимкой.
И с этими словами старый плотник погладил курчавую голову Максимки и поднес к его рту свою ложку…
После этого Максимка перестал бояться и через несколько минут уже усердно уписывал и щи, и накрошенную потом солонину, и пшенную кашу с маслом.
А Лучкин то и дело его похваливал и повторял:
– Вот это бон, Максимка. Вери гут, братец ты мой. Кушай себе на здоровье!
VII
По всему клиперу раздается храп отдыхающих после обеда матросов. Только отделение вахтенных не спит, да кто-нибудь из хозяйственных матросов, воспользовавшись временем, тачает себе сапоги, шьет рубаху или чинит какую-нибудь принадлежность своего костюма.
А «Забияка» идет да идет себе с благодатным пассатом, и вахтенным решительно нечего делать, пока не набежит грозовое облачко и не заставит моряков на время убрать все паруса, чтобы встретить тропический шквал с проливным дождем готовыми, то есть с оголенными мачтами, представляя его ярости меньшую площадь сопротивления.
Но горизонт чист. Ни с одной стороны не видно этого маленького серенького пятнышка, которое, быстро вырастая, несется громадной тучей, застилающей горизонт и солнце. Страшный порыв валит судно набок, страшный ливень стучит по палубе, промачивает до костей, и шквал так же быстро проносится далее, как и появляется. Он нашумел, облил дождем и исчез.
И снова ослепительное солнце, лучи которого быстро сушат и палубу, и снасти, и паруса, и матросские рубахи, и снова безоблачное голубое небо и ласковый океан, по которому бежит, снова одевшись всеми парусами, судно, подгоняемое ровным пассатом.
Благодать кругом и теперь. Тишина и на клипере. Команда отдыхает, и в это время нельзя без особой крайности беспокоить матросов – такой давно установившийся обычай на судах.
Притулившись в тени у фок-мачты, не спит сегодня и Лучкин, к удивлению вахтенных, знавших, что Лучкин «здоров спать».
Мурлыкая себе под нос песенку, слов которой не разобрать, Лучкин кроил из куска парусины башмаки и по временам взглядывал на растянувшегося около него, сладко спавшего Максимку и на его ноги, чернеющиеся из-за белых штанин, словно бы соображая, правильна ли мерка, которую он снял с этих ног тотчас же после обеда.
По-видимому, наблюдения вполне успокаивают матроса, и он продолжает работу, не обращая больше внимания на маленькие черные ноги.
И что-то радостное и теплое охватывает душу этого бесшабашного пропойцы при мысли о том, что он сделает «на первый сорт» башмаки этому бедному, беспризорному мальчишке и справит ему все, что надо. Вслед за тем невольно проносится вся его матросская жизнь, воспоминание о которой представляет довольно однообразную картину бесшабашного пьянства и по́рок за пропитые казенные вещи.
И Лучкин не без основательности заключает, что не будь он отчаянным марсовым, бесстрашие которого приводило в восторг всех капитанов и старших офицеров, с которыми он служил, то давно бы ему быть в арестантских ротах.
– За службу жалели! – проговорил он вслух и почему-то вздохнул и прибавил: – То-то она и загвоздка!
К какому именно обстоятельству относилась эта «загвоздка»: к тому ли, что он отчаянно пьянствовал при съездах на берег и дальше ближайшего кабака ни в одном городе (кроме Кронштадта) не бывал, или к тому, что он был лихой марсовой и потому только не попробовал арестантских рот, – решить было трудно. Но несомненным было одно: вопрос о какой-то «загвоздке» в его жизни заставил Лучкина на несколько минут прервать мурлыканье, задуматься и в конце концов проговорить вслух:
– И хуфайку бы нужно Максимке… А то какой же человек без хуфайки?
В продолжение часа, полагавшегося на послеобеденный отдых команды, Лучкин успел скроить передки и приготовить подошвы для башмаков Максимки. Подошвы были новые, из казенного товара, приобретенные еще утром в долг у одного хозяйственного матроса, имевшего собственные сапоги, причем «для верности», по предложению самого Лучкина, знавшего, как трудно у него держатся деньги, в особенности на твердой земле, уплату долга должен был произвести боцман, удержав деньги из жалованья.
Когда раздался боцманский свисток и вслед за тем команда горластого боцмана Василия Егоровича, или Егорыча, как звали его матросы, Лучкин стал будить сладко спавшего Максимку. Он хоть и пассажир, а все же должен был, по мнению Лучкина, жить по-матросски, как следует по расписанию, во избежание каких-либо неприятностей, главным образом со стороны Егорыча. Егорыч хоть и был, по убеждению Лучкина, «добер» и дрался не зря, а с «большим рассудком», а все-таки под сердитую руку мог съездить по уху и арапчонка за «непорядок». Так уж лучше и арапчонка к порядку приучать.
– Вставай, Максимка! – говорил ласковым тоном матрос, потряхивая за плечо негра.
Тот потянулся, открыл глаза и поглядел вокруг. Увидав, что все матросы встают и Лучкин собирает свою работу, Максимка торопливо вскочил на ноги и, как покорная собачонка, смотрел в глаза Лучкина.
– Да ты не бойся, Максимка! Ишь глупый… Всего боится! А это, братец, тебе будут башмаки.
Хотя негр решительно не понимал, что говорил ему Лучкин, то показывая на его ноги, то на куски скроенной парусины, тем не менее улыбался во весь свой широкий рот, чувствуя, вероятно, что ему говорят что-нибудь хорошее. Доверчиво и послушно пошел он за поманившим его Лучкиным на кубрик и там любопытно смотрел, как матрос уложил в парусинный чемоданчик, наполненный бельем и платьем, свою работу, и снова ничего не понимал и только опять благодарно улыбался, когда Лучкин снял свою шапку и, показывая пальцем то на нее, то на голову маленького негра, тщетно старался объяснить и словами и знаками, что и у Максимки будет такая же шапка с белым чехлом и лентой.
Но зато негр чувствовал всем своим маленьким сердцем расположение этих белых людей, говоривших совсем не на том языке, на котором говорили белые люди на «Бетси», и особенно доброту этого матроса с красным носом, напоминавшим ему стручковый перец, и с волосами, похожими цветом на паклю, который подарил ему такое чу́дное платье, так хорошо угостил его вкусными яствами и так ласково смотрит на него, как никто не глядел на него во всю жизнь, кроме пары чьих-то больших черных навыкате глаз на женском чернокожем лице.
Эти глаза, добрые и нежные, жили в его памяти как далекое, смутное воспоминание, нераздельное с представлением шалашей, крытых бананами, и высоких пальм. Были ли это грезы или впечатления детства – он, конечно, не мог бы объяснить; но эти глаза, случалось, жалели его во сне. И теперь он увидал и наяву добрые, ласковые глаза.
Да и вообще эти дни пребывания на клипере казались ему теми хорошими грезами, которые являлись только во сне, – до того они непохожи были на недавние, полные страданий и постоянного страха.
Когда Лучкин, бросив объяснения насчет шапки, достал из чемоданчика кусок сахару и дал его Максимке, мальчик был окончательно подавлен. Он схватил мозолистую, шершавую руку матроса и стал ее робко и нежно гладить, заглядывая в лицо Лучкина с трогательным выражением благодарности забитого существа, согретого лаской. Эта благодарность светилась и в глазах, и в лице… Она слышалась и в дрогнувших гортанных звуках нескольких слов, порывисто и горячо произнесенных мальчиком на своем родном языке перед тем, как он засунул сахар в рот.
– Ишь ведь, ласковый! Видно, не знал доброго слова, горемычный! – промолвил матрос с величайшей нежностью, которую только мог выразить его сиповатый голос, и потрепал Максимку по щеке. – Ешь сахар-то. Скусный! – прибавил он.
И здесь, в этом темном уголке кубрика, после обмена признаний, закрепилась, так сказать, взаимная дружба матроса с маленьким негром. Оба, казалось, были вполне довольны друг другом.
– Беспременно надо выучить тебя, Максимка, по-нашему, а то и не разобрать, что ты лопочешь, черномазый! Однако валим наверх! Сейчас антиллеринское ученье. Поглядишь!
Они вышли наверх. Скоро барабанщик пробил артиллерийскую тревогу, и Максимка, прислонившись к мачте, чтоб не быть сбитым с ног, сперва испугался при виде бегущих стремглав к орудиям матросов, но потом скоро успокоился и восхищенными глазами смотрел, как матросы откатывали большие орудия, как быстро совали в них банники и, снова выдвигая орудия за борт, недвижно замирали около них. Мальчик ждал, что будут стрелять, и недоумевал, в кого это хотят стрелять, так как на горизонте не было ни одного судна.
А он уже был знаком с выстрелами и даже видел, как близко шлепнулась какая-то штука за кормой «Бетси», когда она, спустившись по ветру, удирала во все лопатки от какого-то трехмачтового судна, которое гналось за шхуной, наполненной грузом негров. Мальчик видел испуганные лица у всех на «Бетси» и слышал, как ругался капитан, пока трехмачтовое судно не стало значительно отставать. Он не знал, конечно, что это был один из военных английских крейсеров, назначенный для ловли негропромышленников, и тоже радовался, что шхуна убежала и таким образом его мучитель капитан не был пойман и не вздернут на нока-рее за позорную торговлю людьми[19].
Но выстрелов не было, и Максимка так их и не дождался. Зато с восхищением слушал барабанную дробь и не спускал глаз с Лучкина, который стоял у бакового орудия комендором и часто нагибался, чтобы прицеливаться.
Зрелище учения очень понравилось Максимке, но не менее понравился ему и чай, которым после учения угостил его Лучкин. Сперва Максимка только диву давался, глядя, как все матросы дуют горячую воду из кружек, закусывая сахаром и обливаясь по́том. Но когда Лучкин дал и ему кружку и сахару, Максимка вошел во вкус и выпил две кружки.
Что же касается первого урока русского языка, начатого Лучкиным в тот же день, перед вечером, когда начала спадать жара и когда, по словам матроса, было «легче войти в понятие», то начало его – признаться – не предвещало особенных успехов и вызывало немало-таки насмешек среди матросов при виде тщетных усилий Лучкина объяснить ученику, что его зовут Максимкой, а что учителя зовут Лучкиным.
Однако Лучкин хоть и не был никогда педагогом, тем не менее обнаружил такое терпение, такую выдержку и мягкость в стремлении во что бы то ни стало заложить, так сказать, первое основание обучения, каковым он считал знание имени, что им могли бы позавидовать патентованные педагоги, которым вдобавок едва ли приходилось преодолевать трудности, представившиеся матросу.
Придумывая более или менее остроумные способы для достижения заданной себе цели, Лучкин тотчас же приводил их в исполнение.
Он тыкал в грудь маленького негра и говорил: «Максимка», затем показывал на себя и говорил: «Лучкин». Проделав это несколько раз и не достигнув удовлетворительного результата, Лучкин отходил на несколько шагов и вскрикивал: «Максимка!» Мальчик скалил зубы, но не усваивал и этого метода. Тогда Лучкин придумал новую комбинацию. Он попросил одного матросика крикнуть: «Максимка!» – и когда матрос крикнул, Лучкин не без некоторого довольства человека, уверенного в успехе, указал пальцем на Максимку и даже для убедительности осторожно затем встряхнул его за шиворот. Увы! Максимка весело смеялся, но, очевидно, понял встряхивание за приглашение потанцевать, потому что тотчас же вскочил на ноги и стал отплясывать, к общему удовольствию собравшейся кучки матросов и самого Лучкина.
Когда танец был окончен, маленький негр отлично понял, что пляской его остались довольны, потому что многие матросы трепали его по плечу, и по спине, и по голове и говорили, весело смеясь:
– Гут, Максимка! Молодца, Максимка!
Трудно сказать, насколько бы увенчались успехом дальнейшие попытки Лучкина познакомить Максимку с его именем, – попытки, к которым Лучкин хотел было вновь приступить, – но появление на баке мичмана, говорящего по-английски, значительно упростило дело. Он объяснил мальчику, что он не «бой», а Максимка, и кстати сказал, что Максимкиного друга зовут Лучкин.
– Теперь, брат, он знает, как ты его прозвал! – проговорил, обращаясь к Лучкину, мичман.
– Премного благодарен, ваше благородие! – отвечал обрадованный Лучкин и прибавил: – А то я, ваше благородие, долго бился… Мальчонка башковатый, а никак не мог взять в толк, как его зовут.
– Теперь знает… Ну-ка, спроси.
– Максимка!
Маленький негр указал на себя.
– Вот так ловко, ваше благородие! Лучкин! – снова обратился матрос к мальчику.
Мальчик указал пальцем на матроса.
И оба они весело смеялись. Смеялись и матросы и замечали:
– Арапчонок в науку входит…
Дальнейший урок пошел как по маслу.
Лучкин указывал на разные предметы и называл их, причем при малейшей возможности исковеркать слово коверкал его, говоря вместо рубаха – «рубах», вместо мачта – «мачт», уверенный, что при таком изменении слов они более похожи на иностранные и легче могут быть усвоены Максимкой.
Когда просвистали ужинать, Максимка уже мог повторять за Лучкиным несколько русских слов.
– Ай да Лучкин! Живо обучил арапчонка. Того и гляди, до Надежного мыса понимать станет по-нашему! – говорили матросы.
– Еще как поймет-то! До Надежного ходу никак не меньше двадцати дён… А Максимка понятливый!
При слове «Максимка» мальчик взглянул на Лучкина.
– Ишь, твердо знает свою кличку!.. Садись, братец, ужинать будем!
Когда после молитвы раздали койки, Лучкин уложил Максимку около себя на палубе. Максимка, счастливый и благодарный, приятно потягивался на матросском тюфячке, с подушкой под головой, и под одеялом, – все это Лучкин исхлопотал у подшкипера, отпустившего арапчонку койку со всеми принадлежностями.
– Спи, спи, Максимка! Завтра рано вставать!
Но Максимка и без того уже засыпал, проговорив довольно недурно для первого урока: «Максимка» и «Лючики», как переделал он фамилию своего пестуна[20].
Матрос перекрестил маленького негра и скоро уже храпел во всю ивановскую.
С полуночи он стал на вахту и вместе с фор-марсовым Леонтьевым полез на фор-марс.
Там они присели, осмотрев предварительно, все ли в порядке, и стали «лясничать»[21], чтобы не одолевала дрема. Говорили о Кронштадте, вспоминали командиров… и смолкли.
Вдруг Лучкин спросил:
– И никогда ты, Леонтьев, этой самой водкой не занимался?
Тверезый, степенный и исправный Леонтьев, уважавший Лучкина как знающего фор-марсового, работавшего на ноке, и несколько презиравший в то же время его за пьянство, категорически ответил:
– Ни в жисть!
– Вовсе, значит, не касался?
– Разве когда стаканчик в праздник.
– То-то ты и чарки своей не пьешь, а деньги за чарки забираешь?
– Деньги-то, братец, нужнее… Вернемся в Россию, ежели выйдет отставка, при деньгах ты завсегда обернешься.
– Это что и говорить…
– Да ты к чему это, Лучкин, насчет водки?
– А к тому, что ты, Леонтьев, задачливый матрос…
Лучкин помолчал и затем опять спросил:
– Сказывают: заговорить можно от пьянства?
– Заговаривают люди, это верно. На «Кобчике» одного матроса заговорил унтерцер. Слово такое знал… И у нас есть такой человек…
– Кто?
– А плотник Захарыч. Только он в секрете держит. Не всякого уважит. А ты нешто хочешь бросить пьянство, Лучкин? – насмешливо промолвил Леонтьев.
– Бросить не бросить, а чтобы, значит, без пропо́ю вещей.
– Попробуй пить с рассудком.
– Пробовал. Ничего не выходит, братец ты мой. Как дорвусь до винища – и пропал. Такая моя линия!
– Рассудку в тебе нет настоящего, а не линия! – внушительно заметил Леонтьев. – Каждый человек должен себя понимать… А ты все-таки поговори с Захарычем. Может, и не откажет… Только вряд ли тебя заговорит! – прибавил насмешливо Леонтьев.
– То-то и я полагаю! Не заговорит! – вымолвил Лучкин и сам почему-то усмехнулся, точно довольный, что его не заговорить.
VIII
Прошло три недели, и хотя «Забияка» был недалеко от Каптоуна, но попасть в него не мог. Свежий противный ветер, дувший, как говорят моряки, прямо «в лоб» и по временам доходивший до степени шторма, не позволял клиперу приблизиться к берегу; при этом ветер и волнение были так сильны, что нечего было и думать пробовать идти под парами. Даром потратили бы уголь.
И в ожидании перемены погоды «Забияка» с зарифленными марселями держался недалеко от берегов, стремительно покачиваясь на океане.
Так прошло дней шесть-семь.
Наконец ветер стих. На «Забияке» развели пары, и скоро, попыхивая дымком из своей белой трубы, клипер направился к Каптоуну.
Нечего и говорить, как рады были этому моряки.
Но был один человек на клипере, который не только не радовался, а, напротив, по мере приближения «Забияки» к порту, становился задумчивее и угрюмее.
Это был Лучкин, ожидавший разлуки с Максимкой.
За этот месяц, в который Лучкин, против ожидания матросов, не переставал пестовать Максимку, он привязался к Максимке, да и маленький негр в свою очередь привязался к матросу. Они отлично понимали друг друга, так как и Лучкин проявил блистательные педагогические способности, и Максимка обнаружил достаточную понятливость и мог объясниться кое-как по-русски. Чем более они узнавали один другого, тем более дружили. Уж у Максимки были две смены платья, башмаки, шапка и матросский нож на ремешке. Он оказался смышленым и веселым мальчиком и давно уже сделался фаворитом всей команды. Даже и боцман Егорыч, вообще не терпевший никаких пассажиров на судне, как людей, ничего не делающих, относился весьма милостиво к Максимке, так как Максимка всегда во время работ тянул вместе с другими снасти и вообще старался чем-нибудь да помочь другим и, так сказать, не даром есть матросский паек. И по вантам взбегал, как обезьяна, и во время шторма не обнаруживал ни малейшей трусости, – одним словом, был во всех статьях «морской мальчонка».
Необыкновенно добродушный и ласковый, он нередко забавлял матросов своими танцами на баке и родными песнями, которые распевал звонким голосом. Все его за это баловали, а мичманский вестовой Артюшка нередко на́шивал ему остатки пирожного с кают-компанейского стола.
Нечего и прибавлять, что Максимка был предан Лучкину, как собачонка, всегда был при нем и, что называется, смотрел ему в глаза. И на марс к нему лазил, когда Лучкин бывал там во время вахты, и на носу с ним сидел на часах, и усердно старался выговаривать русские слова…
Уже обрывистые берега были хорошо видны. «Забияка» шел полным ходом. К обеду должны были стать на якорь в Каптоуне.
Невеселый был Лучкин в это славное солнечное утро и с каким-то особенным ожесточением чистил пушку. Около него стоял Максимка и тоже подсоблял ему.
– Скоро прощай, брат Максимка! – заговорил наконец Лучкин.
– Зачем прощай? – удивился Максимка.
– Оставят тебя на Надежном мысу. Куда тебя девать?..
Мальчик, не думавший о своей будущей судьбе и не совсем понимавший, что ему говорит Лучкин, тем не менее догадался по угрюмому выражению лица матроса, что сообщение его не из радостных, и подвижное лицо его, быстро отражавшее впечатления, внезапно омрачилось, и он сказал:
– Мой не понимай Лючика.
– Айда, брат, с клипера. На берегу оставят… Я уйду дальше, а Максимка здесь.
И Лучкин пантомимами старался пояснить, в чем дело.
По-видимому, маленький негр понял. Он ухватился за руку Лучкина и молящим голоском проговорил:
– Мой нет берег! Мой здесь! Максимка, Лючика, Лючика, Максимка! Мой люсска матлос… Да, да, да…
И тогда внезапная мысль озарила матроса. И он спросил:
– Хочешь, Максимка, русска матрос?
– Да, да, – повторял Максимка и изо всех сил кивал головой.
– То-то бы отлично! И как это мне раньше невдомек… Надо поговорить с ребятами и просить Егорыча. Он доложит старшему офицеру.
Через несколько минут Лучкин на баке говорил собравшимся матросам:
– Братцы! Максимка желает остаться с нами. Будем просить, чтобы дозволили ему остаться… Пусть плавает на «Забияке»! Как вы об этом полагаете, братцы?
Все матросы выразили живейшее одобрение этому предложению.
Вслед за тем Лучкин пошел к боцману и просил его доложить о просьбе команды старшему офицеру и прибавил:
– Уж ты, Егорыч, уважь, не откажи. И попроси старшего офицера. Максимка сам, мол, желает… А то куда же бросить бесприютного сироту на Надежном мысу. И вовсе он пропасть там может, Егорыч. Жаль мальчонку. Хороший он ведь, исправный мальчонка.
– Что ж, я доложу. Максимка – мальчишка аккуратный. Только как капитан… Согласится ли арапского звания негру оставить на российском корабле. Как бы не было в этом загвоздки.
– Никакой не будет загвоздки, Егорыч. Мы Максимку из арапского звания выведем.
– Как так?
– Окрестим в русскую веру, Егорыч, и будет он, значит, русского звания арап.
Эта мысль понравилась Егорычу, и он обещал немедленно доложить старшему офицеру.
Старший офицер выслушал доклад боцмана и заметил:
– Это, видно, Лучкин хлопочет?
– Вся команда тоже просит за арапчонка, ваше благородие. А то куда его бросить? Жалеют… А он бы у нас заместо юнги был, ваше благородие! Арапчонок исправный, осмелюсь доложить. И ежели его окрестить, вовсе душу, значит, можно спасти.
Старший офицер обещал доложить капитану.
К подъему флага вышел наверх капитан. Когда старший офицер передал ему просьбу команды, капитан сперва было отвечал отказом. Но, вспомнив, вероятно, своих детей, тотчас же переменил решение и сказал:
– Что ж, пусть остается. Сделаем его юнгой. А вернется в Кронштадт с нами… что-нибудь для него сделаем. В самом деле, за что его бросать, тем более что он сам этого не хочет!.. Да пусть Лучкин останется при нем дядькой. Пьяница отчаянный этот Лучкин, а подите… эта привязанность к мальчику… Мне доктор говорил, как он одел негра.
Когда на баке было получено разрешение оставить Максимку, все матросы чрезвычайно обрадовались. Но больше всех, конечно, радовались Лучкин и Максимка.
В час дня клипер бросил якорь на Каптоунском рейде, и на другой день первая вахта была отпущена на берег. Собрался ехать и Лучкин с Максимкой.
– А ты смотри, Лучкин, не пропей Максимку-то! – смеясь, заметил Егорыч.
Это замечание, видимо, очень кольнуло Лучкина, и он ответил:
– Может, из-за Максимки я и вовсе тверёзый вернусь!
Хотя Лучкин и вернулся с берега мертвецки пьяным, но, к общему удивлению, в полном одеянии. Как потом оказалось, случилось это благодаря Максимке, так как он, заметив, что его друг чересчур пьет, немедленно побежал в соседний кабак за русскими матросами, и они унесли Лучкина на пристань и положили в шлюпку, где около него безотлучно находился Максимка.
Лучкин едва вязал языком и все повторял:
– Где Максимка? Подайте мне Максимку… Я его, братцы, не пропил, Максимку… Он мне первый друг… Где Максимка?
И когда Максимка подошел к Лучкину, тот тотчас же успокоился и скоро заснул.
Через неделю «Забияка» ушел с мыса Доброй Надежды, и вскоре после выхода Максимка был не без торжественности окрещен и вторично назван Максимкой. Фамилию ему дали по имени клипера – Забиякин.
Через три года Максимка вернулся на «Забияке» в Кронштадт четырнадцатилетним подростком, умевшим отлично читать и писать по-русски благодаря мичману Петеньке, который занимался с ним.
Капитан позаботился о нем и определил его в школу фельдшерских учеников, а вышедший в отставку Лучкин остался в Кронштадте, чтобы быть около своего любимца, которому он отдал всю привязанность своего сердца и ради которого уже теперь не пропивал вещей, а пил «с рассудком».
1896
Васька
Рассказ из былой морской жизни
I
В числе разной живности – трех быков, нескольких баранов, гусей, уток и кур, – привезенной одним жарким ноябрьским днем с берега на русский военный клипер «Казак» накануне его ухода с острова Мадейра для продолжения плавания на Дальний Восток, находилась и одна внушительная, жирная, хорошо откормленная фунчальская свинья с четырьмя поросятами, маленькими, но перешагнувшими, однако, уже возраст свиного младенчества, когда так вкусны они под хреном или жаренные с кашей.
Всем этим «пассажирам», как немедленно прозвали матросы прибывших гостей, был оказан любезный и радушный прием, и их тотчас же разместили по обе стороны бака, при самом веселом содействии матросов.
Трех быков, только что поднятых с качавшегося на зыби баркаса на веревках, пропущенных под брюхами, не пришедших еще в себя от воздушного путешествия и громко выражавших свое неудовольствие на морские порядки, привязали у бортов на крепких концах; птицу рассадили по клеткам, а баранов и свинью с семейством поместили в устроенные плотником загородки, весьма просторные и даже комфортабельные. Корма для всех – сена, травы и зерна – было припасено достаточно, – одним словом, моряками были приняты все возможные меры для удобства «пассажиров», которых собирались съесть в непродолжительном времени на длинном переходе, предположенном капитаном. Он хотел идти с Мадейры прямо в Батавию на острове Ява, не заходя, если на клипере все будет благополучно, ни в Рио-Жанейро, ни на мыс Доброй Надежды. Переход предстоял долгий, не менее пятидесяти дней, и потому было взято столько «пассажиров». Быки назначались для матросов, чтобы дать им хоть несколько раз вместо солонины и мясных консервов, из которых варилась горячая пища, свежего мяса. Остальная живность была запасена для капитанского и кают-компанейского стола, чтобы не весь переход сидеть на консервах. Вдобавок предстояло встретить в океане Рождество, и содержатель кают-компании мичман Петровский имел в виду полакомить товарищей и гусем, и окороком, и поросятами – словом, встретить праздник честь честью.
Нечего и говорить, что для сохранения палубы в той умопомрачительной чистоте, какой щеголяют военные суда, не жалели ни подстилок, ни соломы, и старший офицер, немолодой уже лейтенант, влюбленный до помешательства в чистоту и порядок и сокрушавшийся тем, что палуба приняла несоответствующий ей вид деревенского пейзажа, строго-настрого приказывал боцману Якубенкову, чтобы он глядел в оба за благопристойностью скотины и за чистотой их помещений.
– Есть, ваше благородие! – поспешил ответить боцман, который и сам, как невольный ревнитель чистоты и порядка на клипере, не особенно благосклонно относился к «пассажирам», способным изгадить палубу и тем навлечь неудовольствие старшего офицера.
– А не то… смотри у меня, Якубенков! – вдруг воскликнул старший офицер, возвышая голос и напуская на себя свирепый вид.
Окрик этот был так выразителен, что боцман почтительно выкатил глаза, точно хотел показать, что отлично смотрит, и вытянулся в ожидании, что будет дальше.
И действительно, после короткой паузы старший офицер, словно бы для вящей убедительности боцмана, резко, отрывисто и внушительно спросил:
– Понял?
Еще бы не понять!
Он отлично понял, этот пожилой, приземистый и широкоплечий боцман, с крепко посаженной большой головой, покрытой щетиной черных заседевших волос, видневшихся из-за сбитой на затылок фуражки без козырька. Давно уже служивший во флоте и видавший всяких начальников, он хорошо знал старшего офицера и по достоинству ценил силу его гневных вспышек.
И боцман невольно повел своим умным черным глазом на красноватую большую правую руку лейтенанта, мирно покоящуюся на штанине, и громко, весело и убежденно ответил, слегка выпячивая для большего почтения грудь:
– Понял, ваше благородие!
– Главное, братец, чтобы эти мерзавцы не изгадили нам палубы, – продолжал уже совсем смягченным и как бы конфиденциальным тоном старший офицер, видимо вполне довольный, что его любимец, дока боцман, отлично его понимает. – Особенно эта свинья с поросятами…
– Самые, можно сказать, неряшливые пассажиры, ваше благородие! – заметил и боцман уже менее официально.
– Не пускать их из хлева. Да у быков подстилки чаще менять.
– Слушаю, ваше благородие!
– И вообще, чтобы и у птиц, и у скотины было чисто… Ты кого к ним назначил?
– Артюшкина и Коноплева. Одного к птице, другого к животной, ваше благородие!
– Таких баб-матросов? – удивленно спросил старший офицер.
– Осмелюсь доложить, ваше благородие, что они негодящие только по флотской части.
– Я и говорю: бабы! Зачем же ты таких назначил? – нетерпеливо перебил лейтенант.
– По той причине, что они привержены к сухопутной работе, ваше благородие!
– Какая же на судне такая сухопутная работа, по-твоему?
– А самая эта и есть – за животной ходить, ваше благородие! Особенно Коноплев любит всякую животную и будет около нее исправен. Пастухом был и совсем вроде как мужичком остался. Не понимает морской части! – прибавил боцман не без некоторого снисходительного презрения к такому «мужику».
Сам Якубенков после двадцатилетней морской службы и многих плаваний давно и основательно позабыл деревню.
– Ну, ты за них мне ответишь, если что, – решительно произнес старший офицер, отпуская боцмана.
Тот в свою очередь позвал на бак Артюшкина и Коноплева и сказал:
– Смотри, чтобы и птицу и животную содержать чисто, во всем параде. Палуба чтобы ни боже ни… Малейшая ежели пакость на палубе… – внушительно прибавил боцман.
– Будем стараться, Федос Иваныч! – испуганно промолвил Артюшкин, молодой, полнотелый, чернявый матрос с растерянным выражением на глуповатом лице, в страхе жмуря глаза, точно перед его зубами уже был внушительный жилистый кулак боцмана.
Коноплев ничего не сказал и только улыбался своей широкой добродушной улыбкой, словно бы выражая ею некоторую уверенность в сохранении своих зубов.
Это был неуклюжий, небольшого роста, белобрысый человек лет за тридцать, с большими серыми глазами, рыжеватыми баками и усами, рябоватый и вообще неказистый, совсем не имевший того бравого вида, каким отличаются матросы. Несмотря на то что Коноплев служил во флоте около восьми лет, он все еще в значительной мере сохранил мужицкую складку и глядел совсем мужиком, только по какому-то недоразумению одетым в форменную матросскую рубаху. Весь он был какой-то нескладный, и все на нем сидело мешковато. Матросской выправки никакой.
И он недаром считался плохим матросом, так называемой бабой, хотя и был старательным и усердным, исполняя обязанности простой рабочей силы. Он добросовестно вместе с другими тянул снасть, ворочал пушки, греб на баркасе, наваливаясь изо всех сил на весло; но на более ответственную и опасную матросскую работу, требующую ловкости, быстроты и отваги, его не назначали.
И он был несказанно рад этому.
Выросший в глухой деревне и любивший кормилицу-землю, как только могут любить мужики, никогда не видавшие не только моря, но даже и озера, он двадцати трех лет от роду был оторван от сохи и сдан, по малому своему росту, в матросы.
И море, и эти диковинные корабли с высокими мачтами с первого же раза поразили и испугали его. Он никак не мог привыкнуть к чуждому ему морю, полному какой-то жуткой таинственности и опасности. Морская служба казалась ему Божиим наказанием. Один вид марсовых, бегущих, как кошки, по вантам, крепящих паруса или берущих рифы в свежую погоду, стоя у рей, стремительно качающихся над волнистой водяной бездной, вчуже вселял в этом сухопутном человеке чувство невольного страха и трепета, которого побороть он не мог. Он знал, что малейшая неловкость или неосторожность – и человек сорвется с реи и размозжит себе голову о палубу или упадет в море. Видывал он такие случаи во время своей службы и только ахал, весь потрясенный. Никогда не полез бы он добровольно на мачту – бог с ней! – и по счастью, его никогда и не посылали туда.
Так Коноплев и не мог привыкнуть к морю. Оно по-прежнему возбуждало в нем страх. Назначенный в кругосветное плавание, он покорился, конечно, судьбе, но нередко скучал, уныло посматривая на седые высокие волны, среди которых, словно между горами, шел, раскачиваясь, небольшой клипер. Вдобавок Коноплев не переносил сильной качки, и, когда во время бури и непогод клипер «валяло», как щепку, с бока на бок, Коноплев вместе со страхом испытывал приступы морской болезни.
И в такие дни он особенно тосковал по земле, любовно вспоминая свою глухую, заброшенную в лесу деревушку, которая была для него милее всего на свете.
Несмотря на то что Коноплев был плохой матрос и далеко не отличался смелостью, он пользовался общим расположением за свой необыкновенно добродушный и уживчивый нрав. Даже сам боцман Якубенков относился к Коноплеву снисходительно и только в редких случаях «запаливал» ему, словно бы понимая, что не сделать из этого прирожденного мужика форменного матроса.
– А ты что, Коноплев, рожу только скалишь? Ай не слышишь, что я приказываю? – спрашивал боцман.
– То-то слышу, Федос Иванович.
– Хочешь, что ли, чтобы зубы у тебя были целы?
– Не сумлевайтесь, будут целы, Федос Иваныч!
– Смотри не ошибись.
– Я это дело справлю как следовает. Самое это простое дело. Слава богу, за скотинкой хаживал! – любовно и весь оживляясь, говорил Коноплев.
И радостная, широкая улыбка снова растянула его рот до широких вислоухих ушей при мысли о работе, которая хотя отчасти напомнит ему здесь, среди далекого постылого океана, его любимое деревенское дело.
– То-то и я тобой обнадежен. Я так и обсказывал старшему офицеру, что ты по мужицкой части не сдрейфуешь. Смотри не оконфузь меня… Да помните вы оба: ежели да старший офицер заметит у скотины или у птицы какую-нибудь неисправку или повреждение палубы, велит вам обоим всыпать. Знай это, ребята! – закончил боцман добродушно деловым тоном, словно бы передавал самое обыкновенное известие.
– Я буду стараться около птицы. Изо всей, значит, силы буду стараться, Федос Иваныч! – снова пролепетал растерянным и упавшим голосом Артюшкин, совсем перепуганный последними словами боцмана.
И в голове молодого матросика – даром что она была не особенно толкова – пробежала мысль о том, что лучше бы иметь дело только с боцманом.
Коноплев снова промолчал.
Судя по его спокойному лицу, мысль о «всыпке», по-видимому, не беспокоила его. Он был полон уверенности в своих силах и к тому же понимал старшего офицера как человека, который не станет наказывать зря и если, случается, всыпа́ет, то «с рассудком».
II
Коноплев принялся за порученное ему дело с таким увлечением, какого никогда не проявлял в корабельных работах. Те он исполнял хотя и старательно, но совершенно безучастно, с покорностью подневольного человека и с автоматичностью машины. А в эту он вкладывал душу, и потому эта работа казалась ему и приятна и легка.
И сам он переменился. Обыкновенно скучавший и несколько вялый, он стал вдруг необыкновенно деятелен, весело озабочен около своих «пассажиров» и, казалось, забыл на время и постылость морской службы, и страх перед нелюбимым им океаном. Одним словом, этот неудавшийся матрос ожил, как оживает человек, внезапно нашедший смысл жизни.
С первого же дня, как на «Казаке» были водворены все «пассажиры», Коноплев возбудил общее удивление своим умением обращаться с животными, товарищески любовным к ним отношением и какой-то особенной способностью понимать их и даже разговаривать с ними, точно в нем самом было что-то родственное и близкое животным, которых он пестовал с любовью и лаской. И они, казалось, понимали его, не боялись, слушались и словно бы считали немного своим.
Но особенное изумление матросов вызвано было при первом знакомстве Коноплева с одним неспокойным и сердитым быком.
Это был самый буйный из всех трех, привезенных на клипер. Небольшой, но сильный, черный и косматый, он отчаянно и сердито мычал, когда его, связанного по ногам, поднимали с баркаса на палубу. Не успокоился он и тогда, когда его привязали толстой веревкой к бортовому кольцу и освободили от пут. Он чуть было не боднул возившихся около него и успевших отскочить матросов и продолжал злобно мычать на новоселье. При этом он рвался с веревки, нетерпеливо бил копытами по деревянной настилке и грозно, с налитыми кровью глазами, помахивал своей рогатой головой.
Он наводил страх. Никто не осмеливался к нему подойти, боясь быть вскинутым на его изогнутые острые рога.
Занятые интересным и редким на судне зрелищем матросы толпились в почтительном отдалении от сердитого быка и перекидывались на его счет остротами и шутками.
– И сердитый же у нас, братцы, пассажир! Около его теперь и не пройти. Забодает!
– Ходу ему не дадут. Первого зарежут! Не бунтуй на военном судне.
– Видно, в первый раз в море идет, оттого и бунтует.
– Чует, поди, что к нам в щи попадет, сердится.
– В море усмирится.
– Небось его сам боцман не усмирит, потому линьком его не выучишь. Не матрос!
Это замечание вызывает в толпе смех. Не без удовольствия улыбается и боцман, довольный столь лестным о нем мнением.
– И как только Коноплев будет ходить за этим чертом? Страшное это, братцы, дело – связаться с таким пассажиром… Будет Коноплеву с им хлопот! – участливо заметил кто-то.
И многие пожалели Коноплева. Как бы ему не досталось от сердитого быка!
– Небось не достанется, братцы. Я умирю его! – проговорил вдруг своим спокойным и приветным голосом Коноплев, пробираясь через толпу с другой стороны бака.
Там он только что навестил других двух быков, привязанных отдельно от беспокойного. Они тоже мычали, видимо еще не освоившись с новым положением, но в их мычании слышались покорные, грустные звуки, похожие на жалобу.
Коноплев гладил их морды, чесал им спины, что-то говорил им тихим, ласковым голосом, указал на корм и скоро их успокоил.
– Он, братцы, сердится, что его с родной стороны взяли, – продолжал Коноплев, проталкиваясь вперед, – тоску свою, значит, по своему месту сердцем оказывает. А бояться его нечего, быка-то. Он – добрая животная, и если ты с им лаской, не забидит.
С этими словами он ровной, спокойной походкой, слегка переваливаясь и не ускоряя шага, направился к бунтующему быку.
Матросы так и ахнули. Все думали, что Коноплеву будет беда. Никто не ожидал, что такой трусливый по флотской части матрос решится идти к бешеному зверю.
Боцман Якубенков испуганно крикнул:
– Назад! На рога, что ли, хочешь, дурья твоя башка!
Но Коноплев уже вступил на широкую деревянную настилку, на которой головой к нему стоял зверь, готовый, по-видимому, принять на рога непрошеного гостя.
Глядя прямо быку в глаза, Коноплев подошел к нему и фамильярно стал трепать его по морде и тихо и ласково говорил, точно перед ним был человек:
– А ты, голубчик, не бунтуй! Не бунтуй, братец ты мой. Нехорошо. Всякому своя доля. Ничего не поделаешь… Всё, братец ты мой, от Господа Бога. И человеку, и зверю…
Видимо озадаченный, бык мгновенно притих, точно загипнотизированный. Склонив голову, он позволил себя ласкать, словно бы в этой ласке и в этом доброжелательном голосе вспоминал что-то обычное, знакомое.
И Коноплев, продолжая говорить все те же слова, чесал быка за ухом, под горлом, и бык не противился и только мордой обнюхивал Коноплева, как будто решил ближе с ним познакомиться.
Тогда Коноплев захватил пук свежей травы, лежавшей в углу, вблизи сена, на настилке, и поднес ее быку.
Сперва бык нерешительно покосился на траву, жадно раздувая ноздри. Но затем осторожно взял ее, касаясь шершавым языком руки Коноплева, и медленно стал жевать, подсапывая носом.
– Небось скусная родимая травка! Ешь на здоровье. Тут и еще она есть… и сенца есть. Кантуй на здоровье. Ужо напою тебя, а завтра свежего корма принесу. А пока что прощай. Так-то оно лучше, ежели не бунтовать. Ничего не поделаешь!
И, потрепав на прощание начинающего успокаиваться быка, Коноплев отошел от него и, обратившись к изумленной толпе матросов, проговорил:
– А вы, братцы, не мешайте ему, не стойте у его на глазах. Дайте ему вовсе в понятие войти. Тоже зверь, а небось понимает, ежели над им смеются.
И матросы послушно разошлись, вполне доверяя словам Коноплева.
А он пошел от быка к другим «пассажирам». Побывал у сбившихся в кучу баранов, заглянул в загородку на свинью с поросятами, перетрогал и осмотрел их всех, несмотря на сердитое хрюканье матери, и почему-то особенно ласково погладил одного из них. К вечеру он снова обошел всю свою команду и всем поставил воды, пожелав спокойной ночи.
В эту ночь он и сам лег спать веселый и довольный, что у него есть дело, напоминающее деревню.
Еще только что начинало рассветать, на востоке занималась розовато-золотистая заря и звезды еще слабо мигали на небе, как Коноплев уже встал и, пробираясь между спящими матросами, вышел наверх и принялся убирать стойла и загородки. Проснувшиеся «пассажиры» встречали его как знакомого человека и протягивали к его руке морды. Он трепал их и говорил, что сейчас принесет свежего корма, только вот управится.
И, тщательно вычистив все «пассажирские» помещения, стал носить сено и траву, заготовленное еще накануне для свиней месиво и свежую воду. И у всех он стоял, посматривая, как они принимаются за еду, и наблюдая, чтобы все ели.
– А ты не забижай других! – говорил он среди баранов, заметив, что одного молодого барашка не подпускают к траве другие. – Всем хватит. Малыша не тесни.
И отгонял других, чтобы дать корму обиженному.
Когда ранним утром подняли команду и началась обычная утренняя чистка клипера, а старший офицер уже носился по всему судну, заглядывая во все уголки, у Коноплева все было готово и в порядке. Он был при своих «пассажирах» и энергично заступался за них, когда матросы, окачивающие палубу, направляли на них брандспойт, чтобы потешиться. Заступался и сердился, объясняя, что «животная» этого не любит, и даже обругал одного молодого матроса, который пустил-таки струю в баранов, которые заметались в ужасе.
Убедившись, что палуба не загажена и что и у скотины и у птицы все чисто и в порядке, старший офицер, по-видимому, снисходительнее посмотрел на присутствие многочисленных «пассажиров» (к тому же он любил и покушать) и без раздражения слушал блеяние, хрюканье, гоготанье гусей и уток и пение петухов.
Остановившись с разбега на баке, где боцман Якубенков с раннего утра оглашал воздух ругательными импровизациями, «подбадривая» этим, как он говорил, матросов для того, чтобы они веселее работали, старший офицер взглянул на черного быка, смирно жевавшего сено, взглянул на настилку, блестевшую чистотой, и проговорил, обращаясь к Коноплеву:
– Чтобы всегда так было.
– Есть, ваше благородие!
– Старайся.
– Слушаю-с, ваше благородие!
– Ты, говорят, вчера этого бешеного быка усмирил? Не побоялся?
– Он и так был смирный. Тосковал только, ваше благородие! – застенчиво, вяло и боязливо отвечал Коноплев, как-то неловко прикладывая пятерню пальцев к своему лобастому, вислоухому лицу.
Старший офицер, сам бравый моряк и любивший в матросах молодецкую выправку, пренебрежительно повел глазом на переминавшуюся с ноги на ногу неуклюжую, мешковатую, совсем не ладную фигуру Коноплева и, словно бы удивляясь, что этот «баба-матрос» вчера не побоялся свирепого быка, возбуждавшего беспокойство и в нем, старшем офицере, пожал плечами и понесся далее.
После подъема флага «Казак» снялся с якоря и под всеми парусами полетел от Мадейры в открытый океан, направляясь к югу, к благодатному пассату.
III
Чем привлек к себе Коноплева этот белый короткошерстый, с черными подпалинами, боровок, с маленькими, конечно, глазками, но бойкими и смышлеными и с тупой розовой мордочкой, – объяснить было бы трудно и почти невозможно, если только не принять во внимание того, что симпатии как к людям, так и к животным зарождаются иногда внезапно.
Впрочем, возможно было допустить и более тонкое объяснение, которое и подтвердилось впоследствии, а именно: что Коноплев, как бывший в юности свинопас и тонкий знаток свиной породы, с первого же взгляда, подобно редким педагогам, провидел в белом боровке редкие способности и талантливость, невидимые для простых смертных, и потому почтил его особым вниманием.
А между тем, по-видимому, он ничем не отличался от остальных своих трех черных братцев, кроме белого цвета шерсти да разве еще тем едва ли похвальным качеством, что в момент водворения на клипере визжал громче, пронзительнее и невыносимее остальных, возбуждая и без того возбужденную мать. Она и так была взволнована, эта толстая и видная черная свинья, и недоумевающе, с недовольным похрюкиваньем, прислушивалась и к дьявольскому реву черного быка, и к блеянию баранов, и к гоготанью гусей, и к свисткам и окрикам боцмана – словом, ко всему этому аду кромешному, и, ничего не видя из-за своей загородки, решительно не понимала, что такое кругом творится и как это она, еще недавно спокойно и беззаботно гулявшая среди полной тишины грязного двора, в тени широколистых деревьев, очутилась вдруг здесь, в совершенно незнакомом и не особенно просторном месте и где вдобавок нет ни грязи, в которой можно поваляться, ни сорной ямы, в которой такие вкусные апельсинные корки.
А тут еще этот болван визжит словно полоумный, усложняя только и без того скверное положение и раздражая материнские нервы.
Хотя эта хавронья и была вообще недурная мать, но, несмотря на иностранное свое происхождение, не имела или, быть может, не разделяла разумных педагогических взглядов на дело воспитания и потому, без всякого предупредительного хрюканья, довольно чувствительно-таки куснула неугомонного сынка за ляжку, словно бы желая этим сказать: «Замолчи, дурак! И без тебя тошно!»
Награжденный кличкой «дурак», как нередко и свиньи награждают умных детей, боровок, казалось, понял, чего от него требует раздраженная маменька.
Хотя он и взвизгнул так отчаянно, что проходивший мимо старший офицер поморщился, словно от сильнейшей зубной боли, и бросился от матери в дальний угол, но затем визжал уже тише, с передышками, больше от досады, чем от боли, и скоро совсем перестал, увлеченный братьями в какую-то игру.
Все это, казалось бы, еще не давало ему особых прав на предпочтительное внимание, особенно со стороны такого нелицеприятного человека, как Коноплев, тем не менее при первом же знакомстве Коноплев отнесся к этому белому боровку несколько иначе, чем к другим.
Подняв его за шиворот и осмотрев его мордочку, он ласково потрепал его по спине и назвал «башковатым», хотя «башковатый» в ответ на ласку и визжал, словно совсем глупый поросенок, вообразивший, что его сейчас зарежут.
– Не ори, беленький! Еще до Рождества тебе отсрочка! – произнес, ставя боровка на соломенную подстилку, Коноплев.
В успокоительном тоне его голоса звучала, однако, и нотка сожаления к ожидающей боровка судьбе: быть зажаренным и съеденным господами офицерами.
В этом не могло быть ни малейшего сомнения.
– А смышленый, должно быть, боровок! – словно бы для себя проговорил, уходя, Коноплев.
И в ту же минуту в голове его промелькнула какая-то мысль, заставившая его улыбнуться и проговорить вслух:
– А важная вышла бы штука… То-то ребята бы посмеялись!..
Мысль эта, по-видимому, недолго занимала Коноплева, потому что он тотчас же безнадежно махнул рукой и произнес:
– Съедят… Им только бы брюхо тешить!
Как бы то ни было, какие бы мысли ни пробегали в голове Коноплева насчет будущей судьбы боровка и насчет людей, способных только тешить брюхо, но дело только в том, что не прошло и недели, как белый боровок был удостоен клички Васька, сделался фаворитом Коноплева и при приближении своего пестуна поднимал вверх мордочку и пробовал, хотя и не всегда удачно, стать на задние лапы, ожидая подачки. Но Коноплев был справедлив и не особенно отличал своего любимца, не желая обижать остальных, хотя те и не обнаруживали той смышлености, какую показывал Васька. Давал он им пищу всем одинаковую и обильную, обнаруживая свое тайное предпочтение Ваське только тем, что чаще ласкал его, иногда выводил из загородки и позволял побегать по палубе и поглазеть на окружающее, хотя Васька и замечал только то, что у него было под носом.
Все эти преимущества не могли, конечно, обидеть других поросят, раз их не обделяли кормом, а, напротив, по приказанию содержателя кают-компании, румяного и жизнерадостного мичмана Петровского, с коварной целью кормили до отвала. Ешь сколько хочешь!
И они все вместе с маменькой полнели не по дням, а по часам и решительно не думали о чем-нибудь другом, кроме еды, и на Коноплева смотрели только как на человека, приносившего им вдоволь и месива, и остатков от кают-компанейского стола, и апельсинных корок.
А Васька, казалось, питал и некоторые другие чувства к Коноплеву и имел более возвышенные понятия о цели своего существования. С достойным для боровка упорством старался он стать на задние лапы, при появлении Коноплева откликался на свою кличку и радостно ложился на спину, когда Коноплев растопыривал свои пальцы, чтобы почесать брюшко своего фаворита, – словом, показывал видимое расположение к Коноплеву и как бы свидетельствовал, что может быть годным не для одного только рождественского лакомства офицеров, а кое для чего менее преходящего и полезного как для себя, так и для других.
Заметил это и Коноплев и, снова занятый прежней мыслью, стал часто выводить его из загородки, заставлял бегать, отрывая нередко от вкусных яств, и однажды даже сам заставил его стать на задние лапы, причем на морду положил кусочек сахару. Опыт если не вполне удался, но показал, что Васька не лишен сообразительности и при поддержке может стоять на задних лапах и держать на носу сахар.
Это обстоятельство привело Коноплева в восторг и доставило Ваське немало ласковых эпитетов и немало ласковых трепков и в то же время вызвало в Коноплеве какое-то твердое решение и вместе с тем смутную радостную надежду.
Со следующего же дня Коноплев перестал спать после обеда, и как только боцман Якубенков вскрикивал после свистка в дудку: «Отдыхать!» – Коноплев шел за Васькой и уносил его вниз, на кубрик, подальше от людских глаз. Там в укромном местечке пустого матросского помещения (матросы все спали наверху) он проводил положенный для отдыха час глаз на глаз со своим любимцем, окружая занятия с ним какой-то таинственностью.
После этих занятий Васька обыкновенно получал кусок сахару, до которого был большой охотник, и, напутствуемый похвалами своей «башковатости», иногда несколько утомленный, но все-таки веселый, водворялся в загородке, в которой, как колода, валялась разжиревшая мать и с трудом передвигали ноги закормленные поросята.
Кроме того, по ранним утрам, когда старший офицер еще спал, и по вечерам Коноплев выводил Ваську на палубу и заставлял его бегать, гоняясь за ним или пугая его линьком. Эти прогулки не особенно нравились Ваське и, видимо, утомляли, но зато Коноплев был доволен, видя, что Васька совсем не зажирел и перед своими братьями казался совсем тощим боровком.
И когда однажды мичман, заведующий кают-компанейским столом, заглянув в загородку, спросил Коноплева:
– Что это значит? Все поросята как следует откормлены, а этот белый совсем тощий?
То Коноплев с самым серьезным видом ответил:
– Совсем нестоящий боровок, ваше благородие!
– Почему нестоящий?
– В тело не входит, ваше благородие. Вовсе без жира… И для пищи не должно быть скусный.
– Что ж он, не ест, что ли?
– Плохо пищу принимает, ваше благородие.
– Отчего?
– Верно, к морю не способен, ваше благородие.
– Странно… Отчего же другие все жиреют? Ты смотри, Коноплев, подкорми его к празднику.
– Слушаю, ваше благородие. Но только, осмелюсь доложить, вряд ли его подкормить как следовает к празднику… Разве попозже в тело войдет, ваше благородие!
IV
Между тем время шло.
Северные и южные тропики были пройдены, и клипер уже шел по Индийскому океану, поднимаясь к экватору.
Миновали красные деньки спокойного благодатного плавания в вековечных, ровно дующих пассатах, при чу́дной погоде, при ослепительном солнце, бирюзовом высоком небе, в этом отливающем синевой, тихо переливающемся ласковом океане, слегка покачивающем клипер на своей мощной груди.
Снова наступила для моряков жизнь, полная неустанной работы, тревог и опасностей. Приходилось постоянно быть начеку, с напряженными нервами. Индийский океан, известный своими бурями и ураганами, принял моряков далеко не ласково с первого же дня вступления «Казака» в его владения и чем дальше, тем становился угрюмее и грознее: «валял» клипер с бока на бок, поддавал в корму и опускал нос среди своих громадных валов с седыми пенящимися верхушками. И маленький «Казак», искусно управляемый моряками, ловко избегал этих валов, то поднимаясь на них, то опускаясь, то проскальзывая между ними, и шел себе вперед да вперед среди пустынного сердитого океана, под небом, покрытым мрачными клочковатыми облаками, из-за которых иногда вырывалось солнце, заливая блеском серебристые холмы волн.
И ничего кругом, кроме волн и неба.
Почти все это время «Казак» не выходил из рифов и частенько-таки выдерживал штормы под штормовыми парусами. Жесточайшая качка не прекращалась, и на бак часто попадали верхушки волн. Нередко в кают-компании приходилось на обеденный стол накладывать деревянную раму с гнездами, чтобы в сильной качке не каталась посуда. Бутылки и графины, завернутые в салфетки, клали плашмя. Вестовые, подавая кушанье, выписывали мыслете[22], и съесть тарелку супа надо было с большой ловкостью, ни на секунду не забывая законов равновесия. Выдавались и такие штормовые деньки, в которые решительно невозможно было готовить в камбузе (судовой кухне), и матросам и офицерам приходилось довольствоваться сухоедением и с большим нетерпением ожидать конца этого длинного перехода. Уже месяц прошел… Оставалось, при благоприятных условиях, еще столько же.
Бо́льшая часть «пассажиров» была уже съедена. Их оставалось немного, и тех спешили уничтожить, так как многие из них не переносили сильной качки и могли издохнуть.
Коноплеву уже не было прежних забот и не на чем было проявить свою деятельность. Не без грустного чувства расставался он с каждым «пассажиром», который назначался на убой, и никогда не присутствовал при таком зрелище. «Пассажиры» редели, и Коноплев, казалось, еще с большей заботливостью и любовью ходил за оставшимися.
Многие только дивились такой заботливости о животных, которых все равно зарежут.
– Чего ты так стараешься о «пассажирах», Коноплев? – спрашивал однажды Артюшкин, в ведомстве которого оставалось всего лишь шесть гусей. Остальная птица давно была съедена.
– Как же не стараться о животной! Она тоже Божья тварь.
– Да ведь много ли ей веку? Сегодня ты примерно ее напоил, накормил, слово ласковое сказал, а завтра ей крышка. Ножом Андреев полоснет.
– Ничего ты себе паренек, Артюшкин, а башкой, братец ты мой, слаб, вот что я тебе скажу. И всякому из нас крышка будет. Кому раньше, кому позже. Так разве из-за самого этого тебя и не корми, и не пои, и дуй тебя по морде, скажем, каждый день?.. Мол, все равно помрет. Еще больше жалеть нужно животную, кою завтра заколют. Пусть хоть день, да хорошо проживет… И вовсе ты глупый человек, Артюшкин. Поди лучше да гусям воды принеси. Ишь шеи вытягивают и гогочут: пить, значит, просят. И ты должен это понимать и стараться.
– Это они зря кричат.
– Зря? Ты вот, глупый, зря мелешь, а птица умней тебя… Неси им воды, Артюшкин.
Наконец палуба «Казака» почти совсем очистилась от «пассажиров». Оставались только: черный бык, с которым Коноплев давно уже вел дружбу и которого называл почему-то Тимофеичем, свинья с семейством и шесть гусей. Этих «пассажиров» приберегали к празднику, тем более что все они отлично переносили качку, а пока морякам приходилось довольствоваться солониной и консервами.
Чем ближе подходил праздник, тем озабоченнее и серьезнее становился Коноплев и чаще обглядывал со всех сторон Ваську. Хотя он благодаря особенным заботам своего покровителя и не жирел и был относительно не особенно соблазнительным для убоя, хоть и довольно видным и бойким боровком, а все-таки… неизвестно, какое выйдет ему решение и не пропадут ли втуне все заботы и таинственные уроки?
Такие мысли нередко приходили в последнее время Коноплеву и волновали его.
Тем не менее он по-прежнему занимался со своим любимцем в послеобеденный час в укромном уголке кубрика, заботился о его моционе и с какой-то особенной нежностью чесал Васькины спину и брюхо и называл ласковыми именами.
И белый боровок, значительно развившийся от общения с таким умным и добрым педагогом, казалось, понимал и ценил заботы и ласку своего наставника и в ответ на ласку благодарно лизал шершавую руку матроса, как бы доказывая, что и свиная порода способна на проявление нежных чувств.
V
Настал сочельник.
Моряки уже плыли на «Казаке» пятьдесят пятый день, не видевши берегов, и приближались к экватору. Еще дней пять-шесть – и Батавия, давно желанный берег.
Океан не беснуется и милостиво катит свои волны, не пугая высотой и сединой верхушек. Ветер легкий, «брамсельный», как говорят моряки, и позволяет нести «Казаку» всю его парусину, и он идет себе узлов по шесть-семь в час. Бирюзовая высь неба подернута белоснежными облачками, и ослепительно жгучее солнце жарит во всю мочь.
И моряки довольны, что придется встретить спокойно праздник, хотя и среди океана, под южным солнцем и при адской жаре – словом, при обстановке, нисколько не напоминающей рождественские праздники на далекой родине, с трескучими морозами и занесенными снегом елями.
Приготовления к празднику начались с раннего утра. Коноплев, встревоженный и беспокойный, еще накануне простился с Тимофеичем ласковыми словами, когда в последний раз ставил ему на ночь воду, зная, что наутро его убьют.
Он даже нежно прижал свое лицо к морде животного, к которому так привык и за которым так заботливо ухаживал, и быстро отошел от него, проговорив:
– Прощай, Тимофеич… Ничего не поделаешь… Всем придет крышка!
Ранним утром Коноплев нарочно не выходил наверх, чтобы не видеть предсмертных мук быка. Он поднялся наверх уже тогда, когда команда встала и вместо Тимофеича была лишь одна кровавая лужа. Гуси тоже были заколоты. Оставались живы только четыре боровка. Мать их была зарезана еще два дня тому назад, и окорока уже коптились.
Убирая хлев и задавая корм последним «пассажирам», которых офицерский кок (повар), по усиленной просьбе Коноплева, собирался зарезать попозже, Коноплев был очень взволнован и огорчен и старался не смотреть на своего любимца и ученика, встретившего его, по обыкновению приподнявшись на задние лапы, с нежным похрюкиваньем веселого, беззаботного боровка, не подозревающего о страшной близости смертного часа.
Судьба Васьки должна была решиться в восемь часов утра, как только встанет веселый и жизнерадостный мичман Петровский, заведующий хозяйством кают-компании. Но надежды на него были слабы.
По крайней мере, ответ кока, перед которым горячо предстательствовал за Ваську Коноплев еще вчера, обещая, между прочим, пьянице повару угостить его на берегу в полное удовольствие ромом или араком[23] (чего только пожелает), был не особенно утешительный. Кок, правда, обещал не резать поросят, пока не встанет мичман, и похлопотать за боровка, но на успех не надеялся.
– Главная причина, – говорил он, – что надоели господам консервы, и опять же праздник… И мичман хочет отличиться, чтобы обед был на славу и чтобы всего было довольно. На поросят очень все льстятся. Оно точно, ежели с кашей, то очень даже приятно! И какую я ему причину дам насчет твоего Васьки? Правда, забавный боровок. Ловко ты его приучил служить, Коноплев!
– Служить?! Он, братец ты мой, не только служить… Он всякие штуки знает! Я завтра для праздника показал бы, каков Васька. Матросики ахнут! – проговорил Коноплев в защиту Васьки, невольно открывая коку тайну сюрприза, который он готовил. – А ты доложи, что боровок, мол, тощий… Им и трех хватит, слава богу.
– Доложить-то я доложу, только вряд ли…
В это утро Коноплев не раз бегал к коку, напоминая ему о его обещании доложить и суля ему не одну, а целых две бутылки рому или арака. Наконец перед самым подъемом флага кок сообщил Коноплеву, что мичман сам придет смотреть боровка и тогда решит.
После подъема флага мичман прошел на бак и, нагнувшись к загородке, где находились боровки, внимательно оглядывал Ваську, решая вопрос: резать его или не резать.
Коноплев замер в ожидании.
Наконец мичман поднял голову и сказал Коноплеву:
– Хоть он и не такой жирный, как другие, а все-таки ничего себе. Зарезать его!
На лице матроса при этих словах появилось такое выражение грусти, что мичман обратил внимание и, смеясь, спросил:
– Ты что это, Коноплев? Жалко тебе, что ли, поросенка?
– Точно так, жалко, ваше благородие! – с подкупающей простотой отвечал Коноплев.
– Почему же жалко? – удивленно задал вопрос офицер.
– Привык к нему, ваше благородие, и он вовсе особенный боровок… Ученый, ваше благородие.
– Как – ученый?
– А вот извольте посмотреть, ваше благородие!
С этими словами Коноплев достал Ваську из загородки и сказал:
– Васька! Проси его благородие, чтоб тебя не резали. Служи хорошенько!
И боровок, став на задние лапы, жалобно захрюкал.
Мичман улыбнулся. Стоявшие вблизи матросы засмеялись.
– Васька! Засни!
И боровок тотчас же послушно лег и закрыл глаза.
– Это ты так его обучил?
– Точно так, ваше благородие. Думал, ребят займу на праздник. Он, ваше благородие, многому обучен. Смышленый боровок! Васька! Встань и покажи, как матрос пьян на берегу бывает.
И Васька уморительно стал покачиваться со стороны на сторону.
Впечатление произведено было сильное. И мичман, понявший, какое развлечение доставит скучающим матросам этот забавный боровок, великодушно проговорил:
– Пусть остается жить твой боровок, Коноплев!
– Премного благодарен, ваше благородие! – радостно отвечал Коноплев и приказал Ваське благодарить.
Тот уморительно закачал головой.
VI
Рождество было отпраздновано честь честью на «Казаке».
День стоял роскошный. Томительная жара умерялась дувшим ветерком, и поставленный тент защищал моряков от палящих лучей солнца.
Приодетые, в чистых белых рубахах и штанах, побритые и подстриженные, матросы слушали обедню в походной церковке, устроенной в палубе, стоя плотной толпой сзади капитана и офицеров, бывших в полной парадной форме: в шитых мундирах и в блестящих эполетах. Хор певчих пел отлично, и батюшка по случаю того, что качка была незначительная, не спешил со службой, и матросы, внимательно слушая слова молитв и Евангелие, истово и широко крестились, серьезные и сосредоточенные.
По окончании обедни вся команда была выстроена наверху во фронт, и капитан поздравил матросов с праздником, после чего раздался веселый свист десяти дудок (боцмана и унтер-офицеров) – свист, призывающий к водке, который матросы не без остроумия называют «соловьиным». По случаю праздника разрешено было пить по две чарки вместо обычной одной.
После водки все уселись артелями на палубе у больших баков (мис) и в молчании принялись за щи со свежим мясом, уплетая его за обе щеки после надоевшей солонины. За вторым блюдом, пшенной кашей с маслом, пошли разговоры, шутки и смех. Вспоминали о России, о том, как теперь холодно в Кронштадте, весело говорили о скором конце длинного, надоевшего всем перехода, о давно желанном береге и, между прочим, толковали о боровке, которого так ловко выучил Коноплев, что смягчил сердце мичмана, и дивились Коноплеву, сумевшему так выучить поросенка.
Но никто из матросов и не догадывался, какое доставит им сегодня же удовольствие Васька, сидевший, пока команда обедала, в новом маленьком хлевушке, устроенном Коноплевым. Ходили слухи, распущенные коком, что Коноплев готовит что-то диковинное, но сам Коноплев на вопросы скромно отмалчивался.
Наконец боцман просвистал команде отдыхать, и скоро по всему клиперу раздался храп спящих на палубе матросов, и только одни вахтенные бодрствовали, стоя у своих снастей и поглядывая на ласковый океан, на горизонте которого белели паруса попутных судов.
Бодрствовал и Коноплев, озабоченно и весело готовясь к чему-то и проводя послеобеденный час в таинственных занятиях с Васькой на кубрике в полном уединении. По-видимому, эти занятия шли самым удовлетворительным образом, потому что Коноплев очень часто похваливал боровка и высказывал уверенность, что «они не осрамятся».
Тем не менее надо сознаться, что, когда до ушей Коноплева донесся свисток боцмана, призывавший матросов вставать, и затем раздалась команда, разрешавшая петь песни и веселиться, Коноплев испытывал волнение, подобное тому, какое испытывает репетитор, ведущий своего ученика на экзамен, или антрепренер перед дебютом подающего большие надежды артиста.
– Ну, Вась, пойдем…
Взрыв смеха, восторга и удивления раздался среди матросов, когда на баке в сопровождении Коноплева появился боровок Васька, одетый в полный матросский костюм и в матросской шапке, надетой слегка на затылок. По-видимому, Васька вполне понимал торжественность этого момента и шел мелкой трусцой с самым серьезным видом, чуть-чуть повиливая своим куцым хвостиком.
Плотная толпа сбежавшихся матросов тотчас же окружила Коноплева с его учеником и продолжала выражать шумно свое одобрение.
– Ишь ведь выдумал же что, пес тебя ешь! – сочувственно произнес боцман Якубенков, находясь как самый почетный зритель впереди.
– Ну, Вася, потешь матросиков, чтоб они не скучали. Покажи, какой ты у меня умный.
Предпослав это предисловие, Коноплев начал представление.
Действительно, боровок оказался необыкновенно умным, умевшим делать такие штуки, которые впору были, пожалуй, только собаке.
Он становился на задние лапы, танцевал, перепрыгивал через веревку, носил поноску, «умирал» и «воскресал», показывал, как ходит пьяный матрос, хрюкал по приказанию и, наконец, при восклицании Коноплева: «Боцман идет!» – со всех ног бросался к Коноплеву и прятался между его ногами.
Восторг матросов был неописуемый. Это представление было настоящим удовольствием для моряков, скрашивающим однообразие и скуку их тяжелой жизни.
Нечего и говорить, что все номера были повторены бесчисленное число раз, и после этого все считали долгом потрепать Ваську по спине, и все были признательны Коноплеву.
– И как ты это так обучил его, Коноплев? Ай да молодчина! Ай да дошлый!
Но сияющий от торжества своего любимца Коноплев скромно отклонял от себя похвалы и приписывал все Ваське:
– Он, братцы, башковатый. Страсть какой башковатый! Чему угодно выучится. И не надо ему грозить… Одним добрым словом все понимает!
Когда в кают-компанию донеслась весть о диковинном представлении, Коноплева с Васькой потребовали туда.
И там представление имело такой большой успех, что по окончании все офицеры единогласно объявили, что боровка Ваську дарят команде. И когда старший офицер выразил подозрение насчет благопристойности Васьки, то Коноплев поспешно ответил:
– Обучен, ваше благородие, очень даже обучен, ваше благородие!
Таким образом, разрешилось и это сомнение, и с того дня Васька сделался общим любимцем матросов и во все время плавания доставлял им немало удовольствия. Когда через три года «Казак» вернулся в Кронштадт, Васька, уже большой боров, по всей справедливости был отдан в собственность Коноплеву.
И судьба матроса изменилась.
Мичман Петровский, уже произведенный в лейтенанты, взял Коноплева в денщики и избавил его от постылого плавания. И Коноплев скоро перебрался с Васькой на квартиру лейтенанта в Кронштадте и зажил вместе со своим любимцем относительно спокойно в ожидании отставки, когда можно будет уйти в свою родную деревушку.
1897
Матросик
I
Двое суток русский военный клипер «Жемчуг» «штормовал», как говорят моряки.
Двое суток он выдерживал жестокий ураган в Индийском океане, вблизи западного берега Северной Африки, встретив врага со спущенными стеньгами, под несколькими штормовыми парусами, с наглухо задраенными люками и с протянутыми на верхней палубе леерами.
Положение было серьезное.
В те ужасные долгие часы, когда ураган напрягал все свои силы, с диким воем потрясая мачты и завывая в трепыхавшихся снастях, и когда громадные, высокие и пенящиеся волны с бешенством нападали на маленький клипер со всех сторон, вкатываясь верхушками на палубу, и кидали его, словно щепку, готовые его поглотить, – в такие часы, казавшиеся вечностью, смерть витала перед глазами моряков. Эти водяные горы казались неминуемой общей братской могилой. И сердца даже бывалых и мужественных людей замирали в предсмертной тоске, хотя лица их и были сурово-спокойны и напряженно-серьезны.
К вечеру вторых суток буря несколько затихла, и все на клипере радостно и благодарно вздохнули, понимая, казалось, с большой ясностью, от какой избавились опасности и как были близки к смерти.
Клипер, хорошо построенный, не особенно пострадал во время трепки. Течи в трюме прибавилось, но немного. В нескольких местах волны проломали борт; офицерский катер и капитанский вельбот были сорваны с боканцев в океан – вот и всего.
Несмотря на то что буря заметно стихала и «Жемчуг» был уже вне опасности, и капитан, и старший штурман, видимо чем-то озабоченные, оба с истомленными, осунувшимися серьезными лицами, не сходили с мостика, тревожно вглядываясь в мрак наступившей ночи.
Казалось, теперь можно было бы поставить достаточно парусов и нестись со свежим попутным ветром к югу, но капитан, небольшой сухощавый человек лет под сорок, довольно сурового вида, вместо того приказал на ночь поставить только зарифленные марселя, бизань и фор-стеньги-стаксель и держаться в крутой бейдевинд, чтобы клипер, так сказать, топтался на месте.
Такое решение принято было капитаном потому, что он не знал точно места, где находится в данное время «Жемчуг». В течение двух суток урагана солнце ни на минуту не показывалось, и, следовательно, нельзя было по высоте солнца определить широту и долготу места. Не видно было ни луны, ни звезд, по которым тоже возможно «определиться», как говорят моряки.
А между тем ураган мог отнести клипер к берегам Африки, берега же эти были негостеприимны. Много рифов и подводных мелей было около них, и «Жемчуг», избавившись от одной опасности, легко мог набежать на другую, едва ли не худшую.
И теперь ночь была черна. На подернутом облаками небе ни одной звездочки.
Среди этой тьмы клипер покачивался на волнах, все еще сердито разбивающихся о бока «Жемчуга», и вахтенный офицер, молодой мичман, то и дело вскрикивал часовым на баке:
– Вперед смотреть!
Нередко тоже раздавался его молодой, звонкий голос:
– На марса-фалах стоять!
На эти предупреждающие окрики и часовые на баке, и вахтенные матросы, стоящие у марса-фалов, тотчас же отвечали:
– Есть, смотрим! Есть, стоим!
– Все равно ничего не увидать в этой проклятой тьме! – сердито проворчал капитан себе под нос, ни к кому не обращаясь. И минуту спустя приказал вахтенному офицеру: – Велите разводить пары́!
– Есть!
Мичман послал рассыльного за старшим механиком и вслед за тем дернул ручку машинного телеграфа.
Капитан почти не спал двое суток, позволяя себе вздремнуть в своей каюте час-другой, во время которых на мостике капитана заменял старший офицер.
И теперь его жестоко клонило ко сну.
Но он простоял еще два часа, пока не были готовы пары, и только тогда решил сойти отдохнуть.
Перед уходом он тихо заметил старшему штурману, стоявшему у компаса:
– Береженого и Бог бережет, Степан Степаныч!
– Совершенно верно-с, Иван Семеныч! – подтвердил старший штурман.
– И если, не дай бог, нанесет нас на мель…
Старый штурман угрюмо сплюнул и сурово сказал:
– Зачем наносить!
– Так все же машина поможет. Не так ли, Степан Степаныч?
Судя по тону голоса капитана, ему очень хотелось слышать от старого, опытного, много плававшего штурмана подтверждение своих слов, которым он и сам едва ли очень верил.
Что, в самом деле, могла сделать машина, да еще не особенно сильная, при таком свежем ветре и громадном волнении?
– Конечно-с! – лаконически ответил старший штурман.
Но его лицо, слабо освещенное светом, падавшим от компаса, старое, угрюмо-спокойное лицо, густо поросшее седыми баками, по-видимому, нисколько не разделяло надежд капитана на действительность помощи машины.
И словно бы желая, в свою очередь, успокоить свою тайную тревогу и тревогу капитана, он прибавил:
– Положим, ураган жарил по направлению к берегу, но все же в начале урагана мы были в пятидесяти милях от берега и держались в бейдевинд… Вот, Бог даст, завтра определимся. А теперь вам выспаться следует, Иван Семеныч!
– То-то очень спать хочется. Пойду вздремнуть. – И, обращаясь к вахтенному офицеру, громко и властно сказал: – Хорошенько вперед смотреть! Как бы берега близко не было… Чуть что заметите, дайте знать!
– Есть! – ответил мичман.
Капитан ушел и, не раздеваясь, бросился, как был, в кожане поверх сюртука и в фуражке, на диван и мгновенно уснул.
II
Притулившись на баке у наветренного борта, кучка вахтенных матросов, одетых в кожаны, с зюйдвестками на головах, тихо лясничала.
Чей-то громкий и насмешливый голос говорил:
– Ну разве не дурак ты, Матросик?! Как есть дурак!
Тот, кого звали Матросиком, тихо засмеялся и простодушно ответил:
– Дурак, значит, и есть.
– Да как же не дурак! Сидел бы теперь у себя дома, в деревне, а заместо того взял да и за другого на службу пошел… И хоть бы за деньги, а то дарма! Небось ничего не дали?
– Такая причина была, – оправдывался Матросик.
– Нечего сказать, причина! Вовсе прост ты, вот и причина!
Тот, кого называли Матросиком, словно бы оправдываясь, проговорил:
– Этот самый парень, заместо которого я пошел, братцы, только что поженился и очень приверженный к земле был мужик… Коренной в семье. Без его разор был бы. И так, братцы вы мои, убивались по нем отец с матерью да супруга, значит, евойная, что жалость взяла. Мне, думаю, что? Одинокий сирота, живу в работниках… Ну, таким родом и явился я к барину и в ноги: дозвольте, мол, в некрута вместо Васьки Захарова! Барин даже очень был доволен… Вот она, братцы, какая причина! – закончил Матросик.
Он проговорил эти слова необыкновенно просто, словно бы и поступок его был самый простой и он не сознавал, сколько в нем было доброты и самоотвержения.
За эту бесконечную доброту и готовность помочь всякому на «Жемчуге» все матросы любили этого первогодка. Звали его не по фамилии – фамилия его была Кушкин, – а Матросиком вследствие того, что Кушкин однажды, вскоре после назначения его на «Жемчуг», на вопрос боцмана: «Кто ты такой?» – вместо того чтобы ответить: «Матрос второй статьи Илья Кушкин», простодушно ответил: «Матросик».
Так с тех пор на клипере его все прозвали Матросиком.
И в самом деле, прозвище это подходило к Кушкину.
Это был маленького роста, худощавый, почти смуглый молодой паренек лет двадцати двухтрех, с пригожим, жизнерадостным, добрым лицом, главным украшением которого были большие темные глаза, полные какой-то чарующей ласки и привета. Когда Матросик улыбался, широко раскрывая свой рот с красными сочными губами и показывая ослепительно белые зубы, то невольно улыбались и те, на кого он смотрел.
Вся его маленькая фигурка была ладная и необыкновенно располагающая. Ходил он всегда веселой и легкой походкой и любил одеваться аккуратно и опрятно. Даже его желтоватого цвета руки с тонкими, слегка искривленными пальцами не были пропитаны смолой и грязны, как у других матросов. Матросик, видимо, щеголял опрятностью.
Уроженец одной из северных губерний, Илья Кушкин еще с отрочества плавал по бурному Ладожскому озеру и, поступивши в матросы и затем назначенный в кругосветное плавание на «Жемчуг», скоро сделался хорошим и исправным матросом.
Когда Матросик окончил свой рассказ, кто-то из кучки спросил:
– Так тебе, Матросик, ничего и не дали за твою простоту?
– Предлагали, братцы. Пятичницу давали.
– А ты не взял?
– То-то не взял. Бедные мужики эти Захаровы… Как с их взять? Однако угощение принимал – страсть угощали, братцы! А молодая баба, Васькина жена, так та мне две рубахи ситцевые справила. «Вовек, – говорит, – не забуду, Илья, что ты моего мужика при мне оставил». Небось люди добро помнят! – прибавил Матросик.
С мостика то и дело раздавались окрики вахтенного офицера. То он командовал: «Вперед хорошенько смотреть!», то: «На марса-фалах стоять!»
Эти частые громкие окрики среди ночной тишины несколько раздражали матросов.
– И чего это мичман зря суетится да глотку дерет? – заметил кто-то.
– А может, не зря, – промолвил Матросик.
– Коли встречных судов боится, все равно не увидишь скоро. Слава богу, хоть штурма прикончилась, а все-таки нехорошая ночь! – раздался чей-то голос.
– То-то вахтенный и опасается, что ночь!.. И пары́ по той же причине… И ходу нам нет! – сказал Матросик.
– По какой причине?
– А по той самой, братцы, что неизвестно, в какие места нас буря занесла. Вот он и опаску имеет. В море, братцы, завсегда надо опаску иметь. Я хоть и по озеру ходил, а Бога приходилось-таки часто вспоминать! – проговорил Матросик.
С этими словами он повернул голову к океану и стал зорко всматриваться вперед, в кромешную тьму, окружавшую со всех сторон покачивавшийся на волнах клипер.
Смотрел Матросик минут пять – десять и вдруг крикнул неестественно громким голосом:
– Бурун под носом!
– Марса-фалы отдать!.. – тревожно скомандовал вахтенный мичман.
Марсели бесшумно упали, и в то же мгновение «Жемчуг» остановился, врезавшись в гряду, и беспомощно стал биться, словно птица, попавшая в силки.
III
Капитан мгновенно проснулся и через минуту был на мостике. Старший офицер и старший штурман были там же. Все офицеры и все матросы, наскоро одевшись, выскочили наверх.
Клипер било жестоко о камни, и машина, работавшая полным ходом, не могла его сдвинуть с места. Видно было, что «Жемчуг» засел плотно.
Все были в подавленном состоянии.
Ветер дул свежий, и волны кружились вокруг клипера. Кругом – кромешная тьма.
Прошло бесконечных десять минут, и снизу дали знать, что течь увеличивается. Пущены были в ход все помпы, но вода тем не менее все прибывала. Положение было критическое, и не было никакой возможности высвободиться из него. И помощи ожидать было не от кого.
Однако на всякий случай зарядили орудия, и через каждые пять минут раздавались выстрелы, разносившие по океану весть о бедствии.
Но никто этих выстрелов, казалось, не слыхал.
Верхняя и нижняя палубы осветились фонарями. Молчаливые и сосредоточенно-серьезные матросы торопливо вытаскивали снизу на палубу провизию, паруса, запасный рангоут, разные вещи. У денежного сундука, вынесенного из капитанской каюты, стоял часовой.
Несмотря на работу всех помп, клипер постепенно наполнялся водой через полученные пробоины от ударов о камни гряды, в которой он засел. О спасении клипера нечего было и думать, и потому по приказанию капитана принимались меры для спасения людей и для обеспечения их провизией.
Но ночью при громадном волнении спустить шлюпки и посадить на них людей было бы безумием. Приходилось ждать рассвета.
И в голове каждого моряка, несмотря на спокойные, по-видимому, голоса капитана и старшего офицера, отдававших приказания, проносилась ужасная мысль: «Не исчезнет ли „Жемчуг“ в волнах до рассвета?»
И многие тихо молились.
Наконец забрезжило, и из сотни человеческих грудей вырвался крик радости. Громкое «ура» разнеслось по океану, споря с ревом ветра и гулом бурунов.
Высокий, казалось отвесный, берег неясными контурами выделялся близко, совсем близко. Между ним и грядой, на которой бился «Жемчуг», было не более пятидесяти сажен.
Но радость быстро сменилась отчаянием. Ветер не стихал; волны с грозным ревом разбивались о берег. Буруны пенились вокруг «Жемчуга». Все понимали, что спасение на шлюпках невозможно.
И близкий берег казался недостижимым, а смерть – неминуемой.
Выстрелы о помощи раздавались по-прежнему, но не вселяли надежды, хотя и привлекли на берег кучку арабов, которых можно было рассмотреть в бинокли.
Но что они могли сделать? Как помочь?..
IV
Рассвело.
Утро было серое и печальное. Низкие темные тучи заволакивали небо. Ветер не стихал. Волны по-прежнему были громадны.
«Жемчуг» по временам трещал от ударов, но еще держался на воде.
Утренняя молитва, пропетая, по обыкновению, всей командой, звучала покорным отчаянием.
Бледный, казавшийся стариком капитан, не сомневавшийся почти, что жена и трое его детей, оставшихся в Кронштадте, сегодня сделаются сиротами, все-таки не показывал ни перед кем своего отчаяния и распоряжался, словно бы надеялся на спасение.
И он обошел палубу и говорил, ободряя матросов:
– Скоро ветер стихнет, и мы на шлюпках доберемся до берега. Не робей, молодцы ребята!
И «молодцы ребята» как будто верили – так им хотелось верить! – и отвечали:
– Рады стараться, вашескобродие!
Вернувшись на мостик, капитан сказал старшему офицеру:
– Если бы конец подать на берег и на этом конце укрепить канат!.. Это единственная возможность спасти людей. Но как подать? Шлюпку немедленно зальет. Ветер не стихает. Барометр падает.
– Разве вплавь, Иван Семеныч?
– Вплавь? Но кто решится? Это верная гибель. Если чудом и доплывет, то разобьется о камни. Весь берег ими усеян. Но, во всяком случае, надо попробовать. Арабы могут перехватить конец, и тогда мы спасены. Прикажите поставить людей во фронт. Я вызову охотников.
Когда люди выстроились, капитан подошел к фронту и, объяснив, в чем дело, крикнул:
– Есть ли охотники выручить всех нас, ребята? Если есть, выходи.
Никто не шелохнулся. Всякий с ужасом взглядывал на пенистые волны, гребешки которых вкатывались на палубу.
Только маленький чернявый Матросик вышел из фронта, решительно подошел к капитану и, застенчиво краснея, проговорил:
– Я желаю, вашескобродие!
– Ты, Матросик?! – удивленно воскликнул капитан, невольно оглядывая маленькую, тщедушную на вид фигурку Матросика.
– Точно так, вашескобродие.
– Куда тебе!.. Ты сейчас же утонешь!
– Не извольте беспокоиться, вашескобродие. Я к воде способен. Плаваю, вашескобродие!
– И хорошо?
– Порядочно, вашескобродие! – скромно ответил Матросик, бывший превосходным пловцом.
– Но ты знаешь, чем рискуешь?
– Точно так, вашескобродие!
– И все-таки желаешь?
– Буду стараться, вашескобродие! Как для людей не постараться! – просто прибавил он.
– Ты будешь нашим спасителем, если подашь конец… С Богом! От имени всех спасибо тебе, Матросик! – проговорил взволнованно капитан.
Матросик быстро разделся догола, надел пробковый пояс и обвязался концом.
Когда все было готово, он низко поклонился всем и дрогнувшим голосом произнес:
– Прощайте, братцы!
– Прощай, Матросик!
Все смотрели на него как на обреченного.
Он перекрестился широким крестом и бросился в волны.
V
Все бинокли и подзорные трубы были устремлены на бесстрашного пловца. Голова его в виде черной точки то показывалась на гребнях, то исчезала между волнами.
«Молодец! Хорошо плывет!» – говорил про себя капитан, не отрывая глаз от бинокля.
Действительно, Матросик плыл хорошо, подгоняемый попутной волной… Уже близко, несколько размахов – и он у берега… Арабы ему что-то кричат, указывая вправо от взятого им направления. Но он ничего не понимает, довольный и радостный, что сейчас доплывет, укрепит к берегу конец и люди будут спасены.
Но вдруг набежавшая волна с силой бросает Матросика, и он всей грудью ударяется о прибрежный острый камень.
Ужасная боль и слабость мгновенно охватывают его. К нему подбегают арабы, и он им указывает на конец уже потускневшими глазами.
Смерть Матросика была почти моментальной.
VI
Арабы вытащили труп Матросика на песок и стали вытягивать конец.
Через полчаса за одну из скал, правее, был прикреплен канат, и по этому канату стали переправляться с «Жемчуга» люди. К полудню ветер заметно стих, так что возможно было продолжать переправу при помощи каната на шлюпках.
Когда все переправились на пустынный берег, капитан, указывая на труп маленького чернявого Матросика, сказал:
– Вот кто пожертвовал собой, чтобы нас спасти, братцы!
И, обнажив голову, приложился к покойнику. Все крестились и отдавали последнее целование Матросику.
А в это время «Жемчуг» исчезал под волнами.
1898
Блестящий капитан
I
Был девятый час сентябрьского утра.
Тулонский рейд точно млел в мертвом штиле. Солнце еще не томило жгучими лучами.
Капитан «Витязя», стоявшего рядом с флагманским кораблем французской эскадры, только что принял обычные утренние рапорты и, оставшись на мостике, радостно, почти что влюбленно любовался своим красавцем корветом, с изящными линиями обводов, стройным, с высоким рангоутом, белоснежной трубой и сверкавшей белизной палубой.
Капитан-лейтенант Ракитин, молодой моряк, впервые назначенный командиром, еще переживал медовые месяцы власти и командования одним из лучших судов Балтийского флота и щеголял безукоризненным порядком, умопомрачительной чистотой «Витязя» и идеальной быстротой работ на нем.
И «Витязь» приводил в восторг даже иностранных моряков.
То было время обновления и во флоте. Только что были отменены телесные наказания. Капитан умел и без жестокости властвовать командой, и его «молодцы́», как он называл матросов, рвались на работах изо всех сил, рискуя из-за идеальной быстроты на учениях увечьями и даже жизнью ради самолюбивого щегольства и желания отличиться блестящего капитана. И он был доволен «молодцами». Они не осрамят «Витязя».
Щеголевато одетый, весь в белом, стройный и хорошо сложенный блондин лет под тридцать, красивый, с самоуверенным лицом, с шелковистыми светло-русыми усами и бакенбардами, Ракитин взял бинокль и смотрел на флагманский французский корабль. И торжествующая победоносная улыбка играла на его лице.
Он отвел бинокль и, щуря голубые глаза, кинул, обращаясь к вахтенному офицеру, мичману Лазунcкому:
– У французов, верно, сегодня парусное ученье.
– И у нас будет, Владимир Николаич? – почтительно и весело спросил мичман.
– Конечно.
– Опять французы «опрохвостятся», Владимир Николаич! – возбужденно проговорил мичман.
И его юное безбородое и жизнерадостное лицо светилось счастливой улыбкой победителя.
Но Ракитину, щепетильно оберегающему свое капитанское достоинство, вдруг показалось, что мичман фамильярен, вступая с капитаном в разговоры. И Ракитин оборвал мичмана, проговорив резким тоном:
– Сигнальщик пусть не спускает глаз с крюйс-брам-стеньги адмирала!
– Есть, смотрит! – мгновенно делаясь серьезным, отвечал мичман.
– И вы посматривайте. Не прозевайте сигнал.
– Есть! Не прозеваем! – еще серьезнее, тоном служебной аффектации, ответил несколько обиженный мичман.
И несмотря на то что сигнальщик не спускал подзорной трубы с адмиральского корабля, мичман крикнул ему:
– Хорошенько смотри на адмирала!
«Зря кричишь!» – подумал сигнальщик и крикнул:
– Есть! Смотрю!
Капитан не сходил с мостика и то и дело взглядывал на флагманский корабль, по юту которого расхаживал невысокий худощавый адмирал, горбоносый, с седой эспаньолкой[24], в темно-синем длинном форменном сюртуке, с отложными воротничками белоснежной сорочки, необыкновенно любезный и вежливый старик орлеанист, хоть и служил при Наполеоне Третьем.
Ракитин нетерпеливо теребил бело-русую жидкую бакенбарду в ожидании торжества «Витязя». Еще бы! Не раз уже «Витязь» возбуждал профессиональную зависть и национальную досаду иностранных моряков и тешил самолюбие русского блестящего капитана.
Когда «Витязю» приходилось стоять в каком-нибудь рейде с французской или английской эскадрой, Ракитин, соблюдая любезность международного этикета, по сигналу иностранного адмирала делал на «Витязе» те же учения, какие делались и на чужих эскадрах. И большей частью русский корвет оставался победителем. Все на «Витязе» радовались. Даже доктор и батюшка торжествовали, что на корвете ставили и убирали паруса минутой или пол-минутой раньше французов или англичан.
II
– Сигнал! – крикнул во весь голос сигнальщик.
На крюйс-брам-стеньге флагманского корабля «Terrible»[25] взвились три комочка и у верхушки развернулись сигнальными флагами: «Поставить все паруса».
В ту же секунду на всех судах французской эскадры поднялись ответные сигналы, и среди тишины рейда раздались командные французские слова.
– Свистать всех наверх! Паруса ставить! – неестественно громко и взволнованно крикнул мичман, срываясь с голоса, которым старался напрасно басить.
Засвистали дудки. Прозвучали голоса боцманов и унтер-офицеров.
Словно вспуганное стадо, бросились матросы к своим местам. Офицеры стремглав выбегали из кают-компании и неслись к мачтам. Старший пожилой штурман рысцой побежал на мостик, а младший тем же аллюром пронесся за ним и взял в руки минутную склянку, чтобы усчитать время маневра.
Старший офицер «Витязя», Василий Леонтьевич, маленький, кругленький, толстенький и свежий, как огурец, лейтенант, лет за тридцать, уже взбежал на мостик и расставил свои короткие ноги, подавшись всем своим корпусом через поручни.
Все стихло.
– Марсовые к вантам! По марсам и по салингам! – громко, весело, задорно и точно грозя кому-то вызовом, скомандовал густым и сочным баритоном Василий Леонтьевич.
С этой командой он бросил взгляд быстрых и острых, как у мышат, карих глаз на «француза»: побежали ли там по вантам?
Нет еще! Слава богу!
А марсовые «Витязя» уже ринулись как бешеные по натянутым вантинам. Лишь мелькали голые пятки. Одни уже были на марсах, другие бежали выше – на салинги, когда французские матросы еще только добегали до марсов.
И шустрый живчик Волчок, как называли на баке Василия Леонтьевича, нетерпеливее и громче крикнул:
– По реям!
Белые рубахи разбежались по марса– и брам-реям, придерживаясь рукой за выстрелы (вроде перекладины поверх реи) для баланса, с такой смелой быстротой, словно бы они бежали по полу, а не по круглым поперечным деревам – реям, которые своими серединами висели на страшной высоте над палубой, а ноками (концами) – над морем.
Матросы точно и не думали, что малейшая неосторожность – и сорвешься, чтобы размозжить голову о палубу или нырнуть с высоты в море и не вынырнуть на свет божий.
– Отдавай!.. Пошел шкоты! С марсов и салингов долой!
Голос старшего офицера звучал нервнее и нетерпеливее.
Капитан, не спускавший глаз с рей, едва сдерживался от нетерпения и самолюбивого волнения. Ему казалось, что вот-вот – и позор: «Витязь» не обгонит французов.
– Сколько минут? – вздрагивавшим голосом крикнул он.
– Две с половиной! – ответил младший штурман.
«И чего эти подлецы копаются!» – думал Ракитин, словно бы забывая, с какой быстротой и с какой смелой удалью делали матросы свое трудное и опасное дело.
– Василий Леонтьич! Скоро ли?! – с упреком воскликнул капитан.
Старший офицер пожал плечами.
– И без того люди рвутся! – ответил Василий Леонтьевич.
Еще минута, бесконечная минута…
И «Витязь» сверху донизу, и с боков и впереди по бугшприту, оделся парусиной и походил на гигантскую птицу с опущенными крыльями.
По-прежнему на корвете царила тишина.
Минуту спустя поставлены были паруса и на судах французской эскадры.
Но торжество капитана было неполное.
Он сердился. Самолюбие блестящего капитана было уязвлено.
Еще бы!
Сегодня на «Витязе» поставили не с обычной сказочной быстротой, приводившей в изумление моряков, а на сорок секунд позже, и «Витязь» опередил французов только на минуту.
– Прикажите команду во фронт, Василий Леонтьевич.
– Есть!
Через минуту матросы стояли во фронте.
Быстрой и решительной походкой, приподняв голову, подошел Ракитин к средине фронта. Все глаза были устремлены на капитана. В напряженных взглядах матросов была подавленность. Несколько секунд Ракитин молчал, остановив прищуренные серьезные глаза на одном матросе, стоявшем против него. И молодой марсовой еще больше и бессмысленнее выпячивал глаза на капитана.
– Не ожидал от вас, ребята! Подгадили сегодня. Копались! – проговорил капитан строго и торжественно-мрачно.
И матросы словно бы почувствовали себя виноватыми. Лица стали еще напряженнее. Эффект вполне удовлетворил капитана, и он, уж смягчая голос, продолжал:
– Смотри!.. Впредь не осрамитесь и меня не осрамите перед французами. Уверен. Вы ведь у меня молодцы…
– Рады стараться, вашескобродие! – облегченно и весело рявкнули матросы.
Капитан велел разойтись, успокоенный, что «молодцы» не осрамят его и ценят слова капитана.
III
Матросы считали Ракитина по флотской части «молодчагой» командиром.
Обрадованные «отдышкой» после прежнего капитана, типичного «мордобоя», с расточительностью наказывавшего людей линьками, матросы находили, что новый командир хоть и донимает службой и спешкой куда больше «мордобоя», но зато «добёр». Дрался редко и «с рассудком», зря в штрафные не переводил «для всыпки», не очень уважал, чтобы офицеры занимались сильным «боем», и не взыскивал за пьянство на берегу.
Они, почти не знавшие отдыха и работавшие как бешеные, в самом деле поверили, что «подгадили» из-за сорока секунд и мало стараются, чтобы не осрамить капитана и не осрамиться перед «французом».
И старый боцман Терентьич, сам взвинченный словами капитана, возбужденно говорил на баке матросам:
– Ужо постарайтесь, черти! Не осрамите капитана перед французом, дьяволы! Другой по форме вышиб бы всем марсовым зубы, а капитан – молодцы, мол! Небось при «мордобое» лупцевали бы ваши спины, и не была бы у меня цела морда, если бы он распалился за что-нибудь. Еще счастье, что за секунд не взыскивал…
Многие марсовые успокаивали боцмана:
– Не бойся, Терентьич. Постараемся!
– Строг на спешку, а добрым словом…
– Обнадежил, значит… Молодцы, мол.
– И не зудил… Не осрами – и шабаш.
– Покажем, братцы, как закрепим паруса.
– То-то покажем! – подхватили многие голоса.
И громче и возбужденнее прозвучал голос молодого, краснощекого и жизнерадостного марсового Никеева с большими ласковыми черными глазами.
IV
В то же время капитан говорил в своей каюте старшему офицеру:
– Надеюсь, Василий Леонтьич, мы утрем нос французам при уборке парусов. Не подгадим. Прикажете сигару?
– Благодарю. Я папироску… Чем же подгадили, Владимир Николаич? Разве что на сорок секунд позже закрепили. Невелико опоздание.
– Невелико, а могло его не быть, Василий Леонтьич. И не должно быть. У нас команда – молодцы! С ними можно и без порки. Умей только понимать психологию русского матроса. Я, слава богу, знаю его! – самоуверенно произнес Ракитин.
– Золотой народ! – горячо проговорил Василий Леонтьевич. И виновато прибавил: – Иногда и ударишь. Привычка… Но если за дело – не обижаются.
– А все лучше бы господам офицерам полегче. Того и гляди, еще в «Колокол» попадем. Неловко…
Шпилька была направлена в старшего офицера. Он понял, но ничего не сказал.
– Кто это мог сообщить про бывшего командира «Витязя»?.. Читали?
– Читал. А кто сообщил – и не думал.
– Пожалуй, младший механик Носов отличился. Тоже либерал этот сынок старшего писаря! – с презрительным высокомерием проговорил Ракитин. И, поморщившись, продолжал: – В кают-компании он проповедует глупости. Какой-то механик, а тоже! Вы, Василий Леонтьич, не очень-то позволяйте этому механишке. Мы на военном судне. Чтобы он и не думал заниматься обличительной литературой. Живо сплавлю! – прибавил капитан, с каким-то особенным удовольствием подчеркивая о своей власти «сплавить».
Василий Леонтьевич далеко не уважал этого «бесшабашного карьериста», каким считал Ракитина. Он возмущался и его требованиями какой-то сказочной быстроты, и его высокомерием, и хвастовством, что может офицера «сплавить», и самомнением человека, воображающего, что он один сделал «Витязь» таким образцовым судном, и пролазничеством, и нахальством…
«Ишь задается хлыщ! И мне еще ни за что делает выговоры!» – подумал старший офицер. Он вспыхнул и, сдерживая себя суровой школой дисциплины, официально-сухо ответил:
– Андрей Петрович Носов, – нарочно назвал старший офицер механика по имени и отчеству, – не говорил в кают-компании возбудительных речей, за которые я был бы вправе его остановить. А что он говорит в своей каюте или на берегу, до этого мне нет дела. Я старший офицер, а не сыщик-с! И если вам угодно не позволить ему писать, коли Андрей Петрович пишет, то извольте ему приказать или прикажите мне передать ваше приказание.
Блестящий капитан дорожил Василием Леонтьевичем, как отличным старшим офицером, понял свою бестактность перед ним и в первое мгновение был огорошен словами Василия Леонтьевича, казалось недалекого и покладливого служаки.
Тем было досаднее Ракитину, что он не смел оборвать старшего офицера, который так настойчиво противоречил капитану и отказался исполнить его приказание, выраженное в форме совета.
И Василий Леонтьевич, видимо не желавший сближения с Ракитиным с первого же дня его командирства, вызывал в капитане теперь злобное чувство мелкой самолюбивой душонки.
Струсивший служебного разрыва, Ракитин и не показал вида неудовольствия. Напротив, словно бы удивленный, он самым любезным товарищеским тоном, желая очаровать старшего офицера, проговорил:
– Да что вы, Василий Леонтьич?.. Извините, если я вас без намерения обидел. Я и не думал делать вам замечания. И не имею повода. На днях слышал с мостика через открытый люк кают-компании слова механика, и мне показалось… Вас, верно, не было… Я ведь знаю, что вы не допустите чего-нибудь предосудительного. Точно я не знаю, какой вы идеальный старший офицер и незаменимый помощник, Василий Леонтьич!
«Экий подлец! Без всяких правил», – подумал Василий Леонтьевич.
И, сам честный человек, имевший правила, от которых не отступал, он смягчился от комплиментов и извинения блестящего капитана.
– Я в частном разговоре, по-товарищески, высказал вам, Василий Леонтьич, – говорил капитан еще мягче и вкрадчивее, – свое мнение о механике. – Пустив душистым дымком хорошей «гаваны», продолжал: – Между нами говоря, не люблю я штурманов, механиков и артиллеристов. Порядочные таки хамы.
И сколько презрения к этим париям флота было в тоне Ракитина и сколько уверенности, что старший офицер вполне с ним согласен!
Хотя и Василий Леонтьевич не был лишен кастового предрассудка, но далеко не был таким ненавистником офицеров корпусов, как Ракитин.
И старший офицер сказал:
– Наши штурманы, механики и артиллерист достойные офицеры, Владимир Николаич! Еще бы были у меня лодыри!.. И вполне порядочные люди. А если не особенно показные, не светские… Так ведь это, я думаю, не порок, Владимир Николаич!
– Очень рад слышать такой отзыв! Значит, наши… приятное исключение.
Наступило молчание.
Старший офицер поднялся с кресла и спросил:
– Я вам больше не нужен, Владимир Николаич?
– Нет, Василий Леонтьич.
Когда Василий Леонтьевич вышел из каюты, Ракитин ненавидел своего старшего офицера.
V
На флагманском корабле поднят был сигнал: «Убрать паруса».
Матросы «Витязя» превзошли ожидания даже Ракитина.
Они уже кончали крепить марселя и брамселя, когда французские матросы еще только расходились по реям.
– Экие бабы! – произнес с веселой улыбкой капитан и стал смотреть на реи «Витязя».
Марсовые точно волшебством забирали мякоть подобранных парусов марселей и связывали их сезнями (бечевами), упираясь ногами на перты – веревки, протянутые вдоль рей.
Обещавшие не «осрамить» капитана, марсовые с возбужденными, вспотевшими и раскрасневшимися лицами торопились, словно обезумевшие, для которых мгновение – сокровище. Казалось, в эти секунды они не знали чувства самосохранения и забыли, что тонкие веревочные перты, качавшиеся от движения сильных и цепких ног, были опасной опорой, требующей осторожности и владения нервами.
А восхищенный капитан, предчувствовавший торжество победы, только любовался, как бешено рвутся и «идеально» крепят марселя «молодцы», покачивающиеся на высоте рей.
Старший офицер, напротив, взволнованный, с тревогой смотрел наверх. Бешеная торопливость марсовых возбуждала опасения, и совесть его была неспокойна. И он взволнованно крикнул:
– Марсовые! Осторожнее! Крепче держись, братцы!
Ракитин метнул на старшего офицера злой взгляд и насмешливо кинул ему:
– Марсовые не бабы, Василий Леонтьич!
– Люди, Владимир Николаич! – значительно и возбужденно ответил он.
– Знаю-с, что люди! – надменно сказал капитан, краснея от негодования, что его учат.
И только что он это сказал, как перед его глазами с грот-марса-реи сорвался человек.
Что-то белое ударилось о ванты, отбросилось вбок и звучно шлепнулось о палубу.
Ни крика, ни стона.
Работавшие на шканцах матросы ахнули и отвернулись от недвижного человека, вокруг которого палуба окрасилась кровью.
Голова была размозжена, но красивое молодое лицо марсового Никеева уцелело. Большие черные глаза выкатились, померкнувшие в застывшем взгляде ужаса.
Многие торопливо перекрестились.
Грот-марсовые невольно взглянули вниз и снова стали вязать сезни.
Безумный пыл исчез. Явилось вдруг чувство самосохранения.
– В лазарет человека! – скомандовал старший офицер.
Голос его дрогнул. Василий Леонтьевич не смотрел на убитого.
Боцман Никитич уже прикрыл размозженную голову, и двое шканечных отнесли Никеева вниз. Матросы отводили глаза от убитого, крестились и снова трекали снасти. Офицеры поторапливали. Прибежал бледный и испуганный судовой врач. Какой-то старый баковый матрос, забулдыга и пьяница Кобчиков, крепивший кливер, промолвил вполголоса:
– Тоже спешка. Вот и спешка!
– Молчать! – окрикнул первый лейтенант, распоряжавшийся на баке.
Работы горели.
– Марсовые с марсов и салингов долой! – скомандовал Василий Леонтьевич.
В его команде не было прежнего возбуждения. Убитый не выходил из его головы.
«Витязь» был победителем.
Еще на французской эскадре не были убраны паруса, а «Витязь» красовался с оголенными мачтами. Снасти были убраны.
Несмотря на торжество русского корвета, на палубе стояла зловещая тишина только что бывшего несчастья.
Потрясенные матросы притихли и угрюмо молчали, стоя у своих снастей.
Только забулдыга Кобчиков тихо говорил с иронической ноткой в сиплом пропитом голосе двум товарищам:
– А вы рвись, такие-сякие… Подыхай из-за секунда!.. Зато молодцы! А ему начхать, что Егорка расшибся. Ты погляди, что ему… Это не Волчок. У того душа!
Действительно, блестящий капитан был под впечатлением торжества.
Напрасно он старался принять озабоченный вид. В его еще торжествующем лице было лишь выражение досады, когда он произнес, обращаясь к старшему офицеру:
– Экий неосторожный матрос!..
И, не получив ответа, спросил:
– Кто сорвался, Василий Леонтьич?
– Егор Никеев. Уже второе несчастье в течение месяца! – взволнованно-сердито проговорил старший офицер. И скомандовал: – Подвахтенные вниз!
Капитан, раздраженный и еще выше поднявший голову, ушел в каюту.
Разговаривая между собой, офицеры спускались в кают-компанию.
Мичман Лазунский вскочил на мостик, вступая на вахту.
Расстроенный и грустный, словно бы желая поделиться с кем-нибудь тяжелым настроением, он сказал старшему офицеру:
– И если бы вы знали, Василий Леонтьич, какой был славный Никеев!
– Знаю. Всякого было бы жаль. Человек! – раздумчиво и серьезно промолвил Василий Леонтьевич.
– Еще бы! Конечно, всякого, Василий Леонтьич… – И, мгновенно вспыхивая, чуть не со слезами в голосе, точно боялся, что Василий Леонтьевич может дурно подумать о мичмане, Лазунский торопливо и застенчиво прибавил: – Вы не подумайте обо мне, Василий Леонтьич, будто я…
– Что вы, что вы, Борис Алексеич!.. Я думаю… я уверен, что вы славный юный мичман. Таким и останьтесь, когда будете капитаном! – ласково сказал Василий Леонтьевич. И, уходя, прибавил: – Панихида будет в одиннадцать. Дайте знать капитану в одиннадцать. И половину вахтенных отпустите вниз.
– Есть, Василий Леонтьич! – ответил мичман.
А глаза его говорили: «И какой добрый этот Василий Леонтьевич».
VI
Через полчаса старший офицер прошел в лазарет. У двери стояла толпа, ожидая очереди. В маленькой каюте лазарета толпились матросы, пришедшие взглянуть на покойника и, перекрестившись, поцеловать его лоб.
Уже обмытый и одетый в чистые штаны и рубаху, с парусинными башмаками, он лежал на койке. Голова покоилась на подушках. Глаза были закрыты, и уже мертвенно пожелтевшее лицо казалось спокойным, с тем выражением какого-то важного недоумения, которое часто бывает у покойников. Образной читал псалтырь.
Василий Леонтьевич постоял минуту-другую, не спуская глаз с покойника, потом перекрестился, поклонился ему и вышел, испытывая тяжелое чувство виноватости.
– Послать ко мне в каюту боцмана! – приказал вестовому Василий Леонтьевич.
Через минуту Никитич вошел в каюту старшего офицера.
Василий Леонтьевич велел перенести покойника в палубу перед образом и сказал, что панихиды будут два раза в день, а через день его похоронят на французском кладбище.
– Чтобы взвод провожал, и может идти на похороны кто пожелает.
– Есть, ваше благородие.
– Да вот еще что, Кириллов. Узнай, из какой деревни покойный Никеев и живы ли у него родители.
– Никого у его в живых, ваше благородие.
– Так, может, близкие кто у него на родине?
– Точно так, ваше благородие, и по той причине дозвольте разрешить…
– Что?
– Собственные вещи Никеева отправить на родину. Покойник беспременно наказывал своему земляку Иванову. «Ежели, – говорит, – случаем расшибусь, отпиши в Кронштадт и без промедления отправь вещи».
– Хорошо. Я отправлю. А какие вещи?
– По малости бабьи гостинцы, ваше благородие! На платье штучка, два колечка, платок и сорок франоков… Покойный не занимался вином, ваше благородие.
– Ладно. Принеси мне. И адрес дай.
– Очень благодарны, ваше благородие. Душевный был матросик. Простой. Вся команда жалеет. Горяч был на работе. Из-за горячности и сорвался. Хвастал не осрамить капитана. И не осрамил, ваше благородие!
– А кому же послать? Кто она?
– В законный брак с ей собирался, ваше благородие, как «Витязь» вернется. Той самой невесте и копил гостинцы. Пригвоздила, значит, покойного Егорку эта вроде не то, с позволения сказать, вроде девицы, матросская дочка. И сама пригвоздимшись. Три года с ним зналась, как мужняя жена. И часто отписывала ему. Только и была близкая ему.
– А отчего Никеев, такой молодец, думал, что убьется?..
– Так, зря болтал, а вышло, быдто чуял судьбу, ваше благородие… Азартный был сердцем. А капитан еще давеча приказывал не подгадить. И лестно так. Никеев и распалился. И дозвольте, ваше благородие, еще доложить…
– Что? Говори!
– Очень эта спешка самая может извести команду. Так попросили бы командира. Он добёр. Даст ослабку, ваше благородие.
Василий Леонтьевич сморщился и обещал поговорить.
После похорон матроса старший офицер осторожно поговорил с капитаном… и разговор кончился тем, что Василий Леонтьевич на другой же день списался с корвета и уехал в Россию.
1900
Словарь морских терминов
Авра́л – работа на судне, в которой принимает участие вся команда.
Ахтерлю́к – погреб в кормовой части корабля для хранения провизии.
Бак – носовая часть верхней палубы до передней мачты (фок-мачты).
Ба́кштаг – 1) курс корабля, который с направлением попутного ветра образует угол более девяноста и менее ста восьмидесяти градусов; 2) снасть стоячего такелажа для укрепления с боков рангоутных деревьев.
Бакшто́в – толстый канат, выпускаемый за корму для привязывания шлюпок во время стоянки корабля.
Ба́нка – 1) сиденье для гребцов в шлюпке; 2) мель среди глубокого места.
Банке́т – возвышение или площадка у внутреннего борта над верхней палубой. Обычно делается из решетчатых люков.
Ба́нник – цилиндрическая щетка на длинной рукоятке для прочистки и смазки ствола орудия.
Батале́р – в парусном флоте унтер-офицер, заведующий денежным, вещевым и пищевым довольствием.
Батале́рная – помещение на парусных судах, где хранились припасы и жил баталер.
Батаре́я – 1) на военных парусниках палуба, на которой стоят орудия; 2) совокупность орудий одной палубы; 3) суда, называемые броненосцами береговой охраны.
Бейдеви́нд – курс корабля, когда угол между направлением судна и встречным ветром менее девяноста градусов. Идти в бейдевинд – значит идти под острым углом к направлению ветра.
Биза́нь – 1) задняя, третья от носа мачта на корабле; 2) косой парус, поднимаемый позади этой мачты, на гафеле.
Блок – груз с колесом внутри, который служит для проводки снасти.
Бло́кшив – старое, негодное для плавания судно без мачт, превращенное в казарму для матросов, иногда в тюрьму для арестантов.
Бо́канцы (или шлюп-балки) – выдающиеся за борт судна брусья для подвешивания шлюпок.
Бом – слово, прибавляемое к названиям всех парусов, рангоута, снастей и такелажа, принадлежащих бом-брам-стеньге.
Бом-брам-сте́ньга – деревянный брус, являющийся продолжением брам-стеньги.
Боцман – старший унтер-офицер, ведающий судовыми работами и отвечающий за чистоту на корабле.
Брам – слово, прибавляемое к названиям всех парусов, снастей и такелажа, принадлежащих брам-стеньге.
Брам-сте́ньга – деревянный брус, служащий продолжением стеньги.
Брас – снасть бегучего такелажа, при помощи которой поворачивают реи. Для обозначения того, какие реи какой мачты обслуживают брасы, к их наименованию прибавляется название мачт и реев: фока-брасы, грота-брасы и т. д.
Бриг – двухмачтовый парусный корабль с прямыми парусами.
Бу́гшприт (бу́шприт) – горизонтальная или наклонная балка, выдающаяся с носа корабля, служит для подъема кливеров и других работ.
Буёк – поплавок для указания какого-либо места на поверхности воды или для спасения утопающих.
Бу́хта – 1) небольшой залив; 2) трос, свернутый кругами, или снасти, уложенные кругами.
Бушла́т (буршла́т) – род верхней одежды матросов, форменная двубортная черная куртка на теплой подкладке.
Ва́нтина – один из проволочных или пеньковых тросов, составляющих ванты.
Ва́нты – снасти, состоящие из вантин и раскрепляющие мачту в обе стороны к бортам судна. Между вантинами ввязываются ступеньки из тонкого троса.
Ва́хта – 1) дежурная часть личного состава на корабле (обычно половина или треть), несущая службу. Сутки на военном корабле делятся на шесть вахт (с 0 до 4 часов, с 4 до 8 часов и т. д.). У каждой вахты есть свой начальник; 2) промежуток времени, в продолжение которого дежурная часть несет вахту.
Ва́хтенные – несущие вахту.
Вестово́й – матрос, прислуживающий в кают-компании или офицеру.
Взять ри́фы – уменьшить площадь парусности.
Ви́ндзейль – приспособление для вентиляции, представляющее собой парусиновый цилиндр, растянутый на металлических или деревянных обручах.
Водоре́з – оконечность носовой части судна, рассекающая воду при его движении.
Вольная вода – глубина, на которой судно может стоять безопасно при самой убыли воды.
Выбрать конец – вытянуть конец веревки, брошенной на судно или на шлюпку.
Вымпел – узкий и длинный, раздвоенный на конце флаг, поднимаемый с началом плавания и опускаемый в конце его.
Вы́травить канат – выпустить канат в воду.
Галс – курс идущего корабля относительно ветра. Если ветер дует с левой стороны, корабль идет левым галсом, если с правой – правым.
Га́лфинд (или идти вполветра) – направление ветра, когда он дует в борт корабля под прямым углом.
Галью́н – первоначально так называлась площадка над водорезом в носу парусного судна для установки украшения (скульптуры).
Галью́нщик – матрос, ведающий матросскими уборными.
Га́фель – наклонный деревянный брус, укрепленный сзади мачты и служащий для привязывания верхней кромки косого паруса. На гафель также поднимают сигналы и иногда флаг.
Гик – деревяный брус, служащий для несения косого паруса.
Ги́товы – снасти для подтягивания нижней кромки паруса к верхней. Взять на гитовы – подобрать парус гитовами.
Го́рдень – снасть, проходящая через неподвижный блок и служащая для подъема грузов и уборки парусов.
Гордешо́к – небольшой подъемный гордень.
Грот – 1) вторая мачта на корабле; 2) большой прямой нижний парус, поднимаемый на этой мачте.
Грот-ру́слень – площадка, устроенная снаружи корпуса судна на уровне палубы, против грот-мачты.
Грот и фок на гитовы – команда к уборке парусов на второй и первой мачте или к уменьшению площади парусности.
Гюйс – флаг на носу корабля. Поднимается на военном судне во время стоянки его на якоре.
Док – портовое сооружение с осушаемым каналом, в которое вводятся суда для ремонта.
До места – сокращенное выражение, обозначающее дотянуть парус до места.
Дрейф – уклонение движущегося корабля от намеченного пути под влиянием ветра или течения.
Дрейфова́ть – пассивно двигаться по ветру или течению. Лечь в дрейф – установить паруса так, чтобы корабль не имел поступательного движения. Для этого паруса располагаются таким образом, что одни из них под действием ветра должны бы двигать корабль вперед, а другие – назад, и фактически корабль остается почти на месте.
Ендова́ – широкая медная посуда с носиком, в которой выносят вино или водку для команды.
Жилая палуба – часть средней или нижней палубы на корабле, где размещаются жилые помещения команды.
Загребно́й – гребец, сидящий первым от кормы, по которому равняются остальные.
Задра́ить – плотно при помощи задраек (болты с гайками) закрыть люк, иллюминатор и т. п.
Зари́фленный парус – парус с уменьшенной площадью.
Зюйдве́стка – непромокаемая шляпа с большими полями.
Иллюмина́тор – круглое окно с толстым стеклом в борту или палубе корабля.
Ка́мбуз – судовая кухня.
Каю́т-компа́ния – общая каюта, где собирались офицеры.
Кильва́тер – 1) струя сзади судна, образующаяся при его ходе; 2) строй, когда корабли идут один за другим.
Кли́вер – косой треугольный парус на носу корабля или шлюпки.
Кли́пер – трехмачтовый военный корабль, отличающийся исключительной скоростью.
Кнехт – металлическая тумба со шкивом, укрепленная на палубе. Служит для крепления швартовых концов, снастей и т. п.
Кок – судовой повар.
Комендор – матрос или унтер-офицер, обслуживающий орудие.
Конец – всякая свободная снасть небольшой длины.
Корве́т – трехмачтовое военное судно с открытой батареей на верхней палубе.
Кра́мбол – балка, выступающая за борт и служащая для подтягивания якоря.
Кре́йсер – военный корабль, несущий разведочную, охранную и дозорную службу.
Крюйс – слово, прибавляемое к названию снастей, парусов и рангоута, принадлежащих к бизань-мачте.
Ку́брик – внутреннее жилое помещение, в котором располагается команда корабля.
Лаг – 1) прибор для определения скорости хода судна и пройденного расстояния; 2) борт корабля; стать лагом – значит стать бортом к волне.
Ле́ер – туго натянутый трос, служащий для ограждения открытых мест; протягивается через леерные стойки.
Линёк – короткая веревка в палец толщиной с узлом на конце. Линьки применялись в царском флоте для телесных наказаний матросов.
Лот – навигационный инструмент, служащий для измерения глубин моря до 50 м.
Лот-линь – тонкий трос, к которому прикреплен лот.
Ло́ция – пособие для плавания с описанием определенных районов моря и прилегающих берегов.
Ло́цман – моряк, хорошо знакомый с характером данного побережья и со всеми местными проходами и фарватерами. Является должностным лицом и по сигналу с корабля обязан явиться для того, чтобы провести его через данный район моря.
Марс – см. мачта.
Ма́рса – слово, прибавляемое к названиям всех частей, принадлежащих марселю.
Ма́рса-фал – снасть, при помощи которой управляют марселем.
Ма́рсель – второй снизу прямой парус, ставящийся между марса-реем и нижним реем. Смотря по тому, какой мачте принадлежит, имеет название фор-марселя или грот-марселя.
Марсово́й – матрос, работающий на марсе.
Мат – плетеный коврик, употребляемый на кораблях для предохранения от порчи дерева или троса в местах, подвергаемых трению.
Ма́чта – высокий деревянный столб для постановки парусов. Обыкновенно на парусных судах имеется три мачты: передняя – фок-мачта; средняя, самая высокая, – грот-мачта; задняя – бизань-мачта. Мачта состоит из двух или трех составных по длине частей: собственно мачты, стеньги и брам-стеньги. У мест соединения этих частей расположены площадки: нижняя – марс, верхняя – салинг.
Машинный телеграф – прибор, при помощи которого приказания с мостика передаются в машинное отделение.
Ми́чман – первый офицерский чин в русском дореволюционном флоте.
Мо́стик – поперечная площадка, возвышающаяся над верхней палубой, на которой сосредоточены приборы управления кораблем и где во время хода корабля обыкновенно находится командир.
Муссо́н – ветер, направление которого меняется в зависимости от времени года.
Найто́в – обивка или перевязка тонким тросом для скрепления концов тросов, наложенных один на другой, или иных предметов.
Нок – оконечность горизонтального или наклонного рангоута – реи, бугшприта, гафеля и т. п.
Норд-вест – северо-запад, северо-западный ветер.
Норд-ост – северо-восток, северо-восточный ветер.
Овершта́г – крутой поворот корабля, движущегося под небольшим углом по направлению к встречному ветру (в бейдевинд) с правого галса на левый и наоборот.
Отдать паруса – распустить сезни, которыми были привязаны паруса.
Отдать ри́фы – увеличить парусность.
Отдать снасть – отвернуть снасть с кнехта, где она была завернута.
Отдать якорь – бросить якорь в воду на якорной цепи.
Отшвартова́ться – отойти от берега, пристани, стенки причала, от другого судна.
Ошвартова́ться – привязаться к берегу или другому судну швартовыми.
Па́луба – горизонтальное перекрытие судна. Палубы ограничивают судно сверху (верхняя палуба), а также делят его на несколько частей по высоте. Палуба служит для размещения жилых и служебных помещений, оборудования, механизмов.
Па́рус – полотнище парусины специальной формы и размеров, смотря по назначению. Паруса разделяются на прямые и косые. Прямые паруса прикреплены к реям и имеют вид трапеций, расположены поперек длины корабля. У нижних углов имеются снасти: шкоты – для растягивания при постановке парусов и гитовы – для уборки парусов. Прямые паруса имеют несколько ярусов. Нижние паруса: фок и грот; средние: марсели – фок-марсели, грот-марсели и на бизань-мачте – крюйсель; над ними брамсели – фор-брамсель, грот-брамсель и крюйс-брамсель. Четвертый ярус – бом-брамсели. Косые паруса расположены вдоль корабля. Треугольные – стаксель и кливера, ставящиеся по штагам и леерам, и четырехугольные – триселя – фор-трисель, грот-трисель и бизань.
Пасса́т – ветер с постоянным направлением, дующий от субтропической области по направлению к экватору.
Перебо́рка – деревянная стенка каюты.
Пе́рты – веревки под реями, служащие упором для ног при креплении парусов.
Подва́хтенные матросы – матросы, не занятые на вахте, но в случае необходимости обязанные помогать вахтенным.
Подва́хтенный офицер – офицер, подчиненный вахтенному начальнику.
Подзо́р – склон кормы судна над рулем.
Подшки́пер – помощник шкипера, заведующего инвентарем корабля.
Подшки́перская – кладовая, где хранятся паруса.
Позывны́е – флаги для распознавания судна.
Порт – прибрежный пункт, имеющий рейд или гавань, а также средства для постройки, ремонта, погрузки, разгрузки и стоянки кораблей.
Порты́ – отверстия в борту судна для орудий.
Принайто́вить – прикрепить найтовом.
Ранго́ут – общее наименование всех деревянных приспособлений, предназначенных для несения парусов.
Ревизо́р – офицер, выбранный для заведования хозяйственной частью на корабле.
Рей (ре́я) – горизонтальная перекладина для прикрепления парусов. Парус располагается вдоль реи своим верхним краем. Реи имеют названия по мачтам и по ярусам.
Рейд – часть моря около берега, удобная для стоянки кораблей.
Риф – 1) гряда камней, расположенная близко к поверхности воды; 2) одна из поперечного ряда продетых сквозь парус завязок, при помощи которых можно изменять площадь паруса (см. взять рифы и отдать рифы).
Ро́стры – место на корабле, где устанавливаются крупные шлюпки и хранятся запасные части рангоута.
Румб – одно из тридцати двух делений морского компаса.
Ру́слень – площадка снаружи борта судна на высоте палубы, служащая для отводки вант.
Свеже́ть – усиливаться, крепчать (о ветре).
Се́зень – снасть в виде пояса, сплетенного из мягких веревок, для прихватывания парусов к реям.
Секре́т – сторожевой пост, скрыто выставляемый сторожевой заставой в наиболее опасных подступах со стороны противника.
Сигна́льщик – матрос, несущий вахту по наблюдению за всем, что происходит вокруг корабля, и обязанный давать и принимать сигналы.
Скля́нки – песочные часы. До XVII в. на кораблях употреблялись песочные часы. Опорожнение получасовой склянки возвещалось ударами в колокол. Несмотря на то что склянки давно вышли из употребления, выражение «бить склянки», обозначающее получасовой промежуток времени, осталось до сих пор.
Снасть – веревки и тросы, служащие на корабле для постановки и уборки парусов, постановки рангоута и пр.
Ста́ксель – треугольный парус, поднимаемый по штагу для увеличения площади парусности.
Сте́ньга – деревянный брус, служащий продолжением мачты; смотря по тому, какой мачте принадлежит, называется фор-стеньга, грот-стеньга, крюйс-стеньга. Выше стеньги идет брам-стеньга.
Такела́ж – общее наименование всех тросовых снастей. Мачты и рангоут удерживаются на своих местах стоячим такелажем, паруса управляются бегучим такелажем.
Те́ндер – небольшое одномачтовое мореходное судно, несущее дозорную и посыльную службу.
Трави́ть – перепускать понемногу снасть.
Тра́нспорт – судно для перевозки грузов.
Трап – лестница на корабле.
Трёхде́чный корабль – трехпалубный (трехъярусный) корабль.
Трос – общее наименование веревок или канатов, как пеньковых, так и стальных.
Трюм – самая нижняя часть внутреннего пространства корабля.
Узел – единица измерения скорости корабля.
Утлегарь — рангоутное дерево, является продолжением бугшприта.
Фал – снасть, служащая для подъема парусов или флагов. Носит название соответственно тем парусам, для которых назначен (грот-марса-фал и т. п.).
Фалре́п – трос, заменяющий перила у входных трапов.
Фалре́пные – матросы из состава вахтенного отделения, назначавшиеся для подачи фалрепа при встрече прибывающих на корабль лиц командного состава, а равно и при проводах их во время съезда с корабля.
Фарва́тер – безопасный для прохода судов путь, без камней и мелей.
Фла́гман – 1) командующий крупным соединением военных кораблей; 2) корабль, на котором находится командующий.
Флаг-офице́р – в военно-морском флоте офицер для поручений при флагмане, выполняющий обязанности адъютанта.
Флагшто́к – стойка, на которой поднимается флаг; древко для флага.
Фок – самый нижний парус на передней фок-мачте.
Фо́к(а) – слово, прибавляемое к некоторым названиям снастей, парусов и рангоута, принадлежащим фок-мачте.
Фор – слово, прибавляемое к наименованию реев, парусов и такелажа, находящихся выше марса фок-мачты.
Форт – сомкнутое военное укрепление для обороны города или порта.
Форште́вень – брус по контуру носового заострения судна.
Фрега́т – трехмачтовый военный корабль с одной закрытой батареей и артиллерией на свободных местах верхней палубы.
Шаба́ш! – команда, подаваемая для прекращения гребли и уборки вёсел в шлюпку.
Шварто́в – толстый трос, служащий для крепления корабля к пристани или к берегу.
Шка́нечный офицер – офицер, несущий вахту на шканцах.
Шка́нцы – место для сбора команды на верхней палубе (от грот-мачты до бизань-мачты) или до начала кормовой части (юта).
Шкато́рина – край паруса, обшитый тросом.
Шкафу́т – часть верхней палубы от фок-мачты до грот-мачты.
Шкив – колесико в блоке с желобком для троса.
Шки́пер – 1) содержатель корабельного имущества; 2) в торговом флоте командир судна.
Шкот – снасть, при помощи которой управляют парусом.
Шку́на – см. шхуна.
Шлю́пка – общее название всякого гребного судна на корабле. В тексте встречаются шлюпки нескольких типов:
барка́с – самая большая шлюпка на 18–24 весла;
кате́р – шлюпка облегченной конструкции на 12–16 весел, преобладающий вид шлюпки на кораблях;
вельбо́т – легкая быстроходная шлюпка с острым носом и кормой на 5–6 распашных весел;
ги́чка – легкая узкая длинная шлюпка на 4–6 гребцов;
четвёрка – четырехвесельная шлюпка;
дво́йка – шлюпка на два гребца.
Шпига́т – сквозное отверстие в борту или в палубе судна для стока воды.
Штаг – снасть стоячего такелажа, удерживающая мачту или стеньгу.
Штормовы́е паруса – специальные косые нижние паруса, которые ставятся во время шторма.
Штурва́л – рулевое колесо.
Шту́рман – специалист по кораблевождению.
Штык-болт – 1) тонкая снасть, прикрепленная затяжной петлей к парусу; при взятии рифов парус подтягивается этой снастью сбоку; 2) оконечность марса-реи, на которой крепить паруса труднее, чем на других частях реи.
Шху́на – небольшое двух– или трехмачтовое судно прибрежного плавания.
Ют – кормовая часть верхней палубы.
Оснастка парусного судна
1. Корпус судна
2. Форштевень
3. Гальюн
4. Фок-мачта
5. Фор-стеньга
6. Фор-брам-стеньга
7. Фор-бом-брам-стеньга
8. Флагшток
9. Грот-мачта
10. Грот-стеньга
11. Грот-брам-стеньга
12. Грот-бом-брам-стеньга
13. Бизань-мачта
14. Крюйс-стеньга
15. Крюйс-брам-стеньга
16. Крюйс-бом-брам-стеньга
17. Бугшприт
18. Штамшток
19. Утлегарь
20. Бом-утлегарь
21. Грот-гафель
22. Крюйс-топ-гафель
23. Бизань-гафель
24. Бизань-гик
25. Фок-рей
26. Нижний фор-марса-рей
27. Верхний фор-марса-рей
28. Фор-брам-рей
29. Фор-бом-брам-рей
30. Грот-рей
31. Грот-унтер-рей
32. Грот-овер-рей
33. Грот-брам-рей
34. Грот-бом-брам-рей
35. Бегин-рей
36. Крюйсель-рей
37. Крюйс-брам-рей
38. Крюйс-бом-брам-рей
39. Фок-ванты
40. Марсы
41. Фор-стень-ванты
42. Грот-ванты
43. Грот-стень-ванты
44. Бизань-ванты
45. Крюйс-стень-ванты
46. Фок
47. Фор-унтер-марсель
48. Фор-овер-марсель
49. Фор-брамсель
50. Фор-бом-брамсель
51. Грот
52. Грот-унтер-марсель
53. Грот-овер-марсель
54. Грот-брамсель
55. Грот-бом-брамсель
56. Бизань
57. Крюйсель
58. Крюйс-брамсель
59. Крюйс-бом-брамсель
60. Фок-стаксель
61. Фор-стеньга-стаксель
62. Кливер
63. Брам-кливер
64. Бом-брам-кливер
65. Грот-стаксель
66. Грот-стеньга-стаксель
67. Грот-брам-стаксель
68. Грот-бом-брам-стаксель
69. Крюйс-стаксель
70. Грот-трисель
71. Крюйс-брам-стаксель
72. Крюйс-бом-брам-стаксель
73. Бизань-парус
74. Гаф-топсель
75. Руслень
76. Вант-путинсы
Примечания
1
Пояснения морских терминов даны в словаре на с. 281.
(обратно)
2
П е т р е́ л ь – морская птица.
(обратно)
3
Ч и н о в н и к а м и матросы называют всех нестроевых: писарей, фельдшера, баталера, подшкипера. (Примеч. авт.)
(обратно)
4
М а м у́ р о в к а – наливка из ягод княженики. Другие названия княженики – мамура, поляника. По вкусу и запаху ягода напоминает клубнику.
(обратно)
5
П а́ р и я – 1. Человек из низшей, лишенной всяких прав касты в Южной Индии. 2. Бесправное, угнетаемое, отверженное существо (перен.).
(обратно)
6
Б у р у́ н ы – пенящиеся волны над отмелью или рифом.
(обратно)
7
Ч е́ с т е р – сорт сыра.
(обратно)
8
Ф у́ р м а н щ и к – владелец или возчик фу́ры, большой длинной телеги. Здесь: ловчий бездомных собак, разъезжающий в особом фургоне для ловли бездомных собак.
(обратно)
9
Согласно Библии, у Иакова было двенадцать сыновей, из которых самый младший, Вениамин, был особенно любим отцом и братьями.
(обратно)
10
Так матросы называют кругосветное плавание. (Примеч. авт.)
(обратно)
11
Ш а б а́ ш – здесь: окончание работы, перерыв для отдыха (устар.).
(обратно)
12
К а в у́ н – арбуз (укр.).
(обратно)
13
Так матросы Черноморского флота называли корабль «Трех иерархов». (Примеч. авт.)
(обратно)
14
Б о й – по-английски: «мальчик». (Примеч. авт.)
(обратно)
15
Рассказ относится ко времени междоусобной войны в Соединенных Штатах (1861–1865). (Примеч. авт.)
(обратно)
16
Нет, нет, нет… (англ.)
(обратно)
17
Вери гут (правильно: «вери гуд») – очень хорошая (англ.).
(обратно)
18
Б о н – хорошая (фр.).
(обратно)
19
В прежнее время, когда особенно процветала торговля неграми, состоялась международная конвенция между всеми почти государствами Европы о противодействии этому злу. В силу этой конвенции Франция и Англия посылали к берегам Африки и Америки военные крейсеры для ловли негропромышленников. С пойманными расправлялись строго. Капитана и помощника его вешали, а матросов отправляли в каторжные работы. Негров объявляли свободными, а пойманные суда делались призом поймавших. (Примеч. авт.)
(обратно)
20
П е с т у́ н – заботливый воспитатель (устар.).
(обратно)
21
Л я́ с н и ч а т ь – разговаривать, болтать (устар.).
(обратно)
22
Выписывать м ы с л е́ т е – идти заплетаясь, зигзагами (устар.). («Мысле́те» – устарелое название буквы «М».)
(обратно)
23
А р а́ к – крепкий спиртной напиток. Приготавливается из сока кокосовой или финиковой пальмы или из риса.
(обратно)
24
Э с п а н ь о́ л к а – короткая остроконечная бородка.
(обратно)
25
Ужасный, страшный (фр.); здесь: «Грозный».
(обратно)
Оглавление
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
«Морские рассказы» — скачать бесплатно все книги серии
|
Жанры
Все жанры Все для учащихся — рефераты, дипломы, справочники |
Когда в декабре 1896 года общественность отмечала 35-летний юбилей литературной деятельности Станюковича, он получил много писем от читателей самых простых сословий, благодаривших его за Морские рассказы, за «Письма знатного иностранца» и за другие романы и повести.
Станюковича радовала высокая оценка его творчества, но с присущей ему скромностью и требовательностью к себе он отвечал в письме к организаторам: «Я не заблуждаюсь насчет своих литературных заслуг и не бывал в роли Нарцисса. Если я никогда и ни при каких обстоятельствах не служил пером тому, что считал вредным или безнравственным, то ведь это не достоинство, а примитивная обязанность всякого несколько уважающего себя литератора… Что же касается до моей деятельности как беллетриста, то она ничего выдающегося не представляет в исключительно художественном смысле, чтобы за нее чествовать… Я же как писатель был и есть, выражаясь метафорически, одним из матросов, не боящихся бурь и штормов и не покидающих корабля в опасности, но ни капитаном, ни старшим офицером, ни даже рулевым литературным не был».
Соглашусь с мнением самого автора, но более — он Первоклассный беллетрист. Если рассматривать хотя бы только Морские рассказы, малая часть которых вошла в этот сборник, то очевидно:
во-первых, выигрышна сама тема — море, путешествие, приключение, суровый быт матросов. Рассказы с динамичным сюжетом, яркими колоритными персонажами, оригинальным бытописанием.
Взять хотя бы рассказ «Человек за бортом» — кульминация рассказа, как матрос упал за борт, наступает ближе к концу, но все предваряющее повествование не уступает по эмоциональному напряжению. Каждый герой выписан выпукло, замечены и переданы его особые черты внешности и характера, его привычки в поведении и в образе мыслей — как быстрый карандашный набросок, точно схватывающий суть человека.
приведу отрывки:
о Шутикове:
«И эта довольная улыбка, ясная и светлая, как у детей, стоявшая в мягких чертах молодого, свежего лица, подернутого краской загара, и эти большие темные глаза, кроткие и ласковые, как у щенка, и аккуратная, подобранная
сухощавая фигура, крепкая, мускулистая и гибкая, не лишенная, однако, крестьянской мешковатой складки, все в нем притягивало и располагало к себе с первого раза, как и чудный его голос. И Шутиков пользовался общей приязнью. Все любили его, и он всех, казалось, любил. <…> Его веселый, сердечный смех часто раздавался на клипере. Бывало, он что-нибудь рассказывает и первый же заразительно, вкусно смеется. Глядя на него, и другие невольно смеялись, хотя в рассказе Шутикова иногда и не было ничего особенно смешного».
об Игнатове:
«Его гладкое, сытое, чисто выбритое, покрытое крупными веснушками лицо с небольшими круглыми глазами и острым, словно у ястреба, загнутым носом, отличавшееся всегда спокойной сдержанностью и довольным степенным видом неглупого человека, понимающего себе цену, теперь было искажено отчаянием скряги, который потерял все имущество. Нижняя челюсть вздрагивала; круглые его глаза растерянно перебегали по лицам. Видно было, что покража совсем его расстроила, обнаружив его кулацкую, скаредную натуру. Недаром же Игнатов, которого некоторые матросы уж начинали почетно величать Семенычем, был прижимистым и жадным к деньгам человеком. <…> Он вел крайне воздержанную жизнь, вина не пил, на берегу денег не
тратил. Он копил деньги, копил их упорно, по грошам, знал, где можно выгодно менять золото и серебро, и под большим секретом давал мелкие суммы взаймы за проценты надежным людям».
о Прошке:
«Прохор Житин, или, как все пренебрежительно называли его, Прошка, был самым последним матросом. Попавший в матросы из дворовых, отчаянный трус, которого только угроза порки могла заставить подняться на марс, где он
испытывал неодолимый физический страх, лентяй и лодырь, отлынивавший от работы и ко всему этому нечистый на руку, Прошка с самого начала плавания стал в положение какого-то отверженного парии. Все им помыкали; боцмана и унтер-офицеры походя, и за дело, и так, здорово живешь, ругали и били Прошку, приговаривая: «У, лодырь!» И он никогда не протестовал, а с какой-то привычной тупой покорностью забитого животного переносил побои. После нескольких мелких краж, в которых он был уличен, с ним почти не разговаривали и обращались с пренебрежением. Всякий, кому не лень, мог безнаказанно обругать его, ударить, послать куда-нибудь, поглумиться над ним, словно бы иное отношение к Прошке было немыслимо. И Прошка так, казалось, привык к этому положению загнанной, паршивой собаки, что и не ждал иного обращения и переносил всю каторжную жизнь, по-видимому, без особенной тягости, вознаграждая себя на клипере сытной едой да дрессировкой поросенка, которого Прошка учил делать разные штуки, а при съездах на берег — выпивкой и ухаживаньем за прекрасным полом, до которого он был большой охотник; на женщин он тратил последний грош и ради них, кажется, таскал деньги у товарищей, несмотря на суровое возмездие, получаемое им в случае поимки».
об ИНТРИГЕ — Только читатель определился, что действие как будто разворачивается вокруг пропажи денег у Игнатова, но дальше понятно, что это обманчивый ход, а кульминация и развязка — как Шутиков падает в воду, а Прохор его фактически спасает.
По тому, как тщательно выстраивается и прорабатывается сюжет и подготавливается развязка (на примере этого рассказа, и других, и, особенно, в крупных произведениях), по уровню мастерства писателя-беллетриста я бы поставила Станюковича рядом с Жюлем Верном.
Константин Станюкович
МОРСКИЕ РАССКАЗЫ
Содержание
Константин Станюкович
МОРСКИЕ РАССКАЗЫ
Одесса, «Маяк», 1972 г.
Серия: «Морская библиотека», кн. 2
Тираж: 50000 экз.
Обложка: твердая
Формат: 84х108/32 (130х200мм)
Страниц: 416
«Человек за бортом»
I
Жара тропического дня начинала спадать. Солнце медленно катилось к горизонту.
Подгоняемый нежным пассатом, клипер нес всю парусину и бесшумно скользил по Атлантическому океану, узлов по семи. Пусто кругом: ни паруса, ни дымка на горизонте! Куда ни взглянешь, все та же безбрежная водяная равнина, слегка волнующаяся и рокочущая каким-то таинственным гулом, окаймленная со всех сторон прозрачной синевой безоблачного купола. Воздух мягок и прозрачен; от океана несет здоровым морским запахом.
Пусто кругом.
Изредка разве блеснет под лучами солнца яркой чешуйкой, словно золотом, перепрыгивающая летучая рыбка, высоко в воздухе прореет белый альбатрос, торопливо пронесется над водой маленькая петрель, спешащая к далекому африканскому берегу, раздастся шум водяной струи, выпускаемой китом, и опять ни одного живого существа вокруг. Океан да небо, небо да океан — оба спокойные, ласковые, улыбающиеся.
— Дозвольте, ваше благородие, песенникам песни петь? — спросил вахтенный унтер-офицер, подходя к офицеру, лениво шагающему по мостику.
Офицер утвердительно махнул головой, и через минуту стройные звуки деревенской песни, полной шири и грусти, разнеслись среди океана.
Довольные, что после дневной истомы наступила прохлада, матросы толпятся на баке, слушая песенников, собравшихся у баковой пушки. Завзятые любители, особенно из старых матросов, обступив певцов тесным кружком, слушают сосредоточенно и серьезно, и на многих загорелых, обветрившихся лицах светится безмолвный восторг. Подавшийся вперед широкоплечий, сутулый старик Лаврентьич, «основательный» матрос из «баковщины», с жилистыми, просмоленными руками, без пальца на одной руке, давно оторванного марса-фалом, и цепкими, слегка вывернутыми ногами, — отчаянный пьяница, которого с берега привозят всегда в бесчувствии и с разбитой физиономией (он любит лезть в драку с иностранными матросами за то, что они, по его мнению, «не пьют настояще, а только куражатся», разбавляя водой крепчайший ром, который он дует гольем), — этот самый Лаврентьич, слушая песни, словно замер в какой-то истоме, и его морщинистое лицо с красно-сизым, как слива, носом и щетинистыми усами — обыкновенно сердитое, точно Лаврентьич чем-то недоволен и сейчас выпустит фонтан ругани, — смотрит теперь необыкновенно кротко, смягченное выражением тихой задумчивости. Некоторые матросы тихонько подтягивают; другие, рассевшись по кучкам, вполголоса разговаривают, выражая по временам одобрение то улыбкой, то восклицанием.
И в самом деле, хорошо поют наши песенники! Голоса в хоре подобрались всё молодые, свежие и чистые и спелись отлично. Особенно приводил всех в восторг превосходный бархатный тенорок подголоска Шутикова. Этот голос выделялся среди хора своей красотой, забираясь в самую душу чарующей искренностью и теплотой выражения.
— За самое нутро хватает, подлец, — говорили про подголоска матросы.
Песня лилась за песнью, напоминая матросам, среди тепла и блеска тропиков, далекую родину с ее снегами и морозами, полями, лесами и черными избами, с ее близкими сердцу бездольем и убожеством…
— Вали плясовую, ребята!
Хор грянул веселую плясовую. Тенорок Шутикова так и заливался, так и звенел теперь удальством и весельем, вызывая невольную улыбку на лицах и заставляя даже солидных матросов поводить плечами и притопывать ногами.
Макарка, маленький, бойкий молодой матросик, давно уже чувствовавший зуд в своем поджаром, словно в себя подобранном теле, не выдержал и пошел отхватывать трепака под звуки залихватской песни, к общему удовольствию зрителей.
Наконец пение и пляска кончились. Когда Шутиков, сухощавый, стройный чернявый матрос, вышел из круга и пошел курить к кадке, его провожали одобрительными замечаниями.
— И хорошо же ты поешь, ах хорошо, пес тебя ешь! — заметил растроганный Лаврентьич, покачивая головой и прибавляя в знак одобрения непечатное ругательство.
— Ему бы подучиться, да ежели, примерно, генерал-бас понять, так хучь в оперу! — с апломбом вставил молодой наш писарь из кантонистов, Пуговкин, щеголявший хорошим обращением и изысканными выражениями.
Лаврентьич, не терпевший и презиравший «чиновников»[1], как людей, по его мнению, совершенно бесполезных на судне, и считавший как бы долгом чести при всяком случае обрывать их, насупился, бросил сердитый взгляд на белокурого, полнотелого, смазливого писарька и сказал:
— Ты-то у нас опера!.. Брюхо отрастил от лодырства, и вышла опера!..
Среди матросов раздалось хихиканье.
— Да вы понимаете ли, что такое обозначает опера? — заметил сконфуженный писарек… — Эх, необразованный народ! — тихо проговорил он и благоразумно поспешил скрыться.
— Ишь какая образованная мамзеля! — презрительно пустил ему вслед Лаврентьич и прибавил, по своему обыкновению, забористую ругань, но уже без ласкового выражения…
— То-то я и говорю, — начал он, помолчав и обращаясь к Шутикову, — важно ты поешь песни, Егорка…
— Уж что и толковать. Он у нас на все руки. Одно слово… молодца Егорка!.. — заметил кто-то.
В ответ на одобрения Шутиков только улыбался, скаля белые ровные зубы из-под добродушных пухлых губ.
И эта довольная улыбка, ясная и светлая, как у детей, стоявшая в мягких чертах молодого, свежего лица, подернутого краской загара, и эти большие темные глаза, кроткие и ласковые, как у щенка, и аккуратная, подобранная, сухощавая фигура, крепкая, мускулистая и гибкая, не лишенная, однако, крестьянской мешковатой складки, — все в нем притягивало и располагало к себе с первого же раза, как и чудный его голос. И Шутиков пользовался общей приязнью. Все любили его, и он всех, казалось, любил.
Это была одна из тех редких, счастливых, жизнерадостных натур, при виде которых невольно делается светлее и радостнее на душе. Такие люди какие-то прирожденные философы-оптимисты. Его веселый, сердечный смех часто раздавался на клипере. Бывало, он что-нибудь рассказывает и первый же заразительно, вкусно смеется. Глядя на него, и другие невольно смеялись, хотя бы в рассказе Шутикова иногда и не было ничего особенно смешного. Оттачивая какой-нибудь блочок, отскабливая краску на шлюпке или коротая ночную вахту, примостившись на марсе, за ветром, Шутиков обыкновенно тихо подпевал какую—нибудь песенку, а сам улыбался своей хорошей улыбкой, и всем было как-то весело и уютно с ним. Редко когда видели Шутикова сердитым или печальным. Веселое настроение не покидало его и тогда, когда другие готовы были упасть духом, и в такие минуты Шутиков был незаменим.
Помню я, как однажды мы штормовали. Ветер ревел жестокий, кругом бушевала буря, и клипер, под штормовыми парусами, бросало, как щепку, на океанском волнении, готовом, казалось, поглотить в своих седых гребнях утлое суденышко. Клипер вздрагивал и жалобно стонал всеми членами, сливая свои жалобы со свистом ветра, завывающего в надувшихся снастях. Даже старики матросы, видавшие всякие виды, угрюмо молчали, пытливо посматривая на мостик, где словно приросла к поручням высокая, закутанная в дождевик фигура капитана, зорко взглядывавшего на беснующуюся бурю.
А Шутиков в это время, придерживаясь одною рукою за снасти, чтоб не упасть, занимал небольшую кучку молодых матросов, с испуганными лицами прижавшихся к мачте, посторонними разговорами. Он так спокойно и просто «лясничал», рассказывая про какой-то забавный деревенский случай, и так добродушно смеялся, когда долетавшие брызги волн попадали ему в лицо, что это спокойное настроение невольно передавалось другим и ободряло молодых матросов, отгоняя всякую мысль об опасности.
— И где это ты, дьявол, насобачился так ловко горло драть? — снова заговорил Лаврентьич, подсасывая носогрейку с махоркой… — Пел у нас на «Костенкине» один матросик, надо правду сказать, что форменно, шельма, пел… да все не так забористо.
— Так, самоучкой, в пастухах когда жил. Бывало, стадо разбредется по лесу, а сам лежишь под березкой и песни играешь… Меня так в деревне и прозывали: певчий пастух! — прибавил Шутиков улыбаясь.
И все почему-то улыбнулись в ответ, а Лаврентьич, кроме того, трепанул Шутикова по спине и, в виде особого расположения, выругался в самом нежном тоне, на который только был способен его испитой голос.
II
В эту минуту, расталкивая матросов, в круг торопливо вошел только что выскочивший из палубы плотный пожилой матрос Игнатов.
Бледный и растерянный, с непокрытой, коротко остриженной круглой головой, он сообщил прерывистым от злобы и волнения голосом, что у него украли золотой.
— Двадцать франоков! Двадцать франоков, братцы! — жалобно повторял он, подчеркивая цифру.
Это известие смутило всех. Такие дела бывали редкостью на клипере.
Старики нахмурились. Молодые матросы, недовольные, что Игнатов внезапно нарушил веселое настроение, более с испуганным любопытством, чем с сочувствием, слушали, как он, задыхаясь и отчаянно размахивая своими опрятными руками, спешил рассказать про все обстоятельства, сопровождавшие покражу: как он, еще сегодня, после обеда, когда команда отдыхала, ходил в свой сундучишко, и все было, слава богу, целехонько, все на своем месте, и как вот сейчас он пошел было за сапожным товаром — и… замок, братцы, сломан… двадцати франоков нет…
— Это как же? Своего же брата обкрадывать? — закончил Игнатов, обводя толпу блуждающим взглядом.
Его гладкое, сытое, чисто выбритое, покрытое крупными веснушками лицо с небольшими круглыми глазами и острым, словно у ястреба, загнутым носом, отличавшееся всегда спокойной сдержанностью и довольным степенным видом неглупого человека, понимающего себе цену, теперь было искажено отчаянием скряги, который потерял все имущество. Нижняя челюсть вздрагивала; круглые его глаза растерянно перебегали по лицам. Видно было, что покража совсем его расстроила, обнаружив его кулацкую скаредную натуру.
Недаром же Игнатов, которого некоторые матросы уж начинали почетно величать «Семенычем», был прижимистым и жадным к деньгам человеком. Он и в кругосветное плавание пошел, вызвавшись охотником и оставив в Кронштадте жену — торговку на базаре — и двоих детей, с единственной целью прикопить в плавании деньжонок и, выйдя в отставку, заняться в Кронштадте по малости торговлей. Он вед крайне воздержную жизнь, вина не пил, на берегу денег не тратил. Он копил деньги, копил их упорно, по грошам, знал, где можно выгодно менять золото и серебро, и, под большим секретом, давал мелкие суммы взаймы за проценты надежным людям. Вообще Игнатов был человек оборотистый и рассчитывал сделать хорошее дело, привезя в Россию для продажи сигар и кое-какие японские и китайские вещи. Он и раньше уж занимался такими делишками, когда плавал по летам в Финском заливе: в Ревеле, бывало, закупит килек, в Гельсингфорсе сигар и мамуровки и с выгодой перепродаст в Кронштадте.
Игнатов был рулевым, служил исправно, стараясь ладить со всеми, дружил с баталером и подшкипером, был грамотен и тщательно скрывал, что у него водятся деньжонки, и притом для матроса порядочные.
— Это беспременно подлец Прошка, никто, как он! — закипая гневом, взволнованно продолжал Игнатов. — Даве он все вертелся в палубе, когда я ходил в сундук… Что ж теперь с этим подлецом делать, братцы? — спрашивал он, обращаясь преимущественно к старикам и как бы ища их поддержки. — Неужто я так и решусь денег?.. Ведь деньги-то у меня кровные… Сами знаете, братцы, какие у матроса деньги… По грошам сбирал… чарки своей не пью… — прибавил он униженным, жалобным тоном.
Хотя никаких других улик, кроме того, что Прошка «даве вертелся в палубе», не было, тем не менее и сам потерпевший и слушатели не сомневались, что украл деньги именно Прошка Житин, не раз уже попадавшийся в мелких кражах у товарищей. Ни один голос не раздался в его защиту. Напротив, многие возмущенные матросы осыпали предполагаемого вора бранью.
— Эдакий мерзавец… Только срамит матросское звание… — с сердцем сказал Лаврентьич.
— Д-да… Завелась и у нас паршивая собака…
— Надо его теперь проучить, чтобы помнил, лодырь беспутный!
— Так как же, братцы? — продолжал Игнатов… — Что с Прошкой делать?.. Ежели не отдаст он добром, я попрошу доложить старшему офицеру. Пусть по форме разберут.
Но эта приятная Игнатову мысль не нашла на баке поддержки. На баке был свой особенный, неписаный устав, строгими охранителями которого, как древле жрецы, были старые матросы.
И Лаврентьич первый энергично запротестовал.
— Это, выходит, с лепортом по начальству? — презрительно протянул он. — Кляузы заводить? Забыл, видно, с перепугу матросскую правилу? Эх вы… народ! — И Лаврентьич для облегчения помянул «народ» своим обычным словом. — Тоже выдумал, а еще матросом считаешься! — прибавил он, бросая на Игнатова не особенно дружелюбный взгляд.
— По-вашему, как же?
— А по-нашему так же, как прежде учивали. Избей ты собачьего сына Прошку вдрызг, чтобы помнил, да отыми деньги. Вот как по-нашему.
— Мало ли его, подлеца, били! А ежели он не отдаст?.. Так, значит, и пропадать деньгам? Это за что же? Пусть уж лучше форменно засудят вора… Такую собаку нечего жалеть, братцы.
— Жаден ты к деньгам уж очень, Игнатов… Небось Прошка не все украл… Еще малость осталась? — иронически промолвил Лаврентьич.
— Считал ты, что ли!
— То-то не считал, а только не матросское это дело — кляузы. Не годится! — авторитетно заметил Лаврентьич. — Верно ли я говорю, ребята?
И все почти «ребята», к неудовольствию Игнатова, подтвердили, что кляузы заводить «не годится».
— А теперь веди сюда Прошку! Допроси его при ребятах! — решил Лаврентьич.
И Игнатов, злой и недовольный, подчинился, однако, общему решению и пошел за Прошкой.
В ожидании его матросы теснее сомкнули круг.
III
Прохор Житин, или, как все пренебрежительно называли его, Прошка, был самым последним матросом. Попавший в матросы из дворовых, отчаянный трус, которого только угроза порки могла заставить подняться на марс, где он испытывал неодолимый физический страх, лентяй и лодырь, отлынивавший от работы, и ко всему этому нечистый на руку, Прошка с самого начала плавания стал в положение какого-то отверженного пария. Все им помыкали; боцмана и унтер-офицеры походя, и за дело, и так, здорово живешь, ругали и били Прошку, приговаривая: «У, лодырь!» И он никогда не протестовал, а с какой-то привычной тупой покорностью забитого животного переносил побои. После нескольких мелких краж, в которых он был уличен, с ним почти не разговаривали и обращались с пренебрежением. Всякий, кому не лень, мог безнаказанно обругать его, ударить, послать куда-нибудь, поглумиться над ним, словно бы иное отношение к Прошке было немыслимо. И Прошка так, казалось, привык к этому положению загнанной, паршивой собаки, что и не ждал иного обращения и переносил всю каторжную жизнь, по-видимому, без особенной тягости, вознаграждая себя на клипере сытной едой да дрессировкой поросенка, которого Прошка учил делать разные штуки, а при съездах на берег — выпивкой и ухаживаньем за прекрасным полом, до которого он был большой охотник; на женщин он тратил последний грош и ради них, кажется, таскал деньги у товарищей, несмотря на суровое возмездие, получаемое им в случае поимки. Он был вечный «гальюнщик» — другой должности ему не было, и состоял в числе шканечных, исполняя обязанность рабочей силы, не требовавшей никаких способностей. И тут ему доставалось, так как он всегда лениво тянул вместе с другими какую-нибудь снасть, делая только вид, как ленивая лукавая лошадь, будто взаправду тянет.
— У-у… подлый лодырь! — ругал его шканечный унтер-офицер, обещая ему ужо начистить зубы.
И, разумеется, «чистил».
IV
Забравшись под баркас, Прошка сладко спал, бессмысленно улыбаясь во сне. Сильный удар ноги разбудил его. Он хотел было залезть подальше от этой непрошеной ноги, как новый пинок дал понять Прошке, что он зачем-то нужен и что надо вылезать из укромного местечка. Он выполз, поднялся на ноги и глядел на злое лицо Игнатова тупым взором, словно бы ожидая, что его еще будут бить.
— Ступай за мной! — проговорил Игнатов, едва сдерживаясь от желания тут же истерзать Прошку.
Прошка покорно, словно виноватая собака, пошел за Игнатовым своей медленной, ленивой походкой, переваливаясь, как утка, со стороны на сторону.
Это был человек лет за тридцать, мягкотелый, неуклюжий, плохо сложенный, с несоразмерным туловищем на коротких кривых ногах, какие бывают у портных. (До службы он и был портным в помещичьей усадьбе.) Его одутловатое, землистого цвета лицо с широким плоским носом и большими оттопырившимися ушами, торчащими из-под шапки, было невзрачно и изношенно. Небольшие тусклые серые глаза глядели из-под светлых редких бровей с выражением покорного равнодушия, какое бывает у забитых людей, но в то же время в них как будто чувствовалось что-то лукавое. Во всей его неуклюжей фигуре незаметно было и следа матросской выправки; все на нем сидело мешковато и неряшливо, — словом, Прошкина фигура была совсем нерасполагающая.
Когда, вслед за Игнатовым, Прошка вошел в круг, все разговоры смолкли. Матросы теснее сомкнулись, и взоры всех устремились на вора.
Для начала допроса Игнатов первым делом со всего размаха ударил Прошку по лицу.
Удар был неожиданный. Прошка слегка пошатнулся и безответно снес затрещину. Только лицо его сделалось еще тупее и испуганнее.
— Ты сперва толком пытай, а накласть в кису успеешь! — сердито промолвил Лаврентьич.
— Это ему в задаток, подлецу! — заметил Игнатов и, обратившись к Прошке, сказал: — Признавайся, сволочь, ты у меня золотой из сундука украл?
При этих словах тупое Прошкино лицо мгновенно осветилось осмысленным выражением. Он понял, казалось, всю тяжесть обвинения, бросил испуганный взгляд на сосредоточенно-серьезные, недоброжелательные лица и вдруг побледнел и как-то весь съежился. Тупой страх исказил его черты.
Эта внезапная перемена еще более утвердила всех в мысли, что деньги украл Прошка.
Прошка молчал, потупив глаза.
— Где деньги? Куда ты их спрятал? Сказывай! — продолжал допросчик.
— Я денег твоих не брал! — тихо отвечал Прошка.
Игнатов пришел в ярость.
— Ой, смотри… до смерти изобью, коли ты добром не отдашь денег!.. — сказал Игнатов и сказал так злобно и серьезно, что Прошка подался назад.
И со всех сторон раздались неприязненные голоса:
— Повинись лучше, скотина!
— Не запирайся, Прошка!
— Лучше добром отдай!
Прошка видел, что все против него. Он поднял голову, снял шапку и, обращаясь к толпе, воскликнул с безнадежным отчаянием человека, хватающегося за соломинку:
— Братцы! Как перед истинным богом! Хучь под присягу сичас! Разрази меня на месте!.. Делайте со мной, что вгодно, а я денег не брал!
Прошкины слова, казалось, поколебали некоторых.
Но Игнатов не дал усилиться впечатлению и торопливо заговорил:
— Не ври, подлая тварь… Бога-то оставь! Ты и тогда запирался, когда у Кузьмина из кармана франок вытащил… помнишь? А как у Левонтьева рубаху украл, тоже шел под присягу, а? Тебе, бесстыжему, присягнуть, что плюнуть…
Прошка снова опустил голову.
— Винись, говорят тебе, скорее. Сказывай, где мои деньги? Нешто я не видел, как ты около вертелся… Сказывай, бессовестный, зачем ты в палубе шнырял, когда все отдыхали? — наступал допросчик.
— Так ходил…
— Так ходил?! Эй, Прошка, не доводи до греха. Признавайся.
Но Прошка молчал.
Тогда Игнатов, словно бы желая испробовать последнее средство, вдруг сразу изменил тон. Теперь он не угрожал, а просил Прошку отдать деньги ласковым, почти заискивающим тоном.
— Тебе ничего не будет… слышишь?.. Отдай только мои деньги… Тебе ведь пропить, а у меня семейство… Отдай же! — почти молил Игнатов.
— Обыщите меня… Не брал я твоих денег!
— Так ты не брал, подлая душа? Не брал? — воскликнул Игнатов с побелевшим от злобы лицом. — Не брал?!
И с этими словами он, как ястреб, налетел на Прошку.
Бледный, вздрагивающий всем съежившимся телом, Прошка зажмурил глаза и старался скрыть от ударов голову.
Матросы молча хмурились, глядя на эту безобразную сцену. А Игнатов, возбужденный безответностью жертвы, свирепел все более и более.
— Полно… Будет… будет! — раздался вдруг из толпы голос Шутикова.
И этот мягкий просящий голос точно сразу пробудил человеческие чувства и у других.
Многие из толпы, вслед за Шутиковым, сердито крикнули:
— Будет… будет!
— Ты прежде обыщи Прошку и тогда учи!
Игнатов оставил Прошку и, злобно вздрагивая, отошел в сторону. Прошка юркнул вон из круга. Несколько мгновений все молчали.
— Ишь ведь, какой подлец… запирается! — переводя дух, проговорил Игнатов. — Ужо погоди, как я его на берегу разделаю, коли не отдаст деньги! — грозился Игнатов.
— А может, это и не он! — вдруг тихо сказал Шутиков.
И та же мысль, казалось, сказывалась на некоторых напряженно-серьезных, насупившихся лицах.
— Не он? Впервые ему, что ли?.. Это беспременно его дело… Вор известный, чтоб ему…
И Игнатов, взяв двух человек, ушел обыскивать Прошкины вещи.
— И зол же человек на деньги! Ох, зол! — сердито проворчал Лаврентьич вслед Игнатову, покачивая головой. — А ты не воруй, не срами матросского звания! — вдруг прибавил он неожиданно и выругался — на этот раз, по-видимому, с единственной целью: разрешить недоумение, ясно стоявшее на его лице.
— Так ты, Егор, думаешь, что это не Прошка? — спросил он после минутного молчания. — Кабысь больше некому.
Шутиков промолчал, и Лаврентьич больше не спрашивал и стал усиленно раскуривать свою короткую трубочку.
Толпа стала расходиться.
Через несколько минут на баке стало известно, что ни у Прошки, ни в его вещах денег не нашли.
— Запрятал, шельма, куда-нибудь! — решили многие и прибавляли, что теперь Прошке придется худо: Игнатов не простит ему этих денег.
V
Нежная тропическая ночь быстро спустилась над океаном.
Матросы спали на палубе — внизу было душно, — а на вахте стояло одно отделение. В тропиках, в полосе пассата, вахты спокойные, и вахтенные матросы, по обыкновению, коротают ночные часы, разгоняя дрему беседами и сказками.
В эту ночь, с полуночи до шести, на вахте довелось быть второму отделению, в котором были Шутиков и Прошка.
Шутиков уж рассказал несколько сказок кучке матросов, усевшихся у фок-мачты, и отправился покурить. Выкуривши трубку, он пошел, осторожно ступая между спящими, на шканцы и, разглядев в темноте Прошку, одиноко притулившегося у борта и поклевывавшего носом, тихо окликнул его:
— Это ты… Прошка?
— Я! — встрепенулся Прошка.
— Что я тебе скажу, — продолжал Шутиков тихим ласковым голосом: — ведь Игнатов, сам знаешь, человек какой… Он тебя вовсе изобьет на берегу… безо всякой жалости…
Прошка насторожился… Этот тон был для него неожиданностью.
— Что ж, пусть бьет, а я евойных денег не касался! — ответил после короткого молчания Прошка.
— То-то он не верит и, пока не вернет своих денег, тебе не простит… И многие ребята сумневаются…
— Сказано: не брал! — повторил Прошка с прежним упорством.
— Я, братец, верю, что ты не брал… Слышь, верю, и пожалел, что тебя занапрасно давеча били и Игнатов еще грозит бить… А ты вот чего, Прошка: возьми ты у меня двадцать франоков и отдай их Игнатову… Бог с ним! Пусть радуется на деньги, а мне когда-нибудь отдашь — приневоливать не стану… Так-то оно будет аккуратней… Да, слышь, никому про это не сказывай! — прибавил Шутиков.
Прошка был решительно озадачен и не находил в первую минуту слов. Если б Шутиков мог разглядеть Прошкино лицо, то увидал бы, что оно смущено и необыкновенно взволнованно. Еще бы! Прошку жалеют, и мало того, что жалеют, еще предлагают деньги, чтобы избавить его от битья. Это уж было слишком для человека, давно не слыхавшего ласкового слова.
Подавленный, чувствуя, как что-то подступает к горлу, молча стоял он, опустив голову.
— Так бери деньги! — сказал Шутиков, доставая из кармана штанов завернутый в тряпочку весь свой капитал.
— Это как же… Ах ты господи! — растерянно бормотал Прошка.
— Эка… глупый… Сказано: получай, не кобянься!
— Получай?! А, братец! Спасибо тебе, добрая твоя душа! — отвечал Прошка дрогнувшим от волнения голосом и вдруг решительно прибавил: — Только твоих денег, Шутиков, не нужно… Я все же чувствую и не хочу перед тобой быть подлецом… Не желаю… Я сам после вахты отдам Игнатову его золотой.
— Так, значит, ты…
— То-то я! — чуть слышно промолвил Прошка… — Никто бы и не дознался… Деньги-то в пушке запрятаны…
— Эх, Прохор, Прохор! — упрекнул только Шутиков грустным тоном, покачивая головой.
— Теперь пусть он меня бьет… Пусть всю скулу своротит. Сделай ваше одолжение! Бейте подлеца Прошку… жарь его, мерзавца, не жалей! — с каким-то ожесточенным одушевлением против собственной особы продолжал Прошка. — Все перенесу с моим удовольствием… По крайности знаю, что ты пожалел, поверил… Ласковое слово сказал Прошке… Ах ты господи! Вовек этого не забуду!
— Ишь ведь ты какой! — промолвил ласково Шутиков и присел на пушку.
Он помолчал и заговорил:
— Слушай, что я тебе скажу, братец ты мой: брось-ка ты все эти дела… право, брось, ну их!.. Живи, Прохор, как люди живут, по-хорошему… Стань форменным матросом, чтобы все, значит, как следует… Так-то душевней будет… А то разве самому тебе сладко?.. Я, Прохор, не в укор, а жалеючи!.. — прибавил Шутиков.
Прошка слушал эти слова и находился под их обаянием. Никто, во всю его жизнь, не говорил с ним так ласково и задушевно. До сей поры его только ругали да били — вот какое было ученье.
И теплое чувство благодарности и умиления охватило Прошкино сердце. Он хотел было выразить их словами, но слова не отыскивались.
Когда Шутиков отошел, пообещав уговорить Игнатова простить Прошку, Прошка не чувствовал уж себя таким ничтожеством, каким считал себя прежде. Долго еще стоял он, посматривая за борт, и раз или два смахнул навертывавшуюся слезу.
Утром, после смены, он принес Игнатову золотой. Обрадованный матрос алчно схватил деньги, зажал их в руке, дал Прошке в зубы и хотел было идти, но Прошка стоял перед ним и повторял:
— Бей еще… Бей, Семеныч! В морду в самую дуй!
Удивленный Прошкиной смелостью, Игнатов презрительно оглядел Прошку и проговорил:
— Я разделал бы тебя, мерзавца, начисто, кабы ты мне не отдал деньги, а теперь не стоит рук марать… Сгинь, сволочь, но только смотри… попробуй еще раз ко мне лазить… Искалечу! — внушительно прибавил Игнатов и, оттолкнув с дороги Прошку, побежал вниз прятать свои деньги.
Тем и ограничилась расправа.
Благодаря ходатайству Шутикова и боцман Щукин, узнавший о воровстве и собиравшийся «после убирки искровянить стервеца», вместо того довольно милостиво, относительно говоря, потрепал, как он выражался, «Прошкино хайло».
— Испужался Прошка Семеныча-то! Предоставил деньги, а ведь как запирался, шельма! — говорили матросы во время утренней чистки.
VI
С той памятной ночи Прошка беззаветно привязался к Шутикову и был предан ему, как верная собака. Выражать свою привязанность открыто, при всех, он, разумеется, не решался, чувствуя, вероятно, что дружба такого отверженца унизит Шутикова в чужих глазах. Он никогда не заговаривал с Шутиковым при других, но часто взглядывал на него, как на какое-то особенное существо, перед которым он, Прошка, последняя дрянь. И он гордился своим покровителем, принимая близко к сердцу все, до него касающееся. Он любовался, поглядывая снизу, как Шутиков лихо управляется на рее, замирал от удовольствия, слушая его пение, и вообще находил необыкновенно хорошим все, что ни делал Шутиков. Иногда днем, но чаще во время ночных вахт, заметив Шутикова одного, Прошка подходил и топтался около.
— Ты чего, Прохор? — спросит, бывало, приветливо Шутиков.
— Так, ничего! — ответит Прошка.
— Куда ж ты?
— А к своему месту… Я ведь так только! — скажет Прошка, словно бы извиняясь, что беспокоит Шутикова, и уйдет.
Всеми силами старался Прошка чем-нибудь да угодить Шутикову: то предложит ему постирать белье, то починить его гардероб, и часто отходил смущенный, получая отказ от услуг. Однажды Прошка принес щегольски сработанную матросскую рубаху с голландским передом и, несколько взволнованный, подал ее Шутикову.
— Молодец, Житин… Важная, брат, работа! — одобрительно заметил Шутиков после подробного осмотра и протянул руку, возвращая рубаху.
— Это я тебе, Егор Митрич… Уважь… Носи на здоровье.
Шутиков стал было отказываться, но Прошка так огорчился и так просил уважить его, что Шутиков, наконец, принял подарок.
Прошка был в восторге.
И лодырничать стал Прошка меньше, работая без прежнего лукавства. Бить его стали реже, но отношение к нему оставалось по-прежнему пренебрежительное, и Прошку нередко дразнили, устраивая из этой травли потеху.
Особенно любил дразнить его один из шканечных, забиячный, но трусливый молодой матрос Иванов. Как-то однажды, желая потешить собравшийся кружок, он донимал Прошку своим глумлением. Прошка, по обыкновению, отмалчивался, и Иванов становился все назойливее и безжалостнее в своих шутках.
Случайно проходивший Шутиков, увидав, как травят Прошку, вступился:
— Это, Иванов, не того… нехорошо это… Чего ты пристал к человеку, ровно смола?
— Прошка у нас не обидчивый! — со смехом отвечал Иванов… — Ну-ка, Прошенька, расскажи, как ты у батюшки шильники таскал и мамзелям опосля носил… Не кочевряжься… Расскажи, Прошенька! — глумился на общую потеху Иванов.
— Не тронь, говорю, человека… — строго повторил Шутиков.
Все были удивлены, что за Прошку, за лодыря и вора Прошку, Шутиков так горячо заступается.
— Да ты чего? — окрысился вдруг Иванов.
— Я-то ничего, а ты не куражься… Ишь тоже нашел над кем куражиться.
Тронутый до глубины души и в то же время боявшийся, чтобы из-за него не было Шутикову неприятностей, Прошка решился подать голос:
— Иванов ничего… Он ведь так только… Шутит, значит…
— А ты съездил бы его по уху, небось перестал бы так шутить.
— Прошка бы съездил?.. — удивленно воскликнул Иванов, до того показалось ему это невероятным. — Ну-ка, попробуй, Прошка… Насыпал бы я тебе, вислоухому, в кису.
— Может, и сам бы съел сдачи.
— Не от тебя ли?
— То-то от меня! — сдерживая волнение, проговорил Шутиков, и его обыкновенно добродушное лицо было теперь строго и серьезно.
Иванов стушевался. И только когда Шутиков отошел, проговорил, насмешливо улыбаясь и указывая на Прошку:
— Однако… нашел себе приятеля Шутиков… Нечего сказать… приятель… хорош приятель, Прошка-гальюнщик!
После этого происшествия Прошку обижали меньше, зная, что у него есть заступник, а Прошка еще сильнее привязался к Шутикову и скоро доказал, на что способна привязанность его благодарной души.
VII
Это было в Индийском океане, на пути к Зондским островам.
Утро в тот день стояло солнечное, блестящее, но прохладное — относительная близость Южного полюса давала себя знать. Дул свежий ровный ветер, и по небу носились белоснежные перистые облака, представляя собой изящные фантастические узоры. Плавно раскачиваясь, клипер наш летел полным ветром под марселями в один риф, под фоком и гротом, убегая от попутной волны.
Был десятый час на исходе. Вся команда находилась наверху. Вахтенные стояли у своих снастей, а подвахтенные были разведены по работам. Всякий занимался каким-нибудь делом: кто оканчивал чистку меди, кто подскабливал шлюпку, кто вязал мат.
Шутиков стоял на грот-русленях, прикрепленный пеньковым поясом, и учился бросать лот, недавно сменив другого матроса. Вблизи от него был и Прошка. Он чистил орудие и по временам останавливался, любуясь на Шутикова, как тот, набравши много кругов лот-линя (веревки, на которой прикреплен лот), ловко закидывает его назад, словно аркан, и затем, когда веревка вытянется, снова быстрыми ловкими движениями выбирает ее…
Вдруг со шканцев раздался отчаянный крик:
— Человек за бортом!
Не прошло нескольких секунд, как снова зловещий крик:
— Еще человек за бортом!
На мгновение все замерло на клипере. Многие в ужасе крестились.
Вахтенный лейтенант, стоявший на мостике, видел, как мелькнула фигура сорвавшегося человека, видел, как бросился в море другой. Сердце в нем дрогнуло, но он не потерялся. Он бросил с мостика спасательный круг, крикнув бросать спасательные буйки и с юта, и громовым взволнованным голосом скомандовал:
— Фок и грот на гитовы!
С первым окриком все офицеры выскочили наверх. Капитан и старший офицер, оба взволнованные, уж были на мостике.
— Он, кажется, схватился за буек! — проговорил капитан, отрываясь от бинокля. — Сигнальщик… не спускай их с глаз!..
— Есть… Вижу!
— Скорей… скорей ложитесь в дрейф да спускайте баркас! — нервно, отрывисто торопил капитан.
Но торопить было нечего. Понимая, что каждая секунда дорога, матросы рвались как бешеные. Через восемь минут клипер уже лежал в дрейфе, и баркас с людьми, под начальством мичмана Лесового, тихо спускался с боканцев.
— С богом! — напутствовал капитан. — Ищите людей на ост-норд-ост… Да не заходите далеко! — прибавил он.
Упавших в море уже не было видно. В эти восемь минут клипер пробежал по крайней мере милю.
— Кто это упал? — спросил капитан старшего офицера.
— Шутиков. Сорвался, бросая лот… Лопнул пояс…
— А другой?
— Житин! Бросился за Шутиковым.
— Житин? Этот трус и рохля? — удивился капитан.
— Я сам не могу понять! — отвечал Василий Иваныч.
Между тем все глаза были устремлены на баркас, который медленно удалялся от клипера, то скрываясь, то показываясь среди волн. Наконец он совсем скрылся от глаз, не вооруженных биноклем, и кругом был виден один волнующийся океан.
На клипере царила угрюмая тишина. Изредка лишь матросы перекидывались словами вполголоса. Капитан не отрывался от бинокля. Старший штурман и два сигнальщика смотрели в подзорные трубы.
Так прошло долгих полчаса.
— Баркас идет назад! — доложил сигнальщик.
И снова все взоры устремились на океан.
— Верно, спасли людей! — тихо заметил старший офицер капитану.
— Почему вы думаете, Василий Иваныч?
— Лесовой не вернулся бы так скоро!
— Дай бог! Дай бог!
Ныряя в волнах, приближался баркас. Издали он казался крошечной скорлупой. Казалось, вот-вот его сейчас захлестнет волной. Но он снова показывался на гребне и снова нырял.
— Молодцом правит Лесовой! Молодцом! — вырвалось у капитана, жадно глядевшего на шлюпку.
Баркас подходил все ближе и ближе.
— Оба в шлюпке! — весело крикнул сигнальщик.
Радостный вздох вырвался у всех. Многие матросы крестились. Клипер словно ожил. Снова пошли разговоры.
— Счастливо отделались! — проговорил капитан, и на его серьезном лице появилась радостная, хорошая улыбка.
Улыбался в ответ и Василий Иванович.
— А Житин-то… трус, трус, а вот подите!.. — продолжал капитан.
— Удивительно… И матрос-то лодырь, а бросился за товарищем!.. Шутиков покровительствовал ему! — прибавил Василий Иванович в пояснение.
И все дивились Прошке. Прошка был героем минуты.
Через десять минут баркас подошел к борту и благополучно был поднят на боканцы.
Мокрые, вспотевшие и красные, тяжело дыша от усталости, выходили гребцы из баркаса и направлялись на бак. Вышли Шутиков и Прошка, отряхиваясь, словно утки, от воды, оба бледные, взволнованные и счастливые.
Все с уважением смотрели теперь на Прошку, стоявшего перед подошедшим капитаном.
— Молодец, Житин! — сказал капитан, невольно недоумевая при виде этого неуклюжего, невзрачного матроса, рисковавшего жизнью за товарища.
А Прошка переминался с ноги на ногу, видимо робея.
— Ну, ступай, переоденься скорей да выпей за меня чарку водки… За твой подвиг представлю тебя к медали, а от меня получишь денежную награду.
Совсем ошалевший Прошка даже не догадался сказать «рады стараться!» и, растерянно улыбаясь, повернулся и пошел своей утиной походкой.
— Снимайтесь с дрейфа! — приказал капитан, поднимаясь на мостик.
Раздалась команда вахтенного лейтенанта. Голос его теперь звучал весело и спокойно. Скоро были поставлены убранные паруса, и минут через пять клипер снова несся прежним курсом, подымаясь с волны на волну, и прерванные работы опять возобновились.
— Ишь ведь ты какой, блоха тебя ешь! — остановил Лаврентьич Прошку, когда тот, переодетый и согревшийся чаркой рома, поднялся вслед за Шутиковым на палубу. — Портной, портной, а какой отчаянный! — продолжал Лаврентьич, ласково трепля Прошку по плечу.
— Без Прохора, братцы, не видать бы мне свету! Как я это окунулся да вынырнул, ну, думаю, — шабаш… Богу отдавать душу придется! — рассказывал Шутиков. — Не продержусь, мол, долго на воде-то… Слышу — Прохор голосом кричит… Плывет с кругом и мне буек подал… То-то обрадовал, братцы! Так мы вместе и держались, доколь баркас не подошел.
— А страшно было? — спрашивали матросы.
— А ты думал как? Еще как, братцы-то, страшно! Не дай бог! — отвечал Шутиков, добродушно улыбаясь.
— И как это ты, братец, вздумал? — ласково спросил Прошку подошедший боцман.
Прошка глупо улыбался и, помолчав, ответил:
— Я вовсе и не думал, Матвей Нилыч… Вижу, он упал, Шутиков, значит… Я, значит, господи благослови, да за им…
— То-то и есть!.. Душа в ем… Ай да молодца, Прохор! Ишь ведь… Накось покури трубочки-то на закуску! — сказал Лаврентьич, передавая Прошке, в знак особенного благоволения, свою короткую трубочку, и при этом прибавил забористое словечко в самом нежном тоне.
С этого дня Прошка перестал быть прежним загнанным Прошкой и обратился в Прохора.
На каменьях
I
Вечерняя вахта на «Красавце», куда меня недавно перевели с «Голубчика», была не из приятных.
Дождь хлестал немилосердно и, несмотря на новый дождевик и нахлобученную зюйдвестку, ехидно пробирался за воротник, заставляя по временам вздрагивать от холода водяной струйки, стекавшей по спине. Дул довольно свежий противный ветер, и клипер «Красавец», спешивший вследствие предписания адмирала, несся под парами полным ходом среди непроглядной тьмы этого бурного вечера в Китайском море.
Признаюсь, мне было очень жутко в начале вахты. Воображение юнца-моряка, настроенное окружающим мраком, рисовало всевозможные неожиданности, с которыми, казалось, мне не справиться. В глазах мелькали — то справа, то слева — воображаемые красные и зеленые огни встречных судов или внезапно вырастал под носом клипера грозный силуэт громадного «купца», не носящего, по беспечности, как часто случается, огней, и я напряженнее вглядывался вперед, в темную бездну, вглядывался и, не видя ничего, кроме чуть белеющихся гребешков волнующегося моря, часто покрикивал часовым на баке вздрагивающим от волнения голосом «Хорошенько вперед смотреть!» — хотя и понимал, что часовые, так же как и я, ничего не увидят в этой кромешной тьме, окутавшей со всех сторон наш несшийся вперед маленький клипер.
Скоро, впрочем, я свыкся с положением. Нервы успокоились, галлюцинации зрения прошли, и к концу вахты я уже не думал ни о каких опасностях, а ждал смены с нетерпеньем влюбленного, ожидающего свидания, мечтая только о свежем белье, сухом платье и стакане горячего чая в теплой кают-компании.
Время на таких вахтах тянется чертовски долго, особенно последняя склянка. От нетерпения поскорей обсушиться и отогреться после четырехчасовой «мокрой» вахты, кажется, будто этой последней, желанной склянке и конца не будет.
— Сигнальщик! Узнай, сколько до восьми?
Притаившийся от дождя под мостиком сигнальщик, хорошо знающий нетерпение «господ» перед концом вахты, торопливо спускается вниз и через минуту возвращается и докладывает, что осталось «всего восемь минут».
«Целых восемь минут!»
— Ты на каких это часах смотрел? — грозно спрашиваешь у сигнальщика.
— В кают-компании, ваше благородие! Уж Николай Николаич обряжаются к вахте, — прибавляет в виде утешения сигнальщик и исчезает под мостик.
И снова шагаешь по мостику, снова взглядываешь на компас и снова приказываешь, чтобы вперед смотрели.
Дождь начинает хлестать с меньшею силой, и ветер как будто стихает.
«Счастливец этот Литвинов!» — не без зависти думаешь о «счастливце», который сменит тебя и не промокнет до нитки.
Вот наконец бьет восемь склянок, и с последним ударом колокола окутанная в дождевик плотная фигура лейтенанта Литвинова появляется на мостике.
— Скверную же вы сдаете мне вахту… Что бы приготовить получше? — говорит Литвинов, заливаясь, по обыкновению, веселым смехом.
— Скверную? Вы посмотрели бы, что на моей было! — отвечаешь недовольным, обиженным тоном. — Дождь-то проходит.
— Зато темно, как…
Литвинов заканчивает свое сравнение и говорит:
— Ну, сдавайте вахту… Небось чаю хочется? Спешите, а то пан Казимир унесет свой коньяк… И то я его наказал на целую рюмку. Накажите и вы, чтоб он не мог заснуть от отчаяния.
Я стал сдавать вахту: сказал курс, передал распоряжение не уменьшать хода без приказания капитана и прибавил, что в исходе девятого мы должны быть на траверзе группы маленьких подводных островков. Они должны оставаться слева.
— Да разве мы их еще не прошли?
— То-то нет… Хотите удостовериться — взгляните на карту. Она, кстати, наверху, в рубке.
Мы спустились в маленькую рубку под мостиком и заглянули туда.
Там сидел сухощавый низенький пожилой человек лет пятидесяти, с маленьким морщинистым суровым лицом, озабоченно поглядывая на лежащую перед ним карту. На нем был дождевик и зюйдвестка, из-под которой виднелись седоватые волосы.
Это был старший штурман «Красавца», штабс-капитан Никанор Игнатьевич Осинников, или, как тихонько звали его гардемарины, «Синус Синыч», молчаливый, угрюмый, основательный служака из штурманских «косточек», много переплававший на своем веку, страшно самолюбивый и мнительный в охранении своего достоинства, щекотливый к малейшей шутке и в то же время редкий добряк, несмотря на свой суровый вид, с теми, кто пользовался его расположением, то есть не подозревался в насмешливом или презрительном отношении к штурманам и кто умел хорошо брать высоты и вычислять безошибочно широту и долготу места.
Литвинов, этот общий любимец и enfant gate[2] кают-компании, всегда добродушный, веселый и жизнерадостный, остроумный рассказчик неистощимых анекдотов, умевший вызывать улыбку даже на хмуром лице Никанора Игнатьевича, заглянул в карту, на которой был проложен курс, и неосторожно кинул вопрос:
— А не снесет нас течением, Никанор Игнатьич?
Несколько суеверный, не любивший, чтобы заранее говорили о какой-нибудь опасности, грозившей клиперу по штурманской части, Никанор Игнатьевич строго взглянул на молодое, румяное, веселое лицо лейтенанта.
— А вы думаете, течение не принято в расчет? Принято-с! Потому-то и курс проложен-с в десяти милях от этих маленьких подлецов! — с сердцем промолвил старый штурман, указывая своим высохшим костлявым пальцем на «маленьких подлецов», обозначенных на карте. — Оно, конечно, лучше бы и еще подальше от них! Наблюдений сегодня не было… Течения тут никто не определял… Черт его знает! — как бы в сердитом раздумье прибавил Никанор Игнатьевич.
— Так отчего же мы не наплюем на этих подлецов и не оставим их совсем далеко, Никанор Игнатьич? — спросил, весело улыбаясь, Литвинов.
— То-то вам все наплевать! А приказание адмирала — спешить как можно скорей?.. На него не наплюешь! Капитан и решил идти ближе к берегам. Волнение здесь не такое сильное, как в открытом море при этом подлом норд—весте, и следовательно, клипер имеет большой профит[3] в ходе-с. Там мы ползли бы узлов по шести, а теперь по десяти дуем-с! Не давай таких предписаний! — неожиданно прибавил возбужденно и сердито Никанор Игнатьевич. — Какая такая спешка!
Столь подробное объяснение, которым удостоил обыкновенно скупой на слова старый штурман, едва ли можно было приписать исключительно расположению Никанора Игнатьевича к Литвинову. Возбужденный, сердитый тон штурмана обнаруживал скорей его волнение, которое он всегда испытывал, тщательно, впрочем, скрывая его, когда вблизи клипера были какие-нибудь «большие» или «маленькие подлецы».
Литвинов больше не расспрашивал. Поднимаясь на мостик, он снова повторил мне на прощанье совет «непременно наказать пана Казимира» и вслед за тем крикнул веселым, звучным голосом, во всю силу своих могучих легких:
— Вперед смотреть!
И, точно наэлектризованные этим веселым голосом, часовые на баке так же весело и громко ответили:
— Есть! Смотрим!
Вышел из рубки и Никанор Игнатьевич.
Полоса света, падавшего от машинного люка, осветила низенькую, маленькую фигурку старшего штурмана, пробиравшегося, понурив голову, на бак с большим биноклем в руке.
«Теперь Синус Синыч, верно, сам будет вперед смотреть. Смотрите, смотрите, господа!» — подумал я, спускаясь вниз, веселый и довольный, что кончилась эта скверная вахта.
II
Через пять минут переодевшись в сухое платье, я уже сидел в теплой, светлой кают-компании за стаканом чая, испытывая то ощущение довольства, удовлетворенности и некоторой приятной истомы, которое хорошо знакомо морякам. Теперь уж меня не особенно занимало, что делается там, наверху, — хлещет ли дождь или нет. Здесь, внизу, было уютно, сухо и тепло.
Однако совета Литвинова так-таки и не удалось исполнить, хотя я и не прочь был влить несколько ложечек коньяка в чай. В тот самый момент, как вестовой подал мне стакан и я только что хотел подговориться к превосходному докторскому коньяку, предусмотрительный доктор (он же пан Казимир), по обыкновению ораторствовавший о возвышенных предметах со своим несколько театральным пафосом и весь поглощенный, казалось, точным определением истинного мужества, успел все-таки заметить мой «прицельный» взгляд на бутылку. И, словно бы желая собственным примером показать образец истинного мужества, он поднялся с дивана, не окончив перечисления всех знаменитых «светочей поэзии и философии», трактовавших об этом вопросе, и унес, к крайнему моему огорчению, бутылку fine champagne[4] в свою каюту.
Многие, заметившие этот маневр, наградили меня сочувственными улыбками, а сосед мой, молодой черноволосый мичман Гарденин, штудировавший Шлоссера, шепнул, отрываясь от книги:
— Опоздали! А ведь бутылка, против обыкновения, была на столе все время, пока доктор разводил разводы. Сегодня он в особенном ударе! Старшего офицера уж в лоск уложил и заставил удрать в каюту. Теперь донимает Ванечку… Глядите, как Ванечка обалдел! Скоро, пожалуй, придется спешить на выручку… — прибавил, усмехаясь, мичман, умевший с большим искусством травить доктора.
Пан Казимир между тем вернулся и продолжал как ни в чем не бывало прерванную беседу об истинном мужестве, обращаясь главным образом к сидевшему близ него младшему механику, невозмутимому молодому хохлу в засаленной, когда-то белой куртке, как к единственной жертве, способной выслушивать без знаков нетерпения длинные речи и рассказы доктора, герой которых, Казимир Викентьевич Горжельский, разумеется, являлся всегда при бенгальском освещении.
— Великий поэт Виктор Гюго в одном из своих творений говорит, что мужество есть непременное качество возвышенных натур.
Доктор, говоривший с заметным польским акцентом, стал было цитировать стихи Виктора Гюго, отвратительно произнося французские слова, но, продекламировав несколько стихов, остановился.
— Впрочем, вы ведь не знаете по-французску? — спросил он.
«Обалдевший» механик с невозмутимым видом отрицательно качнул головой.
— Так я вам переведу.
Он перевел и продолжал:
— Другой гениальный поэт, Байрон… Вы знаете по-английску!
Ванечка снова ответил отрицательным кивком.
Тогда доктор привел по-русски соответствующий пример из Байрона и прибавил, что любит читать классиков в подлинниках. Это не то что переводы! Очень жаль, что молодой человек не знает языков! Он дал бы молодому человеку много интересных книг на французском, немецком, английском и итальянском языках. Он на всех этих диалектах свободно говорит и читает… Он много перечитал книг… «Не менее десяти тысяч томов!» — прибавил доктор и снова воскликнул:
— Ах, как жаль, что вы не знаете языков!
И этот самоуверенный, полный необыкновенного апломба тон, каким говорил доктор, и выражение самовосхищения, стоявшее в чертах его продолговатого желтого, окаймленного черными баками лица с низким узким лбом, под которым сидели небольшие холодные темные глаза, и быстрые взгляды исподлобья, бросаемые во время разговора на окружающих, — словом, все в этом сорокалетнем Нарциссе, влюбленном в себя, говорило, что он не столько жалеет о незнании Ванечкой иностранных языков, сколько хочет порисоваться и убедить публику в своих преимуществах.
Несмотря на знание доктором четырех языков (крайне, впрочем, сомнительное) и на необыкновенные случаи из практики, о которых любил рассказывать доктор, пана Казимира в кают-компании недолюбливали, «случаям» его верили с осторожностью и считали доктора самолюбивым, надутым фразером и хвастуном. Даже юные гардемарины, с которыми доктор вначале пробовал либеральничать, очень скоро поняли подозрительность его цивизма[5], напыщенность фразы и ограниченность ума. Вдобавок и его льстивая манера обращения с капитаном и старшим офицером, любезное высокомерие с другими и чисто шляхетское, полное нескрываемого презрения отношение к матросам еще более нас отталкивали, и доктор напрасно расточал перлы красноречия, рассказывая в интимной беседе a part[6] о высших «непонятых натурах», обреченных судьбою жить среди людей низменного уровня. Непонятую натуру обегали и относились к ней далеко не дружелюбно.
К этому надо прибавить, что доктор был из тех поляков, которые упорно открещиваются от своей национальности в среде русских и прикидываются ярыми патриотами среди поляков.
Пожалев, что наш милейший хохол Ванечка обречен на тьму невежества, доктор хотел было рассказывать один из «интересных случаев в его жизни, когда знание иностранных языков принесло ему громадную пользу», как мой сосед Гарденин, воспользовавшись временем, пока доктор не спеша свертывал папиросу, шепнул мне:
— Совсем он замучает Ванечку. Я ведь слышал этот «случай»… Очень длинный случай… Вы знаете историю про знатную итальянку?
— Нет.
— Так вот она в кратком изложении. Знатная итальянка в Петербурге… Ну, конечно, красавица и, конечно, у нее сложная болезнь, редкая в медицине… Пять знаменитых врачей, с Боткиным во главе, не понимая ни слова по-итальянску, не понимают, разумеется, и ее болезни, лечат от пневмонии, тогда как у нее сердце, печень и что-то в кишках, — словом, совсем не то, а что-то другое… перикардит и еще какое-то мудреное название. Знатная итальянка чахнет, еще два-три дня — и не видать бы ей божьего света, как вдруг пан Казимир приезжает из Кронштадта и совершенно случайно, хотя и без тени правдоподобия, попадает к знатной итальянке. Вы догадываетесь, конечно, о финале? Она прогоняет всех врачей, через пять дней встает с постели, а еще через пять едет на бал к бразильскому посланнику. Само собой, дело не обходится без романтической компликации[7]. Исполненная благодарности к своему спасителю (вдобавок тогда пан Казимир был чертовски хорош и, по его словам, отчаянный сердцеед), знатная итальянка намекает, что так и так, она не прочь выйти замуж за пана Горжельского (предки доктора ведь от Пяста!), но он, натурально, как благородный шляхтич, не хочет воспользоваться увлечением ее знойного темперамента и сделаться владельцем замка в Неаполе и рисовых полей в Ломбардии… И вот тогда-то она снимает с своего пальца и надевает на мизинец пана Казимира тот самый необыкновенный брильянт, стоящий сорок две тысячи франков (ни одного сантима менее!), которым доктор вместе с другими кольцами украшает свои противные пальцы по праздникам и при съездах на берег… Нет, положительно надо выручать Ванечку! Уж доктор разглаживает баки — значит, сейчас начнет.
И с этими словами, произнесенными вполголоса, черноволосый, худенький, с подвижною физиономией и вздернутою губой Гарденин поднялся с места и, присаживаясь на противуположном крае стола, рядом с Ванечкой, обращается к доктору:
— Позвольте побеспокоить вас, доктор, одним вопросом?
Серьезный тон и самое невинное выражение лица молодого мичмана обманывают на этот раз доктора, и он, не подозревая никакой каверзы, позволяет благосклонным наклонением головы.
— Объясните, пожалуйста, что это за болезнь перикардит? — продолжал Гарденин, по-видимому весьма заинтересованный сведениями о перикардите, и в то же время незаметно подталкивает локтем Ванечку: уходи, мол!
Хотя доктор предварительно и замечает, что профану в медицине довольно трудно будет понять сущность этой болезни, тем не менее входит в подробные объяснения, уснащивая их различными медицинскими терминами, а тем временем младший механик благополучно удирает из кают-компании.
Удовлетворив любознательности Гарденина и совершенно успокоившись насчет его намерений, доктор, заметивший исчезновение Ванечки, не может удержаться от искушения рассказать про «случай» и прибавляет:
— Я только что хотел рассказать об одном весьма интересном случае излечения именно той болезни, которая вас интересует… Все лучшие доктора…
— Это когда вы лечили одну знатную итальянку, доктор? — перебил мичман.
Доктор, не любивший, чтобы его прерывали, с важностью промолвил:
— Я на своем веку многих аристократов пользовал…
— Но, сколько мне помнится, именно у итальянки был жестокий перикардит с какими-то осложнениями, и если бы не ваше искусство, плохо пришлось бы больной? — продолжал Гарденин с самым серьезным видом, преисполненный, казалось, необыкновенным почтением к искусству доктора.
— Да, был такой случай… Я пользовал маркизу Кастеламарре! — говорил доктор, произнося слова «маркизу Кастеламарре» с каким-то сладостным замиранием в голосе. — Об этом случае в свое время много говорили в медицинском мире…
— Как же, как же… Я ведь слышал, как вы рассказывали эту любопытную историю…
— Это, извольте знать, не история, а факт! — внушительно проговорил пан Казимир, начиная хмуриться.
— О, разумеется факт, тем более что и брильянтовое кольцо в сорок две тысячи франков — тоже факт, и весьма ценный факт!
— Вероятно, вам не случалось видеть хороших брильянтов, и вы, кажется, изволите сомневаться в ценности моего супира? — с презрительной усмешкой заметил закипавший злостью доктор, нервно пощипывая длинными желтыми пальцами свою выхоленную, великолепную черную бакенбарду.
— Христос с вами, доктор, смею ли я сомневаться? — воскликнул, по-видимому с полной искренностью, шаловливый мичман. — Такие ли еще бывают факты!.. «Есть много, друг Горацио, тайн» и так далее… Я, положим, не видал хороших брильянтов — не стану врать, — но видал, например, крупнейших окуней у нас, в Смоленской губернии, и знаю тоже в своем роде интересный факт об их живучести, о котором я, с вашего позволения, расскажу. Стали жарить однажды громадного жирного окуня, фунтов эдак десяти, и что ж бы вы думали? Уж один бок его стал румяниться, а окунище, подлец, все еще жив… Так и пляшет, я вам доложу, на сковороде. Сняли этого самого мерзавца со сковороды, зашили ему брюхо, пустили в речку, и — поверите ли, доктор? — ведь поплыл, как встрепанный, окунь-то этот… Факт невероятный, а ведь я сам видел! — прибавил с невозмутимою серьезностью мичман.
Общий смех огласил кают-компанию.
Не смеялся только один доктор.
Позеленевший от злости, с презрительно сощуренными глазами, он в первую минуту пребывал в гордом молчании и только, когда смех прекратился, заметил с пренебрежением оскорбленного величия:
— Признаюсь, я не понимаю этого мичманского остроумия… Какой-то окунь… какой-то вздор…
Вдруг раздался страшный треск. Клипер вздрогнул всем своим корпусом, как-то странно покачнулся и, казалось, сразу остановился.
Все на мгновение замерли, недоумевающие и испуганные, взглядывая друг на друга широко раскрытыми глазами.
Старший офицер, вылетевший из каюты, пронесся как бешеный наверх. Вслед за ним ринулись и другие. Доктор, бледный как полотно, не трогаясь с места, беззвучно что-то шептал и крестился.
В первое мгновение я не сообразил, что такое случилось, и не испугался. Но вслед за тем мне почему-то представилось, будто на нас наскочило судно и врезалось в бок. И тогда мною овладел страх, который я тщетно усиливался побороть, стараясь казаться спокойным. Сердце упало, холод пробегал по всему телу, и я бросился стремглав вслед за другими наверх, охваченный паникой и стыдясь в то же время своего малодушия, недостойного моряка.
III
Непроглядная темень по-прежнему окутывала клипер, недвижно стоявший среди моря. На палубе царила грозная тишина. Только рокотало море да ветер жалобно посвистывал в снастях. И среди этой тишины клипер, приподнимаемый волнением, снова еще раз и другой тяжело ударился о подводный камень. Удары эти сопровождались таким наводящим ужас треском во всех членах судна, что казалось, оно не вынесет этой пытки и вот-вот сейчас развалится пополам.
— О господи! — раздалось чье-то скорбное восклицание среди людских теней, собравшихся кучками на палубе.
И чей-то голос стал тихо читать молитву.
— Беспременно тепериче разобьет нас на каменьях!
— Вишь, угодили-то как!
— Смирно! — раздался вдруг с мостика голос капитана.
Разговоры мгновенно смолкли.
— Триселя и кливер поставить! Лотовые на лот! Полный ход вперед! — командовал капитан.
В этом негромком, несколько гнусавом, отчетливом голосе не слышно было ни одной нотки страха или волнения. Он был спокоен, прост и ровен, точно капитан распоряжался на ученье. И это спокойствие словно бы сразу низводило опасность положения до самой обыкновенной случайности в море и, невольно передаваясь другим, вселяло бодрость и уверенность в сердца испуганных людей.
— Ишь ведь, отчаянный он у нас какой! — проговорил кто-то среди толпившихся матросов повеселевшим голосом.
— Не бойсь, он распорядится!
И у меня отлегло от сердца. Я еще более устыдился своего малодушия и торопливо поднялся на мостик, где должен был находиться, по расписанию, во время аврала.
Машина работала полным ходом, но клипер не двигался с места.
— Как глубина?
В ответ раздался отрывистый голос старшего штурмана, под наблюдением которого лотовые обмеряли глубину вокруг клипера.
Недаром голос Никанора Игнатьевича, перегнувшегося через борт с фонарем в руках, звучал сердито. Обмер показывал, что клипер сидел всем своим корпусом на камне и только корма была на вольной воде.
— Фальшвейры! — приказал капитан.
Ярко-красный огонь фальшвейров, выкинутых с обеих сторон, погрузив в тьму клипер, рассеял таинственность окружающего мрака. Слева, в недалеком расстоянии, белелись грозные буруны, доносясь слабым откликом характерного гула. Справа море было чисто и с однообразным ровным шумом катило свои волны, рассыпавшиеся пенистыми седыми верхушками. Ясно было, что мы, по счастию, налетели на крайний камень из этой группы маленьких «подлецов», брошенных среди моря.
— Стоп машина! Полный ход назад! — распоряжался капитан, передавая приказания в машину через переговорную трубку.
Прошла еще бесконечная тягостная минута.
— Идет ли? — спросил капитан своим прежним спокойным гнусавым голосом.
— Нет!
И, словно в подтверждение, что не идет, клипер снова беспомощно ударился о камень. Удар этот, тяжелый, медленный, казалось, был ужаснее прежних.
Капитан взялся за ручку машинного телеграфа.
«Дзинь-дзинь!»
Машина застопорила.
«Дзинь-дзинь!»
Машина снова застучала полным ходом.
Бедняга клипер, точно прикованный, не подавался.
Я взглянул на худощавую невысокую фигуру капитана, стоявшего в полосе слабого света от огня компаса, рассчитывая по выражению его лица узнать о степени грозившей нам опасности.
Ни черточки страха или волнения! Напротив, во всей его фигуре, неподвижно стоявшей у машинного телеграфа, было какое-то дерзкое, вызывающее спокойствие, и всегдашнее чуть заметное надменное выражение, обыкновенно скрадывавшееся любезной улыбкой, теперь, ничем не сдерживаемое, светилось во всех чертах красивого молодого лица, опушенного светло-русыми вьющимися бакенбардами.
Мне не был симпатичен этот «лорд», как метко прозвали гардемарины нашего капитана. Молодой, красивый, изящный, фаворит высшего начальства, не в пример другим делавший карьеру, двадцати шести лет уже бывший командиром щегольского клипера, он держал себя гордо и неприступно, с тою холодною вежливостью, под которою чувствовалось снисходительное презрение служебного баловня и черствость себялюбивой натуры. И, несмотря на это, теперь этот человек невольно восхищал своим самообладанием.
«Неужели же он нисколько не боится за клипер?» — с досадой думал я, посматривая на невозмутимого «лорда».
Точно в ответ на мои мысли, капитан тихо сказал старшему офицеру все тем же своим спокойным голосом:
— Кажется, плотно врезались. Осмотрите, нет ли течи?.. Да чтобы гребные суда были готовы к спуску! — еще тише прибавил капитан. — Мало ли что может случиться!
Не успел старший офицер уйти, как с бака крикнули:
— В подшкиперской вода!
Этот неестественно громкий, взволнованный голос нашего боцмана-финляндца заставил меня невольно вздрогнуть. Под мостиком кто-то испуганно ахнул.
В ответ на отчаянный окрик капитан крикнул обычное «есть!» таким равнодушным, хладнокровным тоном, будто в известии боцмана не было ничего важного и он отлично знает, что в подшкиперской вода.
И, понизив голос, прибавил, обращаясь к старшему офицеру:
— Что за идиот этот чухонец!.. Орет, вместо того чтобы прийти доложить… Потрудитесь осмотреть, Алексей Петрович, что там такое, велите поскорей заткнуть пробоину и дайте мне…
Взбежавший на мостик младший механик прервал капитана докладом, что в машине вода.
— И много?
— Подходит к топкам! — взволнованно отвечал обыкновенно невозмутимый хохол.
— Помпа пущена?
— Сейчас пустили!
— Ну и отлично! — промолвил капитан, хотя, казалось, ничего «отличного» не было. — Давайте чаще знать, как в машине вода.
Механик ушел, а капитан хладнокровно продолжал отдавать приказания старшему офицеру, и только речь его сделалась чуть-чуть торопливее и отрывистее.
— Пустить все помпы! Скорей на пробоину пластырь! Когда сойдем, подведите парус.
Старший офицер бегом полетел с мостика, а капитан снова взялся за ручку машинного звонка.
«Сойдем ли?»
Сомнение закрадывалось в душу, усиливаясь при новом ударе беспомощного клипера и вызывая мрачные мысли.
«До берега далеко, не менее двадцати миль… Как доберемся мы на шлюпках при таком волнении, если придется спасаться? Неужели нам грозит гибель? За что же? А жить так хочется!»
И сердце тоскливо сжималось, и взор невольно обращался по направлению к этому далекому берегу.
Но глаз ничего не видит, кроме непроглядной тьмы бурной ночи. Ветер, казалось, крепчал. Всплески волн с шумом разбивались о бока клипера.
«Ах, если б он скорее сошел!»
С тех пор как мы вскочили на камень, прошло не более двух-трех минут, но в эту памятную ночь эти минуты казались вечностью.
— Господин С.! Взгляните, как барометр, да посмотрите, нет ли воды в ахтерлюке! — приказал капитан.
Я бросился вниз, и — странное дело! — мрачные мысли тотчас же исчезли; я думал только, что надо исполнить приказание, не вызвав снисходительно-насмешливого замечания «лорда».
На трапе я нагнал Гарденина, посланного старшим офицером с тем же поручением.
Гарденин вошел первый в кают-компанию, но вдруг остановился на пороге и, приложив палец к губам, шепнул, указывая на открытую докторскую каюту:
— Смотрите, как действует истинное мужество!
Несмотря на серьезность положения, я невольно улыбнулся вслед за Гардениным, увидав пана доктора. Без сюртука, с спасательным поясом, обвязанный весь какими-то мешочками, метался он по каюте, собирая вещи, и растерянным голосом бормотал какие-то слова.
— А ведь потом нам же будет рассказывать, как геройствовал! — зло проговорил Гарденин, входя в кают-компанию.
Заслышав голоса, доктор торопливо надел пальто и вылетел к нам.
Бледный, с искаженным от страха лицом, стараясь под жалкой, неестественной улыбкой скрыть перед нами свой страх, спросил он прерывистым голосом:
— Ну что? Есть ли надежда, что сойдем?
— Никакой! Сейчас тонем, доктор! — гробовым голосом отвечал Гарденин.
Страшный треск нового удара, казалось, подтверждал эти слова.
— О пан Иезус! О матка божка! — в ужасе шептал доктор крестясь.
— Полно врать, Гарденин! — перебил я, чувствуя невольную жалость к этому олицетворению страха. — Пока никакой непосредственной опасности нет, доктор!
— А вы уж собрались спасаться?.. Небось теперь и пана Иезуса и матку божку вспомнили? — насмешливо кинул Гарденин и, повернувшись, крикнул вошедшему с фонарем вестовому: — Живо, люк!
Несмотря на страх, доктор метнул в спину Гарденина взгляд, полный ненависти и злобы. Он не простил Гарденину этой злой шутки и с той минуты возненавидел его.
— А я на всякий случай приготовился ко всему! — обратился ко мне доктор с заискивающей улыбкой, оправившись несколько от страха после моих успокоительных слов. — Не следует никогда теряться в опасности! — прибавил он с хвастливостью и торопливо бросился наверх…
Я спустился за Гардениным в ахтерлюк. Воды там не оказалось, и мы тотчас вышли.
— Как вы думаете, Гарденин, сойдем?
— А черт его знает! Нет, непременно выйду в отставку, как вернусь в Россию, если только буду жив! — неожиданно прибавил он. — Эти ощущения не особенно приятны… ну их! Я вот смеюсь над доктором за его трусость, а ведь сам, признаться, жестоко трушу! — проговорил с какою-то возбужденной, подкупающей искренностью Гарденин, пользовавшийся заслуженною репутацией лихого офицера.
С этими словами он выскочил из кают-компании.
Взглянув в капитанской каюте на барометр, я поднялся наверх и взбежал на мостик.
IV
Капитан стоял на краю и, перегнувшись через поручни, смотрел за борт, держа в руке фонарь. На шканцах, перевесившись совсем через борт, с тою же сосредоточенностью смотрел на воду и Никанор Игнатьевич.
Точно в ожидании чего-то особенно важного, на палубе была мертвая тишина. Только машина, работавшая полным ходом, торопливо отбивала однообразные такты.
Я доложил капитану о высоте барометра и об осмотре ахтерлюка, но он, казалось, не обратил внимания на мой доклад и, не поднимая головы, крикнул:
— Идет ли?
Несколько секунд не было ответа.
— Тронулся! — вдруг прокричал старый штурман. — Идет! — еще веселее крикнул он через секунду.
— Пошел… пошел!.. — раздались с бака радостные голоса.
Капитан торопливо подошел к компасу.
— Самый полный ход вперед! — крикнул он в машину.
Слышно было, как клипер с усилием черкнул по камню и, словно обрадовавшись свободе, вздрогнул всем телом и быстро двинулся вперед, рассекая темные волны. Грозный бурун над камнем белелся седым пятном за кормой.
Невыразимое ощущение радости и счастия охватило меня. Громкий вздох облегчения пронесся на палубе. И дерзкая, вызывающая улыбка весело играла на лице капитана.
— Лево на борт! — крикнул он рулевым, и клипер, сделав полный оборот, поворотил назад.
— Счастливо отделались! — сказал капитан подошедшему старшему офицеру. — Что, много воды?
— Порядочно… Одну пробоину нашли в носу… Сейчас будем подводить парус…
— Я иду назад! — заметил капитан. — Идти по назначению далеко, да и ветер противный… Как окончите подводку паруса, ставьте все паруса и брамсели.
— Ветер крепчает! — осторожно вставил старший офицер.
— Ничего, пусть гнутся брам-стеньги! Под парами и парусами мы живо добежим до порта и завтра будем в доке. Нас, верно, таки порядочно помяло… Не правда ли? — прибавил капитан.
И, не дождавшись ответа, спросил:
— Кто на вахте?
— Я! — проговорил Литвинов, поднимаясь на мостик.
— Курс SSW… Идти самым полным ходом!
— Есть!
— Ну, теперь пойдемте-ка, Алексей Петрович, посмотрим, какова течь… А ведь крепок «Красавец»! Било его сильно-таки… Сколько мы стояли на камне, Никанор Игнатьич?
— Четыре с половиной минуты-с! — хмуро отвечал старый штурман.
— Довольно времени, чтобы разбиться! — усмехнулся капитан, спускаясь с мостика и исчезая в темноте.
Через полчаса под носовую часть клипера был подведен парус. Все помпы работали, едва успевая откачивать воду, и «Красавец» под парами и всеми парусами несся среди мрака ночи узлов по тринадцати в час, словно раненый зверь, бегущий к логову, чтобы зализать свои раны.
Между своими
I
Вскоре после выхода корвета в кругосветное плавание, или, как говорят матросы, в дальнюю, Иван Артемьев, совсем молодой, цветущего здоровья матрос, краснощекий красивый брюнет, лихой брамсельный и загребной на капитанском вельботе, простудился поздней ненастной осенью и серьезно занемог, схватив воспаление легких.
Болезнь затянулась. Молодой матрос видимо таял.
Когда, месяц спустя, корвет зашел на несколько дней в Брест, судовой врач, молодой человек, лет пять как окончивший курс в московском университете, снова долго и внимательно выслушивал и выстукивал еще недавно богатырскую, а теперь исхудалую, с резко выступающими ребрами, смуглую грудь Артемьева и, отправившись к капитану, доложил ему, что Артемьева следовало бы списать с корвета и оставить в Бресте, в морском госпитале.
— Разве он так плох, доктор?
— Очень плох… Скоротечная форма чахотки.
— Нет надежды спасти его?
— По моему мнению, никакой! — не без задорного апломба, присущего очень молодым врачам, отвечал доктор и принял еще более серьезный вид.
— Жаль отправлять беднягу умирать к чужим людям… Ну, да что делать! Все-таки на берегу ему будет лучше, чем у нас в лазарете. Ведь у нас в лазарете для больных скверно, а?
— Для серьезно больных нехорошо. Каюта маленькая. Воздуха мало. Удобств никаких…
— Так, так… Вы говорили об этом Артемьеву?
— Нет еще. Сегодня скажу, а завтра, если разрешите, сам свезу в госпиталь и сдам французским врачам.
Через час после этого разговора доктор, несколько взволнованный, но старавшийся скрыть это волнение, вошел в лазарет — небольшую, сиявшую чистотой каюту, помешавшуюся на кубрике. Несмотря на пропущенный в двери виндзейль, в низенькой каюте отдавало сырым спертым воздухом и сильно пахло лекарствами. В ней было четыре койки, по две у каждой переборки, расположенные в виде нар, одна над другой. Три были пусты, а в четвертой, внизу, головою к борту судна, лежал единственный больной на корвете, матрос 1-й статьи Иван Артемьев.
Он лежал с широко раскрытыми большими блестящими черными глазами, серьезными, с выражением какой-то сосредоточенной вдумчивости, какая часто бывает у безнадежно и долго больных. Его осунувшееся смуглое лицо с заостренным носом, словно прозрачными ноздрями, с удлинившимся подбородком, черневшим щетиной небритой бороды, с характерными горевшими пятнами на впалых щеках, с выдавшимися скулами и сухими воспаленными губами — его лицо было спокойно, красиво и мертвенно-бледно. Сразу чувствовалось, что смерть уже сторожит это еще недавно крепкое, здоровое тело.
При входе доктора не в урочное время Артемьев приподнял с подушки голову с мокрыми у висков волосами, снова опустил ее и, перебирая край байкового белого одеяла своими восковыми пальцами, худыми и длинными, с выросшими желтыми ногтями, вопросительно, испуганно и подозрительно повел взглядом на вошедшего.
— Ну что, братец, все знобит? — искусственно развязным и небрежным тоном проговорил врач, полагая, что он таким образом подбадривает больного, и в то же время чувствуя какую-то неловкость перед испуганным взглядом матроса.
— Знобит, ваше благородие! А то всем, кажется, здоров. Нутренне ничего не болит, ваше благородие! — с живостью отвечал Артемьев.
И, все еще глядя на врача с подозрительной пытливостью, торопливо прибавил:
— Вот если бы от этого самого ознобу ослобониться, и опять вошел бы в силу, ваше благородие… Озноб только… не пущает.
Глухой его голос звучал надеждой. Он, видимо, употреблял усилия, чтобы казаться при докторе бодрым и не столь слабым, точно в нем бродили какие-то смутные подозрения насчет недобрых намерений доктора и больной хотел обмануть его.
Доктор, добродушный и мягкий москвич, еще не закаленный своей профессией настолько, чтобы равнодушно смотреть на людские страдания, опустив голову, чтобы скрыть невольное смущение, почему-то откашлялся и, избегая смотреть в эти пытливые черные глаза больного, проговорил все тем же искусственно небрежным тоном:
— В том-то и дело, братец, чтобы озноба не было… И ты, конечно, поправишься… Об этом нечего и говорить… Я не сомневаюсь…
Он на мгновение остановился, поднял голову и встретил радостный, уверенный взгляд больного.
И, несмотря на тяжелое чувство, охватившее его при этом взгляде, продолжал еще веселее и увереннее:
— Поправишся, конечно… Опять молодцом станешь, но только для этого тебе надо на берег… А на корвете, брат, плохая поправка. Понимаешь?
— Куда же это на берег? — испуганно и жалобно прошептал больной, словно бы в недоумении.
— А здесь в Брест, в госпиталь… Там отлично… Там живо поправка пойдет… А как поправишься, тебя оттуда в Кронштадт отправят, а из Кронштадта в деревню пойдешь, к себе домой… Я тебе и бумагу такую дам.
Выходило как будто очень хорошо. Но с первых же слов доктора в глазах и в лице молодого матроса появилось выражение такого страха, отчаяния и скорби, что доктор окончил свою речь далеко не с той развязной веселостью, с какой начал.
На мгновение больной замер, словно пораженный.
Но вслед за тем он проговорил с отчаянной мольбой:
— Ваше благородие! Отец родной! Не отсылайте меня с конверта. Дозвольте остаться. Явите божескую милость!
Доктор стал его уговаривать: на берегу он скоро выздоровеет, а здесь болезнь может затянуться…
— Ваше благородие! Будьте добры… Уж ежели бог не пошлет мне поправки, дозвольте хоть умереть между своими, а не на чужой стороне!
От волнения он закашлялся. Из груди его вырывался зловещий глухой шум и что-то внутри клокотало. Его чудные большие глаза глядели на доктора с такой мольбой, что молодой доктор, видимо, колебался.
— Но послушай, Артемьев… ведь там тебе было бы лучше!.. — снова начал он.
— На чужой-то стороне лучше? Да я там с тоски, ваше благородие, помру. Здесь — свои ребята. Пожалеют, по крайности. Слово есть с кем перемолвить… а там?.. Не погубите, ваше благородие! Дозвольте остаться. Я скоро поправлюсь, вот только в теплые места придем, и опять буду исправным матросом, ваше благородие! — молил матрос, словно бы оправдываясь и за свою болезнь и за то, что не может быть исправным, лихим матросом.
Взволнованный этим отчаянием, доктор почувствовал жестокость своего решения и ласково проговорил:
— Ну, ну, не волнуйся, брат… Уж если ты так не хочешь, оставайся!
Радостная, благодарная улыбка озарила мертвенное лицо Артемьева, и он с чувством произнес:
— Век не забуду, ваше благородие!
Снова доктор пошел в капитанскую каюту и, рассказав капитану об отчаянии молодого матроса, просил теперь разрешения оставить его на корвете.
Капитан охотно согласился и заметил:
— Вот скоро в тропиках будем… Воздух чудный… быть может, Артемьеву и лучше будет. Как вы думаете, доктор?
— К сожалению, ничто не спасет беднягу. Дни его сочтены! — с уверенностью отвечал молодой врач и даже несколько обиделся, что капитан как будто не вполне доверяет его авторитету.
— А какой славный матрос был! — пожалел капитан.
II
Когда на баке — этом матросском клубе, где обсуждаются все явления судовой жизни, — узнали, что Артемьева хотели отправить во французский госпиталь и что затем оставили на корвете, — все матросы искренне порадовались за товарища.
Со всех сторон сыпались замечания:
— Уж коли помирать, так, по крайности, между своими, а не по-собачьи, у чужого забора!
— Это что и говорить… Лучше прямо в море бросить!
— Тут хоть призор есть, а там пойми, что он лопочет!
— И без попа… Так без отпущения и отдашь душу…
— Ишь ведь, что было выдумал дохтур! К французам! А еще добрый!
— Добер, а поди ж…
— Молод очень! Дохтур, а того невдомек, что матросу никак не годится умирать в чужих людях. Может, господам все равно, а российский матрос на это охоткой не согласится, — авторитетно решил старый унтер-офицер Архипов, раскуривая у кадки с водой, вокруг которой собрался кружок, свою трубчонку, набитую махоркой.
И, раскурив ее, категорически и властно прибавил:
— То-то оно и есть. И умен и учен, а разуму мало. Нажить его, братец ты мой, надо. А то: к французам! И выходит, что дохтур сам вроде как быдто француз.
Все на минутку примолкли, точно нашедши разгадку поведения доктора. Приговор такого авторитетного человека, как унтер-офицер Архипов, очень уважаемого матросами за справедливость, был, некоторым образом, разрешающим аккордом.
И с этой минуты наш милый судовой врач пошел у матросов под шуточной кличкой «француза».
— А что, милай человек, господин фершал, Игнат Степаныч! Разве Ванька Артемьев того… помрет?
С такими словами обратился к подошедшему фельдшеру немолодой коренастый чернявый матрос с добродушной физиономией, сизый нос которого свидетельствовал о главном недостатке Рябкина, известного весельчака, балагура и сказочника, бесшабашного марсового, ходившего на штык-болт, и отчаянного забулдыги и пьяницы, пропивавшего, когда попадал на берег, не только деньги, но и все собственные вещи.
Фельдшер, мужчина лет около сорока, с рыже-огненными волосами, весь в веснушках, рябой и некрасивый, но считавший себя неотразимым донжуаном для кронштадтских горничных, сделал серьезную мину, перенятую им от докторов, заложил палец за борт своего сюртука и не без апломба ответил:
— Туберкулез… Ничего с ним, братец, не поделаешь.
— Чихотка, значит?
— Пневмония — одна форма, туберкулезис — другая. Тебе, впрочем, братец, этой мудрости не понять — не про тебя писано. Для этого тоже надо специалистом быть!.. — продолжал фельдшер, любивший-таки огорошивать матросов разными подобными словечками. — Могу тебе только сказать, что бедному Артемьеву не долго жить.
— Ну? — испуганно воскликнул Рябкин.
— То-то ну! С туберкулезом не шути, братец ты мой. Он и лошадь обработает, а не то что человека.
— Ах, и жалко же, братцы, матроса! И парень-то какой душевный! — промолвил Рябкин, и обычная веселая улыбка сбежала с его лица.
И все, кто тут был, пожалели Артемьева.
— Рано, любезный, хоронишь! — строго и внушительно обратился старый унтер-офицер к фельдшеру. — Бог-то, может, не послушает вас с дохтуром, а вызволит человека.
— Да я-то что? По мне, живи на здоровье. Тут не я, а наука!
— Наука! — презрительно протянул Архипов. — Господь и науку обернет, ежели на то его воля…
И Архипов, сунув трубку в карман, не спеша вышел из круга.
Фельдшер только безнадежно пожал плечами: дескать, нечего с вами разговаривать!
III
Недели через две корвет уже плыл в тропиках, направляясь к югу. Погода стояла восхитительная. На небе ни облачка. Тропическая жара умерялась ровным, вечно дующим в одном направлении, мягким пассатом и свежей влагой океана.
И корвет шел да шел узлов по семи, по восьми, имея на себе всю парусину. Недаром же моряки зовут плавание в тропиках, с пассатом, дачным плаванием. В самом деле, спокойное, благодатное плавание! Не надо и брасом шевелить, то есть менять положение парусов. И для матросов — это пора самой спокойной морской жизни. Стоят они на вахте не повахтенно, а по отделениям, и вахты самые приятные. Не приходится ждать бурь и непогод, бежать рифы брать, то уменьшать, то прибавлять парусов, — словом, не приходится быть постоянно начеку. На этих вахтах почти никакой работы. И матросы коротают их, лясничая между собою, вспоминая в тропиках родную сторону, развлекаясь иногда зрелищем китов, пускающих фонтаны, любуясь блестящими на солнце летучими рыбками, маленькими, далеко залетающими от берега петрелями, громадными белоснежными альбатросами и высоко реющими в прозрачном воздухе фрегатами. А в эти дивные тропические ночи с мириадами мигающих звезд — ночи, когда вся команда спит на палубе, — вахтенные, примостившись кучками, коротают время еще более интимными воспоминаниями или сказками, которые рассказывает кто-нибудь из умелых сказочников, к удовольствию слушателей.
Вахтенный, молодой офицер, весь в белом легком костюме, ходит взад и вперед по мостику, поглядывает вперед, нет ли где огоньков идущего судна, вдыхает полной грудью прохладный воздух ночи, невольно мечтает, предаваясь воспоминаниям, и, усталый от долгой ходьбы, прислоняется к поручням, дремлет с открытыми глазами, как умеют дремать моряки, и снова начинает ходить, вновь вспоминая, быть может, кого-нибудь из близких, находящихся далеко-далеко, или пару милых глаз, кажущихся среди океана еще милее, или маленькую руку с тонкими длинными пальцами, с голубыми жилками, просвечивающими сквозь нежную белизну кожи, — руку, которую еще недавно он украдкой целовал в Кронштадте… В эти ласкающие ночи моряки, давно не бывшие на берегу, становятся несколько сентиментальны.
А корвет, плавно покачиваясь, идет себе вперед во мраке ночи, свободно и легко рассекая грудью океан с тихим гулом искрящейся брызгами воды, оставляя за собой широкую алмазную ленту, блестящую фосфорическим светом.
Иногда только эта безмолвная прелесть плавания в тропиках нарушается набегающими шквалами с проливным дождем. Приближение такого шквала внимательно сторожится зорким глазом вахтенного офицера. Посматривая в бинокль, он вдруг замечает на далеком только что чистом горизонте маленькое серое пятно. Оно становится все больше и больше и быстро вырастает в темную грозовую тучу, соединенную с океаном серым косым дождевым столбом, освещенным лучами солнца. И эта туча и этот серый широкий столб стремительно несется к корвету. Солнце скрылось. Вода почернела. В воздухе душно. Туча все ближе и ближе… Корвет уже готов к встрече внезапного гостя: брамсели убраны; марсели, фок и грот взяты на гитовы… Шквал налетел, охватил со всех сторон судно серой мглой, накренил корвет, понес его на минуту со страшной быстротой, облил всех ливнем крупного тропического дождя, помчался далее, — и через минуту-другую и туча и дождевой столб становятся все меньше и меньше и кажутся на противоположном горизонте крошечным серым пятнышком.
И снова высокое голубое небо с веселой лаской смотрит сверху. Воздух полон чудной свежести. Снова корвет поставил все паруса, и тот же мягкий ровный пассатный ветерок несет его. Матросские рубахи уже просохли, только в снастях еще блестят капли; и снова поставленный тент защищает головы моряков от ослепительных лучей тропического солнца.
Артемьеву, казалось, стало лучше. Лихорадка мучила его с более долгими промежутками, он чувствовал себя бодрей, с аппетитом ел кушанье с кают-компанейского стола и пил по две рюмки мадеры в день. По распоряжению доктора, больного с утра выводили наверх, и он проводил там целые дни, лежа большею частью в койке, подвешенной у шкафута — на средней части судна, смотрел на обычную утреннюю чистку, на обычные предобеденные работы и учения, слушал хорошо знакомую артистическую ругань боцмана и окрики офицеров, перекидывался словами с подходившими к нему матросами, — и все это его занимало, приобретая в его глазах какую-то прелесть новизны. Иногда он подолгу глядел своими большими серьезными глазами и на безбрежный сверкавший на солнце океан и на бирюзовую высь неба — глядел и задумывался, словно пытаясь разрешить какую-то загадку, неожиданно возникшую для него после долгого созерцания природы и каких-то новых, странных дум, являвшихся во время долгой болезни.
По временам мысли его витали в воспоминаниях о далекой бедной деревушке с черными избами, о мужичьей жизни, об этом темном лесе, куда он с отцом часто ездил по ночам рубить «божий лес», который почему-то считали казенным, — и тогда скорбное чувство подкрадывалось к сердцу. Он жалел своих, скорбел о тяжкой мужичьей доле; спрашивал себя, отчего бог не ко всем милостив, и снова задумывался, глядя на чудное небо, точно оно могло дать ответ…
Его часто охватывала дремота: он забывался на короткие промежутки, и ему снились сны. В этих сновидениях Артемьев был по-прежнему сильный, здоровый, ретивый матрос, летавший духом на марс, крепивший брамсель или наваливавшийся изо всех сил на весло, когда приходилось на щегольском вельботе отвозить капитана…
И, внезапно просыпаясь, он с грустью чувствовал свою беспомощность и часто с горечью смотрел на свои исхудалые руки, ощупывал свои выдававшиеся ребра, винил доктора за то, что не входит в силу, и каждое утро с трогательной простотой молил бога, чтобы господь послал ему поправку.
Но и в теплых местах поправка не приходила, и больной становился все более нетерпеливым и раздражительным. Но о смерти он не думал, надеясь, что озноб отпустит, наконец, и он опять войдет в силу.
Его только удивляло особое внимание, какое ему теперь оказывали. К нему подходили офицеры и капитан и говорили добрые, обнадеживающие слова. Сам ругатель-боцман, прежде изредка «смазывавший» Артемьева по уху и часто ругавший его, теперь, напротив, нет-нет да и заглянет к нему в койку. И грубый, сиплый голос боцмана звучит непривычной для уха молодого матроса нежностью, хотя боцман как-то сердито хмурит брови, глядя на исхудалое лицо больного. Он скажет два-три слова и, уходя, прибавит:
— Ну, брат, теперь скоро и на поправку. Не рука матросу долго валяться! Бог милостив… Поправишься.
И все — он это чувствовал — как-то особенно относились к нему.
«За что?» — иногда думал он, растроганный таким непривычным вниманием.
И вскоре бедняга узнал «за что», услыхав неосторожный разговор двух матросов о том, что ему, по словам доктора, жить осталось уж немного: «Слава богу, коли ден десять протянет!»
Он обомлел и как-то вдруг весь почувствовал, что это правда и что он не жилец на белом свете.
И скорбные, жгучие слезы тихо скатились с его славных глаз.
IV
Ах, какие тяжелые были эти бесконечные, длинные последние ночи в маленькой душной каюте! Сна почти не было. Больной изредка забывался, и снова приходил в себя, и лежал неподвижно, с открытыми глазами, в полутемной каюте, освещенной слабым светом фонаря. Кругом тишина. Слышно лишь бульканье воды у борта да легонькое поскрипывание корвета.
Тоска! Щемящая, безнадежная тоска!
Но забулдыга и пьяница Рябкин не забывал больного в его ночном одиночестве. Каждую ночь, перед вахтой или сменившись с вахты, Рябкин, лишая себя сна, осторожно входил в лазарет, присаживался на пол у койки Артемьева, успокаивал его, старался подбодрить и начинал рассказывать ему свои бесконечные сказки.
Он их рассказывал увлекательно, мастерски, с различными, им самим сочиненными вариантами, и деликатно изменял конец сказки, если он был печальный или оканчивался чьей-нибудь смертью.
И молодой матрос, несколько успокоенный, слушал их и иногда дремал, убаюканный этим тихим, ритмическим кадансом сказочной речи.
Случалось, Артемьев неожиданно прерывал рассказчика и спрашивал:
— Послушай, Рябкин, что я хочу спросить…
— Что, Ваня?
— Как ты думаешь, как будет — на том свете? Тяжело душе или нет?
Рябкин, никогда в жизни не думавший о таких деликатных предметах, на секунду задумывался, но со свойственной ему находчивостью быстро и уверенно отвечал:
— Надо, братец ты мой, полагать, что душе нашего брата будет хорошо… Господским душам будет хуже… это верно… потому им на этом свете очень даже вольготно… Ну, значит, и вали валом, голубчики, в ад… Сделайте ваше одолжение… Пожалуйте!.. Однако и из нашего звания тоже, я думаю, не всякий в рай… Мне, примерно, голубчик мой, давно в пекле паек готов за то, что я жру это самое винище. Небось, заставят растопленную медь глотать… А силушки нет, милый человек, бросить эту самую водку!.. Вот оно как будет на том свете! — заключил Рябкин, вполне уверенный, казалось, в правильности своих внезапных соображений насчет «того света».
Несколько секунд длилось молчание.
И молодой матрос вновь заговорил:
— Тоже иной раз думается: вот умер человек, а что там?
— Да брось ты глупые мысли. Вот тоже!.. Еще, брат, мы с тобой и на этом свете поживем. А как, братец ты мой, вечор боцман Ваську Скобликова звезданул! В кровь! В самую, значит, носовую часть! — круто переменил Рябкин разговор, желая отвлечь внимание от грустных предметов.
Но Артемьев молчал, оставаясь равнодушен к этому сообщению. Его, казалось, уже не занимали все эти прежде интересовавшие его вещи. Все это представлялось теперь ему каким-то далеким прошлым.
— У вас на фор-брамсели вот тоже… Михайлов брам-горденя не отдал. Ну и костил же его, брат, старший офицер сегодня! Однако всего раз съездил.
Но вместо ответа Артемьев вдруг сказал:
— Не хотца помирать, голубчик, а надо. Так, видно, богу угодно, чтобы меня бросили в океан! — прибавил он с тоской.
— Ведь вот глупый! С чего ты зря мелешь? Да нешто я не понимаю матросского здоровья? Отлично, братец, понимаю: слава богу, двенадцать лет в матросах околачиваюсь… Тоже вот у нас на «Копчике» молодой матросик был и занемог, как ты. Так около году провалялся у нас на клипере, а после в такую поправку пошел, что страсть.
Но эти слова, по-видимому, мало утешали Артемьева. Рябкин это чувствовал и снова начинал сказку.
— Ты бы спать шел, Рябкин.
— Спать? Да быдто неохота спать… Ужо утром высплюсь!
— Ишь ты, сердешный… Жалеешь… Добер… Бог тебе и вино простит!
V
Корвет подходил к экватору. Артемьев доживал последние дни. Однажды, рано утром, он попросил к себе в лазарет гардемарина Юшкова, который учил прежде Артемьева грамоте, часто разговаривал с ним, писал от него письма к родителям, и был очень расположен к молодому матросу.
— Простите, барин, что обеспокоил… Исполните последнюю просьбу — напишите домой грамотку… Да вот вещи какие после меня останутся, так чтобы отослать, как вернетесь в Расею…
Гардемарин стал было успокаивать его, но матрос остановил его:
— Полно, голубчик барин! Я знаю, что умру.
И он передал завернутые в тряпочку два золотых и, указывая на байковый платок, две рубахи, башмаки, вязаный шарф и еще кое-какие вещи, собранные на лазаретном столе, просил все это послать отцу с матерью.
— И отпишите им, барин, что я так и так… помер, и что завсегда был покорным их сыном, и буду на том свете молиться за них и за всех хрестьян… И сестрицам, и братцам, и всей деревне нижайший поклон… Напишете, барин?
— Напишу! — отвечал гардемарин, глотая слезы.
— А другую грамотку отпишите, барин, в Кронштадт, Авдотье Матвеевне Николаевой… А как вернетесь, — отдайте ей вот эти гостинцы.
И он указал глазами на шелковый красный платок и маленькое колечко с поддельным камнем, купленное им в Копенгагене.
— Адрец тут же лежит, на платочке… Маменька ихняя торгует на рынке… Так напишите ей, что она напрасно тогда не верила… Думала, что я так только… и все смеялась. Напишите ей, барин, что ежели я путался с другими, так от обидного моего сердца, а желанная была она одна. И напишите, что я шлю ей свой нижайший поклон, целую в сахарные ее уста и дай ей бог всякого благополучия. Напишете, барин?
— Напишу.
— А затем спасибо вам за все, добрый барин. Простимся!
Сдерживая рыдания, гардемарин, поцеловал матроса и выбежал из лазарета.
VI
В ту же ночь молодой матрос умер.
Труп его одели в полный матросский костюм и ранним утром вынесли наверх, на шканцы, и положили на доске, лежавшей на козлах. Перед обедом, в присутствии капитана, офицеров и всей команды, была отслужена священником панихида. И эта служба и это печальное пение отличного хора певчих здесь, среди безбрежного сверкавшего океана, так далеко-далеко от родины, производили невыносимо тоскливое впечатление.
После панихиды все подходили прощаться с усопшим. Флаг с утра был приспущен в знак того, что на судне покойник.
К вечеру труп зашили в парусинный мешок, плотно охватывавший мертвое тело, к ногам привязали ядро, и после отпевания и отдачи воинских почестей, при глубоком молчании команды, четыре матроса понесли усопшего на доске к борту корвета, наклонили доску, и труп молодого матроса с легким всплеском исчез в прозрачной синеве океана.
Все разошлись в суровом безмолвии. У некоторых на глазах блестели слезы. Рябкин плакал, как малый ребенок.
А справа величественно закатывалось солнце, заливая багровым блеском далекий горизонт.
Непонятый сигнал
I
На «Орле» все господа офицеры носы повесили и только что спустились вниз, в кают-компанию, после парусного учения, словно в воду опущенные. Рассердился адмирал, начальник эскадры, собравшийся в Нагасаки, — известный в те далекие времена, о которых идет речь, как отчаянный «разноситель», вспыльчивый и необузданный человек, приходивший иногда в раздражение из—за пустяков.
Парусное ученье на всей эскадре прошло, казалось, хорошо, и адмирал был доволен, но под конец он вдруг насупился и стал мрачен. Густые брови адмирала сдвинулись.
А когда адмирал сердился и начинал, по выражению моряков, «штормовать», то даже самые храбрые, с воловьими нервами, люди испытывали некоторый страх и мысленно взывали ко господу богу: «Господи! За что это он рассердился? Успокой, боже, адмиральскую душу!»
Но несмотря, однако, что подобные моления искренне и горячо возносились решительно всеми офицерами на корвете, где «сидел», то есть имел свое местопребывание, адмирал, — начиная с капитана, пожилого, смелого моряка, не боявшегося океанских штормов, но трусившего, как огня, начальства, и кончая младшим механиком, — господь бог адмиральскую душу не смягчил.
Состояние духа адмирала, видимо, приближалось к «штормовому». Барометр быстро падал, предвещая бурю.
Быстрой и нервной походкой ходил адмирал взад и вперед по шканцам среди царившей вокруг тишины, наблюдаемый зорким и испуганным взглядом молодого вахтенного офицера, замершего на мостике. Адмирал ходил, словно негодующий зверь в клетке, весь вздрагивал, крякал, снимал с своей седой, остриженной под гребенку, головы фуражку и судорожно мял ее в своих толстых коротких пальцах, словно желая уничтожить эту белую фуражку.
«Начинается!» — подумал молодой офицер, не спуская очарованных глаз с адмирала, словно робкая антилопа перед страшным боа [8], готовым схватить ее.
Но адмирал не обращал ни малейшего внимания на трепетавшего в ожидании «разноса» мичмана и продолжал ходить. По временам с его уст вылетали отрывистые выражения самого морского характера. Он был по этой части настоящий виртуоз и такой, что боцмана и матросы только ухмылялись, дивясь его неистощимой фантазии.
Из себя адмирал был кряжистый, сутуловатый, небольшого роста, сильный и крепкий человек, лет за пятьдесят, пользовавшийся репутацией лихого и бесстрашного моряка. Лицо энергичное, резкое, крупное, загорелое, гладко выбритое, с колючими усами и с парой черных круглых глаз. Глаза эти, выпуклые, с кровяными жилками на белках, казалось, вот-вот сейчас выскочат и съедят вас живьем… По крайней мере такое впечатление производили они на моряков, когда адмирал начинал штормовать. Во время штиля глаза эти, напротив, были мягкие, добрые и приветливые.
Матросы благоразумно удалились на бак и оттуда посматривали, что будет дальше. И страшно и в то же время любопытно было глядеть на гневного адмирала. Матросы хоть и боялись его, но были расположены к нему. Он не порол, не дрался, заботился о людях и был главным образом лишь грозой офицеров.
— Гляди, ребята, — шепотом говорил молодой рыжий матросик Аким Чижов, попавший из деревни в «кругосветку», — как ен шапку-то дерет. Гляди, братец ты мой! — возвысил голос Аким.
— Тише, дурень, тише… Неравно услышит! — отвечал чуть слышно товарищ, толкая Чижова в бок.
— Нет… Да ты, Егорка, погляди… Ишь ведь…
Проходивший в эту самую минуту боцман съездил молодого матроса по шее и прервал дальнейшую речь Чижова.
Адмирал в это время на секунду остановился и крикнул вахтенному офицеру:
— Господ офицеров наверх!
— Есть! — ответил мичман и послал вахтенного унтер-офицера передать адмиральское приказание.
Через минуту офицеры стояли, выстроившись, на шканцах. Никто не знал причины адмиральского гнева. Все знали отлично лишь одно: что адмирал в штормовые минуты разносил вообще и без какой-либо непосредственной причины, и каждый более или менее испытывал гнетущее ощущение служебного страха, ожидая, что именно его разнесет адмирал, любивший-таки огорошивать подобными сюрпризами.
Капитан, весь красный, пыхтел и отдувался, нервно теребя длинные усы. Старший офицер недоумевающе поглядывал своими рачьими глазами и в сотый раз припоминал: мог ли адмирал заметить какую-нибудь неисправность на корвете или не мог?.. Казалось, на корвете все в исправности. Старый штурман был покорно-угрюм, а старший артиллерист весь замер в какой-то трепетной истоме, находя в этом состоянии, по-видимому, даже некоторое удовольствие и умея трепетать перед начальством с замечательной виртуозностью, полагая, что излишний трепет дела не испортит. Милейший первый лейтенант Андрей Петрович, рыхлый, пухлый и краснощекий, на которого каждый «разнос» адмирала производил действие сильного слабительного, совсем пал духом, и толстые его губы шептали «укрощающую» молитву. Он хвалился, что знает такую, и нередко прибегал к ее помощи, хотя и не всегда с успехом.
Нужно ли говорить о других? Даже сам неустрашимый мичман Сережкин, пописывавший про адмирала юмористические стишки и легкомысленно хваставший не раз в кают-компании, что он нисколько его не боится, — и тот слегка побледнел, хоть и старался сохранить хладнокровный и даже несколько небрежный вид, и на его юном лице ясно проглядывала мысль: «Попадет или нет?»
В эту минуту палуба корвета представляла собою картину недоумения и страха. И только два существа относились, казалось, безразлично к адмиральскому гневу: адмиральский камердинер Тимошка и корветский пес, из породы водолазов, Милордка. Он довольно комфортабельно устроился на припеке, у пушки, и, не обращая ни малейшего внимания на адмирала, лениво вылизывал свои мохнатые черные лапы.
II
Адмирал продолжал ходить и, вдруг остановившись перед офицерами, начал:
— Не раз уже я замечал… э… э… э… замечал, что вы, господа… э… э… э… относитесь к службе не с должною серьезностью.
Адмирал, вообще не отличавшийся ораторскими способностями, сделал длинную паузу и продолжал:
— Прошу помнить, что служба не шутка… э… э… э… Наши незабвенные учителя, Павел Степаныч Нахимов [9] и Владимир Алексеич Корнилов [10]… э… э… э… оставили нам завет, как нужно служить… служить… э… э… э… чтобы быть примерными офицерами… Многие из вас не являются к подъему флага… Срам-с!.. Многие не бывают у своих мачт, когда идет работа… Стыд! А я приказывал… Берегитесь!.. Шутить не буду! — вдруг крикнул адмирал. — Служба не шутка-с… Не шутка-с, господа!
Все «господа» внимательно слушали, приложив пальцы к козырькам фуражек. Пальцы артиллериста заметно дрожали.
Адмирал, видимо, затруднялся продолжать далее речь и сердито поводил на всех глазами. Как вдруг он весь побагровел и быстро наскочил на юного гардемарина, который почтительно слушал адмирала, но в его быстрых и лукавых глазах играла невольная улыбка. Эта улыбка, говорившая, казалось, что юнец понимает затруднительное положение оратора, и привела адмирала в бешенство.
— Вы что? — крикнул он, как оглашенный, наступая на гардемарина.
— Ничего-с, ваше превосходительство! — отвечал тот самым почтительным тоном.
— Под арест его!.. Я по-ка-жу… э… э… э… как служить… Я по-ка-жу! — гремел адмирал.
Адмирал смолк и, отойдя от гардемарина, снова заходил. Минуты через две он сказал, обращаясь к офицерам:
— Можете идти, господа, но прошу помнить, что я вам сказал. Служба не шутка-с!
Никто, разумеется, не сомневался в этом, и потому все довольно стремительно спустились в кают-компанию, продолжая недоумевать, что именно вызвало гнев адмирала.
«Гардемарина с улыбкой» посадили под арест, то есть в каюту.
— За что это вас? — спрашивали офицеры.
— Спросите у адмирала.
— Не улыбайтесь вперед! — пошутил кто-то.
Когда офицеры разошлись, адмирал крикнул:
— Флаг-офицера послать!
Перед адмиралом тотчас же предстал флаг-офицер. Адмирал любил этого бойкого и расторопного молодого человека и называл его исполнительным. И правда: лицо и немного подавшаяся вперед фигура флаг-офицера в эту минуту выражали готовность не только исполнить приказание, но даже и броситься немедленно в синеву моря, омывающего красивые берега Нагасаки.
— Сейчас поезжайте к командиру, у которого не поняли сигнала «менять марселя» и потому запоздали… Попросить его ко мне!
— Есть, ваше превосходительство!
И флаг-офицер было пошел.
— Да бегом, бегом-с! — крикнул вдогонку адмирал, и так крикнул, что молодой флаг-офицер, словно лошадь, получившая шенкеля [11], сделав весьма грациозный скачок, пробежал средним галопом к трапу, вскочил в шлюпку и отвалил от корвета.
Отъехав этак сажен тридцать от корвета, флаг-офицер несколько пришел в себя и вслед за тем подумал: «Куда же ехать? За каким капитаном? Где не поняли сигнала?»
Кроме адмирала, никто этого не видал — не заметил и флаг-офицер, наблюдавший за сигналами. Казалось, на всех судах эскадры вовремя подымались сигнальные ответы… В порыве служебного усердия флаг-офицер не спросил адмирала, какого он требует капитана. Да и как было спросить? Он должен был знать и без спроса!
«Господи! Куда ж я поеду? — терзался бедный исполнительный молодой человек. — Корветов на рейде целых четыре. Ну, была не была, еду к Анисову… Верно, его требует! У него, кажется, позже всех переменили марселя — и вообще адмирал его чаще всех разносит!» — решил вдруг флаг-офицер и направил вельбот на корвет «Проворный».
Петр Дмитриевич Анисов в это время благодушествовал в своей каюте. Толстый, с большим брюшком, он лежал без сюртука на диване и пил чай. Самые радужные мысли бродили в голове толстяка капитана. Через два дня его корвет отделится от эскадры и будет плавать отдельно. Можно будет отдохнуть без адмирала… А то эти постоянные разносы!..
Столь приятные думы были прерваны неожиданным появлением флаг-офицера.
Он поздоровался и испуганно проговорил:
— Адмирал очень сердится, Петр Дмитриевич.
— Что вы? За что?
— Да у вас поздно переменили марселя! — продолжал флаг-офицер.
— Ну, положим, чуть-чуть опоздали…
Флаг-офицер ожил.
— Вас требует адмирал! — проговорил он, довольный, что не ошибся и нашел именно того, кого требовал адмирал.
— Так и знал! — воскликнул Петр Дмитриевич с тоскою в голосе. — Так и знал… Минутой позже и сейчас — выговор… Это черт знает что такое! Что, как он? Очень того? Штормует? — допрашивал капитан.
— В самом разгаре…
— А фуражку топчет?
Адмирал, случалось, в минуту сильного возбуждения бросал фуражку на палубу и топтал ее ногами.
— Нет еще…
— Эй, Липкин! — крикнул Петр Дмитриевич.
Явился вестовой.
— Бегом наверх… Приготовить вельбот!..
Флаг-офицер вышел из каюты и, вернувшись на «Орел», доложил адмиралу, что приказание исполнено.
Несколько минут спустя громко стукнувшая дверь адмиральской каюты привела в радостное настроение вахтенного мичмана. Адмирал ушел к себе.
В это же время толстый капитан, мысленно призывая господа бога на помощь и тихонько крестясь, приставал на щегольском вельботе к адмиральскому корвету. Как-то осторожно ступая, шел он к адмиральской каюте.
— Что, как он? — спросил он мимоходом у вахтенного офицера.
Мичман безнадежно махнул головой и промолвил:
— Шторм двенадцать баллов, Петр Дмитрич!
Перед тем как войти к адмиралу, Петр Дмитриевич заглянул в его буфетную и спросил у адмиральского камердинера Тимошки:
— Где, братец, адмирал?..
— У себя-с.
— Очень он… того… сердит?
— Есть-таки! Да мне-то что! — с нахальной развязностью отвечал Тимошка.
Этот Тимошка, вольноотпущенный, из дворовых, наглый и дерзкий, с плутовским круглым лицом, покрытым веснушками, был продувная бестия. Знавший все привычки барина, ловкий и расторопный, он умел угождать ему и сделаться необходимым, не боялся грубить и немилосердно обирал своего барина, старого холостяка. Адмирал был большой хлебосол и не жалел денег. Он любил, чтобы у него все было отлично, и приглашал каждый день к обеду, кроме штабных и капитана, еще несколько человек офицеров и гардемаринов. Тимошка распоряжался всем хозяйством и, разумеется, охулки на руки не клал.
— Что, можно к нему войти? Как он?
— Известно, зверствует… Разве его не знаете? Вот сейчас графин кокнул с сердцов! — проговорил Тимошка.
Петр Дмитриевич струсил. В голове его моментально пролетела мысль: «Ну, будет, значит, форменный разнос!»
— Доложи! — как-то оборвал толстяк.
И, внезапно почувствовав прилив отваги, словно бы он шел на абордаж с сильнейшим неприятелем, Петр Дмитриевич приосанился и, по возвращении Тимошки, решительно и храбро вошел в адмиральскую каюту.
Адмирал ходил. Петр Дмитриевич поклонился. Адмирал остановился, пожал руку капитану и смотрел недоумевающе своими круглыми глазами на капитана.
Оба несколько мгновений молчали. Адмирал продолжал безмолвно смотреть на Петра Дмитриевича. Тот чувствовал легкое обмирание и усиленно сопел.
— Честь имею явиться, ваше превосходительство!
— Зачем?
— Изволили требовать, ваше превосходительство.
— Нет-с, не требовал!
Петр Дмитриевич отвесил поклон, пожал протянутую адмиралом руку и исчез из каюты со скоростью десяти узлов.
— Эй, Тимошка! — крикнул адмирал.
Никто не отзывался.
— Тимошка!.. Заснул, каналья?..
— Ну, чего вам? — проговорил, входя, Тимошка.
— Ивана Петровича послать!
Явился трепещущий флаг-офицер.
— За кем я вас посылал?
Молчание.
— Глухи вы? За кем я вас посылал?
Флаг-офицер безмолвствовал.
— Я вас посылал за Наумовым. Какого же черта вы мне Анисова подали, а?..
— Я, ваше превосходительство, думал…
Едва только молодой человек произнес последнее слово, как адмирал, начинавший было успокаиваться, внезапно побагровел.
— Думали? А кто просил вас думать?
Флаг-офицер молчал. Вся его поза выражала покорное сознание вины.
— Он думал?! Надо исполнять приказания, а не думать-с! А то: думал! Я вообще заметил… э… э… э… что вы последнее время стали думать…
— Я, ваше пре-вос-хо-ди-тельство, ста-ра-юсь не думать! — коснеющим языком лепетал флаг-офицер.
— Стараетесь, а все-таки думаете, — смягчился адмирал. — Оттого и делаете глупости… Размышления там разные годятся на берегу, а не в море… Прошу помнить-с… Ступайте и не думайте!..
— Прикажете съездить за Наумовым?
— Не надо! — резко оборвал адмирал.
Флаг-офицер улепетнул из каюты и, придя в кают-компанию, объявил, что шторм проходит. Адмирал его разнес совсем легко.
— Советовал не думать? — иронически заметил кто-то из молодежи.
III
Чудный вечер сменил жаркий день и принес с собою прохладу. Адмирал вышел из каюты и стал гулять по палубе. Он мало-помалу стихал.
Матросы толпились на баке и лясничали. В одной из кучек, примостившейся у орудия, старый матрос Никулин рассказывал о том, какие бывают начальники в гневе.
— У всякого, братец ты мой, свой карактер… Всякий пылит по-своему. Наш осерчает, то ровно ведьмедь… ломит все… ну и ревет, словно его под микитки рогатиной шаркнули… Однако отходчистый, и нет того, чтобы драться…
— Это ты правильно, отходчистый… Загорится, запылит, а потом и забыл!.. — заметил кто-то из слушателей.
— Другой сердце свое больше на матросских зубах срывает, — философствовал на эту тему Никулин, — как отжарит с десяток морд, пыл-то и пройдет… Знавал я такого начальника… Уж и лют же был на зубы, ах лют, а вобче ничего себе… адмирал был форменный… А то, братцы, был у нас на корабле капитаном Севрюгин… Нонче он, сказывали, в отставку ушел… Жаловаться нечего, командир был добрый, порол с большим рассудком, а опять же свою привычку имел: в сердцах плевался. Ты, примерно, на руле стоишь, и уж не зевай, братец ты мой, ежели Севрюгин сердит. Рыскнул на четь румба, а уж он и плюнул сверху, да так и норовит в самую морду попасть, так и норовит… И наловчился же попадать…
— Ишь ты…
— Сам этто плюнет, да и кричит: «Что, мол, такой-сякой, попал?» — «Точно так, вашескобродие!» — отвечаешь и оботрешься. Исплюется — и ничего… Сердце и отойдет.
— А страшной наш-то… у-у-у, страшной! — замечает Аким Чижов, тот самый молодой матросик, простодушный и впечатлительный, которому попало от боцмана за слишком живое выражение своего мнения насчет адмирала.
— Это кто?
— Да адмирал.
— Деревня ты, Акимка. Ты настоящих страшных еще и не видал… Наш-то добер с матросом.
— Я, братцы, на его даве глядел… Страшной! Этто как озлился… Такой глазастый… буркулы заходили, как у волка. Сам весь дрожит… А ус евойный так и ощетинился… Глядеть было страшно… Кула…
Вдруг голос Акима осекся на полуслове, и сам он стоит ни жив ни мертв. Перед самым его носом, в вечерней темноте, обрисовалась плотная фигура адмирала в белом кителе.
Невообразимый страх обуял молодого матросика. Мурашки забегали по спине. Он инстинктивно присел, пробрался за пушку и, ровно мышонок, что прячется от кота, проскочил к люку, спустился в палубу и заметался там, испуганный и бледный.
— Ты это что, Акимка? — спросил его матрос из кантонистов Петров, известный на корвете зубоскал, любивший поднимать на смех и морочить молодых матросов.
Аким рассказал и испуганно спросил:
— Что теперь мне будет?
Петров мрачно покачал головой и с самым серьезным видом ответил:
— А будет тебе то, что адмирал сейчас крикнет: «Кинуть, мол, грубияна Акимку Чижова за борт!» Вот что будет… Эх, жалко мне тебя, Акимка!
Аким совсем замер в страхе. Он и верил и не верил словам Петрова. Ему было жутко.
«Что будет с ним? Ведь что он сделал, о господи!» — думал молодой матрос, считавший себя в эту минуту великим преступником.
И, охваченный паническим страхом, он бросился к корветскому образу и припал ничком в горячей молитве.
А в ушах его раздавался страшный голос: «Кинуть Акимку Чижова за борт!»
Но прошло несколько минут, а адмирал не приказывал кидать Акимку за борт и не отдавал насчет его никакого приказания, хоть и слышал мнение матроса о себе. Совсем уже стихший, он сказал капитану, чтобы освободили из-под ареста наказанного гардемарина. Затем в раздумье прошел в свою каюту, приказал Тимошке подавать чай, достать кексов и варенья и пригласить к чаю только что освобожденного из-под ареста «гардемарина с улыбкой».
Матросы скоро успокоили «деревенскую простоту» — Акимку, поверившего «кантонищине». Страх простодушного матросика прошел совсем, когда он убедился, что наказывать его не намерены. И с той поры Аким почувствовал расположение к адмиралу и находил, что он «добер», хоть и страшен в гневе.
1880
Вдали от берегов
I
Порто-Гранде, довольно скверный португальский городок и складочная угольная станция, находится на Сан-Винценте, одном из группы оголенных, скалистых островов Зеленого Мыса, которые лежат в области пассата, на большом морском тракте судов, идущих из Европы в Бразилию и Аргентину, на мыс Доброй Надежды и в Австралию. Прежде, до постройки Суэцкого канала, Порто-Гранде служил перепутьем и для кораблей, ходивших в Индию, Китай и Японию.
В этот-то маленький городок, приютившийся на песке у подножия голых гор, в глубине бухты, и сверкавший под лучами палящего тропического солнца своими белыми, напоминающими хохлацкие мазанки, домишками, — городок, населенный неграми-христианами да несколькими десятками разноплеменных европейцев, отечество которых там, где нажива, — был нашей последней стоянкой перед длинным и долгим переходом в несколько тысяч миль.
Мы пополнили наш восьмидневный запас угля, налили цистерны привезенной с соседнего острова водой (порто-грандская была скверная), чтоб по возможности меньше пить в плавании опресненной океанской воды, очень безвкусной, и набрали всякой живности столько, сколько возможно было взять, не загромождая очень палубы.
Накануне ухода палуба нашего щегольского клипера, к ужасу старшего офицера, представляла собою необычайный вид, несколько напоминавший деревню и сильно оскорблявший его «морской глаз».
Пять рослых крупных быков, только что поднятых на талях, один за другим, с качавшейся у борта шаланды и водворенных в стойле, устроенном на баке, очевидно еще не успели прийти в себя после воздушного подъема и продолжали выражать свое неудовольствие беспокойным мычанием, несмотря на ласковые шутки и подачки матросов, которые уже успели дать клички всем пяти животным. Тут же, в загородке, топтались бараны, беспечно пощипывая припасенную для них траву. Немного подальше, в сооруженном нашим стариком плотником ящике-хлеве, хрюкали свиньи, а в больших, принайтовленных у ростр клетках гоготали, крякали и кудахтали гуси, утки и куры. Повсюду были развешаны овощи, зелень и связки недозрелых бананов, около которых вертелась «Сонька», маленькая забавная мартышка, купленная на Мадере одним из мичманов и с первого же дня сделавшаяся любимицей матросов.
Этот деревенский вид клипера возмущал старшего офицера. Он хмурил брови, ворчал, что «загадили» судно, и приказывал боцману смотреть, чтобы чаще вычищали палубу и чтобы везде были подстилки.
Все остальные офицеры, не чувствовавшие ни малейшего желания ради военно-морского великолепия клипера пробавляться на длинном переходе одними консервами да солониной, напротив, оглядывали палубу веселыми взглядами. Да и сам старший офицер, в качестве обязательного ревнителя умопомрачающей чистоты, кажется, больше кокетничал, преувеличивая свое негодование, тем более что и он любил-таки покушать.
Но зато какое удовольствие испытывали матросы! Присутствие скотины и птицы, напомнивших здесь, далеко от родины, деревенскую обстановку и запах родного гнезда, действует оживляющим образом. Почти в каждом матросе, несмотря даже на долгую службу, пробуждается мужик, не забывший деревни и чувствующий над собой власть земли. Четыре матроса, назначенные ходить, по выражению боцмана, за «пассажирами», с видимой, чисто крестьянской любовью принялись за это дело, которое было гораздо ближе их душе, чем чуждая русскому крестьянину морская служба.
И на баке среди матросов говор, шутки и смех.
— А ты не ори, Васька! Нельзя, брат… военное судно! — смеется матрос, подавая белому, с темными метинами, быку размоченный в воде черный сухарь.
Испуганное животное продолжает мычать в унисон с другими.
— Черного хлебушка-то у вас и звания нет… А ты попробуй, скусно! Нечего горло драть…
— Тоже скотина, а небось понимает, зачем его к нам привезли! — замечает кто-то.
— Чует, что на убой!
— То-то он и кричит. По месту по своему родному тоскует! — уверенно произнес, выдвигаясь из толпы к стойлу, низенький рябоватый матрос, недавний вологодский мужик.
— В окиян, Арапка, пойдем! — шутит подбежавший вестовой, обращаясь к черному, самому большому быку. — Поди укачает?
— Привыкнет.
— А и здоровые же, братцы, быки! — восторженно продолжает рябоватый матрос-вологжанин. — Арапку бы в соху. Важный работник! — прибавляет он, любуясь своим знающим мужицким глазом красивым животным, которое мрачно озирало незнакомых людей и по временам яростно помахивало головой с большими загнутыми рогами, словно негодуя на веревку, которая держала его на привязи.
— Сердитый… Смотри, братцы, пырнет! — смеются матросы.
У бакового орудия, среди небольшой кучки матросов, стоит матросский любимец и гость, порто-грандский негр Паоло. Он улыбается, скаля зубы ослепительной белизны, и что-то говорит, коверкая английские слова вперемешку с португальскими и ласково глядя своими большими черными навыкате глазами. Паоло приехал из города на утлой лодчонке, чтобы проститься и еще раз поблагодарить своих нежданно обретенных друзей за любовь, ласку и гостеприимство. Десяток апельсинов и связка бананов были его прощальным гостинцем.
Этот Паоло, юноша лет семнадцати, с необыкновенно кротким выражением черного лоснящегося лица, в день нашего прихода в Порто-Гранде явился на клипер в самых невозможных лохмотьях и вместе с другими любопытными неграми любовался щегольским убранством клипера, восхищаясь ярко сверкавшею на солнце медью, орудиями, машиной. Он с первого же раза понравился матросам своим добродушным видом и детски-кроткой улыбкой и возбудил к себе участие своим тряпьем. Матросы порешили, что «Павла» горемычный бедняк (он и в самом деле был таким), и, когда просвистали обедать, одна из артелей очистила ему место у бака с жирными матросскими щами. Его пригласили знаками сесть в артель, дали ему ложку, и кто-то сказал:
— Машир, брат!
Удивленный этим приглашением, негр сперва стеснялся, но вскоре стал вместе с матросами хлебать щи из бака с видимым наслаждением проголодавшегося человека. Когда щи были опростаны и принялись за мясное крошево, негр опять было постеснялся есть, и матросы снова его заставили и весело глядели, как он уписывал за обе щеки и мясо, а затем и кашу.
— Ешь, Павла, на здоровье. Ешь с богом! — любезно приговаривали матросы, угощая гостя. — Харч, братец, бон. Понимаешь? Гут…
— Небось понял. Ишь ухмыляется, черномазый… сыт! Тоже, братцы, и здесь беднота у них.
— Хлебушка не родится… Камень!
— И жрут же они, сказывают, всякую нечисть… Ни крысой, ни собачиной, ничем не брезгают… Одно слово: арапы!
— А будут какие: нехристи? — полюбопытствовал молодой матросик.
— Хрещеные… Польской веры.
— Ишь ты! — почему-то удивился матросик.
После обеда один из матросов принес старенькую рубашку и дал ее негру. Пример подействовал заразительно, и скоро Паоло подарили целый гардероб. Один отдал штаны, другой портянки, третий старые, выслужившие уже срок башмаки, четвертый — еще рубаху…
Паоло совсем ошалел.
— Бери, Павла! Оденься, брат… Твоя одежа… того! — смеялись матросы.
Надо было видеть радость молодого негра, когда он разделся и, бросив свое отчаянное тряпье за борт, одел ситцевую рубашку, штаны, башмаки и старую матросскую фуражку и взглянул на себя в зеркальце, принесенное кем-то из матросов. Он чуть не прыгал от восторга и выражал свою благодарность и словами и красноречивыми пантомимами.
— Не за что, не за что, Павла! — ласково говорили матросы и, улыбаясь, хлопали негра по спине.
— Одели дьявола?.. — проговорил, останавливаясь на ходу, старый боцман. — Небось рад, чертова рожа.
Лицо боцмана на вид сурово; негр трусит и, словно виноватый, показывает на матросов: «Дескать, это они подарили».
— Бери, идол! — продолжает боцман и, в свою очередь, кладет ему на ладонь махорки. — Покури российского табачку!
С этого дня Паоло каждое утро являлся на клипер и проводил на нем целые дни; его всегда звали обедать, поили чаем, и вечером он уезжал, увозя с собой сухари, которыми наделяли его матросы. Он плел им корзины из какой-то травы, примостившись у баковой пушки, помогал грузить уголь и после обеда, отдохнув вместе с командой час-другой, плясал и пел свои песни, монотонные и заунывные, напоминающие наши, — одним словом, старался как-нибудь да отблагодарить за ласку и гостеприимство. И в течение пятидневной нашей стоянки в Порто-Гранде матросы так привыкли к Паоло, что очень удивились, не видя его на клипере накануне ухода. Некоторые даже подумали: «Не стянул ли негр чего-нибудь?»
— Вот он, Павла, едет! — весело крикнул кто-то, увидав под вечер лодчонку негра. — Ишь… гостинец везет.
Против обыкновения, Паоло пробыл на клипере час и стал собираться. Перед этим он быстро и оживленно что-то говорил на своем гортанном языке и с тревожным видом указывал рукой на берег.
— Домой, Павла, торопишься? Цу хаус? — спрашивает марсовой Иванов, видимо очень довольный, что умеет говорить «по-ихнему».
— Падре… падре… Но гуд… — торопливо поясняет Паоло.
— Неладно что-то у Павлы, видно, дома. А какая-такая «падра»?.. Пойми, что он лопочет?
Подошедший фельдшер, пользовавшийся у матросов репутацией человека, умеющего говорить «по-всякому»; и действительно знавший несколько десятков английских, французских и немецких слов, которыми действовал с уверенностью и необычайной отвагой, после объяснения с негром и, по-видимому, не вполне ясного для обоих, авторитетно говорит:
— Отец у него заболел. Лежит в лихорадке! — прибавляет уже он свое собственное соображение и уходит.
Между тем Паоло снова горячо заговорил на своем языке и, прикладывая руку к сердцу, показывал другой на свое платье.
Его большие черные глаза были влажны от слез.
— Благодарит, значит…
— Ну, прощай, Павла!
— Дай тебе бог!
— Будь здоров, Павла!
И матросы приветно жали ему руку.
Паоло обошел чуть ли не всех бывших наверху матросов, прощался, что-то говорил, видимо взволнованный, и, быстро спустившись по черному трапу к своей шлюпчонке, отвязал ее, прыгнул, поставил опытной, привычной рукой парусок и понесся к городу.
— Адью, адью, Павла! — кричали ему с бака.
Павла часто кивал своей черной как смоль, курчавой головой и махал шапкой, подаренной матросами.
— Душевный парень! — произнес кто-то.
И все хвалили Павлу и смотрели, как маленькая его лодчонка, совсем накренившись, быстро удалялась от клипера, ныряя на океанской зыби.
Ранним, чудным утром следующего дня, когда солнце только что выплыло над горизонтом, заливая его ослепительным блеском золотистого огня, мы снялись с якоря и, поставив все паруса, с мягким, веявшим прохладой пассатом вышли из Порто-Грандской бухты на широкий простор океана, чтобы идти в долгое плавание: прямо в Зондский пролив, на остров Яву, не заходя ни в Рио-Жанейро, ни на мыс Доброй Надежды, если только на клипере будет все благополучно.
Через несколько времени остров Сан-Винцент окутался туманной дымкой, затем обратился в серое бесформенное пятно и, наконец, совсем скрылся от наших глаз, и с тех пор уж долго-долго не пришлось нам видеть берега.
II
После чудного плавания в тропиках с благодатным северо-восточным пассатом, который нес клипер под всеми парусами узлов по семи-восьми в час, мы встретили у экватора проливные тропические дожди и пробежали штилевую экваториальную полосу, страшную для парусных судов, под парами.
Переход через экватор был отпразднован, согласно старинному морскому обычаю, традиционным обливанием тех, кто в первый раз попадал в нолевую широту. Облиты были, впрочем, только матросы, за исключением десяти человек, уже ходивших в «кругосветку» и, так сказать, «крещеных». Капитан и офицеры откупились от удовольствия быть охваченными широкой струей пожарного брандспойта бочкой рома, потребованной для всей команды стариком Нептуном.
В вывороченном тулупе, с длинной седой бородой из белой пакли, с картонной короной на голове и с трезубцем в руке, владыка морей, в лице бойкого матроса из кантонистов и лучшего на клипере «царя Максимилиана», важно восседал на пушечном станке, представлявшем колесницу, везомый четырьмя испачканными черной краской матросами. Предполагалось, что это морские кони. Несколько полуголых матросов, раскрашенных суриком и охрой, с бумажными венками на головах и в туниках из простынь, составлявших свиту, изображали собой, вероятно, наяд, тритонов и нереид, а один матрос, загримированный бабой, надо полагать, намекал на Амфитриду.
Колесница с бака подъехала на шканцы и остановилась против мостика, на котором стояли капитан и офицеры. Тогда Нептун сошел с пушечного станка, театрально отставил вперед босую ногу и, стукнув трезубцем, спросил:
— Какой державы вы люди? Откуда и куда идете и много ли вас на судне офицеров и команды?
Капитан отвечал:
— Мы русской державы люди. Идем из Кронштадта на Дальний Восток. Нас восемнадцать офицеров и сто шестьдесят человек команды.
Нептун несколько струсил играть свою роль перед такими зрителями его сценического искусства. Это ведь не то, что представлять на баке перед своей публикой. И он продолжал скороговоркой, словно бы стараясь поскорей ответить вытверженный урок:
— Российские, значит, люди. Наслышаны и мы о них в подводном нашем царстве и готовы им помочь. Угодно ли вам, господин капитан российского корабля, попутных ветров? Ответствуйте!
Разумеется, капитан пожелал попутных ветров.
Тогда Нептун предложил на выбор: крещение водой или выкуп бочкой рома.
— Как будет угодно, — прибавил он.
— Разве Нептун пьет? — спросил, улыбаясь, капитан.
Эта реплика не входила в программу представления. Актер на мгновение опешил и, забыв свое достоинство владыки морей, по-матросски отвечал:
— Точно так, вашескобродие! Выпивает по малости!
Сделка состоялась к полному удовольствию и актеров и зрителей. И Нептун, снова входя в роль, произнес:
— Жалую вас, славные российские люди, попутным ветром и благополучным плаванием. Быть по сему. Ура!
Крик этот был подхвачен всей командой.
И, вновь ударив трезубцем по палубе, Нептун сел на колесницу. Процессия отправилась на бак. Затем, при общем смехе, началось окачивание из брандспойта, после чего вынесена была ендова рома, и все матросы получили за счет капитана по чарке.
Вечером, когда спал томительный зной и далекая высь почерневшего бархатного неба зажглась мириадами ярких звезд, запел хор песенников. И песни, то заунывные, то веселые, разносились среди штилевшего океана, который лениво шевелился своей громадной зыбью, раскачивая клипер.
Дня через два после перехода через экватор мы встретили юго-восточный пассат, поставили паруса, прошли южные тропики и спускались все ниже и ниже к югу, чтобы воспользоваться господствующим в южных широтах ветром и с этим «попутняком» подняться в Индийский океан.
Пришлось сказать «прости» безмятежному плаванию в тропиках Атлантического океана, снять летнее платье и облачиться в сукно. Относительная близость южного полюса давала себя знать холодным резким ветром и изредка встречавшимися льдинами. Снова начались беспокойные вахты, снова приходилось быть всегда «начеку». Часто налетали грозные шквалы, ветер свежел до степени шторма, и громадные валы разбивались о бока нашего маленького клипера, рассыпаясь серебристой пылью своих седых верхушек.
Наконец мы вошли в Индийский океан.
Вступили мы в этот грозный океан ураганов, наводящий трепет на самых закаленных и поседевших в море моряков и поглощающий самое большое количество жертв, не без некоторой торжественности. Суеверные моряки-купцы, вступая в этот коварный океан, бросают, как говорят, золотые монеты для его умилостивления, а мы отслужили молебен.
Изнывавший от безделья и большую часть времени спавший в своей маленькой душной каютке, отец Дамаскин, иеромонах с Коневского монастыря, облачился в епитрахиль и в палубе, перед образом, едва стоя на ногах вследствие изрядной качки, стремительно бросавшей клипер, бледный, с вспухшим от спанья лицом, торопливо молил создателя о благополучном плавании.
В палубе плотной стеной стояли матросы, не бывшие на вахте, расставив врозь свои крепкие, цепкие ноги и балансируя на них. Распоряжение капитана о молебне, видимо, отвечало их душевной потребности. Лица их были сосредоточенны и серьезны. Засмоленные, жилистые и мозольные руки то и дело поднимались и, складываясь в персты, осеняли себя истовым крестным знамением.
А из-за приподнятого машинного люка слышно было, как наверху «ревело». Индийский океан с первого же дня встретил нас не любезно: очень свежим порывистым ветром, который развел большое волнение.
Молебен окончен. Матросы благоговейно подходили к кресту и отходили с видом удовлетворения. Образной помог батюшке снять облачение, погасил лампаду и убрал евангелие и крест. Все разошлись и принялись за свои обычные дела, а отец Дамаскин опять скрылся в свою каюту.
— Спишь — меньше грешишь! — постоянно говорил он.
— Заболеете, батя! — пугали его, бывало, мичманы.
— Все в руце божией! — неизменно отвечал своим низким баском отец Дамаскин.
— Так-то так, а все проветриваться надо. Спросите-ка у доктора.
— Пустое! — упорствовал батюшка и, не зная, что с собой делать, заваливался спать, выползая из своей каюты и появляясь в кают-компании только во время чая, обеда и ужина.
В кают-компании батюшка постоянно молчал. Изредка лишь, после усиленного угощения мичманов, он оживлялся и рассказывал пикантные иногда подробности о своей монастырской жизни.
Отчаянная скука одолевала бедного отца Дамаскина. Мещанин по происхождению, выучившийся грамоте в келье монастыря, он, разумеется, не читал «светских» книг, бывших у нас в библиотеке, и ни в одном из посещенных нами портов не съезжал на берег, находя, что и «не любопытно», и что в портах один лишь «соблазн дьявола». Красоты тропической природы — да, по-видимому, и всякой — были ему чужды, и лучшим местом на свете он считал свой Коневец. Там он «жил». Там, по его словам, он трудился, занимаясь огородами, а здесь он тосковал среди чуждой обстановки, без всякого дела. Он был охотник выпить, но в обществе офицеров стеснялся и редко-редко сдавался на предложение чокнуться стаканом красного вина, но, кажется, изрядно «заливал» у себя, по-фельдфебельски, в каюте[12].
III
Вот уже более месяца, как мы ушли из Порто-Гранде и плывем, ни разу не видавши даже издали берегов, а плыть еще далеко! Не менее трех недель, если только не будет никаких неприятных случайностей (вроде противных ветров или штормов), столь обычных на море. Еще не скоро увидим мы берег, всеми столь желанный берег.
И за все это время ничего, кроме неба да океана, то нежных и ласковых, то мрачных и грозных, которые составляют один и тот же фон картины, окаймленной со всех сторон далеким горизонтом. Подчас чувствуется гнетущее одиночество среди этой пустоты океана. Изредка лишь увидишь на широкой водяной дороге белеющий парус встречного или попутного судна, мимо пронесется «купец», подняв при встрече свой флаг, и снова пусто кругом. Только высоко реют в воздухе вестники далекой земли — альбатросы и глупыши, да порой низко летают над волнами, словно скользя по ним, маленькие штормовки, предсказывающие, по словам моряков, бурю.
В центре видимого горизонта несется по Индийскому океану наш стройный, трехмачтовый клипер «Отважный» под гротом, фоком и марселями в два рифа, узлов по десяти — по одиннадцати в час, легко убегая от попутной волны. Слегка накренившись, покачиваясь и вздрагивая от быстрого хода, он легко и свободно вскакивает на волну, разрезая ее седую верхушку своим острым носом. Брызги воды попадают на бак, обдавая водяной пылью двух одетых в кожаны, с зюйдвестками на головах, матросов, которые смотрят вперед, обязанные тотчас же крикнуть, если что-либо заметят. Ветер их продувает, и вода пробирается за спины. Они добросовестно смотрят вперед и, нетерпеливо ожидая смены, перекидываются разговором насчет проклятой службы.
С высоты бирюзового неба, по которому бегут перистые облака, смотрит яркое солнце, прячется по временам за узорчатые белоснежные тучки и снова показывается, заливая блеском холмистую водяную поверхность. Барометр стоит хорошо, и капитан реже выходит наверх. Ветер дует ровный и свежий и радует моряков. Суточное плавание, значит, будет хорошее и подвинет нас вперед миль на двести пятьдесят.
Тридцать пять дней в море! Это начинает уже надоедать русским людям, не привыкшим к морю и сделавшимися моряками только потому, что малы ростом[13]. Среди матросов заметно нетерпение. Всем очертел длинный переход и хочется, как моряки говорят, «освежиться» — выпить и вообще погулять на берегу. И они все чаще и чаще справляются: долго ли еще идти. Дни тянутся теперь с томительным однообразием беспокойных вахт, уборки судна и не всегда покойного отдыха. Того и жди, что в палубу, словно полоумный, сбежит боцман и разбудит своим бешеным окриком: «Пошел все наверх четвертый риф брать!», прибавляя, разумеется, к этому призыву артистическую ругань.
Не поется по вечерам, как прежде, песен. Не говорится сказок за ночными вахтами, и не слышно обычных оживленных разговоров на баке. Матросы, видимо, «заскучили» и как будто апатичнее делают свое трудное и опасное матросское дело. Боцмана и унтер-офицеры от скуки словно озверели: она чаще и с большим раздражением ругаются и, несмотря на запрет капитана, чаще дерутся, придираясь к пустякам.
Берега всем хочется, берега!
«Пассажиров», за которыми с такой любовью ухаживали матросы, нет ни одного. Они все съедены. Палуба снова своей чистотой и своим великолепием ласкает взор старшего офицера, но зато в кают-компании сидят на консервах и часто за обедом ворчат на повара. Матросы давно не лакомились «свежинкой». Последнего быка Ваську убили недели две тому назад, и они едят щи из консервованного мяса, из солонины и горох.
Всех, решительно всех, берет одурь от этого долгого пребывания в море, без новых впечатлений, в одном и том же обществе, с одним и тем же однообразием судовой жизни, и офицеров, пожалуй, еще сильней, чем матросов.
Капитан, обреченный, ради престижа власти, суровыми правилами дисциплины на постоянное одиночество у себя на корабле, еще более чувствует его тягость на длинном переходе. Наверху он говорит с офицерами лишь по службе, и только за своим обедом, к которому обыкновенно, каждый день по очереди, приглашаются два офицера, он может забыть, что он неограниченный властелин судна, и вести неслужебные разговоры. Остальное время он один, постоянно один.
Обыкновенно спокойный и сдержанный, никогда не прибегавший к телесным наказаниям и ни разу не осквернивший своих рук зуботычинами (такие стыдливые капитаны появились в шестидесятых годах), — он стал нервнее и нетерпеливее и на днях даже был виновником безобразной сцены.
Это случилось во время налетевшего шквала.
Стоявший на вахте лейтенант Чебыкин, высокий, довольно красивый молодой человек, карьерист, любивший лебезить пред начальством, злой с матросами, которых он таки частенько бил, потихоньку от товарищей, спрятавшись за мачту (в те времена открыто бить стыдились), — только что скомандовал: «Марса-фалы отдать!»
Но матрос, стоявший у грот-марса-фала, хоть и слышал крикливый тенорок «пилы» (так звали матросы нелюбимого офицера), но замешкался и не мог отвязать снасти от кнехта. У него, как говорят моряки, «заело».
Шквал между тем приближался.
Капитан, стоявший на мостике, вышел из себя и крикнул:
— На марса-фале! Отдавай!.. Ты что же… Да ударьте этого осла, Николай Петрович!
В эту минуту марса-фал уже был отдан.
Но офицер не замедлил исполнить в точности сорвавшееся в пылу приказание. Он налетел на испуганного матроса и с ожесточением ударил его по зубам так, что полилась кровь, и, сияющий, возвратился на мостик.
Капитан уже пришел в себя и бросил взгляд, полный презрения, на своего исполнительного подчиненного. Видимо взволнованный, он спустился к себе в каюту. С тех пор он стал еще холоднее с Чебыкиным и несколько месяцев спустя, когда мы встретились с эскадрой, Чебыкина перевели на другое судно.
В кают-компании нет прежнего оживления. Все уже успели порядочно надоесть друг другу. Постоянное общение с одними и теми же лицами, в тесной общей каюте, отравляет существование. Каждый знает вдоль к поперек другого, знает, у кого осталась в России хорошенькая жена, у кого невеста, кто за кем ухаживает в Кронштадте, знает, что старшего артиллериста, безобидного, маленького, лысого человечка, бьет супруга, а у механика жена удерживает все содержание, оставляя мужу самые пустяки, знает, кто сколько должен портному Задлеру, еврею, приезжавшему проводить своих кредиторов в день ухода клипера в плаванье, кто копит деньги и потихоньку у себя в каюте ест — чтоб не угощать других — сыр и пьет портер.
Недостатки и слабости каждого, терпимые в обыкновенное время, теперь преувеличиваются и злобно ставятся на счет. Является желание покопаться в душе и сказать что-нибудь обидное. Чувствуется какое-то глухое взаимное раздражение, и необходимы большой такт и умение со стороны старшего офицера, чтоб уметь вовремя прекращать пикировки, грозящие обратиться в ссоры, которыми все чаще и чаще обмениваются между собою прежде дружно жившие люди. Книги все прочитаны. Разговоры и воспоминания все исчерпаны. Уйти друг от друга некуда. Один, другой спасаются от одуряющей скуки, занимаясь языками. Старший офицер выдумывает себе дело, донимая матросов чистотой. Остальные решительно не знают, как убить время, свободное от вахт и служебных занятий.
Полдень.
Вестовые накрывают на стол. Офицеры собираются к обеду и слушают лениво, как один из офицеров играет, несмотря на качку, «Травиату» на маленьком принайтовленном пианино.
— Бросьте, надоело! — говорит кто-то.
В это время торопливо входит старший штурман Аркадий Вадимыч, только что ловивший полдень, и садится заканчивать вычисления. Он из так называемых «молодых» штурманов. Это не сухой, сморщенный, невзрачный и угрюмый пожилой капитан, какими обыкновенно бывают старшие штурмана, а бойкий, франтоватый поручик лет за тридцать, окончивший офицерские классы, щеголявший изысканностью манер и носивший на мизинце кольцо с бирюзой. Он не только не питает традиционной штурманской ненависти к флотским, но сам смеется над старыми штурманами, мечтает перейти во флот и старается быть в дружбе со всеми в кают-компании.
— Ну что, как, где мы, Аркадий Вадимыч? — спрашивают его со всех сторон.
Он говорит широту и долготу, обращаясь к старшему офицеру.
— А миль сколько?
— Двести шестьдесят. Отличное плавание…
— А скоро ли придем в Батавию? — задают вопросы мичмана.
— Потерпите, господа, потерпите… Скоро муссон получим, а там уж недолго!.. — торопливо и любезно отвечает Аркадий Вадимыч и бежит к капитану, оправляя пред входом к нему в каюту сюртучок и принимая деловой серьезный вид.
— А ведь подлиза! — шепчет один мичман угрюмому долговязому гардемарину, только что отдолбившему сто английских слов.
— Не без того… вроде Чебыкина…
— Он нынче опять своего вестового Ворсуньку[14] отдул, Чебыкин-то!
— Скотина! Дантист! Он только клипер позорит! — негодует угрюмый гардемарин, и его бледно-зеленое лицо вспыхивает краской.
Чебыкин чувствует, что говорят про него, но делает вид, что не замечает, и дает себе слово сегодня же «разнести» угрюмого гардемарина, который у него под вахтой. Он его не любил, а теперь ненавидит.
Все садятся за стол. На одном конце стола, «на юте», старший офицер, по бокам его доктор и первый лейтенант, далее старший штурман, артиллерист, батюшка, механик, вахтенные начальники, а на другом конце, «на баке», мичмана и гардемарины.
Вестовые разносят тарелки с супом, пока за столом каждый пьет по рюмке водки. Качка хоть и порядочная, но можно есть, не держа тарелок в руках, и крепкие графины с красным вином устойчиво стоят на столе. Все едят в молчании и словно бы чем-то недовольны. Два Аякса — два юнца гардемарина, еще недавно закадычные друзья, сидевшие всегда рядом, теперь сидят врозь и стараются не встречаться взглядами. Они на днях поссорились из-за пустяков и не говорят. Каждый считает бывшего друга беспримерным эгоистом, недостойным бывшей дружбы, но все-таки никому не жалуется, считая жалобы недостойным себя делом. Курчавый круглолицый мичман Сережкин, веселый малый, всегда жизнерадостный, несосветимый враль и болтун, и тот присмирел, чувствуя, что его невозможное вранье не будет, как прежде, встречено веселым хохотом. Однако он не воздерживается и, окончивши суп, громко обращается к соседу:
— Это что наш переход… пустяки… А вот мне дядя рассказывал… про свой переход… вот так переход!.. Сто шестьдесят пять дней шел, никуда не заходя… Ей-богу… Так половину команды пришлось за борт выбросить… Все от цинги…
Никто даже не улыбается, и Сережкин смолкает, сконфуженный не своим враньем, а общим невниманием.
Доктор было начал рассказывать об Японии, в которой он был три года тому назад, но никто не подавал реплики.
«Слышали, слышали!» — как будто говорили все лица.
Но он все-таки продолжает, пока кто-то не говорит:
— Нет ли у вас чего-либо поновее, доктор?.. Про Японию мы давно слышали…
Доктор обиженно умолкает.
Жаркое — мясные консервы — встречено кислыми минами.
— Ну уж и гадость! — замечает Сережкин.
— А вы не ешьте, коли гадость! — словно ужаленный, восклицает лейтенант, бывший очередным содержателем кают-компании и крайне щекотливый к замечаниям. — Чем я буду вас кормить здесь?.. Бекасами, что ли? Должны бога молить, что солонину редко даю…
— Молю.
— И молите…
— Но это не мешает мне говорить, что консервы гадость, а бекасы вкусная вещь.
— Что вы хотите этим сказать?..
— То и хочу, что сказал…
Готова вспыхнуть ссора. Но старший офицер вмешивается:
— Полноте, господа… Полноте!
А угрюмый гардемарин уже обдумал каверзу и, когда Ворсунька подает ему блюдо, спрашивает у него нарочно громко:
— Это кто тебе глаз подбил?..
Ворсунька молчит.
Все взгляды устремляются на Чебыкина. Тот краснеет.
— Кто, — говорю, — глаз подбил?
— Зашибся… — отвечает, наконец, молодой чернявый вестовой.
Через минуту угрюмый гардемарин продолжает:
— Ведь вот капитан отдал приказ: не драться! А есть же дантисты!
— Не ваше дело об этом рассуждать! — вдруг крикнул Чебыкин, бледнея от злости.
— Полагаю, это дело каждого порядочного человека. А разве это вы своего вестового изукрасили? Я не предполагал… думал, боцман!
— Алексей Алексеич! Потрудитесь оградить меня от дерзостей гардемарина Петрова! — обращается Чебыкин к старшему офицеру.
Тот просит Петрова замолчать.
После пирожного все встают и расходятся по каютам озлобленные.
IV
Клипер точно ожил. У всех оживленные, веселые лица.
— Скоро, братцы, придем! — слышатся одни и те же слова среди матросов.
— Через два дня будем в Батавии! — говорят в кают-компании, и все смотрят друг на друга без озлобления. Все, точно по какому-то волшебству, снова становятся простыми, добрыми малыми и дружными товарищами. Аяксы, конечно, примирились.
Под палящими отвесными лучами солнца клипер прибирается после длинного перехода. Матросы весело скоблят, чистят, подкрашивают и трут судно и под нос мурлыкают песни. Все предвкушают близость берега и гулянки. Уже достали якорную цепь, давно покоившуюся внизу, и приклепали ее.
На утро следующего дня ветер совсем стих, и мы развели пары. Близость экватора сказывалась нестерпимым зноем. Кочегаров без чувств выносили из машины и обливали водой. По расчету берег должен был открыться к пяти часам, но уже с трех часов охотники матросы с марсов сторожили берег. Первому, увидавшему землю, обещана была денежная награда.
И в пятом часу с фор-марса раздался веселый крик:
«Берег!» — крик, отозвавшийся во всех сердцах неописуемой радостью.
К вечеру мы входили в Зондский пролив. Штиль был мертвый. Волшебная панорама открылась пред нами. Справа и слева темнели острова и островки, облитые чудным светом полной луны. Вода казалась какой-то серебристой гладью, таинственной и безмолвной, по которой шел наш клипер, оставляя за собой блестящую фосфорическую ленту.
К утру картина была не менее красива. Мы шли, точно садом, между кудрявых зеленых островков, залитых ярким блеском солнца. Прозрачное изумрудное море точно лизало их.
Наконец мы вышли в открытое место и к сумеркам входили в Батавию. Когда якорь грохнул в воду, офицеры, радостные и примиренные, поздравляли друг друга с приходом, и скоро почти все уехали на берег, на который не вступали шестьдесят два дня.
Ужасный день
I
Весь черный, с блестящей золотой полоской вокруг, необыкновенно стройный, изящный и красивый со своими чуть-чуть наклоненными назад тремя высокими мачтами, военный четырехпушечный клипер «Ястреб» в это хмурое, тоскливое и холодное утро пятнадцатого ноября 186* года одиноко стоял на двух якорях в пустынной Дуйской бухте неприветного острова Сахалина. Благодаря зыби клипер тихо и равномерно покачивался, то поклевывая острым носом и купая штаги в воде, то опускаясь подзором своей круглой кормы.
«Ястреб», находившийся уже второй год в кругосветном плавании, после посещения наших почти безлюдных в то время портов Приморской области, зашел на Сахалин, чтобы запастись даровым углем, добытым ссыльнокаторжными, недавно переведенными в Дуйский пост из острогов Сибири, и идти затем в Нагасаки, а оттуда — в Сан-Франциско, на соединение с эскадрой Тихого океана.
В этот памятный день погода стояла сырая, с каким-то пронизывающим холодом, заставлявшим вахтенных матросов ёжиться в своих коротких бушлатах и дождевиках, а подвахтенных — чаще подбегать к камбузу погреться. Шел мелкий, частый дождик, и серая мгла заволакивала берег. Оттуда доносился только однообразный характерный гул бурунов[15], перекатывающихся через отмели и гряды подводных камней в глубине бухты. Ветер, не особенно свежий, дул прямо с моря, и на совершенно открытом рейде ходила порядочная зыбь, мешавшая, к общему неудовольствию, быстрой выгрузке угля из двух больших неуклюжих допотопных лодок, которые трепались и подпрыгивали, привязанные у борта клипера, пугая «крупу», как называли матросы линейных солдатиков, приехавших с берега на лодках.
С обычной на военных судах торжественностью на «Ястребе» только что подняли флаг и гюйс, и с восьми часов на клипере начался судовой день. Все офицеры, выходившие к подъему флага наверх, спустились в кают-компанию пить чай. На мостике только оставались закутанные в дождевики капитан, старший офицер и вахтенный начальник, вступивший на вахту.
— Позвольте отпустить вторую вахту в баню? — спросил старший офицер, подходя к капитану. — Первая вахта вчера ездила. Второй будет обидно. Я уж обещал. Матросам баня — праздник.
— Что ж, отпустите. Только пусть скорее возвращаются назад. После погрузки мы снимемся с якоря. Надеюсь, сегодня закончим?
— К четырем часам надо закончить.
— В четыре часа я, во всяком случае, ухожу, — спокойно и в то же время уверенно и властно проговорил капитан. — И то мы промешкались в этой дыре! — прибавил он недовольным тоном, указывая своей белой выхоленной маленькой рукой по направлению к берегу.
Он откинул капюшон дождевика с головы, открыв молодое и красивое лицо, полное энергии и выражения спокойной уверенности стойкого и отважного человека, и, слегка прищурив свои серые лучистые и мягкие глаза, с напряженным вниманием всматривался вперед, в туманную даль открытого моря, где белели седые гребни волн. Ветер трепал его светло-русые бакенбарды, и дождь хлестал прямо в лицо. Несколько секунд не спускал он глаз с моря, точно стараясь угадать: не собирается ли оно разбушеваться, и, казалось, успокоенный, поднял глаза на нависшие тучи и потом прислушался к гулу бурунов, шумевших за кормой.
— За якорным канатом хорошенько следите. Здесь подлый грунт, каменистый, — сказал он вахтенному начальнику.
— Есть! — коротко и весело отрезал молодой лейтенант Чирков, прикладывая руку к полям зюйдвестки и, видимо, щеголяя и служебной аффектацией хорошего подчиненного, и своим красивым баритоном, и своим внешним видом заправского моряка.
— Сколько вытравлено цепи?
— Десять сажен каждого якоря.
Капитан двинулся было с мостика, но остановился и еще раз повторил, обращаясь к плотной и приземистой фигуре старшего офицера:
— Так уж пожалуйста, Николай Николаич, чтобы баркас вернулся как можно скорей… Барометр пока хорошо стоит, но, того и гляди, может засвежеть. Ветер прямо в лоб, баркасу и не выгрести.
— К одиннадцати часам баркас вернется, Алексей Петрович.
— Кто поедет с командой?
— Мичман Нырков.
— Скажите ему, чтоб немедленно возвращался на клипер, если начнет свежеть.
С этими словами капитан сошел с мостика и спустился в свою большую комфортабельную капитанскую каюту. Проворный вестовой принял у входа дождевик, и капитан присел у круглого стола, на котором уж был подан кофе и стояли свежие булки и масло.
Старший офицер, ближайший помощник капитана, так сказать «хозяйский глаз» судна и верховный жрец культа порядка и чистоты, по обыкновению поднявшись вместе с матросами, с пяти часов утра носился по клиперу во время обычной его утренней уборки и торопился теперь выпить поскорее стакан-другой горячего чаю, чтобы затем снова выбежать наверх и поторапливать выгрузкой угля. Отдавши вахтенному офицеру приказание собрать вторую вахту на берег, приготовить баркас и дать ему знак, когда люди будут готовы, он торопливо сбежал с мостика и спустился в кают-компанию.
Тем временем к мостику подбежал вызванный боцман Никитин, или Егор Митрич, как почтительно звали его матросы. Приложив растопыренные засмоленные пальцы своей здоровенной мозолистой и шершавой руки к сбитой на затылок намокшей шапке, он внимательно выслушивал приказание вахтенного офицера.
Это был коренастый и крепкий, небольшого роста, сутуловатый пожилой человек самого свирепого вида: с заросшим волосами некрасивым рябым лицом, с коротко подстриженными щетинистыми колючими усами и с выкаченными, как у рака, глазами, над которыми торчали черные взъерошенные клочья. Перешибленный еще давно марса-фалом нос напоминал темно-красную сливу. В правом ухе у боцмана блестела медная сережка.
Несмотря, однако, на такую свирепую наружность и на самое отчаянное сквернословие, которым боцман приправлял и свои обращения к матросам, и свои монологи под пьяную руку на берегу, Егор Митрич был простодушнейшим и кротким существом с золотым сердцем и притом лихим, знающим свое дело до тонкости боцманом. Он никогда не обижал матросов — ни он, ни матросы не считали, конечно, обидой его ругательные импровизации. Сам прежде выученный битьем, он, однако, не дрался и всегда был предстателем и защитником матросов. Нечего и прибавлять, что простой и незаносчивый Егор Митрич пользовался среди команды уважением и любовью.
«Правильный человек Егор Митрич», — говорили про него матросы.
Выслушав приказание вахтенного лейтенанта, боцман вприпрыжку понесся на бак и, вынув из кармана штанов висевшую на длинной медной цепочке такую же дудку, засвистал в нее соловьем. Свист был энергичный и веселый и словно бы предупреждал о радостном известии. Отсвистав и проделав трели с мастерством заправского боцмана, свиставшего в дудку половину своей долгой морской службы, он нагнулся над люком в жилую палубу и, расставив фертом свои цепкие, слегка кривые, короткие ноги, весело зыкнул во всю силу своего могучего голоса, несколько осипшего и от береговых попоек, и от ругани:
— Вторая вахта, в баню! Баркасные, на баркас!
Вслед за громовым окриком боцман сбежал по трапу вниз и обходил жилую палубу и кубрик, повторяя команду и рассыпая направо и налево подбодряющие энергические словечки самым веселым и добродушным тоном:
— Живо, сучьи дети!.. Поворачивайтесь по-матросски, черти!.. Не копайся, идолы! Небось долго париться не дадут… К одиннадцати чтобы беспременно на клипер… В один секунд собирайся, ребята!
Заметив молодого матросика, который и после свистка не трогался с места, Егор Митрич крикнул, стараясь придать своему голосу сердитый тон:
— А ты, Конопаткин, что расселся, ровно собачья мамзель, а? Ай в баню не хочешь, песья твоя душа?
— Иду, Егор Митрич, — проговорил, улыбаясь, матросик.
— То-то иду. Собирай свои потроха… Да не ползи, как вошь по мокрому месту! — рассыпал Егор Митрич перлы своего остроумия при общем одобрительном смехе.
— А скоро уходим отсюдова, Егор Митрич? — остановил боцмана писарь.
— Надо быть, сегодня.
— Скорей бы уйти. Как есть подлое место. Никаких развлечениев!
— Собачье место… Недаром здесь бессчастные люди живут!.. Вали, вали, братцы! — продолжал покрикивать боцман, сдабривая свои окрики самыми неожиданными импровизациями.
Веселые и довольные, что придется попариться в бане, в которой не были уже полтора года, матросы и без понуканий своего любимца Егора Митрича торопливо доставали из своих парусинных мешков по смене чистого белья, запасались мылом и кусками нащипанной пеньки, обмениваясь замечаниями насчет предстоящего удовольствия.
— По крайности матушку-Расею вспомним, братцы. С самого Кронштадта не парились.
— То-то в загранице нет нигде бань, одни ванный. Кажется, и башковатые люди в загранице живут, а поди ж ты! — не без чувства сожаления к иностранцам заметил пожилой баковый матрос.
— Так-таки и нигде? — спросил молодой чернявый матросик.
— Нигде. Без бань живут, чудны́е! Везде у них ванный.
— Эти ванный, чтоб им пусто было! — вставил один из матросов. — Я ходил в Бресте в эту самую ванную. Одна слава что мытье, а форменного мытья нету.
— А хороша здесь, братцы, баня?
— Хорошая, — отвечал матрос, бывший вчера на берегу. — Настоящая жаркая баня. Линейные солдатики строили; тоже, значит, российские люди. Им да вот этим самым несчастным, что роют уголь, только и утеха одна что баня…
— Да, вовсе здесь тяжкое житье!
— И командир ихний, сказывали, зверь.
— Одно слово — каторжное место. И ни тебе кабака, ни тебе бабы!
— Одна завалящая варначка какая-то есть старая… Наши видели.
— Увидишь и ты, не бойсь! — проговорил, смеясь, подошедший Егор Митрич. — Не с лица воду пить! Живо, живо!.. Выползай, кто готов… Нечего-то лясы точить, чтоб вас!
Матросы выходили один за другим наверх с узелками под бушлатами и выстраивались на шканцах. Вышел старший офицер и, снова повторив мичману Ныркову приказание быть к одиннадцати часам на клипере, велел сажать людей на баркас, который уже покачивался у левого борта с поставленными мачтами.
Матросы весело спускались по веревочному трапу, прыгали в шлюпку и рассаживались по банкам. Старший офицер наблюдал за посадкой.
Минут через пять баркас, полный людьми, с поставленными парусами, отвалил от борта с мичманом Нырковым на руле, понесся стрелой с попутным ветром и скоро скрылся в туманной мгле, все еще окутывавшей берег.
II
В кают-компании все были в сборе за большим столом, покрытым белоснежной скатертью. Две горки свежих булок, изделия офицерского кока (повара), масло, лимоны, графинчик с коньяком и даже сливки красовались на столе, свидетельствуя о хозяйственных талантах и запасливости содержателя кают-компании молодого доктора Платона Васильевича, выбранного на эту хлопотливую должность во второй раз. Только что истопленная железная печка позволяла всем сидеть без пальто. Пили чай и болтали, поругивая главным образом проклятый Сахалин, куда судьба занесла клипер. Ругали и открытый рейд с его зыбью, и собачью погоду, и местность, и холод, и медленную грузку угля. Всем, начиная со старшего офицера и кончая самым юным членом кают-компании, только что произведенным в мичманы, румяным и свежим, как яблочко, Арефьевым, эта стоянка в Дуэ была очень неприятна. Подобный берег не манил к себе моряков. Да и что могло манить?.. Неприветен был этот несчастный поселок на оголенном юру бухты, с унылым лесом сзади без конца, с несколькими казармами мрачного вида, в которых жили пятьдесят человек ссыльно-каторжных, выходивших с утра на добычу угля в устроенную вблизи шахту, да полурота солдат линейного сибирского батальона.
Когда старший офицер объявил в кают-компании, что сегодня «Ястреб» непременно уйдет в четыре часа, хотя бы и не весь уголь был принят, все по этому случаю выражали свою радость. Молодые офицеры вновь замечтали вслух о Сан-Франциско и о том, как они там «протрут денежки». Деньги, слава богу, были! В эти полтора месяца плавания с заходами в разные дыры нашего побережья на Дальнем Востоке при всем желании некуда было истратить денег, а впереди еще недели три-четыре до Сан-Франциско — смотришь, и можно спустить все трехмесячное содержание, а при случае и прихватить вперед… После адской скуки всех этих «собачьих дыр» морякам хотелось настоящего берега. Мечтали о хорошем порте со всеми его удовольствиями, только, разумеется, не вслух, и такие солидные люди, как старший офицер, Николай Николаевич, вообще редко съезжавший на берег, а если и съезжавший, то на самое короткое время, чтоб «освежиться», как говорил он, и доктор, и старший артиллерист, и старший механик, и даже отец Спиридоний. Все они с видимым вниманием слушали, когда Сниткин, полный лейтенант с сочными, пухлыми губами и маленькими глазками, всегда веселый и добродушный, немножко враль и балагур, рассказывал о прелестях Сан-Франциско, в котором он был в первое свое кругосветное плавание, и с неумеренною восторженностью, свойственной, кажется, одним морякам, восхвалял красоту и прелесть американок.
— Уж разве так хороши? — спросил кто-то.
— Прелесть! — ответил Сниткин и в доказательство поцеловал даже свои толстые пальцы.
— Помните, Василий Васильич, вы и малаек нам нахваливали. Говорили, что очень недурны собой, — заметил один из мичманов.
— Ну и что же? Они в своем роде недурны, эти черномазые дамы! — со смехом отвечал лейтенант Сниткин, не особенно разборчивый, по-видимому, к цвету кожи прекрасного пола. — Все, батюшка, зависит от точки зрения и обстоятельств, в которых находится злополучный моряк… Ха-ха-ха!
— При всяких обстоятельствах ваши хваленые малайки — мерзость!
— Ишь какой эстетик, скажите пожалуйста! И, однако, несмотря на всю свою эстетику, в Камчатке вы влюбились в заседательшу и все расспрашивали ее, как маринуют бруснику и морошку… А ведь этой даме все сорок, и главное — она форменный сапог! Хуже всякой малайки.
— Ну, положим… — сконфуженно пролепетал мичман.
— Да уж как там ни полагайте, голубчик, а — сапог… Одна бородавка на носу чего стоит! И тем не менее вы ей романсы пели. Значит, такая точка зрения была.
— Вовсе не пел! — защищался юный мичман.
— А помните, господа, как все мы тогда из Камчатки с вареньем ушли? — воскликнул кто-то из мичманов.
Раздался общий взрыв веселого смеха. Снова вспомнили, как после трехдневной стоянки «Ястреба» в Петропавловске, в Камчатке, — стоянки, взбудоражившей всех шесть дам местной интеллигенции и заставившей их на время примириться, забыв вражду, чтобы устроить бал для редких гостей, — каждый из молодых офицеров клипера вечером, в день ухода из Камчатки, вносил в кают-компанию по банке варенья и ставил ее на стол со скромно-торжествующей улыбкой. И то-то было сперва изумления и потом смеха, когда выяснилось, что все эти восемь банок варенья, преимущественно морошки, были подарком одной и той же тридцатилетней дамы, считавшейся первой красавицей среди шести камчатских дам. А между тем каждый, получивший «на память» по банке варенья, считал себя единственным счастливцем, удостоившимся такого особенного внимания.
— Всех обморочила лукавая бабенка! — восклицал Сниткин. — «Вам, — говорит, — одному варенье на память!» И руки жала, и… ха-ха-ха… Ловко! По крайней мере, никому не обидно!
После нескольких стаканов чая и многих выкуренных папирос старшему офицеру, видимо, не хотелось расставаться со своим почетным местом на мягком диване в теплой и уютной кают-компании, особенно в виду оживленных рассказов о Сан-Франциско, напомнивших Николаю Николаевичу, этому мученику своих тяжелых обязанностей старшего офицера, что и ему ничто человеческое не чуждо. Но, раб долга и педант, как и бо́льшая часть старших офицеров, любивший вдобавок напустить на себя вид человека, которому нет ни минуты покоя и который — полюбуйтесь! — за всем должен присмотреть и за все отвечать, он хоть и сделал кислую гримасу, вспомнив, какая наверху пакость, тем не менее решительно поднялся с дивана и крикнул вестовому:
— Пальто и дождевик!
— Куда вы, Николай Николаич? — спросил доктор.
— Странный вопрос, доктор, — отвечал как будто даже обиженно старший офицер. — Точно вы не знаете, что уголь грузят.
И старший офицер пошел наверх «присматривать» и мокнуть, хотя и без его присутствия выгрузка шла своим порядком. Но Николай Николаич все-таки торчал наверху и мок, словно бы в пику кому-то и в доказательство, сколь он претерпевает.
В кают-компании продолжалась веселая болтовня моряков, еще не надоевших друг другу до тошноты, что случается на очень длинных переходах, когда нет новых впечатлений извне. Мичманы расспрашивали лейтенанта Сниткина о Сан-Франциско, кто-то рассказывал анекдоты о «беспокойном адмирале». Все были веселы и беспечны.
Один только Лаврентий Иванович, старший штурман клипера, не принимал участия в разговоре и посасывал свою манилку, постукивая сморщенными костлявыми пальцами по столу далеко не с тем добродушно-спокойным видом, с каким он это делал, когда «Ястреб» был в открытом океане или стоял на якоре на хорошем, защищенном рейде. Вдобавок Лаврентий Иванович не мурлыкал, по обыкновению, себе под нос излюбленного им мотива какого-то старинного романса, и это молчание тоже кое-что значило.
Это был сухощавый, среднего роста человек лет пятидесяти, с открытым, располагающим, еще свежим лицом, добросовестный и педантичный до щепетильности служака, давно уж примирившийся со своим вечно подневольным положением штурмана и скромной карьерой и не злобствовавший, по обычаю штурманов, на флотских. Поседевший на море, на котором провел бо́льшую часть своей одинокой, холостой жизни, он приобрел на нем вместе с богатым опытом, закалкой характера и ревматизмом еще и то несколько суеверное, почтительно-осторожное отношение к хорошо знакомому ему морю, которое делало Лаврентия Ивановича весьма недоверчивым и подозрительным к коварной стихии, показывавшей ему во время долгих плаваний всякие виды.
Видимо, чем-то озабоченный, он то и дело выходил из кают-компании наверх, поднимался на мостик и долгим недоверчивым взглядом своих маленьких, зорких, как у коршуна, глаз глядел на море и озирался вокруг. Туманная мгла, закрывавшая берег, рассеялась, и можно было ясно видеть седые буруны, грохотавшие в нескольких местах бухты, в значительном отдалении от клипера. Поглядывал старый штурман и на надувшийся вымпел, не изменявший своего направления, указывающего, что ветер прямо, как говорят моряки, «в лоб», и на небо, на свинцовом фоне которого начинали прорезываться голубые кружки…
— Дождь-то, слава богу, перестает, Лаврентий Иваныч! — весело заметил вахтенный лейтенант Чирков.
— Да, перестает.
В мягком, приятном баске старого штурмана не слышно было довольной нотки. Напротив, то обстоятельство, что дождь перестает, казалось, не особенно нравилось Лаврентию Ивановичу. И словно бы не доверяя своим зорким глазам, он снял с поручней большой морской бинокль и снова впился в почерневшую даль. Несколько минут разглядывал он мрачные, нависшие над краем моря тучи и, положив на место бинокль, потянул носом, точно собака, воздух и покачал раздумчиво головой.
— Что это вы, Лаврентий Иваныч, все посматриваете?.. Мы, кажется, не проходим опасных мест? — шутливо спросил Чирков, подходя к штурману.
— Не нравится мне горизонт-с! — отрезал старый штурман.
— А что?
— Как бы вскорости не засвежело.
— Эка беда, если и засвежеет! — хвастливо проговорил молодой человек.
— Очень даже беда-с! — внушительно и серьезно заметил старший штурман. — Этот свирепый норд-вест коли заревет вовсю, то надолго, и уж тогда не выпустит нас отсюда… А я предпочел бы штормовать в открытом море, чем здесь, на этом подлеце рейде. Да-с!
— Чего нам бояться? У нас — машина. Разведем пары, в помощь якорям, и шутя отстоимся! — самоуверенно воскликнул Чирков.
Лаврентий Иванович посмотрел на молодого человека со снисходительной улыбкой старого, бывалого человека, слушающего хвастливого ребенка.
— Вы думаете «шутя-а-а»? — протянул он, усмехнувшись. — Напрасно! Вы, батенька, не знаете, что это за подлый норд-вест, а я его знаю. Лет десять тому назад я стоял здесь на шхуне… Слава богу, вовремя убрались, а то бы…
Он не докончил фразы, боясь, как все суеверные люди, даже упоминать о возможности несчастия, и, помолчав, заметил:
— Положим, машина, а все бы лучше подобру-поздорову в море! Ну его к черту, уголь! В Нагасаки можем добрать. Эта хитрая каналья норд-вест сразу набрасывается как бешеный. А уж как он рассвирепеет до шторма, тогда уходить поздно.
— Уж вы всегда, Лаврентий Иваныч, везде страхи видите.
— В ваши годы и я их не видал… Все, мол, трын-трава… На все наплевать, ничего не боялся… Ну а как побывал в переделках, состарившись в море, так и вижу… Знаете ли пословицу: «Береженого и Бог бережет».
— Что ж вы капитану не скажете?
— Что мне ему говорить? Он и сам должен знать, каково здесь отстаиваться в свежую погоду! — не без раздражения ответил старый штурман.
Лаврентий Иванович, однако, скрыл, что еще вчера, как только задул норд-вест, он доложил капитану о «подлости» этого ветра и крайне осторожно выразил мнение, что лучше бы уходить отсюда. Но молодой самолюбивый и ревнивый к власти капитан, которого еще тешили первые годы командирства и который не любил ничьих советов, пропустил, казалось, мимо ушей замечание старшего штурмана и ни слова ему не ответил.
«И без тебя, мол, знаю!» — говорило, по-видимому, самоуверенное и красивое лицо капитана.
Старый штурман вышел из капитанской каюты, несколько обиженный таким «обрывом», и за дверями каюты проворчал себе под нос:
— Молода, в Саксонии не была!
— А все-таки, Лаврентий Иваныч, вы бы доложили капитану! — проговорил лейтенант Чирков, несколько смущенный словами старого штурмана, хотя и старавшийся скрыть это смущение в равнодушном тоне голоса.
— Что мне соваться с докладами? Он сам видит, какая здесь мерзость! — с сердцем ответил Лаврентий Иванович.
В эту минуту на мостик поднялся капитан и стал оглядывать горизонт, весь покрытый зловещими черными тучами. Они, казалось, всё росли и росли, охватывая все большее пространство, и, разрываясь, с поразительной быстротой поднимались по небосклону. Дождь перестал. Кругом, у берегов, прояснялось.
— Баркас еще не отвалил? — спросил капитан вахтенного.
— Нет.
— Поднять позывные!
В спокойном обыкновенно голосе капитана едва слышна была тревожная нотка.
«Небось теперь тревожишься, а вчера и слушать меня не хотел!» — подумал старший штурман, искоса взглядывая на капитана, стоявшего на другой стороне мостика.
— То-то молода, в Саксонии не была! — прошептал Лаврентий Иванович любимую свою присказку.
— Баркас отваливает! — крикнул сигнальщик, все время смотревший на берег в подзорную трубу.
Сильный шквалистый порыв ветра внезапно ворвался в бухту, пронесся по ней, срывая гребешки волн, и прогудел в снастях. «Ястреб», стоявший против ветра, шутя выдержал этот порыв и только слегка дрогнул на своих туго натянутых якорных канатах.
— Прикажите разводить пары, да чтобы поскорей! — сказал капитан.
Вахтенный офицер дернул ручку машинного телеграфа и крикнул в переговорную трубку. Из машины ответили: «Есть, разводим!»
— Отправьте угольные лодки на берег! Чтоб все было готово к съемке с якоря! — продолжал отдавать приказания капитан повелительным, отрывистым и слегка возбужденным голосом, сохраняя на лице своем обычное выражение спокойной уверенности.
Он заходил, заложив руки в карманы своего теплого пальто, по мостику, но поминутно останавливался: то вглядывался озабоченным взором в свинцовую даль рокотавшего моря, то оборачивался назад и в бинокль следил за баркасом, который медленно подвигался вперед против встречной зыби и ветра.
— А ведь вы были правы, Лаврентий Иваныч, и я жалею, что не послушал вас и не снялся сегодня с рассветом с якоря! — проговорил вдруг капитан громко, и, казалось, нарочно громко, чтоб слышал и Чирков, и старший офицер, поспешивший вбежать на мостик, как только узнал о съемке с якоря.
Сознание в своей неправоте такого уверенного в себе и страшно самолюбивого человека, каким был этот образованный, блестящий и действительно лихой капитан, обнаруживавший не раз во время плавания и отвагу, и хладнокровие, и находчивость настоящего моряка, совсем смягчило сердце скромного Лаврентия Ивановича. И он вдруг смутился и, словно в чем-то оправдываясь и желая в то же время оправдать капитана, промолвил:
— Я, Алексей Петрович, потому позволил себе доложить, что сам испытал, каков десь норд-вест… А в лоции ничего не говорится.
— А, кажется, собирается засвежеть не на шутку! — продолжал капитан, понижая голос. — Взгляните! — прибавил он, взмахнув головой на далекие тучи.
— Штормом попахивает, Алексей Петрович… Уж мне и в ногу стреляет-с, — шутливо промолвил старый штурман.
— Ну, пока он разыграется, мы успеем выйти в море. Пусть себе там нас треплет.
Опять, словно предупреждающий вестник, пронесся порыв, и снова клипер, точно конь на привязи, дернулся на цепях.
Капитан велел спустить брам-стеньги.
— Да живее пары́! — крикнул он в машину.
Брам-стеньги были быстро спущены лихой командой клипера, и старший офицер, командовавший авралом, довольно улыбался, как они «сгорели». Скоро из трубы повалил дым. Баркас с людьми выгребал дружно и споро и приближался к клиперу. Все гребные судна были подняты.
Старый штурман все тревожнее и тревожнее посматривал на грозные тучи, облегавшие горизонт. В серьезном, несколько возбужденном лице капитана, в его походке, жестах, голосе заметно было нетерпение. Он то и дело звонил в машину и спрашивал: «Как пары́?» — видимо торопясь уходить из этой усеянной подводными камнями бухты, вдобавок еще плохо описанной в лоции.
А ветер заметно свежел. Приходилось потравливать якорные цепи, натягивавшиеся при сильных порывах в струну. Клипер при этом подавался назад, по направлению к берегу. Зыбь усиливалась, играя «зайчиками», и «Ястреб» стремительней клевал носом.
— Ну, слава богу, через час уйдем из этой дыры! — радостно говорили мичманы в кают-компании.
— И чтоб в нее никогда не заглядывать больше!
К старшему штурману, спустившемуся в кают-компанию выкурить манилку и погреться, кто-то обратился с вопросом:
— Лаврентий Иваныч! Когда мы придем в Сан-Франциско, как вы думаете? Недельки через четыре увидим американок, а?
— Нечего-то загадывать вперед… Мы ведь в море, а не на берегу.
— Ну, однако, приблизительно, Лаврентий Иваныч? Если все будет благополучно?
— Да что вы пристали: когда да когда? Прежде отсюда надо убраться! — ворчливо промолвил штурман.
— А что, разве так свежо?
— Подите наверх — увидите!
— У нас, Лаврентий Иваныч, машина сильная. Выползем.
Лаврентий Иванович, почти не сомневавшийся, что клипер до шторма уйти не успеет и что ему придется отстаиваться на рейде, ничего не ответил и быстрыми, нервными затяжками торопливо докуривал свою манилку, озабоченный и мрачный, полный самых невеселых дум о положении клипера, если штормяга будет, как он выражался, «форменный».
В эту минуту в кают-компанию влетел весь мокрый, с красным от холода лицом молодой мичман Нырков и возбужденно и весело воскликнул:
— Ну, господа, и анафема, я вам скажу, ветер! Так засвежел на половине дороги, что я думал: нам и не выгрести. Насилу добрались. И волна подлая… Все мы вымокли. Так и хлестало! И что за холод… Совсем замерз. Эй, вестовые! Скорей горячего чаю и коньяку! — крикнул он и пошел в свою каюту переодеваться, счастливый, что благополучно добрался и что в точности выполнил приказание и вернулся к одиннадцати часам. Он, еще совсем молодой моряк, первый раз попавший в дальнее плавание, конечно, стыдился сказать в кают-компании, как ему было жутко на баркасе, захлестываемом волной, как страшно и за себя, и за матросов, и как он, сам трусивший, с небрежным ухарским видом подбадривал усталых, вспотевших гребцов «навалиться», обещая им по три чарки на человека.
«Ах, как приятно, что все это прошло!» — проносилось в голове у молодого мичмана, когда он быстро облачался в сухое белье, предвкушая удовольствие согреться горячим чаем с коньяком.
— Ну, теперь нам нечего ждать… Скорей бы пары́, и айда к американочкам! Не правда ли, Лаврентий Иваныч? — проговорил со смехом веселый лейтенант Сниткин.
Но Лаврентий Иванович только пожал плечами, надел свою походную старенькую фуражку и пошел наверх.
III
Опасения старого штурмана оправдались.
Только что подняли баркас в ростры и принайтовили (привязали) его, как после трех, последовательно налетевших жестоких шквалов заревел шторм, один из тех штормов, которые смущают даже и старых, опытных моряков.
Картина озверевшей стихии была действительно страшная.
По небу, с едва пробивающимися на свинцовом фоне голубыми кусочками, бешено и, казалось, низко неслись черные клочковатые облака и покрывали весь небосклон. Несмотря на утро, кругом стоял полусвет, точно в сумерки. Море, что называется, кипело. Громадные волны шумно и яростно нагоняли одна другую, сталкивались и рассыпались в своих верхушках алмазной пылью, которую подхватывал вихрь и нес дальше. Страшный рев бушующего моря сливался с ревом дьявольского ветра. Встречая в клипере препятствие, он то сердито выл, то проносился каким-то жалобным стоном в такелаже и мачтах, в люках и дулах орудий, гнул стеньги, потрясал поднятые на боканцах шлюпки, срывал непринайтовленные предметы и сердито трепал бесчисленные снасти.
Словно обезумевший, освирепевший зверь, бросался он на маленький клипер, как будто грозя его уничтожить со всеми его обитателями. И «Ястреб», встретивший грудью врага, то и дело вздрагивал на своих вытравленных канатах и, казалось, вот-вот сорвется с натянувшихся, гудевших цепей. Его дергало на них все больше и больше, и он, бедный, точно от боли, скрипел всеми своими членами и стремительно качался, уходя бугшпритом в воду и отряхиваясь при подъеме, точно великан-птица, от воды.
Нахлобучив на лоб фуражку, чтоб ее не сорвало ветром, стоял капитан на мостике, цепко держась одной рукой за поручни. В другой у него был рупор. Ледяной ветер дул ему прямо в лицо, пронизывая его всего холодом, но капитан, не покидавший мостика уже около часа, казалось, не чувствовал ветра, весь сосредоточенный, страшно серьезный и, по-видимому, совершенно спокойный. Однако это спокойствие, стоившее ему усилия, было лишь наружным спокойствием моряка, умеющего владеть собой в серьезные минуты. В душе у этого самолюбивого, отважного человека была мучительная тревога, и все его существо было в том нервном напряжении, которое при частых повторениях нередко преждевременно старит моряков и в нестарые еще годы делает их седыми. Он хорошо понимал опасность положения клипера и вверенных ему людей и, ввиду страшной нравственной ответственности, испытывал жгучие упреки совести. Его самонадеянная уверенность — виной всему. Зачем он не послушал вчера совета старого, много плававшего штурмана?.. Зачем он не ушел?.. И вот теперь…
— Пары́! Когда же пары́?! — крикнул он, дергая порывисто ручку машинного телеграфа.
Из машины ответили, что пары́ будут готовы через десять минут.
Десять минут в такой анафемский шторм, грозивший в каждое мгновение сорвать с якорей клипер, ведь это целая вечность! Работая машиной, в помощь якорям, еще возможно удержаться и отстаиваться.
И капитан, обыкновенно сдержанный и не бранившийся, хорошо зная, что пары́ не могли быть раньше подняты, тем не менее крикнул в машину через переговорную трубку резкое, грубое слово, заставившее бедного старшего механика, и без того надрывавшегося, побледнеть как полотно и судорожно сжать кулаки.
Теперь уже капитан не вглядывался, как раньше, вперед, в даль моря, на просторе которого ему бы так хотелось быть в настоящую минуту, штормуя с крепким и добрым своим «Ястребом» под штормовыми парусами, задраивши люки и носясь по волнам, как закупоренный бочонок, пока шторм не пройдет. Он часто оборачивался и тревожно посматривал по направлению к берегу — туда, где среди беснующегося моря выделялась широкой извивающейся белой лентой сплошная седая пена бурунов на длинной каменистой гряде, чуть-чуть влево от поселка. Эта гряда, беспокоившая капитана, несмотря на свою отдаленность, лежала как раз против моря, в глубине открытого для норд-веста рейда. По двум другим его сторонам тянулись прямые обрывистые берега, вблизи которых там и сям тоже грохотали буруны. И только направо был маленький заливчик, омывающий устье небольшой лощины, свободный, по-видимому, от подводных камней.
— Готов ли запасный якорь? — спрашивал капитан старшего офицера, после того как тот доложил, что палубы и трюм им осмотрены и что все в исправности: орудия наглухо закреплены и все задраено.
— Готов.
— Цепи все вытравлены?
— Все. В струну вытягиваются, Алексей Петрович. Как бы, не дай бог, не лопнули и мы не потеряли бы якорей, — с сокрушением проговорил старший офицер.
И без того капитана мучило это обстоятельство, а тут еще старший офицер напоминает! И капитан, видимо сдерживая себя, нетерпеливо проговорил:
— Лопнут, тогда и будем об этом сокрушаться, Николай Николаич, а теперь рано еще! — и прибавил: — Помпы чтоб были в исправности!
— Есть! — ответил старший офицер и, несколько обиженный, считавший, что капитан недостаточно ценит его постоянную «каторжную» работу, сошел с мостика, чтобы осмотреть лично помпы, почти не думая в своем заботливом служебном усердии, для чего они могут понадобиться.
Старший штурман, обыкновенно тревожившийся перед опасностью, теперь, когда опасность уже наступила, с каким-то фаталистическим спокойствием стоял у компаса, заложив руки в карманы своего куцего пальто на заячьем меху и удерживаясь на стремительно качающемся мостике своими врозь расставленными, привычными к качке «морскими» ногами. По-видимому, «форменный» штормяга с его возможными последствиями не очень пугал Лаврентия Ивановича, который не раз на своем веку бывал лицом к лицу со смертью.
«Что будет, то будет!» — говорила, казалось, и его поза, говорило и его решительно-покойное лицо, говорил и серьезно-вдумчивый, твердый взгляд его небольших серых глаз, посматривавших на буруны.
Лейтенант Чирков, несмотря на ухарски небрежный вид лихого моряка, который ничего не боится, видимо, трусил и, бледный, при каждом вздрагивании клипера тихонько крестился и взволнованным голосом кричал:
— На баке! За канатом смотреть!
Почти все офицеры вышли из теплой кают-компании наверх и с вытянутыми лицами посматривали вокруг на разыгравшуюся «анафему». О выходе в море нечего было и думать. А сколько времени будет реветь проклятый шторм, кто его знает?
— Ах, если бы меня с баркасом захватил этот шторм! Погибли бы мы все! — говорил, ища сочувствия, мичман Нырков и чувствовал себя бесконечно счастливым, что он не захватил его.
Прошло пять необыкновенно долгих для капитана минут. Сейчас пары́ будут готовы, и мучительное беспокойство пройдет. «Ястреб», несмотря на усиливающийся шторм, пока держался на якорях и не дрейфовал.
Но в ту же секунду, как капитан об этом подумал, клипер необыкновенно сильно вздрогнул, рванувшись назад, с бака донесся какой-то резкий, отрывистый лязг, и в то же мгновение боцман Егор Митрич стремглав подбежал к шканцам и прокричал громовым голосом:
— Цепи лопнули!
Точно обрадовавшись, что избавился от цепей, «Ястреб» метнулся в сторону, по ветру, и его понесло назад.
Брошенный немедленно запасный якорь на минуту задержал клипер. Он помотался и снова почуял свободу. Словно срезанная ножом, лопнула и эта цепь.
— Полный ход вперед! Лево на борт! — громким твердым голосом скомандовал внезапно побледневший капитан.
Слава богу! Машина застучала, и винт забурлил за кормой. Клипер был остановлен в его опасном беге и поставлен против ветра.
Серьезное лицо капитана прояснилось. Но ненадолго.
Несмотря на усиленную работу машины, клипер едва удерживался на месте против жестокого ветра. Шторм крепчал, и «Ястреб» стал заметно дрейфовать назад.
— Самый полный ход вперед!..
Еще чаще стала машина отбивать такты, но мог ли «Ястреб» устоять против этого адского урагана?
Ах, если б шторм ослабел!
Вдруг корма дрогнула, словно коснувшись какого-то препятствия. Винт перестал буравить воду, сломанный в тот момент, когда «Ястреб» прочертил кормой, вероятно, у камня.
Теперь, совсем беспомощный, без винта, без якорей, не слушая более руля, став лагом поперек волнения, клипер стремительно несся на длинную гряду камней, к седой пене бурунов, грохотавших в недалеком расстоянии.
Машина, теперь бесполезная, застопорила.
IV
Крик ужаса вырвался из сотни человеческих грудей и застыл на исказившихся лицах и в широко раскрытых глазах, устремленных с каким-то бессмысленным вниманием на белеющую вдали, точно вздутую, ленту. Все сразу поняли и почувствовали неминуемость гибели и то, что всего какой-нибудь десяток минут отделяет их от верной смерти. Не могло быть никакого сомнения в том, что на этой длинной гряде камней, к которой шторм нес клипер с ужасающей быстротой, он разобьется вдребезги и нет никакой надежды спастись среди водяных громад беснующегося моря. При этой мысли отчаяние и тоска охватывали души, отражаясь на судорожно подергивающихся, смертельно бледных лицах, на неподвижных зрачках и вырывающихся вздохах отчаяния.
Казалось, сама смерть уже глядела с бесстрастной жестокостью на эту горсть моряков из этих рокочущих, веющих ледяным холодом, высоких свинцовых волн, которые бешено скачут вокруг, треплют бедный клипер, бросая его с бока на бок, как щепку, и вкатываются своими верхушками на палубу, обдавая ледяными брызгами.
Матросы снимали фуражки, крестились и побелевшими устами шептали молитвы. По некоторым лицам текли слезы. На других, напротив, стояло выражение необыкновенно суровой серьезности. Один совсем молодой матрос, Опарков, добродушный, веселый парень, попавший прямо от сохи в «дальнюю» и страшно боявшийся моря, вдруг громко ахнул, захохотал безумным смехом и, размахивая как-то наотмашь руками, подбежал к борту, вскочил на сетки и с тем же бессмысленным хохотом прыгнул в море и тотчас же исчез в волнах.
Еще другой, такой же молодой, обезумевший от отчаяния матрос хотел последовать примеру товарища и с диким воплем бросился было к борту, но боцман Егор Митрич схватил его за шиворот и угостил самой отборной руганью. Эта ругань привела матросика в сознание. Он виновато отошел от борта, широко крестясь и рыдая, как малый ребенок.
— Так-то лучше! — ласково проговорил Егор Митрич дрогнувшим голосом, чувствуя бесконечную жалость к этому матросику. — Бога вспомни, а не то чтобы самому жизни решаться, глупая твоя башка, так твою так! А ты, матросик, не плачь. Господь, может, еще и вызволит, — прибавил, утешая, старый боцман, сам не имевший никакой надежды на спасение и готовый, казалось, безропотно покориться Воле Божией, посылавшей смерть.
Несколько старых матросов, соблюдая традиции, спустились на кубрик, спешно надели чистые рубахи и, подойдя к большому образу Николая Чудотворца, что находился в жилой палубе, прикладывались к нему, молились и уходили наверх, чтоб гибнуть на людях.
Несмотря на весь ужас положения, среди команды не было той паники, которая охватывает обыкновенно людей в подобные минуты. Привычка к строгой морской дисциплине, присутствие на мостике капитана, старшего офицера, вахтенного начальника и старого штурмана, которые не покидали своих мест, точно клипер не стремился к гибели, сдерживали матросов. И они, словно испуганные бараны, жались друг к другу, сбившись в толпу у грот-мачты, и с трогательной покорностью отчаяния переводили взгляды с моря на капитана.
На шканцах и под мостиком стояли офицеры с бледными, искаженными ужасом лицами. Еще недавно веселый, смеющийся толстый лейтенант Сниткин вздрагивал всем своим рыхлым телом, точно в лихорадке, едва удерживаясь на ногах от охватившего его страха. Он торопливо крестился, как-то жалобно и растерянно глядел на других и, словно стыдясь своего малодушия, пробовал улыбаться, но вместо улыбки выходила какая-то страдальческая гримаса. Доктор Платон Васильевич то и дело жмурился, точно у него вдруг заболели глаза, и затем с какой-то жадной внимательностью впивался глазами в море и снова жмурился. Бесконечно скорбное выражение светилось на его умном, симпатичном лице. В голове его проносилась мысль о горячо любимой им молодой жене и позднее раскаяние, что он ушел в плавание, вместо того чтоб выйти в отставку. И он, сам не замечая, громко повторял: «Зачем?.. Зачем?.. Зачем?» — и опять жмурил глаза.
Нырков, только что радовавшийся, что избавился от опасности потонуть на баркасе, старался скрыть свой ужас и страх перед надвигающейся несомненной смертью. Стыд показаться перед бесстрашным, казалось ему, капитаном, офицерами и матросами заставлял этого доброго, славного молодого мичмана делать невероятные усилия, чтоб казаться спокойным, готовым умереть, «как следует доблестному моряку». А между тем он чувствовал, что сердце его замирает в жгучей тоске и холодные струйки пробегают по спине. «Стыдно, стыдно!» — думает он, с безнадежной, безмолвной мольбой поднимая свои бархатные темные глаза на небо, по которому несутся черные, мрачные тучи. Но в них он видит все ту же смерть, которая, казалось, витает над клипером.
Совсем юный мичман Арефьев, почти мальчик, не хотел верить, что приходится умирать. За что же? Он так молод, так полон жизни! «Только что произвели в мичмана — и вдруг умирать? Нет, это невозможно!» — думает он, вспоминая в это мгновение и мать-старушку, и сестру Соню, и гимназиста брата Костю, и эту маленькую столовую с кукушкой на стене, в которой так уютно и славно и где все его так любят, и чувствуя, как непроизвольно текут по его лицу слезы. Он отворачивается, чтобы другие не видели этих слез, и напрасно старается удержать их.
Старший артиллерист и старший механик, оба пожилые люди, выбежав наверх и увидав положение клипера, бросились в свои каюты и стали прятать в карманы деньги и ценные вещи. У обоих из них семьи в Кронштадте. Оба они отказывали себе во всем, редко съезжали на берег, чтобы не тратиться и кое-что скопить в плаванье для близких. Наполнив карманы и как будто сделав самое главное дело, они вернулись наверх и только тогда, казалось, сознали, что не спасти им ни скопленных денег, ни ценных вещей и что семьи их осиротеют. И они с каким-то диким ужасом в глазах озирались вокруг, машинально в то же время ощупывая карманы. Отец Спиридоний, жирный, круглый и гладкий, словно кот, откормившийся после постной монашеской трапезы на обильном кают-компанейском столе, с развевающейся рясой и клобуком на голове, уцепившись за одну из стоек, поддерживающих мостик, громко и, казалось, бессмысленно произносил молитвы, вздрагивая челюстями и вытаращив в диком страхе свои большие круглые глаза.
И офицеры, сбившиеся в кучу на шканцах, и матросы, толпившиеся у грот-мачты, то и дело взглядывали на капитана.
И взгляды эти точно говорили: «Спаси нас!»
V
Словно затравленный волк, бледный и озлобленный, с горящими глазами, все еще не теряя самообладания, капитан, точно приросший к мостику, жадно и сердито озирался вокруг, ища спасения людей и клипера. Казалось, он чувствовал эти взгляды, полные мольбы и укора, устремленные на него, и мысль, что он виноват в гибели, снова пронеслась в его голове, заставив болезненно дрогнуть мускулы его напряженного, страшно серьезного в эту минуту лица. Спасения, казалось, не было. Прошло не более минуты, как клипер понесся на гряду, и капитан, переживший в эту минуту целую вечность, к ужасу своему, не находил исхода. Еще десяток минут — и клипер вскочит на камни, и там общая смерть…
Но вдруг глаза его впились в небольшой заливчик, вдавшийся в берег справа, впились и блеснули радостным блеском, озарив все его лицо. И в то же мгновение он крикнул в рупор громким, уверенным и повелительным голосом:
— Паруса ставить! Марсовые к вантам!.. Живо! Каждая секунда дорога, молодцы! — прибавил он.
Этот уверенный голос пробудил во всех какую-то смутную надежду, хотя никто и не понимал пока, к чему ставятся паруса.
Только старый штурман, уже приготовившийся к смерти и по-прежнему спокойно стоявший у компаса, весь встрепенулся и с восторженным удивлением взглянул на капитана.
«Молодчага! Выручил!» — подумал он, любуясь, как старый морской волк, находчивостью капитана и догадавшись, в чем дело.
И штурман снова оживился и стал смотреть в бинокль на этот самый заливчик, почти закрытый возвышенными берегами.
— Я выбрасываюсь на берег! — отрывисто, резко и радостно проговорил капитан, обращаясь к старшему офицеру и к старшему штурману. — Кажется, там чисто… Камней нет? — прибавил он, указывая закостеневшей рукой, красной, как говядина, на заливчик, омывающий лощинку.
— Не должно быть! — отвечал старый штурман.
— А как глубина у берега?
— По карте двадцать фут.
— И отлично! В полветра мигом долетим.
— Как бы в эдакий шторм не сломало мачт! — вставил старший офицер.
— Есть о чем говорить теперь! — небрежно кинул капитан и, подняв голову, крикнул в рупор: — Живо, живо, молодцы!
Но «молодцы», стремительно качавшиеся на реях и цепко держась ногами на пертах, и без подбадривания, в надежде на спасение, торопились отвязывать марселя и вязать рифы, несмотря на адский ветер, грозивший каждое мгновение сорвать их с рей в море или на палубу. Одной рукой держась за рею и прижавшись к ней, другой, свободной рукой каждый марсовой делал свое адски трудное дело на страшной высоте, при ледяном вихре. Приходилось цепляться зубами за мякоть паруса и рвать до крови ногти.
Наконец минут через восемь, во время которых клипер приблизился к бурунам настолько близко, что можно было видеть простым глазом черневшие по временам высокие камни, паруса были поставлены, и «Ястреб», с марселями в четыре рифа и под стакселем, снова, как послушный конь на доброй узде, бросился к ветру и, накренившись, почти чертя воду бортом, понесся теперь к берегу, оставив влево за собой страшную пенящуюся ленту бурунов.
Все перекрестились. Надежда на спасение засветилась на всех лицах, и боцман Егор Митрич уж ругался с прежним одушевлением за невытянутый шкот у стакселя и с заботливой тревогой посматривал наверх, на гнувшиеся мачты.
— Спасайте-ка свои хронометры, Лаврентий Иваныч, — сказал капитан, когда клипер был уже близко от берега, — удар будет сильный, когда мы врежемся.
Старый штурман пошел спасать хронометры и инструменты.
Клипер, словно чайка, летел с попутным штормом прямо на берег. Мертвое молчание царило на палубе.
— Держись, ребята, крепче! — весело крикнул капитан, сам вцепившись в поручни. — Марса-фалы отдай! Стаксель долой!
Паруса затрепыхались, и «Ястреб» со всего разбега выскочил носом в устье лощины, глубоко врезавшись всем своим корпусом в мягкий песчаный грунт.
Все, как один человек, невольно обнажили головы.
VI
— Спасибо, ребята, молодцами работали!.. — говорил капитан, обходя команду.
— Рады стараться, вашескородие! — радостно отвечали матросы.
— За вас вечно будем Бога молить! — слышались голоса.
Капитан приказал выдать людям по две чарки водки и скорее варить им горячую пищу. Вслед за тем он вместе со старшим офицером спустился вниз осматривать повреждения клипера. Повреждений оказалось не особенно много, и воды в трюме почти не было. Только при ударе тронуло машину да своротило камбуз.
— А молодец «Ястреб»! Крепкое судно, Николай Николаич.
— Доброе судно! — любовно отвечал старший офицер.
— Сегодня пусть отдохнет команда, да и здесь стоять нам хорошо… шторм нас не побеспокоит, — продолжал капитан, — ас завтрашнего утра станем помаленьку выгружать тяжести и провизию и еще вытянем подальше клипер, чтобы спокойнее зимовать и не бояться ледохода.
— Есть, — проговорил старший офицер.
— Провизии у нас ведь довольно до весны?
— На шесть месяцев.
— И, значит, отлично прозимуем в этой дыре, — заметил капитан, поднимаясь из машины.
Радостные, счастливые, иззябшие и страшно голодные, спустились офицеры в кают-компанию и торопили вестовых подать водки и чего-нибудь закусить да скорей затопить печку. Об обеде пока нечего было и думать. Все заготовленное с утра пропало в свороченном на сторону камбузе.
— Вот тебе и Сан-Франциско! — проговорил после нескольких минут взволнованного молчания лейтенант Сниткин, оправившийся от страха и несколько сконфуженный, что видели его отчаянное малодушие.
— Молите Бога, что вас не едят теперь рыбы! — серьезно заметил Лаврентий Иванович и с видимым наслаждением опрокинул себе в рот объемистую рюмку рома и закусил честером[16]. — Если бы не наш умница капитан, были бы мы в настоящую минуту на дне морском. Он нас вызволил… Гениальная находчивость! Лихой моряк!
И старый штурман «дернул» другую.
Все в один голос соглашались с Лаврентием Ивановичем, а мичман Нырков восторженно воскликнул:
— Я просто влюбился в него после сегодняшнего дня!.. И какое дьявольское присутствие духа!..
В эту минуту двери отворились. Все смолкли. Вошел капитан вместе со старшим офицером.
— Ну, господа, — проговорил он, снимая фуражку, — вместо Сан-Франциско будем зимовать здесь, в этой трущобе… Что делать?! Не послушал я вчера нашего уважаемого Лаврентия Иваныча. Не ушел. А теперь раньше весны отсюда не уйдем… При первой возможности я дам знать начальнику эскадры, и он пришлет за нами одно из судов. Оно отведет нас в док, мы починимся и снова будем плавать на «Ястребе»… Да что это вы, господа, на меня так странно смотрите? — вдруг прибавил капитан, заметив общие удивленные взгляды, устремленные на его голову.
— Вы поседели, Алексей Петрович, — тихо, с каким-то любовным почтением проговорил старый штурман.
Действительно, его белокурая красивая голова была почти седа.
— Поседел?! Ну, это еще небольшая беда, — промолвил капитан. — Могла быть беда несравненно бо́льшая… А что, господа, не позволите ли у вас закусить? — прибавил он. — Страшно есть хочется.
Все радостно усадили его на диван.
Весной за клипером пришел сам «беспокойный адмирал» на корвете «Резвый» и отдал в приказе благодарность капитану за его находчивость и мужество, «с какими он спас в критические минуты экипаж и вверенное ему судно». Через несколько дней «Ястреб» был приведен на буксире в Гонконг и, починившись в доке, через месяц, по-прежнему стройный, красивый и изящный, плыл к берегам Австралии.
1893
Куцый
I
В роскошное раннее тропическое утро на сингапурском рейде, где собралась русская эскадра Тихого океана, плававшая в шестидесятых годах, новый старший офицер, барон фон дер Беринг, худощавый, долговязый и необыкновенно серьезный блондин лет тридцати пяти, в первый раз обходил в сопровождении старшего боцмана Гордеева корвет «Могучий», заглядывая во все самые сокровенные его закоулки. Барон только вчера вечером перебрался на «Могучий», переведенный с клипера «Голубь» по распоряжению адмирала, и теперь знакомился с судном.
Несмотря на желания педантичного барона, в качестве «новой метлы», к чему-нибудь да придраться, это оказалось решительно невозможным. «Могучий», находившийся в кругосветном плавании уже два года, содержался в образцовом порядке и сиял сверху донизу умопомрачающей чистотой. Недаром же прежний старший офицер, милейший Степан Степанович, назначенный командиром одного из клиперов, — любимый и офицерами и матросами, — клал всю свою добрую, бесхитростную душу на то, чтобы «Могучий» был, как выражался Степан Степанович, «игрушкой», которой мог бы любоваться всякий понимающий дело моряк.
И действительно, «Могучим» любовались во всех портах, которые он посещал.
Обходя медлительной, несколько развалистой походкой нижнюю жилую палубу, барон Беринг вдруг остановился на кубрике и вытянул свой длинный белый указательный палец, на котором блестел перстень с фамильным гербом старинного рода курляндских баронов Беринг. Палец этот указывал на лохматого крупного рыжего пса, сладко дремавшего, вытянув свою неказистую, далеко не породистую морду, в укромном и прохладном уголке матросского помещения.
— Это что такое?! — внушительно и строго спросил барон, после секунды-другой торжественного молчания.
— Собака, ваше благородие! — поспешил ответить боцман, подумавший, что старший офицер не разглядел в полутемноте кубрика собаку и принял ее за что-нибудь другое.
— Ду-у-рак! — спокойно, не повышая голоса, отчеканил барон. — Я сам вижу, что это собака, а не швабра. Я спрашиваю: почему собака здесь? Разве можно на военном судне держать собак! Чья это собака?
— Конвертская, ваше благородие!
— Боцман… Как твоя фамилия?
— Гордеев, ваше благородие!
— Боцман Гордеев! Выражайся яснее: я тебя не понимаю. Что значит корветская собака? — продолжал барон все тем же медленным, тихим и нудящим голосом, произнося слова с той отчетливостью, с какой говорят русские немцы, и останавливая на лице боцмана свои большие, светлые и холодные голубые глаза.
Пожилой боцман, которого до сих пор все, кажется, отлично понимали, за исключением разве тех случаев, когда он, случалось, возвращался с берега пьяный вдрызг, недоумевая смотрел в бесстрастное, белое, отливавшее румянцем, безусое продолговатое лицо, опушенное рыжеватыми бакенбардами в виде котлет, и, видимо, удрученный этим назойливым допросом, вместо ответа ожесточенно заморгал своими маленькими серыми глазами.
— Так какая же это корветская собака?
— Матросская, значит, обчая, ваше благородие! — объяснил с угрюмым видом боцман и в то же время сердито подумал: «Не понимаешь, что ли, долговязый!»
Но «долговязый», казалось, не понимал и сказал:
— Что ты мне вздор рассказываешь!.. У каждой собаки должен быть хозяин.
— То-то у ей нет, ваше благородие. Она приблудная.
— Какая? — переспросил барон, видимо не зная значения этого слова.
— Приблудная, ваше благородие. В Кронштадте увязалась за одним нашим матросиком и явилась на конверт, когда он вооружался в гавани. С той поры Куцый и ходит с нами. Так его назвали по причине хвоста, ваше благородие! — прибавил в виде пояснения боцман.
— Собаки на военном судне — беспорядок. Они только гадят палубу.
— Осмелюсь доложить, ваше благородие, что Куцый собака понятливая и ведет себя как следовает. За ей насчет этого ничего дурного не замечено! — вступился боцман за Куцего. — Прежний старший офицер, Степан Степаныч, дозволяли ее держать, потому как Куцый, можно сказать, исправная собака и команда ее любит.
— Слишком много вам позволяли прежде, как посмотрю, и распустили. Я вас всех подтяну, слышишь? — строго заметил барон, которому объяснения боцмана показались несколько фамильярными, и сам он, казалось, не особенно трепетал перед старшим офицером.
— Слушаю, ваше благородие.
Барон на секунду задумался и наморщил лоб, решая в своем уме участь Куцего. И боцман, весьма благоволивший к Куцему, со страхом ждал этого решения.
Наконец старший офицер проговорил:
— Если я когда-нибудь замечу, что эта собака изгадит мне палубу, я прикажу ее выкинуть за борт. Понял?
— Понял, ваше благородие!
— И помни, что я два раза не повторяю своих приказаний, — внушительно прибавил барон, по-прежнему не возвышая своего скрипучего однотонного голоса.
Боцман Гордеев, старый служака, видавший на своем веку немало разного начальства и умевший понимать людей, и без этого предупреждения уже сообразил, что этот долговязый даром что говорит тихо, без пыла, а такая «чума», с которой всем служить будет очень «нудно», не то что со Степаном Степанычем.
Услыхав несколько раз свою кличку, Куцый потянулся, открывая глаза, лениво поднялся, сделал несколько шагов, выходя из темного угла поближе к свету, и, как смышленый, понимающий дисциплину пес, при виде незнакомого человека в офицерской форме почтительно вильнул несколько раз своим обрубком.
— Фуй, какая отвратительная собака! — брезгливо процедил барон, кидая взгляд, полный презрения, на невзрачную и неуклюжую большую дворнягу с жесткой всклокоченной рыжей шерстью, обгрызенными, стоящими торчком ушами и широкой мордой, местами покрытой плешинами, словно изъеденной молью.
Только необыкновенно умные и добрые глаза Куцего, пристально оглядывавшие барона, несколько скрашивали его уродливую наружность. Но этих глаз барон, верно, не заметил.
— Чтоб я не встречал никогда этой мерзкой собаки! — проговорил барон.
И с этими словами он повернулся и поднялся наверх, сопровождаемый удрученным и нахмурившимся боцманом.
Поджав свой обрубок — следы злой шутки одного кронштадтского повара, — Куцый побрел, прихрамывая на одну, давно сломанную переднюю лапу, в свой темный уголок, чуя, надо думать, что не имел счастья понравиться этому долговязому человеку с рыжими баками и со злым взглядом, который не предвещал ничего хорошего.
Один матрос, слышавший слова старшего офицера, ласково потрепал общего корветского любимца, который в ответ благодарно вылизывал шершавую матросскую руку.
II
Испытывая чувство тоскливого угнетения, обычное в простом русском человеке, которого донимают нотациями и «жалкими» словами, боцман еще целую четверть часа, если не более, выслушивал, стоя навытяжку в каюте барона и теребя в нетерпении фуражку, его длинные, обстоятельные и монотонные наставления о том, какие отныне будут порядки на корвете, чего он будет требовать от боцманов и унтер-офицеров, как должны вести себя матросы, что такое, по понятиям барона, настоящая дисциплина и как он будет беспощадно взыскивать за пьянство на берегу.
Отпущенный наконец из каюты с напутствием «хорошо запомнить все, что сказано, и передать кому следует», боцман радостно вздохнул и, весь красный, словно после бани, выскочил наверх и пошел на бак выкурить поскорее трубочку махорки.
Там его тотчас же обступили почти все представители баковой аристократии: фельдшер, баталер, подшкипер, машинист, два писаря и несколько унтер-офицеров.
— Ну что, Аким Захарыч, каков старший офицер? Как он вам показался? — спрашивали боцмана со всех сторон.
Боцман в ответ только безнадежно махнул своей волосатой красной и жилистой рукой и сердито плюнул в кадку.
И этот жест, и энергичный плевок, и раздраженное выражение загорелого, красно-бурого лица боцмана, опушенного черными, с проседью, бакенбардами, с красным, похожим на картофелину носом и с нахмуренными бровями — словом, все, казалось, говорило: дескать, лучше и не спрашивайте!
— Сердитый? — спросил кто-то.
Но боцман не тотчас ответил. Он сделал сперва две-три отчаянные затяжки, сплюнул опять и, значительно оглядев всех слушателей, жаждавших услышать оценку такого умного и авторитетного человека, наконец выпалил, несколько понижая, однако, свои зычный голос, стяжавший горлу боцмана репутацию «медной глотки»:
— Прямо сказать: чума турецкая!
Столь убежденная и решительная оценка произвела на присутствующих весьма сильное впечатление. Еще бы! После двухлетнего плавания со старшим офицером, который, по выражению матросов, был «добер» и «жалел» людей, не обременяя их непосильными работами и учениями, дрался редко — и то с пыла, а не от жестокости — и снисходительно относился к матросской слабости — «нахлестаться» на берегу, иметь дело с «чумой» показалось очень непривлекательным. Немудрено, что все лица внезапно сделались серьезными и задумчивыми.
С минуту длилось сосредоточенное и напряженное молчание.
— В каких, однако, смыслах он чума, Аким Захарыч? — заговорил молодой курчавый фельдшер, которому, по его должности, предстояло менее других опасности иметь столкновения со старшим офицером. Знай себе доктора да лазарет, и шабаш!
— Во всяких смыслах, братец ты мой, чума! То есть вовсе нудный человек. Зудит, как пила, и никакой не дает тебе передышки, немчура долговязая! Сейчас вот в каюте донимал. Глядит это на меня рыбьим глазом, а сам: зу-зу-зу, зу-зу-зу, — передразнил барона боцман. — Я, говорит, вас всех подтяну. У меня, говорит, новые порядки станут. Я, говорит, за береговое пьянство буду взыскивать во всей строгости… Одно слово — зудил без конца. Совсем в тоску привел.
— Унтерцер, что вчерась на катере с «Голубя» привез нового старшего офицера, тоже его не хвалил. Сказывал, что карактерный и упрямый и всех на клипере разговором нудил, — вставил один из унтер-офицеров. — На «Голубе» все рады, что он ушел, потому приставал, ровно смола… А драться, сказывали, не дерется и не порет, но только наказывает по-своему: на ванты босыми ногами ставит, на ноки на высидку посылает. Сказывал — очень придирчив и много о себе полагает этот самый… как его по фамилии?..
— Берников, что ли, — ответил боцман, переделывая немецкую фамилию на русский лад. — Из немецких баронов. А о себе он напрасно полагает, потому полагать-то ему нечего! — авторитетно прибавил боцман.
— А что?
— А то, что в ём большого рассудка незаметно. Это по всем его словам оказывает. И на понятие туг. Давече, я вам скажу, не мог взять вдомек, что Куцый конвертская собака… Какая, говорит, конвертская? Непременно ему хозяина подавай…
— Из-за чего у вас о собаке-то разговор вышел? — спросил кто-то.
— А вот поди ж ты! Не понравился ему наш Куцый, и шабаш! Нельзя, говорит, на судне держать собаку. И грозился, что прикажет выкинуть Куцего за борт, если он нагадит на палубе… И чтобы я, говорит, его не встречал!
— И что ему Куцый? Мешает, что ли?
— То-то все ему мешает, анафеме. И животную бессловесную и тую притеснил… Да, братцы, послал нам Господь цацу, нечего сказать. Другое житье пойдет. Не раз вспомним Степан Степаныча, дай Бог ему, голубчику, здоровья! — промолвил боцман и, выбив трубочку, опустил ее в карман своих штанов.
— Капитан-то наш ему большого хода не даст, я так полагаю, — заметил молодой фельдшер. — Не допустит очень-то безобразничать. Шалишь, брат! Не те нонче права… Вот теперь мужикам волю дают, и всем права будут, чтобы по закону.
— Недосмотреть-то всего капитану. Главная причина, что старший офицер ближе всего до нас касается! — возразил боцман.
— Можно и до капитана дойти, в случае чего. Так, мол, и так! — хорохорился фельдшер.
— Прыток больно! А ты рассуди, что и капитану, стало быть, быдто зазорно против своего же брата идти и срамить его, скажем, из-за какого-нибудь унтерцера. В этом самая загвоздка и есть! Нет, братец ты мой, поодиночке жаловаться не порядок, только здря начальство расстроишь, а толку не будет: тебе же попадет! В старину бывала другая правила! — прибавил боцман, строго охранявший прежние традиции, так сказать, обычного матросского права.
— Какая, Аким Захарыч?
— А такая, что ежели, примерно, безо всякого, можно сказать, рассудка изматывали нашего брата матроса и вовсе уже не ставало терпения, значит, от тиранства, тогда команда шла на отчаянность: выстроится, как следует, во фрунт и через боцманов объявит командиру претензию.
— И что ж, выходил толк?
— Глядя по человеку. Иной вместо разборки велит перепороть половину команды, ну а другой выслушает и рассудит по совести. Помню, раз на смотру — я еще тогда первый год служил — объявили мы адмиралу Чаплыгину претензию на командира Занозова — форменный зверь был! — так вместо разборки дела у нас на корабле, братец ты мой, целый день порка была. Так стон и стоял, и мне сто линьков всыпали — вот тебе и вся претензия! Опять же в другой раз тоже объявили мы претензию капитану Чулкову — теперь он в адмиралы вышел — на старшего офицера. Так совсем другой оборот. Выслушал это Чулков, насупимшись, грозный такой, однако, обещал по форме рассудить.
— Ну и что же? Рассудил?
— Рассудил. Через неделю старший офицер списался с фрегата, быдто по болезни, и мы вздохнули… И ничего нам не было. Вот, братец ты мой, какие дела бывали… Известно, шли на фарт.
— Ну, наш командир небось не даст команды в обиду!
— На капитана одна и надежда, а все-таки недоглядеть ему за всем. Зазудит нас долговязая немца!
Еще несколько времени продолжались толки о новом старшем офицере. Все решили пока что ждать поступков. Может, он и испугается капитана и не станет менять порядков, заведенных Степан Степанычем. Эти соображения несколько успокоили собравшихся. И тогда молодой писарек из кантонистов, отчаянный франт с аметистовым перстеньком на мизинце, спросил:
— А как же теперь насчет берега будет, Аким Захарыч? Отпустит он нас на Сингапур посмотреть?
— Об этом разговору не было.
— Так вы доложили бы старшему офицеру, Аким Захарыч.
— Ужо доложу.
— Всякому лестно, я думаю, погулять на берегу. Здесь, говорят, в Сингапуре, очень даже любопытно. И насчет красы природы, и насчет ресторантов. И лавки, говорят, хорошие. Уж вы доложите, Аким Захарыч, а то неизвестно еще, сколько простоим, того и гляди, без удовольствия останемся.
В эту минуту на бак со всех ног прибежал молодой вестовой Ошурков и сказал боцману:
— Аким Захарыч! Вас старший офицер требует.
— Что ему еще?
— Не могу знать. У себя в каюте сидит и какие-то бумаги перебирает.
— Опять зудить начнет! Эка…
И, выпустив звучную ругань, боцман побежал к старшему офицеру.
— А ты у нового старшего офицера остаешься, Вань, вестовым? — спрашивали на баке у Ошуркова.
— То-то остаюсь. Ничего не поделаешь… Придется с им терпеть. По всему видно, что занозу мне Бог послал заместо Степан Степаныча. Уж он мне зудил насчет евойных, значит, порядков. Чтобы, говорит, как машина, все сполнял!
III
Ненависть нового старшего офицера к Куцему и его угроза выбросить матросскую собаку за борт были встречены общим глухим ропотом команды. Все, казалось, удивлялись этой бессмысленной жестокости — лишить матросов их любимца, который в течение двух лет плавания доставлял им столько развлечений среди однообразия и скуки судовой жизни и был таким добрым, ласковым и благодарным псом, платившим искренней привязанностью за доброе к нему отношение людей, которое он наконец нашел после нескольких лет бродяжнической и полной невзгод жизни на улицах Кронштадта.
Смышленый и переимчивый, быстро усваивавший разные предметы матросского преподавания, каких только штук не проделывал этот смешной и некрасивый Куцый, вызывая общий смех матросов и удивляя их своей действительно необыкновенной понятливостью! И сколько удовольствия и утехи доставлял он нетребовательным морякам, заставляя их хоть на время забывать и тяжелую морскую жизнь на длинных океанских переходах, и долгую разлуку с родиной!
Он ходил на задних лапах с самым серьезным выражением на своей умной морде, носил поноску, лазил на ванты и стоял там, пока ему не кричали: «С марсов долой!» Сердито скалил зубы и ворчал, если его спрашивали: «Куцый, хочешь, брат, линьков?» — и, напротив, строил радостную гримасу, виляя весело своим обрубком, когда ему говорили: «Хочешь на берег?» Когда раздавался свисток и вслед за тем окрик боцмана: «Пошел все наверх!» — Куцый вместе с подвахтенными летел стремглав наверх, какая бы ни была погода, и дожидался на баке, пока не свистали: «Подвахтенных вниз!» А во время шторма он почти всегда бывал наверху и развлекал вахтенных во время их тяжелых вахт. Когда свистали к водке, Куцый вместе с матросами присутствовал при раздаче и затем во время обеда обходил на задних лапах сидящих по артелям матросов, отовсюду получая щедрые подачки, и весело брехал в знак благодарности.
После обеда, когда подвахтенные отдыхали, Куцый неизменно ложился у ног Кочиева, пожилого и угрюмого бакового матроса, горького пьяницы, к которому питал необыкновенно нежные чувства и выказывал трогательную преданность. Он глядел матросу, что называется, в глаза и всегда почти вертелся около него, видимо несказанно довольный, когда Кочнев погладит его. Во время ночных вахт Куцый обязательно бывал при Кочневе, и, когда тот сидел на носу, на часах, обязанный «смотреть вперед», Куцый нередко исполнял вместо своего приятеля обязанности часового. Он добросовестно мок под дождем, продуваемый насквозь свежим ветром, и, насторожив изгрызенные уши, зорко всматривался вперед, в темноту ночи, предоставляя матросу, закутанному в дождевик и согретому шерстью собаки, слегка вздремнуть, поклевывая носом. Завидев огонь встречного судна или внезапно выросший силуэт «купца», не носящего по беспечности огней, Куцый громко лаял и будил задремавшего часового.
На берег Куцый всегда съезжал с Кочиевым, шел с ним до ближайшего кабака и, отлучившись на часок, чтоб взглянуть на береговых собак, возвращался, иногда изгрызенный, к своему другу и уже не выпускал его из глаз. Он внимательно и с видимым сочувствием слушал пьяные монологи матроса, подавал реплики виляньем обрубка или ласковым визгом, если пьяный Кочнев вел с ним беседу на какие-нибудь, должно быть, невеселые темы, и сторожил матроса, когда тот валялся на улице в бесчувственном состоянии, пока не подходили товарищи и не подбирали его.
Одним словом, Куцый выказывал истинно собачью привязанность к тому человеку, который доставил ему, гонимому бродяге, каждое утро рисковавшему попасть на аркан фурманщика[17], спокойный приют на корвете и сытую, приятную жизнь среди добрых людей, выразивших бродяге с первого же его появления на корвете самое милое и любезное внимание, которого он уж давно не видал.
В свою очередь и угрюмый, малообщительный матрос был сильно привязан к своему найденышу, оказавшему такие блистательные способности, не говоря уже о прекрасных нравственных качествах, и, кажется, только с ним одним и вел под пьяную руку длинные интимные беседы. Он рассказывал Куцему о том, как он неправильно, из-за одного «подлого человека», был сдан в матросы, и о своей жене, которая живет вроде быдто «форменной барыни», и о дочери, которая знать его не хочет… И Куцый, казалось, понимал, что этот угрюмый матрос, пивший джин стаканчик за стаканчиком в каком-нибудь иностранном кабачке, рассказывает невеселые вещи.
Знакомство с Куцым произошло совершенно случайно. Это было в Кронштадте в один ненастный и холодный воскресный день, после обеда, дня за три до отхода «Могучего» в кругосветное плавание. Порядочно «треснувши» и выписывая ногами самые затейливые вензеля, Кочнев возвращался из кабака на корвет, стоявший в военной гавани, как где-то в переулке заметил собаку, угрюмо прижавшуюся к водосточной трубе и вздрагивающую от холода. Жалкий вид этой намокшей, с выдающимися ребрами, видимо бесприютной, собаки, и притом самой неказистой наружности, обличавшей бродягу, тронул пьяненького матроса.
— Ты, брат, чей будешь?.. Видно, бездомный пес, а? — проговорил он заплетающимся языком, останавливаясь около собаки.
Собака подозрительно взглянула своими умными глазами на матроса, точно соображая: дать ли ей немедленно тягу или выждать, не уйдет ли этот человек. Но несколько дальнейших слов, произнесенных ласковым тоном, видимо, успокоили ее насчет его недобрых намерений, и она жалобно завыла. Матрос подошел еще ближе и погладил ее; она лизнула ему руку, видимо тронутая лаской, и завыла еще сильней.
Тогда Кочнев стал шарить у себя в карманах. Этот жест возбудил в собаке жадное внимание.
— Голоден небось, бедный! — говорил матрос. — А ты потерпи… Вот и нашел, на твое счастье! — прибавил он, вынимая наконец из штанов медную монетку.
Он зашел в мелочную лавочку и через минуту бросил собаке куски черного хлеба и отрезки рубцов, купленных им на свои не пропитые еще две копейки.
Собака с алчностью бросилась на пищу и в несколько секунд сожрала все и снова вопросительно смотрела на матроса.
— Ну, валим на конверт… Там тебя накормят до отвалу, коли ты такой голодный… Матросы — добрые ребята… Не бойся! И переночуешь на конверте, а то что за радость мокнуть на дожде… Идем, собака!
Он ласково свистнул. Собака двинулась за ним и не без некоторого смущения вошла по сходням на корвет и вслед за матросом очутилась на баке среди толпы людей, испуганная и будто сконфуженная своим непривлекательным видом.
— Бродягу, братцы, нашел! — проговорил Кочнев, указывая на собаку.
Несчастный ее вид возбудил жалость в матросах. Ее стали гладить и повели вниз кормить. Скоро она, наевшись досыта, заснула недалеко от камбуза (кухни) и, не веря своему счастью, часто тревожно просыпалась во сне.
Наутро, разбуженная чисткой верхней палубы, собака испуганно озиралась, но Кочнев значительно успокоил ее, поставил перед ней чашку с жидкой кашицей, которой завтракали матросы.
Спустя несколько времени, когда палуба была вымыта, Кочнев вывел ее наверх, на бак, и предложил матросам оставить ее на корвете.
— Пущай плавает с нами.
Предложение было принято с полным сочувствием. Обратились к боцману с просьбой испросить разрешение старшего офицера, и, когда разрешение было получено, на баке поднялся вопрос, какую дать этому псу кличку.
Все посматривали на весьма неказистую собаку, которая в ответ на ласковые взгляды повиливала обрубком хвоста и благодарно лизала руки матросов, которые гладили ее.
— Окромя как Куцым, никак его не назвать! — предложил кто-то.
Кличка понравилась. И с той же минуты Куцый был принят в число экипажа «Могучего».
Первоначальным воспитанием его занялся Кочнев и выказал блестящие педагогические способности. Через неделю уже Куцый понял неприкосновенность сверкавшей белизной палубы и строгость моряков относительно чистоты и сделался исправной собакой. В первую же трепку в Балтийском море он обнаружил и свои морские качества. Его нисколько не укачивало, он ел с таким же аппетитом, как и в тихую погоду, и не выказывал ни малейшего малодушия при виде громадных волн, разбивающихся о бока корвета. Вскоре смышленый и ласковый Куцый сделался общим любимцем и забавлял матросов своими штуками.
И такого-то славного пса грозили выкинуть за борт!
Весть об этом взволновала едва ли не более всех Кочиева, и он решил принять все меры, чтобы этот долговязый дьявол не встречал Куцего. И в тот же день, когда Куцый с веселым, беззаботным видом выскочил наверх, как только что просвистали к водке, Кочиев отвел его вниз и, указав место в самом темном уголке кубрика, проговорил:
— Сиди, Куцый, здесь смирно, а то беда! Ужо я принесу тебе пообедать!
IV
Прошел месяц.
За это время матросы достаточно присмотрелись к новому старшему офицеру и невзлюбили его. Он, правда, до сих пор никого не наказал линьками, никого не ударил и вообще не обнаруживал жестокости, и тем не менее барона ненавидели за его придирчивость, мелочность, за то, что он приставал «как смола», «зудил» провинившегося в чем-нибудь матроса без конца и затем наказывал самым чувствительным образом: оставлял виновного без берега, лишая таким образом матроса единственного удовольствия дальних плаваний. А то ставил на ванты или посылал на «высидку» на нок и — что казалось матросам еще обиднее — оставлял без чарки водки, столь любимой моряками.
Барона ненавидели и боялись и за эти наказания, и за его бессердечный педантизм, не оставлявший без внимания ни малейшего отступления от расписания судовой жизни. Все чувствовали над собой гнет какой-то бездушной, упрямой машины и, главное, понимали, что в душе барон презирает матроса и смотрит на него исключительно как на рабочую силу. Никогда ни доброго слова, ни шутки! Всегда один и тот же ровный и спокойный скрипучий голос, в котором чуткое ухо слышало высокомерно-презрительную нотку. Всегда этот жесткий взгляд голубых бесстрастных глаз!
Не пользовался он и уважением как моряк. На баке, этом матросском клубе, где даются меткие оценки офицерам, находили, что он далеко не «орел», каким был Степан Степаныч, а мокрая курица, выказавшая трусость во время шторма, прихватившего корвет по выходе из Сингапура. И дело он, по мнению старых матросов, понимал не до тонкости, хотя и всюду совал свой нос. И «башковатости» в нем было немного, а только одно упрямство. Одним словом, барона терпеть не могли и иначе не звали как Чертовой зудой. Всякий опасался его наставлений, словно чумы.
Вначале барон вздумал было изменить порядки на корвете и вместо прежних недолгих ежедневных учений стал «закатывать» учения часа по три подряд, утомляя матросов, и без того утомленных шестичасовыми вахтами на ходу. Но, спасибо капитану, он скоро умерил усердие старшего офицера.
И об этом юркий капитанский вестовой Егорка рассказывал на баке так:
— Призвал он, этто, братцы, Чертову зуду к себе и говорит: «Вы, говорит, Карла Фернандыч, напрасно новые порядки заводите и людей зря мучаете учениями. Пусть, говорит, по-старому остается».
— Что ж на это Зуда?
— Покраснел весь, ровно рак вареный, Зуда проклятая, и в ответ: «Слушаю-с, говорит, но только я полагал, что как для пользы службы…» — «Извините, господин барон, — это ему капитан вперебой, — я, говорит, и без вас понимаю, какая, говорит, польза службы есть… И польза, говорит, службы требовает, чтобы матросов зря не нудили. Ему, говорит, матросу, и без ученьев есть дела много, вахту справлять, и у нас, говорит, матросы лихо работают и молодцы, говорит… Так уж вы о пользе службы не извольте очинно беспокоиться… а затем, говорит, я больше ничего не желаю вам сказать…» Так черт долговязый и ушел ошпаренный! — заключил Егорка, к общему удовольствию собравшихся матросов.
Вообще барон фон дер Беринг пришелся как-то «не ко двору» со своими новыми порядками и взглядами на дисциплину. В кают-компании нового старшего офицера тоже невзлюбили, особенно молодежь, вся пропитанная новыми веяниями шестидесятых годов и жаждавшая приложить их к делу гуманным обращением с матросами. Чем-то старым, архаическим веяло от взглядов барона, завзятого крепостника и консерватора. Безусловно, честный и убежденный, не скрывавший своих, как он говорил, «священных принципов», всегда несколько напыщенный и самолюбивый, прилизанный и до тошноты аккуратный, барон возбуждал неприязнь в веселых молодых офицерах, которые считали его ограниченным, тупым педантом и сухим человеком, мнившим себя непогрешимым и глядевшим на всех с высоты своего курляндского баронства. Не нравился он и «париям» флотской службы: штурману, артиллеристу и механику. И без того обидчивые и мнительные, они отлично чувствовали в его изысканно-вежливом обращении снисходительное презрение завзятого барона, сознающего свое превосходство.
Не пришелся по вкусу новый старший офицер и капитану. Он не очень-то был благодарен адмиралу, наградившему его такой «немецкой колбасой», и не догадывался, конечно, что хитрый адмирал нарочно назначил барона старшим офицером именно к нему, на «Могучий», уверенный, что командир «Могучего» скоро «сплавит» барона, и адмирал, таким образом, «умоет руки» и отошлет его с эскадры в Россию.
В кают-компании почти никто не разговаривал с бароном, исключая служебных дел, и он был каким-то чужим в дружной семье офицеров «Могучего». Только мичманы подчас не отказывали себе в удовольствии подразнить барона, громя крепостников и консерваторов, не понимающих значения великих реформ, и расхваливая в присутствии барона Степана Степановича. «Вот-то приятно было с ним служить! Вот-то был знающий и дельный старший офицер и добрый товарищ! И как его любили матросы, и как он сам понимал матроса и любил его! И как они для него старались!»
— Его даже и Куцый любил! — восклицал курчавый белокурый мичман Кошутич, особенно любивший «травить» эту «немецкую аристократическую дубину». — А Куцего что-то не видать нынче наверху, господа… Прячется бедная собака. Что бы это значило, а? — прибавлял нарочно мичман, знавший об угрозе старшего офицера.
Барон только надувался, словно индюк, не обращая, по-видимому, никакого внимания на все эти шпильки, и с тупым упрямством ограниченного человека не изменял своего поведения и как будто игнорировал общую к себе нелюбовь.
В течение этого месяца Куцый действительно не показывался на глаза старшего офицера, хоть сам и увидал его еще раз издали, причем Кочнев, указавший на барона, проговорил: «Берегись его, Куцый!» — и проговорил таким страшным голосом, что Куцый присел на задние лапы. Прежняя привольная жизнь Куцего изменилась. По утрам, во время обычных обходов старшего офицера, Куцый скрывался где-нибудь в уголке трюма или кочегарной, указанном ему Кочиевым, который немало употребил усилий, чтоб приучить собаку сидеть не шелохнувшись в темном уголке. И во время авралов уж Куцый не выбегал наверх.
Благодаря урокам своего наставника довольно было проговорить: «Зуда идет!» — чтобы Куцый, поджав свой обрубок, стремительно улепетывал вниз и забивался куда-нибудь в самое сокровенное местечко, откуда выходил только тогда, когда раздавался в люк успокоительный свист какого-нибудь матроса. На верхнюю палубу Куцего выводили матросы в то время, когда барон обедал или спал, и в эти часы забавлялись по-прежнему забавными штуками умной собаки. «Не бойся, Куцый, — успокаивали его матросы. — Зуды нет». И матросы, оберегая своего любимца, ставили часовых, когда Куцый, бывало, давал свои представления на баке. Только по ночам, особенно по темным безлунным тропическим ночам, выспавшийся за день Куцый свободно разгуливал по баку и дружелюбно вертелся около матросов, но уже не дежурил с Кочиевым на часах, не смотрел вперед и не лаял, как прежде, при виде огонька. Кочнев его не брал с собой, оберегая своего фаворита от гнева Чертовой зуды, которого угрюмый матрос ненавидел, казалось, больше, чем другие.
Но, несмотря на все эти предосторожности, над бедным Куцым в скором времени разразилась гроза.
V
Был знойный палящий день в Китайском море. На голубом небе — ни облачка, и на море стоял мертвый штиль. Еще с рассвета наступило безветрие, паруса лениво повисли, и капитан приказал развести пары́. Скоро загудели пары́, и «Могучий», убрав паруса, пошел полным ходом, взявши курс на Нагасаки.
Старший офицер, особенно заботившийся о том, чтобы «Могучий» пришел в Нагасаки, где адмирал назначил «рандеву», в щегольском виде, уже в третий раз обходил сегодня корвет, придираясь ко всем и донимая всех своими нотациями. Он, видимо, был не в духе, хотя все было в идеальном порядке, все наверху горело и сияло под блестящими лучами ослепительного жгучего солнца, повисшего, словно раскаленный шар, над заштилевшим морем. Барон только что имел снова не особенно приятное объяснение с капитаном и считал себя несколько обиженным. В самом деле, все его предположения, направленные, как он был уверен, к пользе службы, систематически отвергались этим «бесхарактерным человеком», как презрительно называл барон капитана, и отношения их с каждым днем делались все суше и суше. Вдобавок и эти мичманы то и дело подпускали ему всякие шпильки, но так, что не было никакой возможности сделать им замечания. И барон, озлобленный и надутый, высокомерно думал о том, как трудно служить порядочному человеку с этими глупыми русскими «демократами», не понимающими настоящей дисциплины и готовыми подрывать престиж власти.
Спустившись в жилую палубу и занятый своими размышлениями, он без обычного внимания заглядывал во все уголки, приближаясь к кубрику, как вдруг мимо его ног стремглав пронесся Куцый и выбежал наверх.
— Мерзкая собака! — проговорил барон, несколько испуганный неожиданным появлением Куцего, и, остановившись, невольно взглянул на место, по которому тот пробежал.
И в то же мгновение взгляд барона впился в одну точку палубы, как раз под люком трапа, ведущего на бак, и на лице его появилась брезгливая гримаса.
— Боцмана послать! — крикнул барон.
Через несколько секунд явился боцман Гордеев.
— Это что тако-о-е? — медленно процедил барон, указывая пальцем на палубу.
Боцман взглянул по направлению длинного белого пальца с перстнем и смутился.
— Что это такое, спрашиваю я тебя, Гордеев?
— Сами изволите видеть, ваше благородие…
И боцман угрюмо назвал, что это такое.
Барон выдержал паузу и сказал:
— Ты помнишь, что я тебе говорил?
— Помню, ваше благородие! — еще угрюмей отвечал боцман.
— Так чтобы через пять минут эта паршивая собака была за бортом!
— Осмелюсь доложить, ваше благородие, — заговорил боцман самым почтительным тоном, полным мольбы, — что собака нездорова… И фершал ее осматривал, говорит: брюхом больна, но только скоро на поправку пойдет… В здоровом, значит, виде Куцый никогда бы не осмелился, ваше благородие!.. Простите, ваше благородие, Куцего! — промолвил боцман дрогнувшим голосом.
— Гордеев! Я не имею привычки повторять приказаний… Мало ли какого вы мне наврете вздора… Через пять минут явись ко мне и доложи, что приказание мое исполнено…. Да выскоблить здесь палубу! — прибавил барон.
С этими словами он повернулся и ушел.
— У-у, идол! — злобно прошептал вслед барону боцман.
Он поднялся наверх и взволнованно проговорил, подходя к Кочневу, который поджидал Куцего, чтоб увести его вниз.
— Ну, брат, беда! Сейчас Чертова зуда увидал внизу, что Куцый нагадил, и…
Боцман не окончил и только угрюмо качнул головой.
Кочнев понял, в чем дело, и внезапно изменился в лице. Мускулы на нем дрогнули. Несколько секунд он стоял в каком-то суровом, безмолвном отчаянии.
— Ничего не поделаешь с этим подлецом! А уж как жалко собаку! — прибавил боцман.
— Захарыч! Захарыч! — заговорил наконец матрос умоляющим, прерывающимся голосом. — Да ведь Куцый больной. Рази можно с больной собаки требовать? Уж, значит, вовсе брюхо прихватило, ежели он решился на это… Он умный. Понимает. Никогда с им этого не было. И то сколько раз выбегал сегодня наверх… Захарыч, будь отец родной! Доложи ты этому дьяволу!
— Нешто я ему не докладывал? Уж как просил за Куцего. Никакого внимания. Чтобы, говорит, через пять минут Куцый был за бортом!
— Захарыч! Сходи еще, попроси! Собака, мол, больна.
— Что ж, я пойду. Только вряд ли… Зверь! — промолвил боцман и пошел к старшему офицеру.
В это время Куцый, невеселый по случаю болезни, осунувшийся, с мутными глазами, со сконфуженным видом, словно чувствуя свою виновность, подошел к Кочиеву и лизнул ему руку. Тот с какой-то порывистой ласковостью гладил собаку, и угрюмое его лицо светилось необыкновенной нежностью.
Через минуту боцман вернулся. Мрачный его вид ясно говорил, что попытка его не увенчалась успехом.
— Разжаловать грозил! — промолвил сердито боцман.
— Братцы! — воскликнул тогда Кочнев, обращаясь к собравшимся на баке матросам. — Слышали, что злодей выдумал? Какие его такие права, чтобы топить конвертскую собаку? Где такое положенье?
Лицо угрюмого матроса было возбуждено. Глаза его сверкали.
Среди матросов поднялся ропот. Послышались голоса:
— Это он над нами куражится, Зуда проклятая!
— Не смеет, чума турецкая!
— За что топить животную!
— Так вызволим, братцы, Куцего! Дойдем до капитана! Он добер, он рассудит! Он не дозволит! — взволнованно и страстно говорил угрюмый матрос, не отпуская от себя Куцего, словно бы боясь с ним разлучиться.
— Дойдем! — раздались одобрительные голоса.
— Аким Захарыч! Станови нас во фрунт всю команду.
Дело начинало принимать серьезный оборот. Аким Захарыч озабоченно почесал затылок.
В эту минуту на баке показался молодой мичман Кошутич, любимец матросов. При появлении офицера матросы затихли. Боцман обрадовался.
— Вот, ваше благородие, — обратился он к мичману, — старший офицер приказал кинуть Куцего за борт, и команда этим очень обижается. За что безвинно губить собаку? Пес он, как вам известно, справный, два года ходил с нами. И вся его вина, ваше благородие, что он брюхом заболел…
Боцман объяснил, из-за чего вышла вся эта «дрязга», и прибавил:
— Уж вы не откажите, ваше благородие, заступитесь за Куцего. Попросите, чтоб нам его оставили.
И Куцый, точно понимая, что речь о нем, ласково смотрел на мичмана и тихо помахивал своим обрубком.
— Вон, ваше благородие, и Куцый вас просит.
Возмущенный до глубины души, мичман обещал заступиться за Куцего. На баке волнение улеглось. В лице Кочиева светилась надежда.
VI
— Барон! — взволнованно проговорил мичман, влетая в кают-компанию. — Вся команда просит вас отменить приказание насчет Куцего и позволить ему жить на свете. За что же, барон, лишать матросов собаки?! Да и какое она совершила преступление, барон?
— Это не ваше дело, мичман Кошутич, — ответил барон. — И я прошу вас не забываться и мнений своих мне не выражать. Собака будет за бортом!
— Вы думаете?
— Прошу вас замолчать! — проговорил барон и побледнел.
— Так вы хотите взбунтовать команду, что ли, своей жестокостью?! — воскликнул мичман, полный негодования. — Ну, это вам не удастся. Я иду сейчас к капитану.
И Кошутич бросился в капитанскую каюту.
Все, бывшие в кают-компании, взглянули на старшего офицера с видимой неприязненностью. Барон, бледный, с презрительной улыбкой на губах, нервно теребил одну бакенбарду.
Минуты через две капитанский вестовой доложил барону, что его просит к себе капитан.
— Что там за история с собакой, барон? — спросил капитан и как-то кисло поморщился.
— Никакой истории нет. Я приказал ее выкинуть за борт, — холодно отвечал барон.
— За что же?
— Я предупреждал, что если увижу, что она гадит, я прикажу ее выкинуть за борт. Я увидал, что она нагадила, и приказал ее выкинуть за борт. Смею полагать, что приказание старшего офицера должно быть исполнено, если только дисциплина во флоте действительно существует!
«О немецкая дубина!» — подумал капитан, и лицо его еще более сморщилось.
— А я попрошу вас, барон, немедленно отменить ваше распоряжение и впредь оставить собаку в покое. Она на корвете с моего разрешения… Мне жаль, что приходится вам отменять свое же приказание, но нельзя же отдавать подобные приказания и без всякого повода раздражать людей.
— В таком случае, господин капитан, я имею честь просить вас отменить самому мое приказание, а я считаю это для себя невозможным. И кроме того…
— Что еще? — сухо спросил капитан.
— Я болен и исполнять обязанностей старшего офицера не могу.
— Так подайте рапорт. И, быть может, вам береговой климат будет полезнее.
Барон поклонился и вышел.
На другой же день после прихода в Нагасаки барон фон дер Беринг, к общему удовольствию, списался с корвета, и на «Могучий» был назначен другой старший офицер. Матросы вздохнули.
С отъездом барона Куцый снова зажил свободной жизнью и стал пользоваться еще большим расположением матросов, так как благодаря ему корвет избавился от Чертовой зуды.
По-прежнему Куцый съезжал на берег вместе со своим другом Кочиевым и сторожил его; по-прежнему смотрел вперед и забавлял матросов разными штуками, причем при окрике «Зуда идет!» стремительно улепетывал вниз, но тотчас же возвращался, хорошо понимая, что врага его уже нет на корвете.
1894
Нянька
I
Однажды вешним утром, когда в кронштадтских гаванях давно уже кипели работы по изготовлению судов к летнему плаванию, в столовую небольшой квартиры капитана второго ранга Василия Михайловича Лузгина вошел денщик, исполняющий обязанности лакея и повара. Звали его Иван Кокорин.
Обдергивая только что надетый поверх форменной матросской рубахи засаленный черный сюртук, Иван доложил своим мягким, вкрадчивым тенорком:
— Новый денщик явился, барыня. Барин из экипажа прислали.
Барыня, молодая видная блондинка с большими серыми глазами, сидела за самоваром, в голубом капоте, в маленьком чепце на голове, прикрывавшем неубранные, завязанные в узел светло-русые волосы, и пила кофе. Рядом с ней, на высоком стульчике, лениво отхлебывал молоко, болтая ногами, черноглазый мальчик лет семи или восьми, в красной рубашке с золотым позументом. Сзади стояла, держа грудного ребенка на руках, молодая, худощавая, робкая девушка, босая и в затасканном ситцевом платье. Ее все звали Анюткой. Она была единственной крепостной Лузгиной, отданной ей в числе приданого еще подростком.
— Ты, Иван, знаешь этого денщика? — спросила барыня, поднимая голову.
— Не знаю, барыня.
— А как он на вид?
— Как есть грубая матрозня! Безо всякого обращения, барыня! — отвечал Иван, презрительно выпячивая свои толстые, сочные губы.
Сам он вовсе не походил на матроса.
Полнотелый, гладкий и румяный, с рыжеватыми намасленными волосами, с веснушчатым, гладко выбритым лицом человека лет тридцати пяти и с маленькими, заплывшими глазками, он и наружным своим видом и некоторою развязностью манер напоминал собою скорее дворового, привыкшего жить около господ.
Он с первого же года службы попал в денщики и с тех пор постоянно находился на берегу, ни разу не ходивши в море.
У Лузгиных он жил в денщиках вот уже три года и, несмотря на требовательность барыни, умел угождать ей.
— А не заметно, что он пьяница? — снова спросила барыня, не любившая пьяных денщиков.
— Не оказывает будто по личности, а кто его знает? Да вот сами изволите осмотреть и допросить денщика, барыня! — прибавил Иван.
— Ну, пошли его сюда!
Иван вышел, бросив на Анютку быстрый нежный взгляд.
Анютка сердито повела бровями.
II
В дверях показался коренастый, маленького роста, чернявый матрос с медною серьгой в ухе. На вид ему было лет пятьдесят. Застегнутый в мундир, высокий воротник которого резал его красно-бурую шею, он казался неуклюжим и весьма неказистым. Переступив осторожно через порог, матрос вытянулся, как следует перед начальством, вытаращил на барыню слегка глаза и замер в неподвижной позе, держа по швам здоровенные волосатые руки, жилистые и черные от впитавшейся смолы.
На правой руке недоставало двух пальцев.
Этот черный, как жук, матрос с грубыми чертами некрасивого, рябоватого, с красной кожей лица, сильно заросшего черными как смоль баками и усами, с густыми взъерошенными бровями, которые придавали его типичной физиономии заправского марсового несколько сердитый вид, — произвел на барыню, видимо, неприятное впечатление.
«Точно лучше не мог найти», — мысленно произнесла она, досадуя, что муж выбрал такого грубого мужлана.
Она снова оглядела стоявшего неподвижно матроса и обратила внимание и на его слегка изогнутые ноги с большими, точно медвежьими, ступнями, и на отсутствие двух пальцев, и — главное — на нос, широкий мясистый нос, малиновый цвет которого внушал ей тревожные подозрения.
— Здравствуй! — произнесла, наконец, барыня недовольным, сухим тоном, и ее большие серые глаза стали строги.
— Здравия желаю, вашескобродие! — гаркнул в ответ матрос зычным баском, видимо не сообразив размера комнаты.
Этот крик заставил барыню вздрогнуть.
— Не кричи так! — строго сказала она и оглянулась, не испугался ли ребенок. — Ты, кажется, не на улице, а в комнате. Говори тише.
— Есть, вашескобродие, — значительно понижая голос, ответил матрос.
— Еще тише. Можешь говорить тише?
— Буду стараться, вашескобродие! — произнес он совсем тихо и сконфуженно, предчувствуя, что барыня будет «нудить» его.
— Как тебя зовут?
— Федосом, вашескобродие.
Барыня поморщилась, точно от зубной боли. Совсем неблагозвучное имя!
— А фамилия?
— Чижик, вашескобродие!
— Как? — переспросила барыня.
— Чижик… Федос Чижик!
И барыня и мальчуган, давно уже оставивший молоко и не спускавший любопытных и несколько испуганных глаз с этого волосатого матроса, невольно засмеялись, а Анютка фыркнула в руку, — до того фамилия эта не подходила к его наружности.
И на серьезном, напряженном лице Федоса Чижика появилась необыкновенно добродушная и приятная улыбка, которая словно бы подтверждала, что и сам Чижик находит свое прозвище несколько смешным.
Мальчик перехватил эту улыбку, совсем преобразившую суровое выражение лица матроса. И нахмуренные его брови, и усы, и баки не смущали больше мальчика. Он сразу почувствовал, что Чижик добрый, и он ему теперь решительно нравился. Даже и запах смолы, который шел от него, показался ему особенно приятным и значительным.
И он сказал матери:
— Возьми, мама, Чижика.
— Taisez vous[18],— заметила мать.
И, принимая серьезный вид, продолжала допрос:
— У кого ты прежде был денщиком?
— Вовсе не был в этом звании, вашескобродие.
— Никогда не был денщиком?
— Точно так, вашескобродие. По флотской части состоял. Форменным, значит, матросом, вашескобродие…
— Зови меня просто барыней, а не своим дурацким вашескобродием.
— Слушаю, вашеско… виноват, барыня!
— И вестовым никогда не был?
— Никак нет.
— Почему же тебя теперь назначили в денщики?
— По причине пальцев! — отвечал Федос, опуская глаза на руку, лишенную большого и указательного пальцев. — Марса-фалом оторвало прошлым летом на «конверте», на «Кобчике»…
— Так муж тебя знает?
— Три лета с ими на «Кобчике» служил под их командой.
Это известие, казалось, несколько успокоило барыню. И она уже менее сердитым тоном спросила:
— Ты водку пьешь?
— Употребляю, барыня! — добросовестно признался Федос.
— И… много ее пьешь?
— В плепорцию, барыня.
Барыня недоверчиво покачала головой.
— Но отчего же у тебя нос такой красный, а?
— Сроду такой, барыня.
— А не от водки?
— Не должно быть. Я завсегда в своем виде, ежели когда и выпью в праздник.
— Денщику пить нельзя… Совсем нельзя… Я терпеть не могу пьяниц! Слышишь? — внушительно прибавила барыня.
Федос повел несколько удивленным взглядом на барыню и промолвил, чтобы подать реплику:
— Слушаю-с!
— Помни это.
Федос дипломатически промолчал.
— Муж говорил, на какую должность тебя берут?
— Никак нет. Только приказали явиться к вам.
— Ты будешь ходить вот за этим маленьким барином, — указала барыня движением головы на мальчика. — Будешь при нем нянькой.
Федос ласково взглянул на мальчика, а мальчик на Федоса, и оба улыбнулись.
Барыня стала перечислять обязанности денщика-няньки.
Он должен будить маленького барина в восемь часов и одеть его; весь день находиться при нем безотлучно и беречь его как зеницу ока. Каждый день ходить гулять с ним… В свободное время стирать его белье…
— Ты стирать умеешь?
— Свое белье сами стираем! — отвечал Федос и подумал, что барыня, должно быть, не очень башковата, если спрашивает, умеет ли матрос стирать.
— Подробности всех твоих обязанностей я потом объясню, а теперь отвечай: понял ты, что от тебя требуется?
В глазах матроса скользнула едва заметная улыбка.
«Нетрудно, дескать, понять!» — говорила, казалось, она.
— Понял, барыня! — отвечал Федос, несколько удрученный и этим торжественным тоном, каким говорила барыня, и этими длинными объяснениями, и окончательно решил, что в барыне большого рассудка нет, коли она так зря «языком брешет».
— Ну, а детей ты любишь?
— За что детей не любить, барыня. Известно… дите… Что с него взять…
— Иди на кухню теперь и подожди, пока вернется Василий Михайлович… Тогда я окончательно решу: оставлю я тебя или нет.
Находя, что матросу в мундире следует добросовестно исполнить роль понимающего муштру подчиненного, Федос по всем правилам строевой службы повернулся налево кругом, вышел из столовой и прошел во двор покурить трубочки.
III
— Ну, что, Шура, тебе, кажется, понравился этот мужлан?
— Понравился, мама. И ты его возьми.
— Вот у папы спросим: не пьяница ли он?
— Да ведь Чижик говорил тебе, что не пьяница.
— Ему верить нельзя.
— Отчего?
— Он матрос… мужик. Ему ничего не стоит солгать.
— А он умеет рассказывать сказки? Он будет со мной играть?
— Верно, умеет и играть должен…
— А вот Антон не умел и не играл со мной.
— Антон был лентяй, пьяница и грубиян.
— За это его и посылали в экипаж, мама?
— Да.
— И там секли?
— Да, милый, чтобы его исправить.
— А он возвращался из экипажа всегда сердитый… И со мной даже говорить не хотел…
— Оттого, что Антон был дурной человек… Его ничем нельзя было исправить.
— Где теперь Антон?
— Не знаю…
Мальчик примолк, задумавшись, и, наконец, серьезно проговорил:
— А уж ты, мама, если меня любишь, не посылай Чижика в экипаж, чтобы его там секли, как Антона, а то и Чижик не будет рассказывать мне сказок и будет браниться, как Антон.
— Он разве смел тебя бранить?
— Подлым отродьем называл… Это, верно, что-нибудь нехорошее…
— Ишь негодяй какой!.. Зачем же ты, Шура, не сказал мне, что он тебя так называл?
— Ты послала бы его в экипаж, а мне его жалко…
— Таких людей не стоит жалеть… И ты, Шура, не должен ничего скрывать от матери.
При разговоре об Антоне Анютка подавила вздох.
Этот молодой, кудрявый Антон, дерзкий и бесшабашный, любивший выпить и тогда хвастливый и задорный, оставил в Анютке самые приятные воспоминания о тех двух месяцах, что он пробыл в няньках у барчука.
Влюбленная в молодого денщика, Анютка нередко проливала слезы, когда барин, по настоянию барыни, отправлял Антона в экипаж для наказания. А это частенько случалось. И до сих пор Анютка с восторгом вспоминает, как хорошо он играл на балалайке и пел песни. И какие у него смелые глаза. Как он не спускал самой барыне, особенно когда выпьет! И Анютка втайне страдала, сознавая безнадежность своей любви. Антон не обращал на нее ни малейшего внимания и ухаживал за соседской горничной.
Куда он милее этого барыниного наушника, противного рыжего Ивана, который преследует ее своими любезностями… Тоже воображает о себе, рыжий дьявол! Проходу на кухне не дает…
В эту минуту ребенок, бывший на руках у Анютки, проснулся и залился плачем.
Анютка торопливо заходила по комнате, закачивая ребенка и напевая ему песни звонким, приятным голоском.
Ребенок не унимался. Анютка пугливо взглядывала на барыню.
— Подай его сюда, Анютка! Совсем ты не умеешь нянчить! — раздражительно крикнула молодая женщина, расстегивая белою пухлою рукой ворот капота.
Очутившись у груди матери, малютка мгновенно затих и жадно засосал, быстро перебирая губенками и весело глядя перед собою глазами, полными слез.
— Убирай со стола, да смотри, не разбей чего-нибудь. Анютка бросилась к столу и стала убирать с бестолковой торопливостью запуганного создания.
IV
В начале первого часа, когда в порту зашабашили, из военной гавани, где вооружался «Кобчик», вернулся домой Василий Михайлович Лузгин, довольно полный, представительный брюнет, лет сорока, с небольшим брюшком и лысый, в потертом рабочем сюртуке, усталый и голодный.
В момент его прихода завтрак был на столе.
Моряк звонко поцеловал жену и сына и выпил одну за другой две рюмки водки. Закусив селедкой, он набросился на бифштекс с жадностью сильно проголодавшегося человека. Еще бы! С пяти часов утра, после двух стаканов чая, он ничего не ел.
Утолив голод, он нежно взглянул на свою молодую, приодетую, пригожую жену и спросил:
— Ну что, Марусенька, понравился новый денщик?
— Разве такой денщик может понравиться?
В маленьких добродушных темных глазах Василия Михайловича мелькнуло беспокойство.
— Грубый, неотесанный какой-то… Сейчас видно, что никогда не служил в домах.
— Это точно, но зато, Маруся, он надежный человек. Я его знаю.
— И этот подозрительный нос… Он, наверное, пьяница! — настаивала жена.
— Он пьет чарку-другую, но уверяю тебя, что не пьяница, — осторожно и необыкновенно мягко возразил Лузгин.
И, зная хорошо, что Марусенька не любит, когда ей противоречат, считая это кровной обидой, он поспешил прибавить:
— Впрочем, как хочешь. Если не нравится, я приищу другого денщика.
— Где опять искать?.. Шуре не с кем гулять… Уж бог с ним… Пусть остается, поживет… Я посмотрю, какое это сокровище твой Чижик!
— Фамилия у него действительно смешная! — проговорил, смеясь, Лузгин.
— И имя самое мужицкое… Федос!
— Что ж, можно его иначе звать, как тебе угодно… Ты, право, Маруся, не раскаешься… Он честный и добросовестный человек… Какой фор-марсовой был!.. Но если ты не хочешь — отошлем Чижика… Твоя княжья воля…
Марья Ивановна и без уверений мужа знала, что влюбленный в нее простодушный и простоватый Василий Михайлович делал все, что только она хотела, и был покорнейшим ее рабом, ни разу в течение десятилетнего супружества и не помышлявшим о свержении ига своей красивой жены.
Тем не менее она нашла нужным сказать:
— Хоть мне и не нравится этот Чижик, но я оставлю его, так как ты этого хочешь.
— Но, Марусенька… Зачем? Если ты не хочешь…
— Я его беру! — властно произнесла Марья Ивановна.
Василию Михайловичу оставалось только благодарно взглянуть на Марусеньку, оказавшую такое внимание к его желанию. И Шурка был очень доволен, что Чижик будет его нянькой.
Нового денщика опять позвали в столовую. Он снова вытянулся у порога и без особенной радости выслушал объявление Марьи Ивановны, что она его оставляет.
Завтра же утром он переберется к ним со своими вещами. Поместится вместе с поваром.
— А сегодня в баню сходи… Отмой свои черные руки, — прибавила молодая женщина, не без брезгливости взглядывая на просмоленные, шершавые руки матроса.
— Осмелюсь доложить, враз не отмоешь… Смола! — пояснил Федос и, как бы в подтверждение справедливости этих слов, перевел взгляд на бывшего своего командира.
«Дескать, объясни ей, коли она ничего не понимает!»
— Со временем смола выйдет, Маруся… Он постарается ее вывести…
— Так точно, вашескобродие.
— И не кричи так, Феодосий… Уж я тебе несколько раз говорила…
— Слышишь, Чижик… Не кричи! — подтвердил Василий Михайлович.
— Слушаю, вашескобродие…
— Да смотри, Чижик, служи в денщиках так же хорошо, как служил на корвете. Береги сына.
— Есть, вашескобродие!
— И водки в рот не бери! — заметила барыня.
— Да, братец, остерегайся, — нерешительно поддакнул Василий Михайлович, чувствуя в то же время фальшь и тщету своих слов и уверенный, что Чижик при случае выпьет в меру.
— Да вот еще что, Феодосий… Слышишь, я тебя буду звать Феодосием…
— Как угодно, барыня.
— Ты разных там мерзких слов не говори, особенно при ребенке. И если на улице матросы ругаются, уводи барина.
— То-то, не ругайся, Чижик. Помни, что ты не на баке, а в комнатах!
— Не извольте сумлеваться, вашескобродие.
— И во всем слушайся барыни. Что она прикажет, то и исполняй. Не противоречь…
— Слушаю, вашескобродие…
— И боже тебя сохрани, Чижик, осмелиться нагрубить барыне. За малейшую грубость я велю тебе шкуру спустить! — строго и решительно сказал Василий Михайлович. — Понял?
— Понял, вашескобродие.
Наступило молчание.
«Слава богу, конец!» — подумал Чижик.
— Он больше тебе не нужен, Марусенька?
— Нет.
— Можешь идти, Чижик… Скажи фельдфебелю, что я взял тебя! — проговорил Василий Михайлович добродушным тоном, словно бы минуту тому назад и не грозил «спустить шкуру».
Чижик вышел словно из бани и, признаться, был сильно озадачен поведением бывшего своего командира.
Еще бы!
На корвете он казался орел орлом, особенно когда стоял на мостике во время авралов или управлялся в свежую погоду, а здесь вот, при жене, совсем другой, «вроде быдто послушливого теленка». И опять же: на службе он был с матросом «добер», драл редко и с рассудком, а не зря; и этот же самый командир из-за своей «белобрысой» шкуру грозит спустить.
«Эта заноза-баба всем здесь командует!» — подумал Чижик не без некоторого презрительного сожаления к бывшему своему командиру.
«Ей, значит, трафь», — мысленно проговорил он.
— К нам перебираетесь, земляк? — остановил его на кухне Иван.
— То-то к вам, — довольно сухо отвечал Чижик, вообще не любивший денщиков и вестовых и считавший их, по сравнению с настоящими матросами, лодырями.
— Места небось хватит… У нас помещение просторное… Не прикажете ли цигарку?..
— Спасибо, братец. Я — трубку… Пока что до свидания.
Дорогой в экипаж Чижик размышлял о том, что в денщиках, да еще с такой «занозой», как Лузгиниха, будет «нудно». Да и вообще жить при господах ему не нравилось.
И он пожалел, что ему оторвало марса-фалом пальцы. Не лишись он пальцев, был бы он по-прежнему форменным матросом до самой отставки.
— А то: «водки в рот не бери!» Скажи пожалуйста, что выдумала бабья дурья башка! — вслух проговорил Чижик, подходя к казармам.
V
К восьми часам следующего утра Федос перебрался к Лузгиным со своими пожитками — небольшим сундучком, тюфяком, подушкой в чистой наволочке розового ситца, недавно подаренной кумой-боцманшей, и балалайкой. Сложив все это в угол кухни, он снял с себя стесняющий его мундир и, облачившись в матросскую рубаху и надевши башмаки, явился к барыне, готовый вступить в свои новые обязанности няньки.
В свободно сидевшей на нем рубахе с широким отложным воротом, открывавшим крепкую, жилистую шею, и в просторных штанах Федос имел совсем другой — непринужденный и даже не лишенный некоторой своеобразной приятности — вид лихого, бывалого матроса, сумеющего найтись при всяких обстоятельствах. Все на нем сидело ловко и производило впечатление опрятности. И пахло от него, по мнению Шурки, как-то особенно приятно: смолой и махоркой.
Барыня, внимательно оглядевшая и Федоса и его костюм, нашла, что новый денщик ничего себе, не так уже безобразен и мужиковат, как казался вчера. И выражение лица не такое суровое.
Только его темные руки все еще смущали госпожу Лузгину, и она спросила его, кидая брезгливый взгляд на руки матроса:
— Ты в бане был?
— Точно так, барыня. — И, словно бы оправдываясь, прибавил: — Сразу смолы не отмыть. Никак невозможно.
— Ты все-таки чаще руки мой. Держи их чисто.
— Слушаю-с.
Затем молодая женщина, опустив глаза на парусинные башмаки Федоса, заметила строгим тоном:
— Смотри… Не вздумай еще босым показываться в комнатах. Здесь не палуба и не матросы…
— Есть, барыня.
— Ну, ступай, напейся чаю… Вот тебе кусок сахара.
— Покорно благодарю! — отвечал матрос, осторожно принимая кусок, чтобы не коснуться своими пальцами белых пальцев барыни.
— Да долго не сиди на кухне. Приходи к Александру Васильевичу.
— Приходи поскорей, Чижик! — попросил и Шурка.
— Живо обернусь, Лександра Васильич!
С первого же дня Федос вступил с Шуркой в самые приятельские отношения.
Первым делом Шурка повел Федоса в детскую и стал показывать свои многочисленные игрушки. Некоторые из них возбудили удивление в матросе, и он рассматривал их с любопытством, чем доставил мальчику большое удовольствие. Сломанную мельницу и испорченный пароход Федос обещал починить — будут действовать.
— Ну? — недоверчиво спросил Шурка. — Ты разве сумеешь?
— То-то попробую.
— Ты и сказки умеешь, Чижик?
— И сказки умею.
— И будешь мне рассказывать?
— Отчего же не рассказать? По времени можно и сказку.
— А я тебя, Чижик, за то любить буду…
Вместо ответа матрос ласково погладил голову мальчика шершавой рукой, улыбаясь при этом необыкновенно мягко и ясно своими глазами из-под нависших взъерошенных бровей.
Такая фамильярность не только не была неприятна Шурке, который слышал от матери, что не следует допускать какой- нибудь короткости с прислугой, но, напротив, еще более расположила его к Федосу.
И он проговорил, понижая голос:
— И знаешь что, Чижик?
— Что, барчук?
— Я никогда не стану на тебя жаловаться маме…
— Зачем жаловаться?.. Небось я не забижу ничем маленького барчука… Дите забижать не годится. Это самый большой грех… Зверь и тот не забиждает щенят… Ну, а ежели, случаем, промеж нас и выйдет свара какая, — продолжал Федос, добродушно улыбаясь, — мы и сами разберемся, без маменьки… Так- то лучше, барчук… А то что кляузы заводить зря?.. Нехорошее это дело, братец ты мой, кляузы… Самое последнее дело! — прибавил матрос, свято исповедовавший матросские традиции, воспрещающие кляузы.
Шурка согласился, что это нехорошее дело, — он и от Антона и от Анютки это слышал не раз, — и поспешил объяснить, что он даже и на Антона не жаловался, когда тот назвал его «подлым отродьем», чтоб его не отправляли сечь в экипаж…
— И без того его часто посылали… Он маме грубил! И пьяный бывал! — прибавил мальчик конфиденциальным тоном…
— Вот это правильно, барчук… Совсем правильно! — почти нежно проговорил Федос и одобрительно потрепал Шурку по плечу. — Сердце-то детское умудрило пожалеть человека… Положим, этот Антон, прямо сказать, виноват… Разве можно на дите вымещать сердце?.. Дурак он во всей форме! А вы-то дуракову вину оставили безо внимания, даром что глупого возраста… Молодца, барчук!
Шурка был, видимо, польщен одобрением Чижика, хотя оно и шло вразрез с приказанием матери не скрывать от нее ничего.
А Федос осторожно присел на сундук и продолжал:
— Скажи вы тогда маменьке про эти самые Антоновы слова, отодрали бы его как Сидорову козу… Сделайте ваше одолжение!
— А это что значит?.. Какая такая коза, Чижик?..
— Скверная, барчук, коза, — усмехнулся Чижик. — Это так говорится, ежели, значит, очень долго секут матроса… Вроде как до бесчувствия…
— А тебя секли, как Сидорову козу, Чижик?..
— Меня-то?.. Случалось прежде… Всяко бывало…
— И очень больно?
— Небось несладко…
— А за что?..
— За флотскую часть… вот за что… Особенно не разбирали…
Шурка помолчал и, видимо, желая поделиться с Чижиком кое-чем небезынтересным, наконец проговорил несколько таинственно и серьезно:
— И меня секли, Чижик.
— Ишь ты, бедный… Такого маленького?..
— Мама секла… И тоже было больно…
— За что ж вас-то?..
— Раз за мамину чашку… я ее разбил, а другой раз, Чижик, я мамы не слушал… Только ты, Чижик, никому не говори…
— Не бойся, милой, никому не скажу…
— Папа, тот ни разу не сек.
— И любезное дело… Зачем сечь?..
— А вот Петю Голдобина — знаешь адмирала Голдобина? — так того все только папа наказывает… И часто…
Федос неодобрительно покачал головой. Недаром и матросы не любили этого Голдобина. Форменная собака!
— А на «Кобчике» папа наказывает матросов?
— Без эстого нельзя, барчук.
— И сечет?
— Случается. Однако папенька ваш добер… Его матросы любят…
— Еще бы… Он очень добрый!.. А хорошо теперь погулять бы на дворе, Чижик! — воскликнул мальчик, круто меняя разговор и взглядывая прищуренными глазами в окно, из которого лились снопы света, заливая блеском комнату.
— Что ж, погуляем… Солнышко так и играет. Веселит душу-то…
— Только надо маму спросить…
— Знамо, надо отпроситься… Без начальства и нас не пускают!
— Верно, пустит?
— Надо быть, пустит!
Шурка убежал и, вернувшись через минуту, весело воскликнул:
— Мама пустила! Только велела теплое пальто надеть и потом ей показаться. Одень меня, Чижик!.. Вон пальто висит… Там и шапка и шарф на шею…
— Ну ж и одежи на вас, барчук… Ровно в мороз! — усмехнулся Федос, одевая мальчика…
— И я говорю, что жарко…
— То-то жарко будет…
— Мама не позволяет другого пальто… Уж я просил… Ну, идем к маме!
Марья Ивановна осмотрела Шурку и, обращаясь к Федосу, проговорила:
— Смотри, береги барина… Чтоб не упал да не ушибся!
«Как доглядишь! И что за беда, коли мальчонка упадет!» — подумал Федос, совсем не одобрявший барыню за ее праздные слова, и официально-почтительно ответил:
— Слушаю-с!
— Ну, идите…
Оба довольные, они ушли из спальной, сопровождаемые завистливым взглядом Анютки, нянчившей ребенка.
— Один секунд обождите меня в колидоре, барчук… Я только переобуюсь.
Федос сбегал в комнату за кухней, переобулся в сапоги, взял буршлат и фуражку, и они вышли на большой двор, в глубине которого был сад с зеленеющими почками на оголенных деревьях.
VI
На дворе было славно.
Вешнее солнышко приветливо глядело с голубого неба, по которому двигались перистые белоснежные облачки, и пригревало изрядно. В воздухе, полном бодрящей остроты, пахло свежестью, навозом и, благодаря соседству казарм, кислыми щами и черным хлебом. Вода капала с крыш, блестела в колдобинках и пробивала канавки на обнаженной, испускавшей пар земле с едва пробившейся травкой. Все на дворе словно трепетало жизнью.
У сарая бродили, весело кудахтая, куры, и неугомонный пестрый петух с важным, деловым видом шагал по двору, отыскивая зерен и угощая ими своих подруг. У колдобин гоготали утки. Стайка воробьев то и дело слетала из сада на двор и прыгала, чирикая и ссорясь друг с другом. Голуби разгуливали по крыше сарая, расправляли на солнце сизые перья и ворковали о чем-то. На самом припеке, у водовозной бочки, дремала большая рыжая дворняга и по временам щелкала зубами, ловя блох.
— Прелесть, Чижик! — воскликнул полный радости жизни Шурка и, словно пущенный на волю жеребенок, бросился со всех ног через двор к сараю, вспугивая воробьев и кур, которые удирали во все лопатки и отчаянным кудахтаньем заставили петуха остановиться и в недоумении поднять ногу.
— То-то хорошо! — промолвил матрос.
И он присел на опрокинутом бочонке у сарая, вынул из кармана маленькую трубчонку и кисет с табаком, набил трубочку, придавил мелкую махорку большим пальцем и, закурив, затянулся с видимым наслаждением, оглядывая весь двор — и кур, и уток, и собаку, и ручейки — тем проникновенным, любовным взглядом, каким могут только смотреть люди, любящие и природу и животных.
— Осторожней, барчук!.. Не попадите в ямку… Ишь воды- то… Утке и лестно…
Шурке скоро надоело бегать, и он присел к Федосу. Мальчика словно тянуло к нему.
Они почти целый день пробыли на дворе, — только ходили завтракать и обедать в дом, и в эти часы Федос обнаружил такое обилие знаний, умел так все объяснить и насчет кур, и насчет уток, и насчет барашков на небе, что Шурка решительно пришел в восторженное удивление и проникся каким-то благоговейным уважением к такому богатству сведений своего пестуна и только удивлялся, откуда это Чижик все знает.
Словно бы целый новый мир открывался мальчику на этом дворе, и он впервые обратил внимание на все, что на нем было и что оказывалось столь интересным. И он в восторге слушал Чижика, который, рассказывая про животных или про травку, казалось, сам был и животным и травой, — до того он, так сказать, весь проникался их жизнью…
Повод к такому разговору подала шалость Шурки. Он запустил камнем в утку и подшиб ее… Та с громким гоготом отскочила в сторону…
— Неправильно это, Лександра Васильич! — проговорил Федос, покачивая головой и хмуря нависшие свои брови. — Не-хо-ро- шо, братец ты мой! — протянул он с ласковым укором в голосе.
Шурка вспыхнул и не знал, обидеться ему или нет, и, сделав вид, что не слышит замечания Федоса, с искусственно беззаботным видом стал ссыпать ногой землю в канавку.
— За что безответную утицу обидели!.. Вон она, бедная, хромлет и думает: «За что меня мальчик зря зашиб?..» И она пошла к своему селезню жаловаться.
Шурке было неловко — он понимал, что поступил нехорошо, — и в то же время его заинтересовало, что Чижик говорит, будто утки думают и могут жаловаться.
И он, как все самолюбивые дети, не любящие сознаваться пред другими в своей вине, подошел к матросу и, не отвечая по существу, заносчиво проговорил:
— Какую ты дичь несешь, Чижик! Разве утки могут думать и еще жаловаться?
— А вы полагаете как?.. Небось всякая тварь понимает и свою думу думает… И промеж себя разговаривает по-своему… Гляди-кось, как воробушек-то зачуликал? — указал Федос тихим движением головы на воробья, слетевшего из сада. — Ты думаешь он спроста, шельмец: «чилик да чилик!» Вовсе нет! Он, братец ты мой, отыскал корму да и сзывает товарищей. «Летите, мол, братцы, кантовать вместе! Вали-валом, ребята!» Тоже — воробей, а небось понимает, что одному есть харч не годится… Я, мол, ем, и ты ешь, а не то что потихоньку от других…
Шурка присел рядом на бочонке, видимо заинтересованный.
А матрос продолжал:
— Вот хоть бы взять собаку… Лайку эту самую… Нешто она не понимает, как сегодня в обед Иван ее кипятком ошпарил от своего озорства?.. Тоже нашел над кем куражиться! Над собакой, лодырь бесстыжий! — с сердцем говорил Федос… — Небось теперь эта самая Лайка к кухне не подойдет… И подальше от кухни-то… Знает, как там ее встретят… К нам вот не боится!
И с этими словами Федос подозвал лохматую, далеко не казистую собаку с умной мордой и, погладив ее, проговорил:
— Что, брат, попало от дурака-то?.. Покажи-ка спину!..
Лайка лизнула руку матроса.
Матрос осторожно осмотрел ее спину.
— Ну, Лаечка, не очень-то тебя ошпарили… Ты больше от досады, значит, визжала… Не бойся… Уж теперь я тебя в обиду не дам…
Собака опять лизнула руку и весело замахала хвостом.
— Вон и она чувствует ласку… Смотрите, барчук… Да что собака… Всякая насекомая и та понимает, да сказать только не может… Травка и та словно пискнет, как ты ее придавишь…
Много еще говорил словоохотливый Федос, и Шурка был совсем очарован. Но воспоминание об утке смущало его, и он беспокойно проговорил:
— А не пойдем ли, Чижик, посмотреть утку?.. Не сломана ли у нее нога?
— Нет, видно, ничего… Вон она переваливается… Небось без фершела поправилась? — засмеялся Федос и, понявши, что мальчику стыдно, погладил его по голове и прибавил: — Она, братец ты мой, уж не сердится… Простила… А завтра мы ей хлеба принесем, если нас гулять пустят…
Шурка уже был влюблен в Федоса.
И нередко потом, в дни своего отрочества и юношества, имея дело с педагогами, вспоминал о своем денщике-няньке и находил, что никто из них не мог сравниться с Чижиком.
В девятом часу вечера Федос уложил Шурку спать и стал рассказывать ему сказку. Но сонный мальчик не дослушал ее и, засыпая, проговорил:
— А я не буду обижать уток… Прощай, Чижик!.. Я тебя люблю!
В тот же вечер Федос стал устраивать себе уголок в комнате рядом с кухней.
Снявши с себя платье и оставшись в исподних и в ситцевой рубахе, он открыл свой сундучок, внутренняя доска которого была оклеена разными лубочными картинками[19] и этикетками с помадных банок, — тогда олеографий[20] и иллюстрированных изданий еще не было, — и первым делом достал из сундучка маленький потемневший образок Николая-чудотворца и, перекрестившись, повесил к изголовью. Затем повесил зеркальце и полотенце и, положив на козлы, заменявшие кровать, свой блинчатый тюфячок, постлал его простыней и накрыл ситцевым одеялом.
Когда все было готово, он удовлетворенно оглядел свой новый уголок и, разувшись, сел на кровать и закурил трубку.
В кухне еще возился Иван, только что убравший самовар.
Он заглянул в комнатку и спросил:
— А ужинать разве не будете, Федос Никитич?
— Нет, не хочу…
— И Анютка не хочет… Видно, придется одному ужинать… А то чаю не угодно ли? У меня сахар завсегда водится! — проговорил, как-то плутовато подмигивая глазом, Иван.
— Спасибо на чае… Не стану…
— Что ж, как угодно! — как будто обижаясь, сказал Иван, уходя.
Не нравился ему новый сожитель, очень не нравился. В свою очередь и Иван не пришелся по вкусу Федосу. Федос не любил вообще «вестовщину» и денщиков, а этого плутоватого и нахального повара в особенности. Особенно ему не понравились разные двусмысленные шуточки, которые он отпускал за обедом Анютке, и Федос сидел молча и только сурово хмурил брови. Иван тотчас же понял, отчего «матрозня» сердится, и примолк, стараясь поразить его своим «высшим обращением» и хвастливыми разговорами о том, как им довольны и как его ценят и барыня и барин.
Но Федос отмалчивался и решил про себя, что Иван совсем «пустой человек». А за Лайку назвал его таки прямо «бессовестным» и прибавил:
— Тебя бы так ошпарить. А еще считаешься матросом!
Иван отшутился, но затаил в своем сердце злобу на Федоса, тем более что его осрамили при Анютке, которая, видимо, сочувствовала словам Федоса.
— Однако и спать ложиться! — проговорил вслух Федос, докурив трубку.
Он встал, торжественно-громко произнес «Отче наш» и, перекрестившись, лег в постель. Но заснуть еще долго не мог, и в голове его бродили мысли о прошлой пятнадцатилетней службе и о новом своем положении.
«Мальчонка добрый, а как с этими уживусь, — с белобрысой да с лодырем?» — задавал он себе вопрос. В конце концов он решил, что как бог даст, и, наконец, заснул, вполне успокоенный этим решением.
VII
Федос Чижик, как и большая часть матросов того времени, когда крепостное право еще доживало свои последние годы и во флоте, как и везде, царила беспощадная суровость и даже жестокость в обращении с простыми людьми, — был, разумеется, большим философом-фаталистом.
Все благополучие своей жизни, преимущественно заключавшееся в охранении своего тела от побоев и линьков, а лица от серьезных повреждений, — за легкими он не гнался и считал их относительным благополучием, — Федос основывал не на одном только добросовестном исполнении своего трудного матросского дела и на хорошем поведении согласно предъявляемым требованиям, а главнейшим образом на том, «как бог даст».
Эта не лишенная некоторой трогательности и присущая лишь русским простолюдинам исключительная надежда на одного только господа бога разрешала все вопросы и сомнения Федоса относительно его настоящей и будущей судьбы и служила едва ли не единственной поддержкой, чтобы, как выражался Чижик, «не впасть в отчаянность и не попробовать арестантских рот».
И благодаря такой надежде он оставался все тем же исправным матросом и стоиком, отводящим свою возмущенную людской неправдой душу лишь крепкою бранью и тогда, когда даже воистину христианское терпение русского матроса подвергалось жестокому испытанию.
С тех пор как Федос Чижик, оторванный от сохи, был сдан благодаря капризу старухи-помещицы в рекруты и, никогда не видавший моря, попал, единственно из-за своего малого роста, во флот, — жизнь Федоса представляла собою довольно пеструю картину переходов от благополучия к неблагополучию, от неблагополучия к той, едва даже понятной теперь, невыносимой жизни, которую матросы характерно называли «каторгой», и обратно — от «каторги» к благополучию.
Если «давал бог», командир, старший офицер и вахтенные начальники попадались по тем суровым временам не особенно бешеные и дрались и пороли, как выражался Федос, «не зря и с рассудком», то и Федос, как один из лучших марсовых, чувствовал себя спокойным и довольным, не боялся сюрпризов в виде линьков, и природное его добродушие и некоторый юмор делали его одним из самых веселых рассказчиков на баке.
Если же «бог давал» командира или старшего офицера, что называется на матросском жаргоне, «форменного арестанта», который за опоздание на несколько секунд при постановке или уборке парусов приказывал «спустить шкуры» всем марсовым, то Федос терял веселость, делался угрюм и, после того как его драли как Сидорову козу, случалось, нередко загуливал на берегу. Однако все-таки находил возможным утешать падавших духом молодых матросов и с какою-то странною уверенностью для человека, спина которого сплошь покрыта синими рубцами с кровавыми подтеками, говорил:
— Бог даст, братцы, нашего арестанта переведут куда… Заместо его не такой дьявол поступит… Отдышимся… Не все же терпеть-то!
И матросы верили, — им так хотелось верить, — что «бог даст», уберут куда-нибудь «арестанта».
И терпеть, казалось, было легче.
Федос Чижик пользовался большим авторитетом и в своей роте, и на судах, на которых плавал, как человек «правильный», вдобавок «с умом» и лихой марсовой, не раз доказавший и знание дела и отвагу. Его уважали и любили за его честность, добрый характер и скромность. Особенно расположены к нему были молодые безответные матросики. Федос таких всегда брал под свою защиту, оберегая их от боцманов и унтер-офицеров, когда они слишком куражились и зверствовали.
Достойно замечания, что в деле исправления таких боцманов Федос несколько отступал от своего фатализма, возлагая надежды не на одно только «как бог даст», но и на силу человеческого воздействия, и даже главным образом на последнее.
По крайней мере, когда увещательное слово Федоса, сказанное с глазу на глаз какому-нибудь неумеренному «мордобою»- боцману, слово, полное убедительной страстности «пожалеть людей», не производило надлежащего впечатления и боцман продолжал по-прежнему драться «безо всякого рассудка», — Федос обыкновенно прибегал к предостережению и говорил:
— Ой, не зазнавайся, боцман, что вошь в коросте! Бог гордых не любит. Смотри, как бы тебя, братец ты мой, не проучили… Сам небось знаешь, как вашего брата проучивают!
Если и к такому предостережению боцман оставался глух, Федос покачивал раздумчиво головой и строго хмурил брови, видимо принимая какое-то решение.
Несмотря на свою доброту, он, однако, во имя долга и охранения неписаного обычного матросского права, собирал нескольких достойных доверия матросов на тайное совещание о поступках боцмана-зверя, и на этом матросском суде Линча[21] обыкновенно постановлялось решение: «проучить боцмана», что и приводилось в исполнение при первом же съезде на берег.
Боцмана избивали где-нибудь в переулке Кронштадта или Ревеля до полусмерти и доставляли на корабль. Обыкновенно боцман того времени и не думал жаловаться на виновников, объяснял начальству, что в пьяном виде имел дело с матросами с иностранных купеческих кораблей, и после такой серьезной «выучки» уже дрался с «большим рассудком», продолжая, конечно, ругаться с прежним мастерством, за что, впрочем, никто не был в претензии.
И Федос в таких случаях нередко говорил с обычным добродушием:
— Как выучили, так и человеком стал. Боцман как боцман…
Сам Федос не желал быть «начальством» — совсем это не подходило к его характеру, — и он решительно просил не производить его в унтер-офицеры, когда один из старших офицеров, с которым он служил, хотел представить Федоса.
— Будьте милостивы, ваше благородие, ослобоните от такой должности! — взмолился Федос.
Изумленный старший офицер спросил:
— Это почему?
— Не привержен я быть унтерцером, ваше благородие. Вовсе не по мне это звание, ваше благородие… Явите божескую милость, дозвольте остаться в матросах! — докладывал Федос, не объясняя, однако, мотивов своего нежелания.
— Ну, если не хочешь, как знаешь… А я думал тебя наградить…
— Рад стараться, ваше благородие! Премного благодарен, ваше благородие, что дозволили остаться матросом…
— И оставайся, коли ты такой дурак! — проговорил старший офицер.
А Федос ушел из каюты старшего офицера радостный и довольный, что избавился от должности, в которой приходилось «собачиться» со своим же братом-матросом и находиться в более непосредственных отношениях с господами офицерами.
«Ну их… От греха лучше подальше!»
Всего бывало в течение долгой службы Федоса. И пороли, и били его, и похваливали, и отличали. Последние три года службы его на «Кобчике», под начальством Василия Михайловича Лузгина, были самыми благополучными годами. Лузгин и старший офицер были люди добрые по тем временам, и на «Кобчике» матросам жилось относительно хорошо. Не было ежедневных порок, не было вечного трепета. Не было бессмысленной флотской муштры.
Василий Михайлович знал Федоса как отличного фор-марсового и, выбрав его загребным на свой вельбот, еще лучше познакомился с матросом, оценив его добросовестность и аккуратность.
И Федос думал, что «бог даст», он прослужит еще три года с Василием Михайловичем тихо и спокойно, как у Христа за пазухой, а там его уволят в «бессрочную» до окончания положенного двадцатипятилетнего срока службы, и он пойдет в свою дальнюю симбирскую деревушку, с которой не порывал связей и раз в год просил какого-нибудь грамотного матроса писать к своему «дражайшему родителю» письмо, обыкновенно состоящее из добрых пожеланий и поклонов всем родным.
Матрос, не вовремя отдавший внизу марса-фал, которым оторвало Федосу, бывшему на марсе, два пальца, был невольным виновником в перемене судьбы Чижика.
Матроса жестоко отодрали, а Чижика немедленно отправили в кронштадтский госпиталь, где ему вылущили оба пальца. Он выдержал операцию, даже не охнув. Только стиснул зубы, и по его побледневшему от боли лицу катились крупные капли пота. Через месяц уж он был в экипаже.
По случаю потери двух пальцев он надеялся, что «бог даст», его назначат в «неспособные» и уволят в бессрочный отпуск. По крайней мере так говорил ротный писарь и советовал через кого-нибудь «исхлопотать». Таких примеров бывало!
Но исхлопотать за Федоса было некому, а сам он не решался беспокоить ротного командира. Как бы еще не попало за это.
Таким образом Чижик остался на службе и попал в няньки.
VIII
Прошел месяц с тех пор, как Федос поступил к Лузгиным. Нечего и говорить, что Шурка был без ума от своей няньки, находился вполне под его влиянием и, слушая его рассказы о штормах и ураганах, которые доводилось испытать Чижику, о матросах и об их жизни, о том, как черные люди, арапы, почти голые ходят на далеких островах за Индийским океаном, слушая про густые леса, про диковинные фрукты, про обезьян, про крокодилов и акул, про чудное высокое небо и горячее солнышко, — Шурка сам непременно хотел быть моряком, а пока старался во всем подражать Чижику, который в то время был его идеалом.
С чисто детским эгоизмом он не отпускал от себя Чижика, чтоб быть всегда вместе, забывая даже и мать, которая со времени появления Чижика как-то отошла на второй план.
Еще бы! Она не умела так занятно рассказывать, не умела делать таких славных бумажных змеев, волчков и лодок, которые делал Чижик. И ко всему этому он с Чижиком не чувствовал над собою придирчивой няньки. Они были больше приятелями и, казалось, жили одними интересами и часто, не сговариваясь, выражали одни и те же мнения.
Эта близость с денщиком-матросом несколько пугала Марью Ивановну, а некоторая отчужденность от матери, которую она, конечно, заметила, даже заставила ее ревновать Шурку к няньке. Кроме того, Марье Ивановне, как бывшей институтке и строгой ревнительнице манер, казалось, будто Шурка при Чижике немного огрубел и манеры его стали угловатее.
Тем не менее Марья Ивановна не могла не сознаться, что Чижик добросовестно исполняет свои обязанности и что при нем Шурка значительно поздоровел, не капризничает и не нервничает, как бывало прежде, и она совершенно спокойно уходила из дома, зная, что может вполне положиться на Чижика.
Но, несмотря на такое признание заслуг Чижика, он все-таки был несимпатичен молодой женщине. Она терпела Федоса только ради ребенка и обращалась с ним с высокомерною холодностью и почти нескрываемым презрением барыни к мужлану-матросу. Главное, что возмущало ее в денщике — это недостаток в нем той почтительной угодливости, которую она любила в прислуге и которою особенно отличался ее любимец Иван. А в Федосе — никакой приветливости. Всегда несколько хмурый при ней, с служебным лаконизмом подчиненного отвечающий на ее вопросы, всегда отмалчивающийся на ее замечания, которые, по мнению Чижика, белобрысая делала зря, — он далеко не отвечал требованиям Марьи Ивановны, и она чувствовала, что этот матрос втайне далеко не признает ее авторитета и совсем не чувствует признательности за все те благодеяния, которые, казалось барыне, он получил, попав к ним в дом из казармы. Это возмущало барыню.
Чувствовал это отношение к себе белобрысой и Чижик, и сам, в свою очередь, недолюбливал ее, и главным образом за то, что она совсем уж утесняла бедную, безответную Анютку, шпыняя ее за всякую малость, сбивая с толку окриками и нередко давая ей пощечины, — и не то что с пыла, а прямо-таки от злого сердца, этак хладнокровно и еще с улыбочкой.
«Эка злющая ведьма!» — не раз думал про себя Федос, насупливая брови и становясь мрачным, когда бывал свидетелем, как белобрысая не спеша, устремив большие серые и злые глаза на замершую в страхе Анютку, хлещет своею белою, пухлою рукой в кольцах по худеньким, бледным щекам девушки.
И он жалел Анютку — быть может, даже более, чем жалел, — эту миловидную, загнанную девушку с испуганным взглядом синих глаз, и, случалось, когда барыни не было дома, ласково ей говорил:
— А ты не робей, Аннушка… Бог даст, недолго терпеть… Слышно, скоро волю всем объявят. Потерпи, а там уйдешь, куда захочешь, от своей ведьмы. Бог-то умудрил царя!
Эти участливые слова бодрили Анютку и наполняли ее сердце благодарным чувством к Чижику. Она понимала, что он ее жалеет, и видела, что только благодаря Чижику противный Иван не так нахально, как прежде, преследует ее своими любезностями. Зато Иван ненавидел Федоса со всею силою своей мелкой душонки и вдобавок ревновал его, приписывая отчасти Чижику полное невнимание Анютки к его особе, которую он считал довольно-таки привлекательною.
Ненависть эта еще более усилилась после того, как Федос однажды застал на кухне Анютку, отбивавшуюся от объятий повара.
При появлении Федоса Иван тотчас же оставил девушку и, приняв беспечно-развязный вид, проговорил:
— Шутю с дурой, а она сердится…
Федос стал мрачнее черной тучи.
Не говоря ни слова, подошел он вплотную к Ивану и, поднося к его побледневшему, испуганному лицу свой здоровенный волосатый кулак, едва сдерживаясь от негодования, произнес:
— Видишь?
Струсивший Иван зажмурил от страха глаза при столь близком соседстве такого громадного кулака.
— Тесто из подлой твоей хайлы сделаю, ежели ты еще раз тронешь девушку, подлец этакий!
— Я, право, ничего… Я только так… Пошутил, значит…
— Я тебе… пошутю… Нешто можно обижать так человека, бесстыжий ты кобель?
И, обращаясь к Анютке, благодарной и взволнованной, продолжал:
— Ты мне, Аннушка, только скажи, если он пристанет… Рыжая его морда будет на стороне… Это верно!
С этими словами он вышел из кухни.
В тот же вечер Анютка шепнула Федосу:
— Ну, теперь этот подлый человек будет еще больше наушничать на вас барыне… Уж он наушничал… Я слышала из-за дверей третьего дня… говорит: вы, мол, всю кухню провоняли махоркой…
— Пусть себе кляузничает! — презрительно бросил Федос… — Мне и трубки, что ли, не покурить? — прибавил он, усмехаясь.
— Барыня страсть не любит простого табаку…
— А пусть себе не любит! Я не в комнатах курю, а в своем, значит, помещении… Тоже матросу без трубки нельзя…
После этого происшествия Иван во что бы то ни стало хотел сжить ненавистного ему Федоса и, понимая, что барыня недолюбливает Чижика, стал при всяком удобном случае нашептывать барыне на Федоса.
Он, дескать, и с маленьким барином совсем вольно обращается, не так, как слуга, он и барыниной доброты не чувствует, он и с Анюткой что-то шепчется часто… Стыдно даже.
Все это говорилось намеками, предположениями, сопровождаемое уверениями в своей преданности барыне.
Молодая женщина все это слушала и стала с Чижиком еще суровее и придирчивее. Она зорко наблюдала за ним и за Анюткой, часто входила невзначай будто в детскую, выспрашивала у Шурки, о чем с ним говорит Чижик, но никаких сколько-нибудь серьезных улик преступности Федоса найти не могла, и это еще более злило молодую женщину, тем более, что Федос, как будто и не замечая, что барыня на него гневается, нисколько не изменял своих служебно-официальных отношений.
«Бог даст, белобрысая уходится?» — думал Федос, когда невольная тревога подчас закрадывалась в его сердце при виде ее недовольного, строгого лица.
Но белобрысая не переставала придираться к Чижику, и вскоре над ним разразилась гроза.
IX
В одну субботу, когда Федос, только что вернувшийся из бани, пошел укладывать мальчика, Шурка, всегда делившийся впечатлениями со своим любимцем-пестуном и сообщавший ему все домашние новости, тотчас же промолвил:
— Знаешь, что я тебе скажу, Чижик…
— Скажи, так узнаю, — проговорил, усмехнувшись, Федос.
— Мы завтра едем в Петербург… к бабушке. Ты не знаешь бабушки?
— То-то не знаю.
— Она добрая-предобрая, вроде тебя, Чижик… Она — папина мать… С первым пароходом едем…
— Что же, дело хорошее, братец ты мой. И добрую бабку свою повидаешь, и на «праходе» прокатишься… Вроде быдто на море побываешь…
Наедине Федос почти всегда говорил Шурке «ты». И это очень нравилось мальчику и вполне соответствовало их дружеским отношениям и взаимной привязанности. Но в присутствии Марьи Ивановны Чижик не позволял себе такой фамильярности: и Федос и Шурка понимали, что при матери нельзя было показывать интимной их короткости.
«Небось прицепится, — рассуждал Федос, — дескать, барское дите, а матрос его тыкает. Известно, „фанаберистая“ барыня!»
— Ты, Чижик, разбуди меня пораньше. И новую курточку приготовь, и новые сапоги…
— Все изготовлю, будь спокоен… Сапоги отполирую в лучшем виде… Одно слово, в полном парате тебя отпущу… Таким будешь молодцом, что наше вам почтение! — весело и любовно говорил Чижик, раздевая Шурку. — Ну, теперь помолись-ка богу, Лександра Васильич.
Шурка прочитал молитву и юркнул под одеяло.
— А будить тебя рано не стану, — продолжал Чижик, присаживаясь около Шуркиной кровати, — в половине восьмого побужу, а то, не выспамшись, нехорошо…
— И маленькая Адя едет, и Анютка едет, а тебя, Чижик, мама не берет. Уж я просил маму, чтобы и тебя взяли с нами, так не хочет…
— Зачем меня брать-то? Лишний расход.
— С тобою было бы веселее.
— Небось и без меня не заскучишь… День-то не беда тебе без Чижика побыть… А я и сам попрошусь со двора. Тоже и мне в охотку погулять… Ты как полагаешь?
— Иди, иди, Чижик!.. Мама, верно, пустит…
— То-то надо бы пустить… Во весь месяц ни разу не ходил со двора…
— А ты куда же пойдешь, Чижик?
— Куда пойду? А сперва в церкву пойду, а потом к куме-боцманше заверну… Ейный муж мне старинный приятель… Вместе в дальнюю ходили… У них посижу… Покалякаем… А потом на пристань схожу, матросиков погляжу… Вот и гулянка… Однако спи, Христос с тобой!
— Прощай, Чижик! А я тебе гостинца от бабушки привезу… Она всегда дает…
— Кушай сам на здоровье, голубок!.. А коли не пожалеешь, лучше Анютке дай… Ей лестнее.
— И ей дам… и тебе! — сонным голосом пролепетал Шурка.
Шурка всегда угощал своего пестуна лакомствами; нередко нашивал ему и куски сахара. Но от них Чижик отказывался и просил Шурку не брать «господского припаса», чтобы не вышло какой кляузы.
И теперь, тронутый вниманием мальчика, он проговорил с нежностью, на какую только был способен его грубоватый голос:
— Спасибо тебе за ласку, милый… Спасибо… Сердчишко у тебя, у мальца, доброе… И рассудлив по своему глупому возрасту… и прост… Бог даст, как вырастешь, и вовсе будешь форменным человеком… правильным… Никого не забидишь… И бог за то тебя любить будет… Так-то, брат, лучше… Никак, уж и уснул?
Ответа не было. Шурка уже спал.
Чижик перекрестил мальчика и тихо вышел из комнаты.
На душе у него было светло и покойно, как и у этого ребенка, к которому старый, не знавший ласки матрос привязался со всею силою своего любящего сердца.
X
На следующее утро, когда Лузгина, в нарядном шелковом голубом платье, с взбитыми начесами светло-русых волос, свежая, румяная, пышная и благоухающая, с браслетами и кольцами на белых пухлых руках, торопливо пила кофе, боясь опоздать на пароход, Федос приблизился к ней и сказал:
— Дозвольте, барыня, отлучиться со двора сегодня.
Молодая женщина подняла на матроса глаза и недовольно спросила:
— А тебе зачем идти со двора?
В первое мгновение Федос не знал, что и отвечать на такой «вовсе глупый», по его мнению, вопрос.
— К знакомым, значит, сходить, — отвечал он после паузы.
— А какие у тебя знакомые?
— Известно, матросского звания…
— Можешь идти, — проговорила после минутного раздумья барыня… — Только помни, что я тебе говорила… Не вернись от своих знакомых пьяным! — строго прибавила она.
— Зачем пьяным? Я в своем виде вернусь, барыня!
— Без своих дурацких объяснений! К семи часам быть дома! — резко заметила молодая женщина.
— Слушаю-с, барыня! — с официальной почтительностью ответил Федос.
Шурка удивленно посмотрел на мать. Он решительно недоумевал, за что мама сердится и вообще не любит такого прелестного человека, как Чижик, и, напротив, никогда не бранит противного Ивана. Иван и Шурке не нравился, несмотря на его льстивое и заискивающее обращение с молодым барчуком.
Проводив господ и обменявшись с Шуркой прощальными приветствиями, Федос достал из глубины своего сундучка тряпицу, в которой хранился его капитал — несколько рублей, скопленных им за шитье сапог. Чижик недурно шил сапоги и умел даже шить с фасоном, вследствие чего, случалось, получал заказы от писарей, подшкиперов и баталеров.
Осмотрев свои капиталы, Федос вынул из тряпки одну засаленную рублевую бумажку, спрятал ее в карман штанов, рассчитывая из этих денег купить себе восьмушку чая, фунт сахара и запас махорки, а остальные деньги, бережно уложив в тряпочку, снова запрятал в угол сундука и запер сундук на ключ.
Поправив огонек в лампадке перед образком у изголовья, Федос расчесал свои черные как смоль баки и усы, обулся в новые сапоги и, облачившись в форменную матросскую серую шинель с ярко горевшими медными пуговицами и надевши чуть-чуть набок фуражку, веселый и довольный вышел из кухни.
— Обедать нешто дома не будете? — кинул ему вдогонку Иван.
— То-то не буду!..
«Экая необразованная матрозня! как есть „чучила“», — мысленно напутствовал Федоса Иван.
И сам он, франтовато одетый в серый пиджак, в белой манишке, воротник которой был повязан необыкновенно ярким галстуком, с бронзовой цепочкой на жилете, глядя в окно на проходившего Чижика, презрительно оттопырил толстые свои губы, покачал кудластой головой с рыжими волосами, обильно умащенными коровьим маслом, и в маленьких его глазках сверкнул огонек.
XI
Федос первым делом направился в Андреевский собор и как раз попал к началу службы.
Купив копеечную свечку и пробравшись вперед, он поставил свечку у образа Николы-угодника[22] и, вернувшись, стал совсем позади, в толпе бедного люда. Всю обедню он выстоял серьезный и сосредоточенный, стараясь направить мысли на божественное, и усердно и истово осенял себя широким, размашистым крестным знамением. При чтении евангелия он умилился, хотя и не все понимал, что читали. Умилялся и при стройном пении певчих и вообще находился в приподнятом настроении человека, отрешившегося от всяких житейских дрязг.
И, слушая пение, слушая слова любви и милосердия, произносимые мягким тенорком священника, Федос уносился куда-то в особый мир, и ему казалось, что там, «на том свете», будет необыкновенно хорошо и ему и всем матросам, куда лучше, чем было на грешной земле…
Нравственно удовлетворенный и как бы внутренне сияющий, вышел Федос по окончании службы из церкви и на паперти, где толпились по обе ее стороны и по бокам ступеней нищие, оделил по грошику десять человек, подавая преимущественно мужчинам и старикам.
Все еще занятый разными, как он называл, «божественными» мыслями насчет того, что господь все видит и если попускает на свете неправду, то более всего для испытания человека, готовя потерпевшему на земле самую лучшую будущую жизнь, которой, разумеется, не видать, как ушей своих, форменным «арестантам» из капитанов и офицеров, — Чижик ходко шагал в один из дальних переулков, где в маленьком деревянном домишке нанимал комнату отставной боцман Флегонт Нилыч и его жена Авдотья Петровна, имевшая на рынке ларек со всякою мелочью.
Низенький и худощавый старик Нилыч, бодрый еще на вид, несмотря на свои шестьдесят с лишком лет, сидел за накрытым цветною скатертью столом в чистой ситцевой рубахе, широких штанах и в башмаках, одетых на босые ноги, и слегка вздрагивающею костлявою рукою с предусмотрительной осторожностью наливал из полуштофа в стаканчик водку.
И в выражении его морщинистого, отливавшего старческим румянцем лица, с крючковатым носом и большой бородавкой на выбритой, по случаю воскресенья, щеке, и маленьких, все еще живых глаз было столько сосредоточенного благоговейного внимания, что Нилыч и не заметил, как в двери вошел Федос.
И Федос, словно бы понимая всю важность этого священнодействия, дал знать о своем присутствии только тогда, когда стаканчик был налит до краев и Нилыч его выцедил с видимым наслаждением.
— Флегонту Нилычу — нижайшее! С праздником!
— А, Федос Никитич? — весело воскликнул Нилыч, как звали его все знакомые, пожимая Федосу руку. — Садись, братец, сейчас шти Авдотья Петровна принесет…
И, наливая вновь стаканчик, поднес его Федосу.
— Я, брат, уж колупнул.
— Будь здоров, Нилыч! — проговорил Чижик и, медленно выпив рюмку, крякнул.
— И где это ты пропадал?.. Уж я в казармы хотел идти… Думаю: совсем забыл нас… А еще кум…
— В денщики попал, Нилыч…
— В денщики?.. К кому?..
— К Лузгину, капитану второго ранга… Может, слыхал?
— Слыхал… Ничего себе… Ну-кось!.. вторительно?..
И Нилыч снова налил стаканчик.
— Будь здоров, Нилыч!..
— Будь здоров, Федос! — проговорил Нилыч, выпивая в свою очередь.
— С им-то ничего жить, только женка его, я тебе скажу…
— Зудливая нешто?
— Как есть заноза, и злющая. Ну, и о себе много полагает… Думает, что белая да ядреная, так уж лучше и нет…
— Ты у них по какой же части?
— В няньках при барчуке. Мальчонка славный, душевный мальчонка… Кабы не заноза эта самая, легко было бы жить… А она всем в доме командует…
— А сам?
— То-то он у ей вроде быдто подвахтенного. Перед ей и не пикнет, а, кажется, с рассудком человек… Совсем в покорности.
— Это бывает, братец ты мой! Бы-вает! — протянул Нилыч.
Сам он, когда-то лихой боцман и «человек с рассудком», тоже находился под командой своей жены, хотя при посторонних и хорохорился, стараясь показать, что он ее нисколько не боится.
— Дайся только бабе в руки, она тебе пркажет кузькину маменьку. Известно, в бабе настоящего рассудка нет, а только одна брехня, — продолжал Нилыч, понижая голос и в то же время опасливо посматривая на двери. — Бабу надо держать в струне, чтобы понимала начальство. Да что это моя-то копается? Рази пойти ее шугануть!..
Но в эту минуту отворились двери и в комнату вошла Авдотья Петровна, здоровая, толстая и высокая женщина лет пятидесяти с очень энергичным лицом, сохранившим еще остатки былой пригожести. Достаточно было взглянуть на эту внушительную особу, чтобы оставить всякую мысль о том, что низенький и сухенький Нилыч, казавшийся перед женой совсем маленьким, мог ее «шугануть». В засученных красных ее руках был завернутый в тряпки горшок со щами. Сама она так и пылала.
— А я думала, с кем это Нилыч стрекочет… А это Федос Никитич!.. Здравствуйте, Федос Никитич… И то забыли! — говорила густым, низким голосом боцманша.
И, поставивши горшок на стол, протянула куму руку и бросила Нилычу:
— Поднес гостю-то?
— А то как же? Небось тебя не дожидались!
Авдотья Петровна повела взглядом на Нилыча, точно дивясь его прыти, и разлила по тарелкам щи, от которых шел пар и вкусно пахло. Затем достала из шкапчика с посудой еще два стаканчика и наполнила все три.
— Что правильно, то правильно! Петровна, братец ты мой, рассудливая женщина! — заметил Нилыч не без льстивой нотки, умильно глядя на водку.
— Милости просим, Федос Никитич, — предложила боцманша.
Чижик не отказался.
— Будьте здоровы, Авдотья Петровна! Будь здоров, Нилыч!
— Будьте здоровы, Федос Никитич.
— Будь здоров, Федос!
Все трое выпили, у всех были серьезные и несколько торжественные лица. Перекрестившись, начали хлебать в молчании щи. Только по временам раздавался низкий голос Авдотьи Петровны:
— Милости просим!
После щей полуштоф был пуст.
Боцманша пошла за жареным и, возвратившись, вместе с куском мяса поставила на стол еще полуштоф.
Нилыч, видимо подавленный таким благородством жены, воскликнул:
— Да, Федос… Петровна, одно слово…
В конце обеда разговор сделался оживленнее. Нилыч уже заплетал языком и размяк. Чижик и боцманша, оба красные, были клюкнувши, но нисколько не теряли своего достоинства.
Федос рассказывал о белобрысой, о том, как она утесняет Анютку и какой у них подлый денщик Иван, и философствовал насчет того, что бог все видит и наверное быть Лузгинихе в аду, коли она не одумается и не вспомнит бога.
— Как вы полагаете, Авдотья Петровна?
— Другого места ей не будет, сволочи! — энергично отрезала боцманша. — Мне знакомая прачка тоже сказывала, какая она уксусная сука.
— Небось там, в пекле значит, ее отполируют в лучшем виде… От-по-ли-ру-ют! Сделай одолжение! Не хуже, чем на флоте! — вставил Нилыч, имевший, по-видимому, об аде представление как о месте, где будут так же отчаянно пороть, как и на кораблях. — А повару раскровяни морду. Не станет он тогда кляузничать.
— И раскровяню, ежели нужно будет… Совсем оголтелый пес. Добром не выучишь! — проговорил Чижик и вспомнил об Анютке.
Петровна стала жаловаться на дела. Совсем нынче подлые торговки стали, особенно из молодых. Так и норовят из-под носа отбить покупателя.
— А мужчинское известное дело. Матрос да солдат к молодым торговкам лезет, как окунь на червя… Купит на две копейки, а сам, бесстыдник, норовит уколупнуть бабу на рубь… А другая подлющая баба и рада… Так зенками и вертит…
И, словно припомнив какую-то неприятность, Петровна приняла несколько воинственный вид, подперев бок своею здоровенною рукой, и воскликнула:
— А я терплю-терплю, а глаза черномазой Глашке выцарапаю! Знаете Глашку-то?.. — обратилась боцманша к Чижику. — Вашего экипажа матроска… Марсового Ковшикова жена?..
— Знаю… За что же вы, Авдотья Петровна, хотите Глашку проучить?
— А за то самое, что она подлая! Вот за что… У меня покупателев неправильно отбивает… Вчера подошел ко мне антиллерист… Человек уже в возрасте в таком, что старому дьяволу нечего разбирать бабьи подлости… Ему на том свете уж и паек готов… Ну, подошел к ларьку — так по правилам, значит, уже мой покупатель, и всякая честная торговка должна перестать драть глотку на зазыв… А Глашка заместо того, мерзавка, грудь пятит, чтобы ульстить антиллериста, и голосом воет: «Ко мне, кавалер!.. Ко мне, солдатик бравый!.. Я дешевле продам!» И зубы скалит, толсторожая… И что бы вы думали?.. Старый-то облезлый пес облестился, что его, дурака, молодая баба назвала бравым солдатиком, и к ней… У нее и купил. Ну, и отчесала же я их обоих: и антиллериста и Глашку!.. Да разве эту подлюгу словом проймешь!
Федос и в особенности Нилыч хорошо знали, что Петровна в минуты возбуждения ругалась не хуже любого боцмана и могла, казалось, пронять всякого. Недаром все на рынке — и торговки и покупатели — боялись ее языка.
Однако мужчины из деликатности промолчали.
— Беспременно выцарапаю ей глаза, ежели еще раз Глашка осмелится! — повторила Петровна.
— Небось не посмеет!.. С такой, можно сказать, умственной бабой не посмеет! — проговорил Нилыч.
И, несмотря на то, что уже был достаточно «зарифившись» и еле плел языком, обнаружил, однако, дипломатическую хитрость, начав выхваливать добродетели своей супруги… Она, дескать, и большого ума, и хозяйственна, и мужа своего кормит… Одним словом, такой другой женщины не сыскать по всему Кронштадту. После чего намекнул, что если бы теперь по стаканчику пива, то было бы самое лучшее дело… Только по стаканчику…
— Как ты об этом полагаешь, Петровна? — просительным тоном проговорил Нилыч.
— Ишь ведь, старый хрыч… к чему подъезжает!.. И без того ослаб… А еще пива ему дай… То-то лестные слова молол, лукавый.
Однако Петровна говорила эти речи без сердца и, как видно, сама находила, что пиво вещь недурная, потому что вскоре надела на голову платок и вышла из комнаты.
Через несколько минут она вернулась, и несколько бутылок пива красовались на столе.
— И провористая же баба Петровна, я тебе скажу, Федос… Ах, что за баба! — повторил в пьяном умилении Нилыч после двух стаканов пива.
— Ишь, разлимонило уже! — не без снисходительного презрения промолвила Петровна.
— Меня разлимонило? Старого боцмана?.. Неси еще пару бутылок… Я один выпью… А пока вали, милая супруга, еще стаканчик…
— Будет с тебя…
— Петровна! Уважь супруга…
— Не дам! — резко ответила Петровна.
Нилыч принял обиженный вид.
Был уже пятый час, когда Федос, простившись с хозяевами и поблагодарив за угощение, вышел на улицу. В голове у него шумело, но ступал он твердо и с особенною аффектацией, становился во фронт и отдавал честь при встрече с офицерами. И находился в самом добродушном настроении и всех почему-то жалел. И Анютку жалел, и встретившуюся ему на дороге маленькую девочку пожалел, и проходивших офицеров жалел. Идут, мол, а того не понимают, что они несчастные… Бога-то забыли, а он, батюшка, все видит…
Сделав необходимые покупки, Федос пошел на Петровскую пристань, встретил там среди гребцов на дожидающих офицеров шлюпках знакомых, поговорил с ними, узнал, что «Кобчик» находится теперь в Ревеле, и в седьмом часу вечера направился домой.
Лайка встретила Чижика радостным бреханьем.
— Здравствуй, Лаечка… Здорово, брат! — ласково приветствовал он собаку и стал ее гладить… — Что, кормили тебя?.. Небось, забыли, а? Погоди… принесу тебе… Чай, в кухне что найдется…
Иван сидел на кухне у окна и играл на гармонии.
При виде Федоса, выпившего, он с довольным видом усмехнулся и проговорил:
— Хорошо погуляли?
— Ничего себе погулял…
И, пожалев, что Иван сидит дома один, прибавил:
— Иди и ты погуляй, пока господа не вернутся, а я буду дом сторожить…
— Куда уж теперь гулять… Семь часов! Скоро и господа вернутся…
— Твое дело, а ты мне дай косточек, если есть…
— Бери… Вон лежат…
Чижик взял кости, отнес их собаке и, вернувшись, присел на кухне и неожиданно проговорил:
— А ты, братец мой, лучше живи по-хорошему… Право…
И не напущай ты на себя форцу… Все помрем, а на том свете форцу, любезный ты мой, не спросят…
— Это вы в каких, например, смыслах?
— А во всяких… И к Анютке не приставай… Силком девку не привадишь, а она сам видишь, от тебя бегает… За другой лучше гоняйся… Грешно забиждать девку-то… И так она забижена! — продолжал Чижик ласковым тоном. — И всем нам без свары жить можно… Я тебе без всякого сердца говорю…
— Уж не вам ли Анютка приглянулась, что вы так заступаетесь? — насмешливо проговорил повар.
— Глупый!.. Я в отцы ей гожусь, а не то чтобы какие подлости думать…
Однако Чижик не продолжал разговора в этом направлении и несколько смутился.
А Иван между тем говорил вкрадчивым тенорком:
— Я, Федос Никитич, и сам ничего лучшего не желаю, как жить, значит, в полном с вами согласии. Вы сами мною пренебрегаете…
— А ты форц-то свой брось… Вспомни, что ты матросского звания человек, и никто тобой пренебрегать не будет… Так-то, брат… А то, в денщиках околачиваясь, ты и вовсе совесть забыл… Барыне кляузничаешь… Разве это хорошо?.. Ой, нехорошо это!.. Неправильно…
В эту минуту раздался звонок. Иван бросился отворять двери.
Пошел и Федос встречать Шурку.
Марья Ивановна пристально оглядела Федоса и произнесла:
— Ты пьян!..
Шурка, хотевший было подбежать к Чижику, был резко отдернут за руку.
— Не подходи к нему… Он пьян!
— Никак нет, барыня… Я вовсе не пьян… Почему вы полагаете, что я пьян?.. Я, как следует, в своем виде и все могу справлять… И Лександру Васильича уложу спать и сказку расскажу… А что выпил я маленько… это точно… У боцмана Нилыча… В самую плепорцию… по совести…
— Ступай вон! — крикнула Марья Ивановна. — Завтра я с тобой поговорю.
— Мама… мама… Пусть меня Чижик уложит!
— Я сама тебя уложу! А пьяный не может укладывать.
Шурка залился слезами.
— Молчи, гадкий мальчишка! — крикнула на него мать… — А ты, пьяница, чего стоишь? Ступай сейчас же на кухню и ложись спать.
— Эх, барыня, барыня! — проговорил с выражением не то упрека, не то сожаления Чижик и вышел из комнаты.
Шурка не переставал реветь. Иван торжествующе улыбался.
XII
На следующее утро Чижик, вставший, по обыкновению, в шесть часов, находился в мрачном настроении. Обещание Лузгиной «поговорить» с ним сегодня, по соображениям Федоса, не предвещало ничего хорошего. Он давно видел, что барыня терпеть его не может, зря придираясь к нему, и с тревогой в сердце догадывался, какой это будет «разговор». Догадывался и становился мрачнее, сознавая в то же время полную свою беспомощность и зависимость от белобрысой, которая почему-то стала его начальством и может сделать с ним все, что ей угодно.
«Главная причина — зла на меня, и нет в ей ума, чтобы понять человека!»
Так размышлял о Лузгиной старый матрос и в эту минуту не утешался сознанием, что она будет на том свете в аду, а мысленно довольно-таки энергично выругал самого Лузгина за то, что он дает волю такой «злющей ведьме», как эта белобрысая. Ему бы, по-настоящему, следовало усмирить ее, а он…
Федос вышел на двор, присел на крыльце и, порядочно- таки взволнованный, курил трубочку за трубочкой в ожидании, пока закипит поставленный им для себя самовар.
На дворе уже началась жизнь. Петух то и дело вскрикивал как сумасшедший, приветствуя радостное, погожее утро. В зазеленевшем саду чирикали воробьи и заливалась малиновка. Ласточки носились взад и вперед, скрываясь на минутку в гнездах, и снова вылетали на поиски за добычкой.
Но сегодня Федос не с обычным радостным чувством глядел на все окружающее. И когда Лайка, только что проснувшаяся, поднялась на ноги и, потянувшись всем своим телом, подбежала, весело повиливая хвостом, к Чижику, он поздоровался с ней, погладил ее и, словно бы отвечая на занимавшие его мысли, проговорил, обращаясь к ласкавшейся собаке:
— Тоже, брат, и наша жизнь вроде твоей собачьей… Какой попадется хозяин…
Вернувшись на кухню, Федос презрительно повел глазами на только что вставшего Ивана и, не желая обнаруживать перед ним своего тревожного состояния, принял спокойно-суровый вид. Он видел вчера, как злорадствовал Иван в то время, когда кричала барыня, и, не обращая на него никакого внимания, стал пить чай.
На кухню вошла Анютка, заспанная, немытая, с румянцем на бледных щеках, имея в руках барынино платье и ботинки. Она поздоровалась с Федосом как-то особенно ласково после вчерашней истории и не кивнула даже в ответ на любезное приветствие повара с добрым утром.
Чижик предложил Анютке попить чайку и дал ей кусок сахара. Она наскоро выпила две чашки и, поблагодарив, поднялась.
— Пей еще… Сахар есть, — сказал Федос.
— Благодарствуйте, Федос Никитич. Надо барынино платье чистить поскорей. И неравно ребенок проснется…
— Давай я, что ли, почищу, а ты пока угощайся чаем! — предложил Иван.
— Тебя не просят! — резко оборвала повара Анютка и вышла из кухни.
— Ишь какая сердитая, скажите пожалуйста! — кинул ей вслед Иван.
И, покрасневший от досады, взглянул исподлобья на Чижика и, усмехнувшись, подумал: «Ужо будет тебе сегодня, матрозне!»
Ровно в восемь часов Чижик пошел будить Шурку. Шурка уже проснулся и, припомнив вчерашнее, сам был невесел и встретил Федоса словами:
— А ты не бойся, Чижик… Тебе ничего не будет!..
Он хотел утешить себя и своего любимца, хотя в душе и далеко был не уверен, что Чижику ничего не будет.
— Бойся — не бойся, а что бог даст! — отвечал, подавляя вздох, Федос. — С какой еще ноги маменька встанет! — угрюмо прибавил он.
— Как с какой ноги?
— А так говорится. В каком, значит, карактере будет… А только твоя маменька напрасно полагает, что я вчера пьяный был… Пьяные не такие бывают. Ежели человек может как следует сполнять свое дело, какой же он пьяный?..
Шурка вполне с этим согласился и сказал:
— И я вчера маме говорил, что ты совсем не был пьян, Чижик… Антон не такой бывал… Он качался, когда шел, а ты вовсе не качался…
— То-то и есть… Ты вот малолеток и то понял, что я был в своем виде… Я, брат, знаю меру… И папенька твой ничего бы не сделал, увидавши меня вчерась. Увидал бы, что я выпил в плепорцию… Он понимает, что матросу в праздник не грех погулять… И никому вреды от того нет, а маменька твоя рассердилась. А за что? Что я ей сделал?
— Я буду маму просить, чтоб она на тебя не сердилась… Поверь, Чижик…
— Верю, хороший мой, верю… Ты-то добер… Ну, иди теперь чай пить, а я пока комнату твою уберу, — сказал Чижик, когда Шурка был готов.
Но Шурка, прежде чем идти, сунул Чижику яблоко и конфетку и проговорил:
— Это тебе, Чижик. Я и Анютке оставил.
— Ну, спасибо. Только я лучше спрячу… После сам скушаешь на здоровье.
— Нет, нет… Непременно съешь… Яблоко пресладкое. А я попрошу маму, чтобы она не сердилась на тебя, Чижик… Попрошу! — снова повторил Шурка.
И с этими словами, озабоченный и встревоженный, вышел из детской.
— Ишь ведь — дите, а чует, какова маменька! — прошептал Федос и принялся с каким-то усердным ожесточением убирать комнату.
XIII
Не прошло и пяти минут, как в детскую вбежала Анютка и, глотая слезы, проговорила:
— Федос Никитич! Вас барыня зовет!
— А ты чего плачешь?
— Сейчас меня била и грозит высечь…
— Ишь ведьма!.. За что?
— Верно, этот подлый человек ей чего наговорил… Она сейчас на кухне была и вернулась злющая-презлющая…
— Подлый человек всегда подлого слушает.
— А вы, Федос Никитич, лучше повинитесь за вчерашнее… А то она…
— Чего мне виниться! — угрюмо промолвил Федос и пошел в столовую.
Действительно, госпожа Лузгина, вероятно, встала сегодня с левой ноги, потому что сидела за столом хмурая и сердитая. И когда Чижик явился в столовую и почтительно вытянулся перед барыней, она взглянула на него такими злыми и холодными глазами, что мрачный Федос стал еще мрачнее.
Смущенный Шурка замер в ожидании чего-то страшного и умоляюще смотрел на мать. Слезы стояли в его глазах.
Прошло несколько секунд в томительном молчании.
Вероятно, молодая женщина ждала, что Чижик станет просить прощения за то, что вчера был пьян и осмелился дерзко отвечать.
Но старый матрос, казалось, вовсе и не чувствовал себя виновным.
И эта «бесчувственность» дерзкого «мужлана», не признающего, по-видимому, авторитета барыни, еще более злила молодую женщину, привыкшую к раболепию окружающих.
— Ты помнишь, что было вчера? — произнесла она, наконец, тихим голосом, медленно отчеканивая слова.
— Все помню, барыня. Я пьяным не был, чтобы не помнить.
— Не был? — протянула, зло усмехнувшись, барыня. — Ты, верно, думаешь, что пьян только тот, кто валяется на земле?
Федос молчал: что, мол, отвечать на глупости!
— Я тебе что говорила, когда брала в денщики? Говорила я тебе, чтобы ты не смел пить? Говорила?.. Что ж ты стоишь как пень?.. Отвечай!
— Говорили.
— А Василий Михайлович говорил тебе, чтобы ты меня слушался и чтобы не смел грубить? Говорил? — допрашивала все тем же ровным, бесстрастным голосом Лузгина.
— Сказывали.
— А ты так-то слушаешь приказания?.. Я выучу тебя, как говорить с барыней… Я покажу тебе, как представляться тихоней да исподтишка заводить шашни… Я все вижу… все знаю! — прибавила Марья Ивановна, бросая взгляд на Анютку.
Тут Федос не вытерпел.
— Это уж вы напрасно, барыня… Как перед господом богом говорю, что никаких шашней не заводил… А ежели вы слушаете кляузы да наговоры подлеца вашего повара, то как вам будет угодно… Он вам еще не то набрешет! — проговорил Чижик.
— Молчать! как ты смеешь так со мной говорить?! Анютка! Принеси мне перо, чернила и почтовой бумаги!
— Мама! — умоляющим, вздрагивающим голосом воскликнул Шурка.
— Убирайся вон! — прикрикнула на него мать.
— Мама… мамочка… милая… хорошая… Если ты меня любишь… не посылай Чижика в экипаж…
И, весь потрясенный, Шурка бросился к матери и, рыдая, припал к ее руке.
Федос почувствовал, что у него щекочет в горле. И хмурое лицо его просветлело в благодарном умилении!
— Пошел вон!.. Не твое дело!
И с этими словами она оттолкнула мальчика… Пораженный, все еще не веря решению матери, он отошел в сторону и плакал.
Лузгина в это время быстро и нервно писала записку к экипажному адъютанту. В этой записке она просила «не отказать ей в маленьком одолжении» — приказать высечь ее денщика за пьянство и дерзости. В конце записки она сообщала, что завтра собирается в Ораниенбаум на музыку и надеется, что Михаил Александрович не откажется ей сопутствовать.
Запечатав конверт, она отдала его Чижику и сказала:
— Сейчас отправляйся в экипаж и отдай это письмо адъютанту!
— Слушаю-с! — дрогнувшим голосом ответил матрос, хмуря нависшие брови и стараясь скрыть волнение, охватившее его.
Шурка рванулся к матери.
— Мамочка… ты этого не сделаешь… Чижик!.. Постой… не уходи! Он чудный… славный… Мамочка!.. милая… родная… Не посылай его! — молил Шурка.
— Ступай! — крикнула Лузгина денщику. — Я знаю, что ты подучил глупого мальчика… Думал меня разжалобить?..
— Не я учил, а бог! Вспомните его когда-нибудь, барыня! — с какою-то суровою торжественностью проговорил Федос и, кинув взгляд, полный любви, на Шурку, вышел из комнаты.
— Ты, значит, гадкая… злая… Я тебя не люблю! — вдруг крикнул Шурка, охваченный негодованием и возмущенный такой несправедливостью. — И я никогда не буду любить тебя! — прибавил он, сверкая заплаканными глазенками.
— Вот ты какой?! Вот чему научил тебя этот мерзавец?! Ты смеешь так говорить с матерью?
— Чижик не мерзавец… Он хороший, а ты… нехорошая! — в бешеной отваге отчаяния продолжал Шурка.
— Так я и тебя выучу, как говорить со мной, мерзкий мальчишка! Анютка! Скажи Ивану, чтобы принес розги…
— Что ж… секи… гадкая… злая… Секи!.. — в каком-то диком ожесточении вопил Шурка.
И в то же время личико его покрывалось смертельною бледностью, все тело вздрагивало, а большие, с расширенными зрачками глаза с выражением ужаса смотрели на двери…
Раздирающие душу вопли наказываемого ребенка донеслись до ушей Федоса, когда он выходил со двора, имея за обшлагом рукава шинели записку, содержание которой не оставляло в матросе никаких сомнений.
Полный чувства любви и сострадания, он в эту минуту забыл о том, что ему самому под конец службы предстоит порка, и, растроганный, жалел только мальчика. И он почувствовал, что этот барчук, не побоявшийся пострадать за своего пестуна, отныне стал ему еще дороже и совсем завладел его сердцем.
— Ишь ведь, подлая! Даже родное дите не пожалела! — проговорил с негодованием Чижик и прибавил шагу, чтобы не слыхать этого детского крика, то жалобного, молящего, то переходящего в какой-то рев затравленного, беспомощного зверька.
XIV
Молодой мичман, сидевший в экипажной канцелярии, был удивлен, прочитав записку Лузгиной. Он служил раньше в одной роте с Чижиком и знал, что Чижик считался одним из лучших матросов в экипаже и никогда не был ни пьяницей, ни грубияном.
— Ты что это, Чижик? Пьянствовать начал?
— Никак нет, ваше благородие…
— Однако… Мария Ивановна пишет…
— Точно так, ваше благородие…
— Так в чем же дело, объясни.
— Вчера выпил я маленько, ваше благородие, отпросившись со двора, и вернулся как следует, в настоящем виде… в полном, значит, рассудке, ваше благородие…
— Ну?
— А госпоже Лузгиной и покажись, что я пьян… Известно, по женскому своему понятию она не рассудила, какой есть пьяный человек…
— Ну, а насчет дерзостей?.. Ты нагрубил ей?
— И грубостей не было, ваше благородие… А что насчет ейного повара-денщика я сказал, что она слушает его подлые кляузы, это точно…
И Чижик правдиво рассказал, как было дело.
Мичман несколько минут был в раздумье. Он знаком был с Марией Ивановной, одно время был даже к ней неравнодушен и знал, что эта дама очень строгая и придирчивая с прислугой и что муж ее довольно-таки часто посылал денщиков в экипаж для наказания, разумеется, по настоянию жены, так как всем было известно в Кронштадте, что Лузгин, сам человек мягкий и добрый, находится под башмаком у красивой Марьи Ивановны.
— А все-таки, Чижик, я должен исполнить просьбу Марьи Ивановны, — проговорил, наконец, молодой офицер, отводя от Чижика несколько смущенный взор.
— Слушаю, ваше благородие.
— Ты понимаешь, Чижик, я должен, — мичман подчеркнул слово «должен», — ей верить. И Василий Михайлович просил, чтобы требования его жены о наказаниях денщиков исполнялись, как его собственные.
Чижик понимал только, что его будут сечь по желанию белобрысой и молчал.
— Я тут, Чижик, ни при чем! — словно бы оправдывался мичман.
Он ясно сознавал, что совершает несправедливое и беззаконное дело, собираясь наказать матроса по просьбе дамы, и что, по долгу службы и совести, не должен совершать его, имей он хоть немножко мужества. Но он был слабый человек и, как все слабые люди, успокаивал себя тем, что если Чижика он не накажет теперь, то по возвращении из плавания Лузгина матрос будет наказан еще беспощаднее. Кроме того, придется поссориться с Лузгиным и, быть может, иметь неприятности и с экипажным командиром; последний был дружен с Лузгиными, втайне, кажется, даже вздыхал по барыньке, прельщавшей старого, как спичка худенького, моряка главным образом своим пышным станом, и, не отличаясь большою гуманностью, находил, что матросу никогда не мешает «всыпать».
И молодой офицер приказал дежурному приготовить все, что нужно, в цейхгаузе для наказания.
В большом цейхгаузе тотчас же была поставлена скамейка. Два унтер-офицера с напряженно-недовольными лицами стали по бокам, имея в руках по толстому пучку свежих зеленых прутьев. Такие же пучки лежали на полу на случай, если понадобится менять розги.
Еще не совсем «закалившийся», недолго служивший во флоте мичман, слегка взволнованный, стал поодаль.
Сознавая всю несправедливость предстоящего наказания, Чижик с какою-то угрюмой покорностью, чувствуя стыд и в то же время позор оскорбленного человеческого достоинства, стал раздеваться необыкновенно торопливо, словно ему было неловко, что он заставляет ждать и этих двух хорошо знакомых унтер-офицеров и этого молодого мичмана.
Оставшись в одной рубахе, Чижик перекрестился и лег ничком на скамейку, положив голову на скрещенные руки, и тотчас же зажмурил глаза.
Давно уже его не наказывали, и эта секунда-другая в ожидании удара была полна невыразимой тоски от сознания своей беспомощности и унижения… Перед ним пронеслась вся его безотрадная жизнь.
Мичман между тем подозвал к себе одного из унтер-офицеров и шепнул:
— Полегче!
Унтер-офицер просветлел и шепнул о том же товарищу.
— Начинай! — скомандовал молодой человек, отворачиваясь.
После десятка ударов, не причинивших почти никакой боли Чижику, так как эти зеленые прутья после энергичного взмаха едва только касались его тела, — мичман крикнул:
— Довольно! Явись после ко мне, Чижик!
И с этими словами вышел.
Чижик, по-прежнему угрюмый, испытывая стыд, несмотря на комедию наказания, торопливо оделся и проговорил:
— Спасибо, братцы, что не били… Одним только срамом отделался…
— Это адъютант приказывал. А тебя за что это прислали, Федос Никитич?
— А за то, что глупая и злющая баба у меня теперь вроде главного начальника…
— Это кто же?
— Лузгиниха…
— Известная живодерка! Часто присылает сюда денщиков! — заметил один из унтер-офицеров. — Как же ты будешь жить-то теперь у нее?
— Как бог даст… Надо жить… Ничего не поделаешь… Да и мальчонка ейный, у которого я в няньках, славный… И его, братцы, бросить жалко… Из-за меня и его секли… Заступался, значит, перед матерью…
— Ишь ты… Не в мать, значит.
— Вовсе не похож… Добер — страсть!
Чижик явился в канцелярию и прошел в кабинет, где сидел адъютант. Тот передал Чижику письмо и проговорил:
— Отдай Марье Ивановне… Я ей пишу, что тебя строго наказали…
— Премного благодарен, что пожалели старого матроса, ваше благородие! — с чувством проговорил Чижик.
— Я что ж… Я, братец, не зверь… Я и совсем бы не наказал тебя… Я знаю, какой ты исправный и хороший матрос! — говорил все еще смущенный мичман. — Ну, ступай к своей барыне… Дай тебе бог с ней ужиться… Да смотри… не болтай, как тебя наказывали! — прибавил мичман.
— Не извольте сумлеваться! Счастливо оставаться, ваше благородие!
XV
Шурка сидел, забившись в угол детской, с видом запуганного зверька. Он то и дело всхлипывал. При каждом новом воспоминании о нанесенной ему обиде рыдания подступали к горлу, он вздрагивал, и злое чувство приливало к сердцу и охватывало все его существо. Он в эти минуты ненавидел мать, но еще более Ивана, который явился с розгами веселый и улыбающийся и так крепко сжимал его бьющееся тело во время наказания. Не держи его этот гадкий человек так крепко, он бы убежал.
И в голове мальчика бродили мысли о том, как он отомстит повару… Непременно отомстит… И расскажет папе, как только он вернется, как несправедливо поступила мама с Чижиком… Пусть папа узнает…
По временам Шурка выходил из своего угла и взглядывал в окно: не идет ли Чижик?.. «Бедный Чижик! Верно, и его больно секли… А он не знает, что и меня высекли за него. Я ему все… все расскажу!»
Эти мысли о Чижике несколько успокаивали его, и он ждал возвращения своего друга с нетерпением.
Марья Ивановна, сама взволнованная, ходила по своей большой спальне, полная ненависти к денщику, из-за которого ее Шурка осмелился так говорить с матерью. Положительно, этот матрос имеет скверное влияние на мальчика, и его следует удалить… Вот только вернется из плавания Василий Михайлович, и она попросит его взять другого денщика. А пока — нечего делать — придется терпеть этого грубияна. Наверное, он не посмеет теперь напиваться пьяным и грубить ей после того, как его в экипаже накажут… Необходимо было его проучить!
Марья Ивановна несколько раз тихонько заглядывала в детскую и снова возвращалась, напрасно ожидая, что Шурка придет просить прощения.
Раздраженная, она то и дело бранила Анютку и стала допрашивать ее насчет ее отношений с Чижиком.
— Говори, подлянка, всю правду… Говори…
Анютка клялась в своей невиновности.
— Повар, так тот, барыня, прохода мне не давал, — говорила Анютка, — все лез с разными подлостями, а Федос никогда и не думал, барыня…
— Отчего же ты раньше мне ничего не сказала о поваре? — подозрительно спрашивала Лузгина.
— Не смела, барыня… Думала, отстанет…
— Ну, я вас всех разберу… Ты смотри у меня!.. Поди узнай, что делает Александр Васильевич!
Анютка вошла в детскую и увидала Шурку, кивающего в окно возвращавшемуся Чижику.
— Барчук! Маменька приказали узнать, что вы делаете… Что прикажете сказать?
— Скажи, Анютка, что я пошел в сад погулять…
И с этими словами Шурка выбежал из комнаты, чтобы встретить Чижика.
XVI
У ворот Шурка бросился к Федосу.
Участливо заглядывая в его лицо, он крепко ухватился за шершавую, мозолистую руку матроса, и, глотая слезы, повторял, ласкаясь к нему:
— Чижик… Милый, хороший Чижик!
Мрачное и смущенное лицо Федоса озарилось выражением необыкновенной нежности.
— Ишь ведь, сердешный! — взволнованно прошептал он.
И, бросив взгляд на окна дома — не торчит ли белобрысая, — Федос быстрым движением поднял Шурку, прижал его к своей груди и осторожно, чтобы не уколоть его своими щетинистыми усами, поцеловал мальчика. Затем он так же быстро опустил его на землю и проговорил:
— Теперь иди домой поскорей, Лександра Васильич. Иди, мой ласковый…
— Зачем? Мы вместе пойдем.
— То-то не надо вместе. Неравно маменька из окна углядит, что ты встрел свою няньку, и опять засерчает.
— И пусть глядит… Пусть злится!
— Да ты никак бунтовать против маменьки? — промолвил Чижик. — Не годится, милый мой, Лександра Васильич, бунтовать против родной матери. Ее почитать следует… Иди, иди… Ужо наговоримся.
Шурка, всегда охотно слушавшийся Чижика, так как вполне признавал его нравственный авторитет, и теперь готов был исполнить его совет. Но ему хотелось поскорей утешить друга в постигшем его несчастий, и потому, прежде чем уйти, он не без некоторого чувства горделивости произнес:
— А знаешь, Чижик, и меня высекли!
— То-то знаю. Слышал, как ты кричал, бедненький… Из-за меня ты потерпел, голубчик!.. Бог тебе это зачтет небось! Ну иди же, иди, родной, а то нам с тобой опять попадет…
Шурка убежал, еще более привязанный к Чижику. Несправедливое наказание, которому они оба подверглись, сильнее закрепило их любовь.
Выждав минуту-другую у ворот, Федос твердою и решительною походкой направился через двор в кухню, стараясь под видом презрительной суровости скрыть перед посторонними невольный стыд высеченного человека.
Иван оглядел Чижика улыбающимися глазами, но Чижик даже и не удостоил обратить внимания на повара, точно его и не было на кухне, и прошел в свой уголок в соседней комнате.
— Барыня приказали, чтобы вы немедленно явились к ней, как вернетесь из экипажа! — крикнул ему из кухни Иван.
Чижик не отвечал.
Не спеша снял он шинель, переобулся в парусиновые башмаки, достал из сундука яблоко и конфетку, данные ему утром Шуркой, сунул их в карман и, вынув из-за обшлага шинели письмо экипажного адъютанта, пошел в комнаты.
В столовой барыни не было. Там была одна Анютка. Она ходила взад и вперед по комнате, закачивая ребенка и напевая своим приятным голоском какую-то песенку.
Заметив Федоса, Анютка подняла на него свои испуганные глаза. В них теперь светилось выражение скорби и участья.
— Вам барыню, Федос Никитич? — шепнула она, подходя к Чижику.
— Доложи, что я вернулся из экипажа, — промолвил смущенно матрос, опуская глаза.
Анютка направилась было в спальню, но в ту же минуту Лузгина вошла в столовую.
Федос молча подал ей письмо и отошел к дверям.
Лузгина прочла письмо. Видимо, удовлетворенная тем, что просьба ее была исполнена и что дерзкого денщика строго наказали, она проговорила:
— Надеюсь, наказание будет тебе хорошим уроком и ты не осмелишься более грубить…
Чижик угрюмо молчал.
А Лузгина между тем продолжала уже более мягким тоном:
— Смотри же, Феодосий, веди себя, как следует порядочному денщику… Не пей водки, будь всегда почтителен к своей барыне… Тогда и мне не придется наказывать тебя.
Чижик не ронял ни слова.
— Понял, что я тебе говорю? — возвысила голос барыня, недовольная этим молчанием и угрюмым видом денщика.
— Понял!
— Так что ж ты молчишь?.. Надо отвечать, когда с тобой говорят!
— Слушаю-с! — автоматически отвечал Чижик.
— Ну, ступай к молодому барину… Можете идти в сад…
Чижик вышел, а молодая женщина вернулась в спальную, возмущенная бесчувственностью этого грубого матроса. Решительно Василий Михайлович не понимает людей. Расхваливал этого денщика, как какое-то сокровище, а он и пьет, и грубит, и не чувствует никакого раскаяния.
— Ах, что за грубый народ эти матросы! — произнесла вслух молодая женщина.
После завтрака она собралась в гости. Перед тем как уходить, она приказала Анютке позвать молодого барина.
Анютка побежала в сад.
В глубине густого, запущенного сада, под тенью раскидистой липы сидели рядом на траве Чижик и Шурка. Чижик мастерил бумажный змей и о чем-то тихо рассказывал. Шурка внимательно слушал.
— Пожалуйте к маменьке, барчук! — проговорила Анютка, подбегая к ним, вся раскрасневшаяся.
— Зачем? — недовольно спросил Шурка, который чувствовал себя так хорошо с Чижиком, рассказывавшим ему необыкновенно интересные вещи.
— А не знаю. Маменька собрались со двора. Должно быть, хотят с вами проститься…
Шурка неохотно поднялся.
— Что, мама сердитая? — спросил он Анютку.
— Нет, барчук… Отошли…
— А ты торопись, ежели маменька требует… Да смотри не бунтуй, Лександра Васильич, с маменькой-то. Мало ли что у матери с сыном выйдет, а все надо почитать родительницу, — ласково напутствовал Шурку Чижик, оставляя работу и закуривая трубочку.
Шурка вошел в спальню боязливо, имея обиженный вид, и смущенно остановился в нескольких шагах от матери.
В нарядном шелковом платье и белой шляпке, красивая, цветущая и благоухающая, Марья Ивановна подошла к Шурке и, ласково потрепав его по щеке, проговорила с улыбкой:
— Ну, Шурка, довольно дуться… Помиримся… Проси у мамы прощенья за то, что назвал ее гадкой и злой… Целуй руку…
Шурка поцеловал эту белую пухлую руку в кольцах, и слезы подступили к его горлу.
Действительно, он виноват: он назвал маму злой и гадкой. А Чижик недаром говорит, что грешно быть дурным сыном.
И Шурка, преувеличивая свою вину под влиянием охватившего его чувства, взволнованно и порывисто проговорил:
— Прости, мама!
Этот искренний тон, эти слезы, дрожавшие на глазах мальчика, тронули сердце матери. Она, в свою очередь, почувствовала себя виноватой за то, что так жестоко наказала своего первенца. Пред ней представилось его страдальческое личико, полное ужаса, в ее ушах слышались его жалобные крики, и жалость самки к детенышу охватила молодую женщину. Ей хотелось теперь горячо приласкать мальчика.
Но она торопилась ехать с визитами, и ей было жаль нового парадного платья, и потому она ограничилась лишь тем, что, нагнувшись, поцеловала Шурку в лоб и сказала:
— Забудем, что было. Ты ведь больше не будешь бранить маму?
— Не буду.
— И любишь по-прежнему свою маму?
— Люблю.
— И я тебя люблю, моего мальчика. Ну, до свидания! Ступай в сад…
И с этими словами Лузгина потрепала еще раз Шурку по щеке, улыбнулась ему и, шелестя шелковым платьем, вышла из спальни.
Шурка возвращался в сад не совсем удовлетворенный. Впечатлительному мальчику и слова и ласка матери казались недостаточными и не соответствующими его переполненному чувством раскаяния сердцу. Но еще более его смущало то, что с его стороны примирение было неполное. Хотя он и сказал, что любит маму по-прежнему, но чувствовал в эту минуту, что в душе его еще оставалось что-то неприязненное к матери, и не столько за себя, сколько за Чижика.
XVII
— Ну, как дела, голубок? Замирился с маменькой? — спрашивал Федос подошедшего тихими шагами Шурку.
— Помирился… И я, Чижик, прощения просил, что обругал маму…
— А разве такое было?
— Было… Я маму назвал злой и гадкой.
— Ишь ведь ты какой у меня отчаянный! Маменьку да так отчекрыжил!..
— Это я за тебя, Чижик! — поспешил оправдаться Шурка.
— То-то понимаю, что за меня… А главная причина — сердце твое не стерпело неправды… Вот из-за чего ты взбунтовался, махонький… Оттого ты и Антона жалел… Бог за это простит, хучь ты и матери родной сгрубил… А все-таки это ты правильно, что повинился. Как-никак, а мать… И когда ежели человек чувствует, что виноват, — повинись. Что бы там ни вышло, а самому легче будет… Так ли я говорю, Лександра Васильич? Ведь легче?..
— Легче, — проговорил раздумчиво мальчик.
Федос пристально поглядел на Шурку и спросил:
— Так что же ты ровно затих, посмотрю, а? Какая такая причина, Лександра Васильич? Сказывай, а мы вместе обсудим. После замирения у человека душа бывает легкая, потому все тяжелое зло из души-то выскочит, а ты, гляди-кось, какой туманливый… Или маменька тебя позудила?..
— Нет, не то, Чижик… Мама меня не зудила…
— Так в чем же беда?.. Садись-ка на травку да сказывай… А я буду змея кончать… И важнецкий, я тебе скажу, у нас змей выйдет… Завтра утром, как ветерок подует, мы его спустим…
Шурка опустился на траву и несколько времени молчал.
— Ты вот говоришь, что зло выскочит, а у меня оно не выскочило! — вдруг проговорил Шурка.
— Как так?
— А так, что я все-таки сержусь на маму и не так люблю ее, как прежде… Это ведь нехорошо, Чижик? И хотел бы не сердиться, а не могу…
— За что же ты сердишься, коли вы замирились?
— За тебя, Чижик…
— За меня? — воскликнул Федос.
— Зачем мама напрасно тебя посылала в экипаж? За что она называет тебя дурным, когда ты хороший?
Старый матрос был тронут этой привязанностью мальчика и этой живучестью возмущенного чувства. Мало того, что он потерпел за своего пестуна, он до сих пор не может успокоиться.
«Ишь ведь, божья душа!» — умиленно подумал Федос и в пер- вое мгновение решительно не знал, что на это ответить и как успокоить своего любимца.
Но скоро любовь к мальчику подсказала ему ответ.
С чуткостью преданного сердца он понял лучше самых опытных педагогов, что надо уберечь ребенка от раннего озлобления против матери и во что бы ни стало защитить в его глазах ту самую подлую белобрысую, которая отравляла ему жизнь.
И он проговорил:
— А ты все-таки не сердись! Раскинь умишком, и сердце отойдет… Мало ли какое у человека бывает понятие… У одного, скажем, на аршин, у другого — на два… Мы вот с тобой полагаем, что меня здря наказали, а маменька твоя, может, полагает, что не здря? Мы вот думаем, что я не был пьяный и не грубил, а маменька, братец ты мой, может, думает, что я и пьян был, и грубил, и что за это меня следовало отодрать по всей форме…
Перед Шуркой открывался, так сказать, новый горизонт. Но, прежде чем вникнуть в смысл слов Чижика, он не без участливого любопытства спросил самым серьезным тоном:
— А тебя очень больно секли, Чижик? Как Сидорову козу? — вспомнил он выражение Чижика. — И ты кричал?
— Вовсе даже не больно, а не то что как Сидорову козу! — усмехнулся Чижик.
— Ну?! А ты говорил, что матросов секут больно.
— И очень больно… Только меня, можно сказать, ровно и не секли. Так только, для сраму, наказали и чтобы маменьке угодить, а я и не слыхал, как секли… Спасибо, добрый мичман в адъютантах… Он и пожалел… не приказал по форме сечь… Только ты, смотри, об этом не проговорись маменьке… Пусть думает, что меня как следует отодрали…
— Ай да молодец мичман!.. Это он ловко придумал… А меня, Чижик, так очень больно высекли…
Чижик погладил Шурку по голове и заметил:
— То-то я слышал и жалел тебя… Ну да что об этом говорить… Что было, то прошло.
Наступило молчание.
Федос хотел было предложить сыграть в дураки, но Шурка, видимо чем-то озабоченный, спросил:
— Так ты, Чижик, думаешь, что мама не понимает, что виновата перед тобой?
— Пожалуй, что и так. А может, и понимает, да не хочет показать виду перед простым человеком. Тоже бывают такие люди, которые гордые. Вину свою чуют, а не сказывают…
— Хорошо… Значит, мама не понимает, что ты хороший, и от этого тебя не любит?
— Это ейное дело судить о человеке, и за то сердце против маменьки иметь никак невозможно… К тому же, по женскому званию, она и совсем другого рассудка, чем мужчина… Ей человек не сразу оказывается… Бог даст, опосля и она распознает, каков я есть, значит, человек, и станет лучше меня понимать. Увидит, что хожу я за ее сыночком как следует, берегу его, сказки ему сказываю, ничему дурному не научаю и что живем мы с тобой, Лександра Васильич, согласно, — сердце-то материнское, глядишь, свое и окажет. Любя свое дите родное, и няньку евойную не станет утеснять дарма. Все, братец ты мой, временем приходит, пока господь не умудрит… Так-то, Лександра Васильич… И ты зла не таи против своей маменьки, друг мой сердечный! — заключил Федос.
Благодаря этим словам мать была до некоторой степени оправдана в глазах Шурки, и он, просветлевший и обрадованный, как бы в благодарность за это оправдание, разрешившее его сомнение, порывисто поцеловал Чижика и уверенно воскликнул:
— Мама непременно полюбит тебя, Чижик! Она узнает, какой ты! Узнает!
Федос, далеко не разделявший этой радостной уверенности, с ласкою глядел на повеселевшего мальчика.
А Шурка оживленно продолжал:
— И тогда мы, Чижик, отлично заживем… Никогда мама не пошлет тебя в экипаж… И этого гадкого Ивана прогонит… Это ведь он наговаривает на тебя маме… Я его терпеть не могу… И меня он крепко давил, когда мама секла… Как папа вернется, я ему все расскажу про этого Ивана… Ведь, правда, надо рассказать, Чижик?
— Не говори лучше… Не заводи кляуз, Лександра Васильич. Не путайся в эти дела… Ну их! — брезгливо промолвил Федос и махнул рукой с видом полнейшего пренебрежения, — правда, брат, сама окажет, а жаловаться барчуку на прислугу без крайности не годится… Другой несмышленый да озорной ребенок и здря родителям пожалуется, а родители не разберут и прислугу отшлифуют. Небось не сладко. Тоже и Иван этот самый… Хучь он и довольно даже подлый человек, что на своего же брата господам брешет, а ежели по-настоящему-то рассудить, так он и совесть-то потерял не по своей только вине. Он, например, ежели пришел наушничать, так ты его, подлеца, в зубы, да раз, да два, да в кровь, — говорил, загораясь негодованием, Федос. — Небось, больше не придет… А который господин ежели слушает, слуга и повадится… И опять же: Иван все в денщиках околачивался, ну и вовсе бессовестным стал… Известно ихнее лакейское дело: настоящей, значит, трудливой работы нет, а прямо сказать — одна только фальшь… Тому угоди, тому подай, к тому подлестись, — человек и фальшит да брюхо отращивает, да чтобы скуснее объедки господские сожрать… Будь он форменным матросом, может, и Иван этой в себе подлости не имел… Матросики вывели бы его на линию… Так обломали бы его, что мое вам почтение!.. То-то оно и есть!.. И Иван стал бы другим Иваном… Однако брешу я, старый, только скуку навожу на тебя, Лександра Васильич… Давай-ка в дураки, а то в рамцу… Веселее будет…
Он вынул из кармана карты, вынул яблоко и конфетку и, подавая Шурке, промолвил:
— На-кось, покушай…
— Это твое, Чижик…
— Ешь, говорят… Мне и скусу не понять, а тебе лестно… Ешь!
— Ну, спасибо, Чижик… Только ты возьми половину.
— Разве кусочек… Ну, сдавай, Лександра Васильич… Да смотри, опять не объегорь няньку… Третьего дня все меня в дураках оставлял! Дошлый ты в картах! — промолвил Федос.
Оба примостились поудобнее на траве, в тени, и стали играть в карты.
Скоро в саду раздался веселый, торжествующий смех Шурки и намеренно ворчливый голос нарочно проигрывающего старика:
— Ишь ведь, опять оставил в дураках… Ну ж и дока ты, Лександра Васильич!
XVIII
Конец августа на дворе. Холодно, дождливо и неприветливо. Солнца не видать из-за свинцовых туч, окутавших со всех сторон небо. Ветер так и гуляет по грязным кронштадтским улицам и переулкам, напевая тоскливую осеннюю песню, и порой слышно, как ревет море.
Большая эскадра старинных парусных кораблей и фрегатов уже возвратилась из долгого крейсерства в Балтийском море под начальством известного в те времена адмирала, который, охотник выпить, говорил, бывало, у себя за обедом: «Кто хочет быть пьян — садись подле меня, а кто хочет быт сыт — садись подле брата». Брат был тоже адмирал и славился обжорством.
Корабли втянулись в гавань и «развооружались», готовясь к зимовке. Кронштадтские рейды опустели, но зато затихшие летом улицы оживились.
«Кобчик» еще не вернулся из плавания. Его ждали со дня на день.
В квартире у Лузгиных стоит тишина, та подавляющая тишина, которая бывает в домах, где есть тяжелобольные. Все ходят на цыпочках и говорят неестественно тихо.
Шурка болен и болен серьезно. У него воспаление обоих легких, которым осложнилась бывшая у него корь. Вот уже две недели, как он лежит пластом на своей кроватке, исхудалый, с осунувшимся личиком и лихорадочно блестящими глазами, большими и скорбными, покорно притихший, точно подстреленная птица. Доктор два раза ходит в день, и его добродушное лицо при каждом посещении делается все серьезнее и серьезнее, причем губы как-то комично вытягиваются, точно он ими выражает опасность положения.
Все это время Чижик находился безотлучно при Шурке. Больной настоятельно требовал, чтобы Чижик был при нем, и рад был, когда Чижик давал ему лекарство, и улыбался подчас, слушая его веселые сказки. По ночам Чижик дежурил, словно на вахте, на кресле около Шуркиной кровати и не спал, сторожа малейшее движение тревожно спавшего мальчика. А днем Чижик успевал бегать и в аптеку и по разным делам и находил время смастерить какую-нибудь самодельную игрушку, которая заставила бы улыбнуться его любимца. И все это делал как-то незаметно и покойно, без суеты и необыкновенно быстро, и при этом лицо его светилось выражением чего-то спокойного, уверенного и приветливого, что успокоительно действовало на больного.
И в эти дни сбылось то, о чем говорил в саду Шурка. Обезумевшая от горя и отчаяния мать, сама похудевшая от волнения и недосыпавшая ночей, только теперь начала узнавать этого «бесчувственного, грубого мужлана», невольно дивясь той нежности его натуры, которая обнаружилась в его неустанном уходе за больным и невольно заставила мать быть благодарной за сына.
В этот вечер ветер особенно сильно завывал в трубах. В море было очень свежо, и Марья Ивановна, подавленная горем, сидела в своей спальне… Каждый порыв ветра заставлял ее вздрагивать и вспоминать то о муже, который шел в эту ужасную погоду из Ревеля в Кронштадт, то о Шурке.
Доктор недавно ушел серьезнее, чем когда-либо…
— Надо ждать кризиса… Бог даст, мальчик вынесет… Давайте мускус и шампанское… Ваш денщик — отличная сиделка… Пусть он продежурит ночь около больного и дает ему, как приказано, а вам следует отдохнуть… Завтра утром буду…
Эти слова доктора невольно восстают в памяти, и слезы льются из ее глаз… Она шепчет молитвы, крестится… Надежда сменяется отчаянием, отчаяние — надеждой.
Вся в слезах, она прошла в детскую и приблизилась к кроватке.
Федос тотчас же встал.
— Сиди, сиди, пожалуйста, — шепнула Лузгина и заглянула на Шурку.
Он был в забытьи и прерывисто дышал… Она приложила руку к его голове, — от нее так и пышало жаром.
— О господи! — простонала молодая женщина, и слезы снова хлынули из ее глаз…
В слабо освещенной комнате царила тишина. Только слышалось дыхание Шурки да порою доносился сквозь закрытые ставни заунывный стон ветра.
— Вы бы шли отдохнуть, барыня, — почти шепотом проговорил Федос, — не извольте сумлеваться… Я все справлю около Лександра Васильича…
— Ты сам не спал несколько ночей.
— Нам, матросам, дело привычное… И я даже вовсе спать не хочу… Шли бы, барыня! — мягко повторил он.
И, глядя с состраданием на отчаяние матери, он прибавил:
— И, осмелюсь вам доложить, барыня, не приходите в отчаянность. Барчук на поправку пойдет.
— Ты думаешь?
— Беспременно поправится! Зачем такому мальчику умирать? Ему жить надо.
Он произнес эти слова с такою уверенностью, что надежда снова оживила молодую женщину.
Она посидела еще несколько минут и поднялась.
— Какой ужасный ветер! — проронила она, когда снова с улицы донесся вой. — Как-то «Кобчик» теперь в море?.. С ним не может ничего случиться? Как ты думаешь?
— «Кобчик» и не такую штурму выдерживал, барыня. Небось взял все рифы и знай покачивается себе, как бочонок… Будьте обнадежены, барыня… Слава богу, Василий Михайлыч форменный командир…
— Ну, я пойду вздремнуть… Чуть что — разбуди.
— Слушаю-с. Покойной ночи, барыня!
— Спасибо тебе за все… за все! — прошептала с чувством Лузгина и, значительно успокоенная, вышла из комнаты.
А Чижик всю ночь бодрствовал, и когда на следующее утро Шурка, проснувшись, улыбнулся Чижику и сказал, что ему гораздо лучше и что он хочет чаю, Чижик широко перекрестился, поцеловал Шурку и отвернулся, чтобы скрыть подступающие радостные слезы.
На другой день вернулся Василий Михайлович.
Узнавши от жены и от доктора, что Шурку выходил главным образом Чижик, Лузгин, счастливый, что обожаемый сын его вне опасности, горячо благодарил матроса и предложил ему сто рублей.
— При отставке пригодятся, — прибавил он.
— Осмелюсь доложить, вашескобродие, что денег взять не могу! — проговорил несколько обиженно Чижик.
— Почему это?
— А потому, вашескобродие, что я не из-за денег за вашим сыном ходил, а любя…
— Я знаю, но все-таки, Чижик… Отчего не взять?
— Не извольте обижать меня, вашескобродие… Оставьте при себе ваши деньги.
— Что ты?.. я и не думал тебя обижать!.. Как хочешь… Я тоже, брат, от чистого сердца тебе предлагал! — несколько сконфуженно проговорил Лузгин.
И, взглянув на Чижика, вдруг прибавил:
— И какой же ты, я тебе скажу, славный человек, Чижик!..
XIX
Федос благополучно пробыл у Лузгиных три года, пока Шурка не поступил в Морской корпус, и пользовался общим уважением. С новым денщиком-поваром, поступившим вместо Ивана, он был в самых дружеских отношениях.
И вообще жилось ему эти три года недурно. Радостная весть об освобождении крестьян пронеслась по всей России. Повеяло новым духом, и сама Лузгина как-то подобрела и, слушая восторженные речи мичманов, стала лучше обходиться с Анюткой, чтобы не прослыть ретроградкой.
Каждое воскресенье Федос отпрашивался гулять и после обедни шел в гости к приятелю-боцману и его жене, философствовал там и к вечеру возвращался домой хотя и порядочно «треснувши», но, как он выражался, «в полном своем рассудке».
И госпожа Лузгина не сердилась, когда Федос, случалось, при ней говорил Шурке, отдавая ему непременно какой-нибудь гостинец:
— Ты не думай, Лександра Васильич, что я пьян… Не думай, голубок… Я все как следует могу справить…
И, словно бы в доказательство, что может, забирал сапоги и разное платье Шурки и усердно их чистил.
Когда Шурку определили в Морской корпус, вышла и Федосу отставка. Он побывал в деревне, скоро вернулся и поступил сторожем в петербургском адмиралтействе. Раз в неделю он обязательно ходил к Шурке в корпус, а по воскресеньям навещал Анютку, которая после воли вышла замуж и жила в няньках.
Выйдя в офицеры, Шурка, по настоянию Чижика, взял его к себе. Чижик вместе с ним ходил в кругосветное плаванье, продолжая быть его нянькой и самым преданным другом. Потом, когда Александр Васильевич женился, Чижик нянчил его детей и семидесятилетним стариком умер у него в доме.
Память о Чижике свято хранится в семье Александра Васильевича. И сам он, с глубокою любовью вспоминая о нем, нередко говорит, что самым лучшим воспитателем его был Чижик.
Кириллыч
I
Несколько лет тому назад мне пришлось гостить у одних знакомых на хуторе в степной части Крыма.
На этом хуторе, в числе работников, жил старый отставной матрос прежнего Черноморского флота Кириллыч. Он пробыл на службе лет двадцать и, как скромно выражался, «кое-что и повидал на своем веку». Он и «принял» немало линьков и «бою» от начальства, и с «черкесом» воевал во время крейсерств у Абхазских берегов тогда еще непокоренного Кавказа, он и с «туркой дрался» в Синопском сражении, бывши сигнальщиком на том самом корабле, где имел свой флаг адмирал Нахимов, и затем, во время осады Севастополя, безотлучно пробыл шесть месяцев на знаменитом четвертом бастионе, пока ядро не раздробило ему левую ногу.
Несмотря на свои семьдесят с лишком лет, этот маленький старикашка с седой, коротко остриженной головой, с выбритыми морщинистыми и побуревшими от загара щеками и щетинкой колючих седых усов глядел молодцом. Почти все зубы у него были целы и зрение чудесное. Только глуховат был на одно ухо — от бомбардировки оглох, по его словам.
Он бодро и скоро ковылял на своей деревяшке и добросовестно исполнял обязанности караульщика большой бахчи, когда поспевали арбузы и дыни, и сторожа при хуторе зимой, когда уезжали господа.
Я любил навещать Кириллыча в его владениях, любил беседовать с ним и, главное, слушать его рассказы, полные интереса и того наивного юмора, которым отличается русский человек даже и тогда, когда рассказывает далеко не веселые вещи.
Как и большая часть стариков, он охотно вспоминал прошлое и, по-видимому, рад был моим визитам, тем более что я иногда баловал старика — приносил ему небольшую склянку водки, до которой Кириллыч был большой охотник.
Бывало, на зорьке, когда еще солнце не поднималось и воздух был полон острой, бодрящей свежести, или перед вечером, когда спадала томительная жара, я пробирался между гряд бахчи к караулке Кириллыча, сделанной из жердей, покрытых рогожками. Она стояла посредине бахчи, и оттуда Кириллыч озирал свои владения, карауля вместе с маленькой черной лохматой собачонкой Цыганкой вверенную его надзору бахчу. Птиц он отгонял трещоткой, а людей, которые покушались в неумеренном количестве воровать арбузы и дыни, огорашивал страшною руганью и, в случае чего, стращал ружьишком, заряженным дробью. Взять арбуз один-другой он никому не отказывал — ешь, мол, с богом! Но наполнять мешки чужим добром не позволял и таких воров преследовал немилосердно.
Обыкновенно лохматая Цыганка выбегала ко мне навстречу, заливаясь неистовым лаем, но, распознав знакомого человека, смолкала и, весело виляя хвостом, возвращалась к караулке и свертывалась у входа калачиком. По утрам я почти всегда заставал Кириллыча или за бритьем, или только что окончившим эту операцию. Брился он тем самым ножом, которым резал и хлеб, смотрясь в маленький осколок зеркальца, и хотя бритье таким способом едва ли было особенно приятно, тем не менее Кириллыч стоически переносил пытку и тщательно выскабливал свои щеки по привычке хорошо вымуштрованного матроса николаевского времени.
В караулке Кириллыча было чисто и опрятно и все прибрано к месту, словно бы в корабельной каюте. Земля была устлана рогожками. Широкий деревянный обрубок служил столом, а другой — поменьше — стулом. На полке, укрепленной бечевками, в порядке расставлена была посуда: котелок, медный чайник, деревянная чашка, ведерко и две кружки. Коврига черного хлеба, обернутая чистой тряпицей, и помадная банка с солью стояли тут же. В переднем углу висел крошечный образок, а у изголовья постели Кириллыча стояло одноствольное ружье, и кое-какие принадлежности костюма висели на гвоздиках. Постель Кириллыча состояла из бараньего тулупа шерстью вверх, на котором была подушка в ситцевой наволоке. Спал Кириллыч всегда на меху, чтобы не ужалила проклятая «таранта», как называл старик тарантулов, которые боятся бараньего запаха. Однако, на всякий случай, он держал скляночку с настоем спирта на этом самом насекомом. Татары научили его этому средству против укуса тарантула.
Днем, во время жары, Кириллыч ходил в одной рубахе и исподних, в татарских башмаках на босу ногу и в матросской старой шапке на голове, а когда наступала ночная свежесть, надевал куцее затасканное пальтишко и в таком виде сиживал перед караулкой, наслаждаясь вечерней прохладой и поглядывая на высокое бархатное небо, усеянное звездами. Рядом с ним дремала чуткая Цыганка, пробуждавшаяся при малейшем подозрительном шорохе.
Нередко в такие чудные вечера сиживали мы вместе с Кириллычем. Обыкновенно, как только я заходил к нему, он предлагал мне кавуна или дыньки, и я, по его примеру, ел чудный арбуз, закусывая его черным хлебом, круто посыпанным крупной солью.
Среди торжественной тишины вечера Кириллыч, бывало, рассказывал, понижая голос, о прежней службе с ее строгостями и муштрой, о начальниках, о черкесе, о турке, о французе и особенно любил вспоминать о том, как сам Павел Степаныч Нахимов (царство ему небесное!) повесил ему на бастионе «егория».
В рассказах Кириллыча покойный адмирал являлся легендарным героем, чуждым каких бы то ни было недостатков, и был единственным начальником, о котором старый матрос не обмолвился каким-нибудь критическим замечанием. И когда я спросил, порол ли Нахимов так же жестоко, как и другие черноморцы того времени, то Кириллыч даже с сердцем воскликнул:
— Ну так что же! И порол ежели, то правильно, за дело, вашескобродие!.. А другие так вовсе без рассудка, по бешености… Одно слово… никому не сравняться с покойным Нахимовым. Во всех статьях, можно сказать, начальник был!..
О себе и о своих подвигах — а о них я слышал от одного старого моряка-севастопольца, приезжавшего на хутор, — Кириллыч никогда не говорил, вероятно, и сам не подозревая, что броситься в пороховой погреб и вынуть из вертящейся бомбы горящую трубку — не совсем обыкновенное дело для человека, и когда я спросил его об этом обстоятельстве, то он просто, словно бы не придавая своему подвигу ни малейшего значения, ответил:
— Точно, было такое дело. Вижу, подлая, пробила пороховой погреб, я и за ей. Думаю: беда будет, как взорвет… Народу-то сколько пропадет!
— Да ведь вы могли первый погибнуть, Кириллыч?
— Пожалуй, что и так, — простодушно промолвил Кириллыч и, пыхнув острым дымком махорки из своей коротенькой трубочки, прибавил: — Однако господь вызволил. Только руки себе спалил.
— А вот как ноги решили, так вовсе страшно стало, вашескобродие! — проговорил после паузы Кириллыч.
— Отчего страшно?
— Главная причина оттого, вашескобродие, что думал я тогда: пропасть мне без ноги. Как прокормиться с одной ногой-то? Пенсион за ногу, сказывали, маленький, на его не пропитаешься, а подаянием кормиться тоже как быдто зазорно матросу с «егорием». И докладывал я в те поры дохтуру: «Нельзя ли, мол, вашескобродие, оставить как-нибудь при ноге?» Не согласился. «Никак, говорит, невозможно. Ежели, говорит, не отрезать — умрешь!» Ну, так и отрезали.
— И не пропали вы без ноги, Кириллыч?
— То-то не пропал, вашескобродие! — усмехнулся старик. — Сперва, после замирения, как вышла мне чистая, жил я в Севастополе яличником, перевозил, значит, через бухту народ, который вернулся в город. Ну, и которые приезжие были, чтобы на Севастополь полюбопытствовать… Те, бывало, и полтину за перевоз давали… А после вот по хуторам пошел, потому люблю я, вашескобродие, вольный воздух. Спасибо добрым людям, не брезговают старым анвалидом… Небось и деревянная нога службу справляет! — не без некоторой гордости говорил Кириллыч, хлопая по деревяшке и, по-видимому, вполне довольный, что после двадцатипятилетней службы, геройских подвигов и потери ноги он не «пропал вовсе», а вел полунищенское существование. — Вот только отрезанная нога иной раз оказывает, вашескобродие! — прибавил Кириллыч.
— А что, болит?
— Ненастьем, значит, ломоту дает… А то, нечего бога гневить, сух я из себя, а нутренность вся здоровая, даром что за седьмой десяток перевалило. Паек-то уж давно мне на том свете по положению идет, а господь, видно, не пущает. «Живи, говорит, старик, пока кости носят». Я вот и живу!
II
Однажды, в один из прелестных в Крыму августовских вечеров, старик как-то особенно оживленно рассказывал про бомбардировку Севастополя, про вылазки по ночам, про пленных, про штурм, когда его «шарахнуло» в ногу ядром, и, окончив свой рассказ, совершенно неожиданно прибавил:
— А все-таки ни в жизнь не взять бы французу Севастополя, вашескобродие, хотя у француза и штуцера были!..
— Однако же взяли…
— А почему взяли, как вы полагаете?
— Да потому, что сила была на стороне неприятеля.
— Си-ла? — иронически протянул Кириллыч. — А я по своему глупому рассудку так полагаю, что господь уж зараньше определил наказать Севастополь. Потому и взяли.
— Наказать? За что? — удивленно спросил я.
— А за те самые грехи, за которые бог наказал Содом-Гоморру! — горячо проговорил Кириллыч, соединяя оба города в один. — Потому, доложу вам, вашескобродие, слишком уж распутно по части женского пола жили в Севастополе. Вовсе забыли бога. Так в грехах, примерно сказать, и купались. Какая своя жена, какая чужая — не разбирали. После, мол, разборка будет. Господа пример показывали, а за ими и наш брат, простой человек… У всех, почитай, полюбовницы были от женок… Ну, и те не зевали. И такой вроде быдто содом-гоморр шел, что страсть!.. А бог смотрел-смотрел, терпел-терпел и под конец не стерпел. «Надо, говорит, разорить Севастополь, чтобы, мол, камня на камне не осталось!..» И в те поры императору Николаю Павловичу отколе ни возьмись вдруг объявился во дворце монах и прямо в кабинет царский. «Так, мол, и так, ваше императорское величество, дозвольте слово сказать». Дозволил. «Говори, мол, свое слово». А монах лепортует: «Хотя, говорит, ваше величество, матросики и солдатики присягу исполнят, как следовает, по совести, но только Севастополю не удержаться по той самой причине, говорит, что господь очень сердит, что все его, батюшку, забыли. И для примера попомните, говорит, мое слово: француз победит. И тогда, говорит, ваше императорское величество, беспременно прикажите вашему сыну, чтобы распутство и жестокость начальства повелел искоренить и чтобы хрестьянам объявить волю. А ежели, говорит, ваше величество, этого не накажете сыну, то вовсе матушка-Россия пропадет и всякий будет иметь над ней одоление». Император слушал, как монах дерзничал, да как крикнет, чтобы монаха тую ж минуту забрить в солдаты. Прибежали на крик генералы, а монаха и след простыл. Нет его… Точно сквозь землю провалился… А вскорости после того император и умер, потому не стерпел, что русскую державу и француз одолел. То-то оно и есть! Вот самая причина, почему француз взял Севастополь и после замирения вышла воля! — закончил Кириллыч.
Мне и раньше доводилось слышать от стариков матросов, что Севастополь разорен за грехи, но черноморцы говорили об этом далеко не в такой категорической форме и не с тою глубокою убежденностью, какою звучали слова Кириллыча. Что же касается до появления какого-то монаха и связи падения Севастополя с освобождением крестьян, то едва ли в данном случае Кириллыч не приурочил разные слухи, ходившие в народе перед волей, к собственным своим желаниям, угадав чутьем значение Крымской войны.
— Уж разве такие грешники жили в Севастополе? — спросил я Кириллыча.
— То-то совсем срамота была… Все: и старые и малые на баб льстились.
— И жестокие начальники, как вы говорите, были?
— Такие, можно сказать, отчаянные в жестокости, что и объяснить трудно… а вместе с тем жестокий-жестокий — убить, кажется, не жалко его — матроса казнил без всякой отдышки, а заботу об ем по-своему имел… Поди ж ты, какие люди бывают! — в каком-то философском раздумье прибавил Кириллыч.
— Кто ж у вас такой был?
— Много их было, но только страшней Сбойникова не было. Может, слыхали про капитана первого ранга Сбойникова?
— Слыхал по фамилии… Он был убит в Севастополе. И говорили, будто своими.
— Он самый и есть… Очень мудреный был человек…
— Вы расскажите про него, Кириллыч…
— Да уж что худое говорить про покойника…
— Да вы не в осуждение…
Кириллыч примолк, и показалось мне в полутьме сумерек, будто бы мрачная тень пробежала по его добродушному лицу от нахлынувших воспоминаний.
Он подавил вздох и, решительно сплюнув, начал:
III
— Его матросы так и звали «генерал-арестантом» за его жестокость. Другого названия ему не было. Генерал-арестант да генерал-арестант!.. Сказывали, будто в балтинском флоте был такой же мучитель и было ему такое же прозвище, только вряд ли балтийский был такой лютой, как наш! Его, бывало, всегда назначали командиром на то судно, где какая ни на есть по службе неисправка была. «Он, мол, собака, подтянет, приведет, можно сказать, до самой точки…» А служба, вашескобродие, в Черном море тогда строгая была… тяжкая… Двоих, примерно, до неспособности от линьков доводили, зато третий, который ежели здоровье имел, вроде дьявола по матросской части был… изо всех сил, значит, старался и службу свою справлял… Не то шкуру небось спустят за всякую малость. Тогда шкуры-то нашей нисколько не жалели, вроде будто по турецкому барабану били, не то что теперь, когда матросу права дадены… Тогда, вашескобродие, случалось и до смерти запарывали… Иди на том свете к господу богу с лепортом… а что которых малосильных в чихотку вганивали — про то опять-таки один господь знал. Такое уж положение в Черноморском флоте было, чтобы матрос был обучен как следовает… И ни тебе ни суда, ни расправы матросику. Сунься-ка жаловаться? Узнаешь, как скрозь строй гоняют! И все господа по такому положению словно озверелые какие-то были. Другой мичман приедет из обучения добрый да жалостливый, из лица бледнеет, как по субботам на баке стон стоном идет, а как прослужит год-другой, смотришь — и сам так и чешет в ухо да приказывает боцманам матросу шкуру снять… Привыкает… А надо вам сказать, что этот самый генерал-арестант по службе первый, почитай, капитан был. По всем частям дока… Ни один боцман его не проведет… А уж управлялся судном — одно слово… И у его на судах первая по всему флоту команда была… Их и звали чертями… Так вот как назначат Сбойникова на новое судно, он сейчас явится на корабль… команду во фронт — и к им… А сам он из себя был небольшой, коренастый, чернявый… Лицо точно у цыгана и глаза этакие пронзительные… Идет это спешно, ус дергает, поздоровкается как следовает и зыкнет: «Знаете, мол, такие-сякие, Сбойникова? Ежели, говорит, не знаете, то знайте, что я меньше трехсот линьков в кису не накладываю. Помните это и старайтесь!» А уж матросы и без того в тоске… Кто не знал генерал-арестанта?.. Слава богу!.. А все-таки как следовает, по всей форме в ответ: «Рады стараться, вашескобродие!» Еще бы не рады! Хорошо. Угостивши таким родом матросов — к офицерам на шканцах. «Так, мол, и так, господа офицеры, прошу служить как следовает, а не то не извольте пенять. Я, говорит, с позволения сказать, не… баба и бабства не потерплю… У меня, говорит, сейчас под суд… Пусть, говорит, начальство разбирает!» Нагнавши это страху на офицеров, он марш в каюту, а на другое утро ученье, а сам со склянкой стоит, минуты, значит, отсчитывает… И ежели на какой секунд заминка с парусами ли, по антиллерийскому ли учению, по пожарной ли тревоге — бывало, человек пятьдесят пошлет на бак… И слово свое держал, меньше трехсот не приказывал… И так, вашескобродие, каждый день терзал людей… Смотришь, бывало, как полосуют нашего брата безо всякой жалости, так ровно в глазах мутится. Так бы, кажется, и задушил этого дьявола… И был один такой матросик, что не стерпел… Кинулся на его с ножом.
— Что ж он?
— Отстранился вовремя… Догадался, значит, по глазам…
— Что же было матросу?
— А такое он объявил ему решение: «Хочешь ты, говорит, помереть или мало-мало идтить в вечную каторгу, так я тебя, такого-сякого, сей секунд отошлю на берег и отдам под суд, а не хочешь, так получи пятьсот линьков, и ничего, мол, я не видал… Подумай, говорит, пять минут и опосля приходи ко мне. Помирать тебе, говорит, дураку, рано, в каторге, братец, сгниешь, а шкура заживет…» Это он ему вдогонку.
— Ну, и что же выбрал матрос?
— Стал под линьки. Выдержал. А потом этого же самого матроса — как бы вы думали, вашескобродие? — Сбойников в унтерцеры произвел… И все от начальства тогда скрыл и строго-настрого приказал ничего не болтать… Тоже по-своему пожалел… Не хотел загубить человека и нож этот самый простил… Вот и поди ж ты. Зверь-зверь, а тут поступил правильно… И то надо сказать. Тиранить он тиранил, а насчет пищи первый командир был! У него ни левизор, ни баталер не смели, значит, обидеть матроса. Ни боже ни! Тут бы он не пожалел… И насчет обмундировки, чтобы все матрос получал по положению… А на вино, ежели работали хорошо, так своих денег сколько тратил. Всей команде, бывало, от себя жаловал за каждый день… Небось денег стоит… Совсем чудной был. А непреклонности своей не смирял… Даже и когда француз пришел и многие офицеры притихли, — боялись, значит, — этот по-прежнему остался генерал-арестантом… Еще жесточей стал.
— Вы, Кириллыч, с ним служили?
— То-то служил, и он меня — по правде сказать — мало тиранил. Даже приверженность имел, — как-то смущенно прибавил Кириллыч. — В вестовые взял, а потом с четвертого бакстиона перевел к себе, состоять при нем, когда его назначили, значит, траншейным майором[23], на самую опасную должность… А вестовым я у его до войны два года прослужил… Тут-то я и пытался спознать его…
— И спознали?
— Никак не спознал… Не разобрать евойной души… когда в ей зверь, когда человек… Видно, такого бог уродил…
— А тяжело было служить вестовым?
— Вовсе даже было легко, потому Сбойников дома совсем легким человеком был…
— Как легким?
— А так, вспылит ежели, обругает или вдарит в зубы, только и всего… А чтобы тиранить ни боже ни. Это только он на корабле да на службе, а так, значит, при ем служить — одно только удивленье… Быдто даже и не генерал-арестант… Но только с полюбовницей своей — опять зверь зверем был… Трудно, вашескобродие, и поверить, что он с ей раз сделал…
— Из-за чего?
— Из-за ревности, вашескобродие. Ревнивый он был страсть и любил эту самую Машку. А была она матросская вдова, такая ядреная, здоровая баба… Одно слово — козырь… И молодая, лет двадцати… Пошла она к Сбойникову в полюбовницы из-за денег… ну и попомнила… каковы денежки, да шелковые платья, да скусная пища…
— Что ж он сделал?
— А поймал он у нее как-то раз матросика своего же экипажа, да и велел ему эту Машку привязать косами к крюку на потолке… Матросик не осмелился перечить, со страху исполнил приказание; тогда Сбойников велел ему уйти и сам вышел, да еще и двери запер… На рассвете эту Машку замертво сняли… слышали, как она криком кричала… Сломали двери… Видят обходные — висит человек и еле дышит… Доложили по начальству… Однако дело замяли… Тут вскорости и войну объявили… Не до того было!..
Кириллыч примолк и закурил трубочку.
— Экая благодать! — промолвил он, наслаждаясь вечером. — И подумаешь, какие злодеи были… И сколько горя терпели от их…
— Что ж, жива осталась Маша?
— Отлежалась…
— А Сбойников жалел ее?
— Еще как!.. Вы вот дальше послушайте, вашескобродие, какой это был человек… Дайте только передохнуть. И то быдто в горле пересохло.
IV
Кириллыч выкурил трубку, откашлялся и совсем тихо, словно бы боясь нарушить торжественную тишину чудного вечера, проговорил:
— Да, вашескобродие… Совсем чудной был этот самый генерал-арестант. И в вестовые-то он брал не так, как другие…
— А как?
— Другие которые командиры брали себе вестовых из слабосильных или неисправных по флотской части матросов, а он таких не брал… «Не стоит, говорит, таких подлецов к лодырству приучать». И меня он взял, вы думаете, по какой причине, вашескобродие.
— По какой?
— За мою флотскую отчаянность, вашескобродие.
— Как так?
— А так оно и было. Я, вашескобродие, отчаянным фор-марсовым считался. На нок ходил, значит, штык-болт вязал. Сами изволите понимать, вашескобродие, что на штык-болте не всякому справиться. Бежишь, бывало, по рее вроде быдто оголтелой собаки, как скомандуют паруса крепить или рифы брать Долго ли при такой оголтелости сорваться.
— И срывались?
— А то как же! Срывались и насмерть расшибались о палубу, а то в море падали… Каждое лето такие дела случались у Сбойникова. Он ведь, анафема, за каждый секунд промедления порол. Так небось каждый марсовой изо всей силы рвался, в бешенство, можно сказать, входил… Не о том думал, что упадет, а как бы ему шкуру не спустил Сбойников. Всякий, значит, его опасался. Он неисправки никогда не прощал. Что другое — пьянство или какую шкоду на берегу простит, а неисправку по флотской части — ни боже ни! По самой этой причине и старались.
— Не все же такие были, как Сбойников.
— Кто говорит… Этот был по жестокости первым во флоте, недаром ему и прозвище дали генерал-арестанта, — но только, вашескобродие, на всех судах без порки да без бою не выучивали. Такое, значит, было положение до войны… Ну, а после, когда император узнал, как матросики Севастополь отстаивали, другое положение определил… Теперь, сказывают, на флоте такого боя нет… Правда это, вашескобродие?
— Правда, Кириллыч, — отвечал я.
— То-то один унтерцер мне в Севастополе сказывал, что нет, и легче, мол, служить. И корабли пошли другого фасона… Без мачт, а то и есть мачты, так только для виду: ни рей на их, ни парусов… Так всё паром ходят. Небось матросу теперь и упасть-то неоткудова… Ходи себе по палубе… Но только, вашескобродие, неказисты эти нонешние корабли… Видел я их в Севастополе…
— Не понравились?
— Вовсе дрянь против прежних! — промолвил Кириллыч тоном полнейшего презрения. — Положим, теперь на их опаски меньше, а я так полагаю, что без опаски какой и матрос!.. Теперь он вроде солдата, значит… только так, зря матросом называется… А в старину мы настоящие матросы были… Бывало, бежишь по рее и вовсе забываешь, что упасть можешь. Таким родом и я чуть не убился, вашескобродие…
— Как так?
— Сорвался я в горячности с нока, да на лету уцепился как-то за шкаторину и повис… Чувствую, нет силы моей держаться… Еще секунд, и упаду на палубу… Вижу свою смерть… Но только спасибо этому самому генерал-арестанту — не допустил.
— Как не допустил? — удивился я.
— А голосом, вашескобродие.
— Голосом? — переспросил я, недоумевая.
— То-то голосом. Увидал он меня в таком виде на шкаторине, да как крикнет, дьявол, со всей мочи с мостика: «Насмерть запорю, такой-сякой, ежели, говорит, упадешь. Держись!» И так я испугался этого крика, что зубами вцепился в шкаторину… держусь. А тем временем конец подали с реи… И меня подняли… Не подбодри он тогда меня страхом — не жить! — прибавил Кириллыч.
Кириллыч выдержал паузу и продолжал:
— Как просвистал боцман «с марсов долой!» — велел меня позвать. Прибежал. А он стоит на мостике, ноги расставил, сам сгорбимшись маленько, поглядел на меня своим пронзительным глазом и говорит: «Молодчина, Кириллов! Слушаешься своего командира, а то лежал бы ты, такой-сякой, с пробитой головой. Как это ты сорвался? По какой такой причине?» — «От горячности, вашескобродие», — докладываю. «А отчего, спрашивает, ты руки за пазуху спрятал?» — «Ногти, мол, сорваны и кровь, говорю, вашескобродие, каплет, так чтобы не загадить палубы!» — «С рассудком ты, матрос. Ну, ступай, говорит, в лазарет… там тебе пальцы починят, а за меня, говорит, пей десять ден по чарке!»
— И долго вы возились с пальцами, Кириллыч?
— Так, неделю, должно быть, не мог справлять должности, а там опять на марс. Однако недолго мне пришлось служить на марсе. Вскорости после того назначил он меня вестовым, а бывшего своего опять сделал марсовым, да и в тот же день приказал отодрать.
— За что?
— А на марс бежал сзади всех… Отстал… Известно, в вестовых очижалел… А мне говорит: «Отдохни, подлец, при мне. Очень уж ты, такой-сякой, отчаянный, говорит, матрос… Будешь, говорит, вестовым, да смотри — не воображай о себе, что ты капитанский вестовой»…
— За что ж он вас ругал?
— У его, вашескобродие, без того, чтоб не загнуть дурного слова, не было и разговора. Только меня он ругал не от сердца, а, значит, одобрительно… Так я у его два года в вестовых и прослужил… Сперва боялся, а после — нисколько… Непривередливый был и взыску строгого не было… И редко-редко когда в горячности искровянит, да и то, как отойдет, повинится… «Извини, говорит, братец. Я, говорит, не в своем праве бить человека на берегу. Жалуйся на меня, если забижен!» И, бывало, карбованец даст… А жил он на берегу просто… Квартира у нас была небольшая — две комнаты да кухня… Только и всего работы, что содержи ее в чистоте, подай ему утром самовар да почисти сапоги и платье… И еще жалованье платил от себя — три рубля в месяц, а обедать я в казармы ходил… Сам он редко дома сидел… Чай отопьет и ушел… Тоже на охоту часто ходил; бывало, осенью на несколько ден закатывался со своим «Шарманом» — пес легавый у его был… И горячий охотник был… Раз так и влепил заряд дроби в ногу своему приятелю, капитан-лейтенанту Кувшинникову. «Зачем, мол, не в очередь стрелял»… Много, бывало, дичи нанесет и сейчас пошлет меня разносить по знакомым. «Кланяйся, мол, и скажи, что от Сбойникова». А дома не обедал. Больше все в клубе или где у знакомых. Вернется, отдохнет час-другой, выпьет чаю, да и айда к своей душеньке.
— Это к той самой, с которой он потом так жестоко расправился?
— К той самой… И очень он к ей привержен был. Одаривал ее — страсть!
— Верно, хороша собой?
— То-то очень даже видна из себя… Такая чернобровая, глаз черный, лицо чистое-пречистое… одно слово, форменная бабенка, вашескобродие. Но только и шельмоватая же была! Этого самого Сбойникова долгое время обманывала — на стороне, значит, гуляла с кем ни попадется… И больше летом, когда он уходил в море. Не очень-то опасалась своего. Думала: обожает, так она в полной, значит, у его доверенности. И точно: сперва Сбойников не догадывался, что она без его погуливает, — верил, как она зубы ему заговаривала. Ну, а она оставила всякую опаску… Пошла вовсю… Жаль стало бабы, она хоть и гулящая, а добрая-предобрая, я вам скажу, и, бывало, скажешь ей: «Ой, милая, не очень-то форси… Остерегайся… Как-нибудь да пронюхает твои штуки генерал-арестант, небось не похвалит… От такого зверя всякой беды можно ждать»… А она куражится. «Я, говорит, не казенный человек, а вольная вдова и не обязана его бояться… Я, говорит, с эстим самым дьяволом связалась из антиреса и никакой приверженности к ему не имею. Начхать мне на его!» Так, глупая, и докуражилась!..
— Куда она потом делась?
— Куда ей деваться? В Севастополе осталась. Почти всю осаду пробыла в городе по своей воле, пока ее не убило бомбой… Она отчаянная была — ничего не боялась. Почитай, каждый день к отцу-матросу на батарею бегала… хлеба, квасу, огурцов, того да другого принесет. «Кушайте, мол, на здоровье». Белье тоже стирала. Страсть ласковая к отцу была! Прибежит, смеется, зубы белые скалит и балакает с матросиками… Всем и радостно… Отец, сказывали, запрещал ей ходить. «Убьют, мол, дура». Так она не слухала… «Я, говорит, тоже обязана свой город защищать, а бог, говорит, не захочет, меня не убьют… Уж если тогда он меня спас от генерал-арестанта — значит, и теперь спасет…» И опять смеется, обнадеживает себя… И к нам на бакстион забегала.
— К вам зачем?
— А был у нас, вашескобродие, один мичман молоденький… хороший такой мичман — недавно из корпуса определился. Так она к ему бегала: узнать, значит, жив ли, почему, мол, в слободку к ей давно не заходил… Вроде быдто прачки шлялась — тоже и ему белье стирала — и привязалась к этому мичману, ровно собачонка. Так в глаза и смотрит. Прикажи он, примером, ей стать под расстрел — стала бы, глупая, вашескобродие… И то ведь бегала на бакстион, под пулями да ядрами…
— А мичман привязан был к ней?
— Одобрял, вашескобродие, только при других виду не показывал. Совестился, что к ему девка бегает… И то над им смеялись. Однако, как услыхал, что ее бомбой убило, как она с бакстиона в город шла, заскучил… Жалел, видно. Вскорости и сам, бедный, в вылазке голову сложил. Все просился: «Возьмите да возьмите»… Отвагу показать хотел… Известно, молод был, не понимал, что сегодня ты цел, а завтра и нет тебя и что соваться нечего. Суйся не суйся, а час придет — и шабаш.
— А Сбойников узнал, что его прежняя любовница убита?
— Узнал… Я тогда при ем состоял вроде как ординарцем… Очень даже заскучил… В задумчивости большой ходил, как бы не в себе был… Поди ж ты! Приверженность-то, значит, осталась, даром что живую сказнить хотел… И верите ли, вашескобродие, послал меня разыскать покойницу, дал денег, чтобы похоронили честь честью, и велел клок ейных волос ему принести…
— А матрос-отец жив остался?
— Какое! Его еще раньше дочки штуцерной пулей убило наповал, и не пикнул… А добрая была эта Машка — царство ей небесное! — продолжал Кириллыч и перекрестился, глядя на усеянное звездами небо. — И мне, бывало, когда рубаху постирает, когда свежих бубликов принесет на бакстион… И всякому матросику рада была угодить. И за ранеными хаживала… Шустрая… везде поспевала. Положим, грешна она была, что и говорить, а только я так полагаю, вашескобродие, что за ейную доброту да отважность бог все грехи ей простил… Даром что женского звания, а живот свой положила за Севастополь…
Кириллыч примолк и задумался.
— Хо-ро-шо! — протянул он, глубоко вздохнув. — Ишь звезды-то повысыпали вокруг месяца…
В тишине вечера раздался резкий крик.
— Это дрохва, вашескобродие. Должно, испугалась чего-нибудь! — промолвил Кириллыч и опять погрузился в молчание.
— Быть может, вы спать хотите, Кириллыч? — спросил я.
— Какой сон? За день-то я отоспался… Ночью только и дохнуть можно… Не жарит… Хо-ро-шо! — повторил он.
Я сидел около, ожидая, что он будет продолжать рассказ о Сбойникове.
Но старик, кажется, уже и забыл о нем.
Так прошло несколько минут.
V
— А почему вы, Кириллыч, ушли из вестовых от Сбойникова? — спросил наконец я, желая навести его на прежнюю тему.
— По случаю войны. Когда стали воевать с туркой, он поздравил меня с войной и приказал назавтра же свою должность новому вестовому сдать. «А ты, говорит, явись в экипаж… Тебя снова на корабль марсовым назначат. Теперь, говорит, хороший матрос должен на своем месте быть и, в случае чего, за матушку-Расею, говорит, сражаться и честь флага отстаивать. Понял? А затем, говорит, я тобою был доволен». И с этими самыми словами дал мне десять карбованцев. Вскорости мы с Нахимовым-адмиралом ушли в море турку ловить и накрыли его под Синопом. Как вернулись в Севастополь после Синопа, пошел слух, что война будет долгая, и не с одним туркой. Сказывали потом, будто наш император Николай Павлович не согласился французского императора за ровню считать. «Я, говорит, настоящий император, а ты, говорит, из каких-то беглых арестантов. Я не согласен тебя за брата признать. Прусский и австрийский императоры — те точно мои двоюродные братья, а какой же мне, русскому царю, может быть брат — беглый арестант?» Так и отписал ему и приказал своему любимому генералу отвезти письмо к французскому императору и отдать, значит, в собственные руки. Тому, известно, обидно стало, и он объявил войну да англичан на свою сторону переманил. За турку, значит, заступиться. «Мы, говорит, спеси-то собьем с русских, Черноморский флот изничтожим и Севастополь разорим». И точно, пришло ихних кораблей видимо-невидимо… Все так полагали, что Меньшиков не допустит высадки. Однако допустил. Войска, говорит, мало нашего. И в первом же сражении наших вовсе одолели… Побежали солдатики кто куда… Сказывали потом: у тех штуцера, а у нас, мол, ружьишки плохонькие — не берут. Он издалече бьет, а ты стой на расстреле. И опять же: начальство вовсе бестолковое было… Генералы все врозь. Никто никого не слухает. Совсем дело плохо… Пошли, значит, французы с англичанами на Севастополь… А Меньшиков тем временем с войсками ушел… «Пропадай, мол, Севастополь, а я не виноват. Зачем мне подмоги не присылают; я, говорит, давно просил. И генералов умных просил, а мне одних, говорит, глупых генералов прислали. Без войска да без генералов я, говорит, сражаться не могу». И просил он, сказывали тогда, императора: «Ослобоните, ваше императорское величество, а то на победу я не обнадежен!» Однако император рассердился. «Врешь, Меньшиков… Армия моя первая на всем свете, и ты мне должен французов всех выгнать. А то смотри!» Так Меньшиков и остался, — ничего не поделаешь против царского повеления. А был этот самый Меньшиков с большим рассудком старик, но только не для войны, а по другим делам… И веры в ем в войско не было… И генералов не уважал… И его никто при войске не видал. Как увидали Нахимов да Корнилов, чего набедокурил Меньшиков, поняли, что одна надежда на матросиков… «Вызволяй, мол, братцы!.. Не отдадим Севастополя!..» И сейчас же это стали возить пушки с кораблей на бакстионы да строить новые батареи на сухом пути. Дни и ночи работали. И всех, значит, арестантов выпустили — работай и вы, мол, вместе с прочими, и за то вам будет прощение. И бабы и девки, матросские женки да дочери, тогда старались вместе со всеми — помогали, всем жалко было Севастополя. Через дня два всех нас расписали по бакстионам, а залишним дали ружья и заместо войска назначили. Ждем мы таким родом неприятеля… А Корнилов-адмирал объезжал, значит, по всем батареям да по городу и обнадеживает: «Все, говорит, лучше помрем, а без бою не отдадим Севастополя!» Только он да Нахимов в те поры и распоряжались, а остальных адмиралов да генералов что-то не видно было. Сказывали, быдто вовсе пали духом: растерялись, значит. Город, мол, беззащитен. «Что поделаешь с горсткой матросов против всей армии…» А Нахимов да Корнилов подбадривали… Отчаянные были адмиралы… Первый отвагой брал, а другой и очень башковатый был… Ждем день, другой… И в те поры мы так и полагали, что помирать всем до одного… Где же горстке сустоять против всей армии?.. Однако господь, видно, продлить испытание хотел и навел туману на ихних генералов.
— Какого тумана?
— Да как же? Заместо того, чтоб идти прямо на Севастополь с северной стороны и брать Севастополь, а нас всех перебить, они в обход пошли, чего-то испужались. Видим это мы, что они тянутся на южную сторону — вздохнули… Значит, он осаду поведет… штурмовать не согласен. Тем временем и Меньшиков вернулся с армией. Дело и пошло взатяжку… Мы знай себе все батареи строим… И он строит. Отстроился и начал бондировку. Страсть как жарил.
— А вы где были?
— На четвертом бакстионе, вашескобродие…
— А Сбойников?
— А он рядом с нами батареей командовал… И строил сам… В два дня она у его, дьявола, была готова. Сам день и ночь стоял — и чуть заметит, что матрос отдохнуть захочет или покурить трубочки, он его приказывает отодрать линьками… Хуже, чем на судне, страху нагонял… Война не война, а он все зверствовал… Другие, которые прежде матроса не жалели, как война пошла, попритихли… Прежде, бывало, чуть что — в зубы или драть, а теперь — шабаш… опаску, значит, имели, как бы за жестокость свои не пристрелили… Разбирай потом. А этот еще сердитей по службе стал — нисколько не переменил карактера… Ну и возроптали у его на батарее матросики… Но только он внимания не обращал на это — свою линию вел. И чтобы вы полагали, вашескобродие, он делал? Бывало, велит комендору навести орудие, и если бомба или ядро не попадет в цель, он этого комендора на четверть часа на банкет, под неприятельские, значит, пули на убой… Что выдумал-то? Редко кто живым оставался. А одного писаря так прямо велел привязать… потому тот стоять со страха не мог.
— А другие стояли? — спросил я.
— Что будешь делать? Стояли! Но только пошел по батарее ропот, все больше да больше. И без того каждый раз от бондировки людей убивают да ранят, а генерал-арестант еще сам под расстрел ставит… А надо вам сказать, стреляли на батарее Сбойникова, почитай, лучше всех. Первая батарея была. До того, значит, он застращал… Кому лестно под расстрел попасть? Однако терпели-терпели, да раз, когда Нахимов приехал на батарею, какой-то комендор и скажи… «Так и так, ваше превосходительство, а терпеть, мол, командира никак невозможно… беззаконно расстрелом наказывает…»
— Что ж Нахимов?
— Отвернулся, быдто не слыхал, и после что-то Сбойникову говорил, отчитывал с глаза на глаз, потому видели, как вышли они из блиндажа оба красные. Нахимов все плечом подергивал, видно, недоволен был, а генерал-арестант насупимшись, на людей не глядит. Однако комендору, что претензию заявил, ничего не сделал, а дня через два самого Сбойникова на другой бакстион перевели.
— А там он не зверствовал?
— И там чуть не взбунтовались матросы, — так он их жестоко стрельбе учил… Под расстрел не ставил, а забивал… беда! Потом мне сказывал один матрос с бакстиона, что они промеж себя решили пристрелить его, ежели случай подойдет. Однако случая не подходило. После подошел! — прибавил значительно Кириллыч и замолк.
— Какой случай? Расскажите, Кириллыч.
— Да что рассказывать? Пристрелили, и шабаш! Может, и неправильно тогда с им поступили. После войны и ему не дали бы так зверствовать при новом положении… Ну, да, видно, так господь ему определил! — промолвил старик словно бы в каком-то раздумье.
— Но почему вы уверены, что Сбойникова убили свои? Быть может, и неприятель?
— Свои! — уверенно и резко проговорил Кириллыч.
— Видели вы, что ли? — нарочно спрашивал я, чтобы заставить его рассказать подробности.
— Знаю! — строго и значительно промолвил Кириллыч и опять вздохнул. — В те поры я при ем состоял. Перевели его опять с бакстиона и назначили траншейным майором. Должность самая опасливая. Но только он и этой должности не боялся и шлялся по траншеям да осматривал по ночам секреты часто и под пулями, словно заговоренный какой-то от пуль. И как назначили его на эту должность, выбрал он четверых человек, чтобы бессменно при ем состояли, и меня в том числе с четвертого бакстиона взял… Собрал это он нас на Малаховом кургане, — у его там маленький был свой блиндажик по новой должности, — облаял первым делом и стращал запороть, если кто не сполнит в точности какого его приказания, а затем велел, чтобы к девяти часам все к ему явились и чтобы у каждого было по штуцеру и по линьку в кармане. Да приказал, чтобы линьки были хорошие. «А то я на вас самих, сучьи дети, говорит, попробую!..» Ладно… Вышли мы…
— А зачем линьки? — перебил я.
— А вот узнаете, вашескобродие… Просили сказывать, так не сбивайте! — с неудовольствием заметил Кириллыч.
И затем продолжал:
— Вышли мы от его и тут же раздобыли линьки от унтерцеров… Выдали нам по штуцеру да припасу, и завалились мы спать в матросском блиндаже… просили побудить к восьми часам и к назначенному сроку явились… А уж он готов… в солдатской шинели, «егорий» на груди… сабля через плечо. «Идем! — говорит, — да смотри, ни гугу… чтобы неслышно идти…» Вышли за укрепления. Он впереди, а мы за им. А ночь темная… Только звезды горят… Идем это, значит, обходим траншеи, поверяем секреты, все ли в исправке, не спят ли «секретные»… Кругом тихо… Только слышно, как он в своих траншейках работает против наших, совсем близко, так близко, что иной раз слышно, как он лопочет по-своему… Вдруг Сбойников остановился. «Сюда!» — чуть слышно скомандовал. Мы все подскочили. «В линьки вот этого!» — и пальцем указывает на человека… А он, значит, спал в траншейке перед самым неприятелем… Увидал я, что у человека офицерские погоны, и на ухо докладываю: «Офицер, вашескобродие», а он заместо ответа — мне в зубы и опять же скомандовал: «В линьки, да вовсю!» Мы и начали лупцевать. Ту ж минуту вскочил офицер на ноги: «Как, говорит, вы смеете, господин траншейный майор… Я, говорит, армии капитан!» — «Извините, говорит, господин капитан, в темноте обознался. Полагал, солдат. Никак, говорит, не рассчитывал, чтобы офицер, да еще начальник секрета, мог заснуть на своем посту!» И пошел дальше. Так, бывало, ходили мы с им каждую ночь и возвращались к рассвету. И многих он учивал линьками — не разбирал, значит, звания. Жаловались на его высшему начальству. А он и ему свое, значит, лепортует: «Обознался… Никак, говорит, не мог думать, чтобы офицер долга своего по присяге не сполнял!» Так этак через неделю, как Сбойникова сделали траншейным майором, небось никто больше не спал, кому не полагалось… С им не шути… Ходим мы с им таким родом с полмесяца… двоих унтерцеров, что были при ем, убило, одного он сам избил до полусмерти за то, что пьяный напился, да так избил, что надо было в госпиталь идтить, и остался только я из прежних, а троих новых назначили… И был один, Собачкиным прозывался, с той батареи, где Сбойников первое время служил и этого самого Собачкина прежестоко наказал, а младшего его брата — молодого матросика — так прямо, можно сказать, загубил, поставил его на банкет, а его через минуту пулей и срезало… А был этот Собачкин очень озлоблен на Сбойникова и за себя и за брата, но только по скрытности своей в себе злобу таил и никакого вида не оказывал, и так старался, что вскорости Сбойников ему «егория» выхлопотал и унтерцером сделал и часто своими деньгами награждал… Однако Собачкин не облестился этим… Бывало, взглянет на генерал-арестанта такими недобрыми глазами, что страсть… А был этот Собачкин, надо сказать, башковатый человек и ничего себе матрос — только загуливать любил… За это-то самое и терпел. Потому и на службе, случалось, пьяный бывал… И вот одним разом, как собрались мы идтить в ночной обход, Собачкин и говорит: «А ведь доброе дело, братцы, бешеную собаку убить. По крайности, говорит, никого кусать больше не будет. Как вы, братцы, про это полагаете?» Догадались это мы, про кого он. Молчим. А он опять. И складно так у его выходило, что нужно собаку изничтожить. «Уж давно, мол, ждут матросы не дождутся; все надеялись: пуля, мол, неприятельская уложит бешеную собаку». Молчим. «По жеребку, говорит, братцы, нужно»… Молчим. Однако кинули трехкопеечник.
Кириллыч на минуту примолк.
— Пошли мы в ночной обход. Ночь была темная-претемная. Как шли назад, так около рассвета подошли к траншейкам впереди четвертого бакстиона. А там наши работали, чинили батарейку — тихо так, чтобы неприятель не слыхал… А он услыхал. Раздались выстрелы — и как бросились французы!.. Пошла тревога… Наши держатся… А их, видно, много… Одолевают… У нас затрубили отступать… Уходим, значит, наутек… А он вдогонку за нами… Идем это мы за Сбойниковым… Он все ругается, что армейские прозевали, мол, французов… Пули так вокруг нас и свищут… Начало светать… Вдруг Собачкин упал… Мы все к ему… взять хотим. «Оставьте, говорит, братцы… все равно помираю… Уговор только помните!..» Сказал это он — и дух вон… Хотели было все-таки подобрать его, да нельзя… француз наседает… Однако с бакстионов подмога тем временем шла… и французы наутек… А мы уже близко к Малахову подходим… Стрельба еще идет… Вот тут-то и вышло это самое!.. — почти шепотом проговорил Кириллыч.
— Догадался он, что его свои убили? — спросил я.
— А господь знает. Подняли его — еще дышал, а говорить ничего не говорил… только рукой на шинель показывал… Скоро и помер, а как на Малаховом снимали с его часы, то в кармане нашли пакет, а в ем пять тысяч, и на пакете написано, что, мол, кровные его эти денежки в случае смерти отдать в экипаж и разделить матросам.
Кириллыч замолчал и глубоко вздохнул.
— Вы потом опять на четвертый бастион поступили?
— На четвертый.
— Там и ногу оторвало?
— Там.
Он, видимо, неохотно отвечал на вопросы и, закуривая трубку, промолвил:
— Однако, и поздно, должно быть.
Я поспешил оставить Кириллыча и, простившись с ним, тихо пошел на хутор.
Оглянувшись, я увидал в полосе лунного света фигуру поднявшегося старика около своей сторожки. Он истово и усердно крестился.
Ночь стояла чудная.
Побег
I
Солнце быстро поднималось в бирюзовую высь безоблачного неба, обещая жаркий день.
Оно заливало ярким блеском и эти зеркальные, совсем заштилевшие приглубые севастопольские бухты, далеко врезавшиеся в берега, и стоявшие на рейде многочисленные военные корабли, фрегаты, бриги, шхуны и тендера прежнего Черноморского флота, и красавец Севастополь, поднимавшийся над морем в виде амфитеатра и сверкавший своими фортами, церквами, домами и домиками слободок среди зеленых куп садов, бульваров и окрестных хуторов.
Был шестой час на исходе прелестного августовского утра.
На кораблях давно уже кипела работа.
К подъему флагов, то есть к восьми часам, все суда приводили в тот обычный щегольский вид умопомрачающей чистоты и безукоризненного порядка, каким вообще отличались суда Черноморского флота.
С раннего утра тысячи матросских рук терли, мыли, скоблили, оттирали, или, по выражению матросов, «наводили чистоту» на палубы, на пушки, на медь — словом, на все, что было на палубах и под ними до самого трюма.
Давно работали в доках, адмиралтействе, в разных портовых мастерских, расположенных по берегу. Среди грохота молотков и лязга пил порою раздавалась дружная «Дубинушка», при которой русские люди как-то скорее поднимают тяжести и ворочают громадные бревна.
Опустели и мрачные блокшивы, стоявшие на мертвых якорях, словно прокаженные, вдали от других судов, в самой глубине корабельной бухты.
Это плавучие «мертвые дома».
Подневольные жильцы их, арестанты военно-арестантских рот, с четырех часов уже разведены по разным работам.
В толстых холщовых рубахах и таких же штанах, в уродливых серых шапках на бритых головах, они прошли, звякая кандалами, несколькими партиями в сопровождении конвойных солдат по пустым еще улицам и возвратятся домой только вечером, когда наступит прохлада и весь город высыпет на бульвары и Графскую пристань.
И тогда во мраке чу́дной южной ночи эти блокшивы замигают огоньками фонарей и среди тишины бухты раздадутся протяжные оклики часовых, каждые пять минут один за другим выкрикивающих: «Слушай!»
Проснулись и слободки, окаймлявшие город, с их маленькими белыми, похожими на мазанки домами, населенными преимущественно семьями отставных и служащих матросов, артиллерийских солдат, казенных мастеровых и вообще бедным рабочим людом.
Рынок — этот клуб большинства населения, расположенный у артиллерийской бухты, — давно кишел народом.
Шумные и оживленные кучки толкались между ларьками, среди телячьих и бараньих туш, кур, уток и разной дичи, среди массы зелени и разнообразных овощей юга, гор арбузов и пахучих дынь и множества фруктов, привезенных из ближних садов. Торговали, кричали и сердились. Тут же делились последними новостями и сбывали поношенное платье и старую обувь.
У самого берега бухты стояли рыбачьи суда соседнего городка Балаклавы со свежей рыбой. Какой только не было! И камбала, и скумбрия, и жирная кефаль, и бычки, и маленькая золотистая султанка, которую лакомки считают за самую вкусную рыбу Черного моря. Только что наловленные устрицы лежали в корзинках и предлагались поварам и кухаркам.
Тут же, рядом с рыбным рынком, в прозрачной, словно хрусталь, воде заливчика бухты, отливавшей изумрудом, купалась толпа мальчишек. С веселым смехом бросались они в воду, плескались, обдавали один другого брызгами, плавали и ныряли, словно утки, соревнуясь в своем искусстве друг перед другом и перед глазеющей публикой.
Над рынком, залитым блеском веселого южного солнца, стоял непрерывный говор толпы. Речь изобиловала неправильностями языка южных городов и звучала мягким тоном малороссийского акцента. Среди этой речи порой выделялось торопливое, громкое и в то же время вкрадчивое «сюсюканье» продавцов рыбы и устриц, халвы и рахат-лукума — этих увлекающихся балаклавских греков с их смуглыми мясистыми лицами, горбатыми носами, черными с поволокой глазами, напоминающими крупные маслины, и с быстрыми жестами оголенных мускулистых рук цвета темной бронзы.
Слышались и гортанные звуки татар, сидевших на корточках у корзин с грушами, виноградом и яблоками, с выражением горделивого бесстрастия на своих красивых лицах с классическими чертами, напоминающими о чистой арийской крови их предков — генуэзцев и греков, когда-то живших в Крыму. Порой разносились, покрывая говор толпы, отчаянные клятвы «дам рынка» — бойких, задорных торговок-матросок — и их энергичная брань, приправленная самыми великорусскими импровизациями, которым мог бы позавидовать любой боцман, и вызывавшими громкий и сочувственный смех рыночной публики.
Все здесь жило полной жизнью большого и оживленного морского города.
Никто, разумеется, в этой шумной толпе и не предвидел, что скоро Севастополь будет в развалинах и что эти прелестные и оживленные бухты опустеют и на поверхности рейда, где стоит теперь Черноморский флот, будут торчать, словно кресты над могилами, верхушки мачт потопленных кораблей.
II
В начале восьмого часа этого веселого, светлого утра в детской большого казенного дома командира порта и севастопольского военного губернатора худенький мальчик, лет восьми или десяти, с необыкновенно подвижным лицом и бойкими карими глазами, торопливо оканчивал свой туалет при помощи старой няни Агафьи.
— Да ну же, скорей, няня! Ты всегда копаешься! — нетерпеливо и властно говорил мальчик в то время, как низенькая и коренастая Агафья расчесывала не спеша его кудрявые, непокорные, густые каштановые волосы.
— Ишь ведь, попрыгун! Ни минуты не постоит смирно. Всегда торопится, точно на пожар, — ворчала няня, любовно посматривая в то же время на своего любимца. — Да не вертись же, говорят! Так тебя и не причесать. Будешь нечесаный, как уличный мальчишка.
Но мальчик, видимо не особенно тронутый такими замечаниями и испытывавший неодолимую тоску от долгого чесания, когда солнце так весело играет в комнате и в растворенное окно врывается струя свежего воздуха вместе с ароматом цветов сада, уже выдернул не вполне причесанную кудрявую голову из рук няни и, улыбающийся, жизнерадостный и веселый, стал быстро надевать курточку.
— Дай хоть пригладить вихры, Васенька!
— И так хорошо, няня.
— Нечего сказать, «хорошо»! Адмиральский сын — и торчат вихры. Небось папенька заметит — не похвалит.
Вася уже не слыхал последних слов няни Агафьи, которую любил и не ставил ни в грош, зная, что она вполне в его руках и исполнит все его прихоти. Он выскочил из детской, на ходу застегивая курточку, и, пробежав анфиладу комнат, остановился у запертых дверей кабинета.
Веселое лицо мальчика тотчас же приняло тревожное выражение. Он несколько секунд простоял у дверей, не решаясь войти, и в голове его пробежала обычная мысль о том, что ходить каждое утро к отцу, для того чтоб пожелать ему доброго утра, — весьма неприятная обязанность, без которой можно бы и обойтись.
«А все-таки нужно», — мысленно проговорил он и, тихо приотворив двери, вошел.
В большом кабинете, у письменного стола, сидел, опустив глаза на бумаги, худощавый высокий старик в летнем халате, с гладко выбритыми морщинистыми щеками, отливавшими здоровым румянцем, причесанный по-старинному, с высоким коком темных, чуть-чуть седевших волос, который возвышался посредине головы вроде петушиного гребня. Короткие подстриженные седые усы торчали щетинкой.
Эти колючие «тараканьи» усы всегда особенно пугали мальчика, наводя на него трепет, когда они нервно и быстро двигались, обнаруживая вместе с подергиванием плеч и движением скул дурное расположение духа сурового и непреклонного адмирала, которого решительно все в доме, начиная с адмиральши, боялись как огня.
— Доброго утра, папенька! — тихо, совсем тихо проговорил дрогнувшим от волнения голосом Вася, приблизившись к письменному столу и не спуская с отца замирающего, словно бы очарованного взгляда, полного того выражения, какое бывает в глазах у маленькой птички, увидавшей перед собой ястреба.
Слыхал ли отец приветствие сына и нарочно, как это случалось не раз, не обращал на него ни малейшего внимания, заставляя мальчика недвижно стоять у стола бесконечную минуту-другую, или, занятый бумагами, действительно не замечал Васи, — трудно было решить, но он не поворачивал головы.
Так прошло несколько долгих секунд.
А в раскрытые окна кабинета, полного прохлады, глядели густые акации и тенистые, раскидистые орешники, не пропускавшие лучей солнца, с крупными грецкими орехами в зеленой скорлупе, и невольно напоминали Васе о том, что там, в верхнем саду, вдали от дома, его ждут многие удовольствия, радости и приятные встречи, о которых никто из домашних и не догадывался. А усы отца стояли неподвижно, и скулы морщинистых щек не двигались.
И мальчик, ощутив прилив мужества, решился снова проговорить, несколько повышая свой мягкий высокий тенорок:
— Доброго утра, папенька!
Быстрым, энергичным движением адмирал вскинул голову и остановил серьезный, сосредоточенный и, казалось, недовольный взгляд на своем младшем сыне— Вениамине семьи[24].
И что-то мягкое и даже нежное на мгновение смягчило эти суровые черты и засветилось в этих маленьких серых глазах, властных и острых, сохранивших, несмотря на то что адмиралу было шестьдесят лет, живость, энергию и блеск молодости.
— Здравствуй! — отрывисто и резко проговорил адмирал.
И против обыкновения, вместо того чтобы кивнуть головой, давая этим знать, что мальчик может уйти, он сегодня потрепал своей костлявой рукой по заалевшей щеке сына и продолжал тем же резким повелительным тоном:
— Здоров, конечно? Скоро в Одессу… учиться. Первого сентября поедешь на пароходе. Ну, ступай!
Вася не заставил себя ждать.
Он быстро исчез из кабинета и облегченно и радостно вздохнул, точно освободившись от какой-то тяжести, когда очутился в диванной, рядом со спальной матери, которая, как и сестры, еще спала.
Наскоро выпив стакан молока, приготовленный няней Агафьей, он сунул в карман незаметно от няньки несколько кусков сахару и бросился в сад.
Миновав цветники, оранжереи и теплицы нижнего сада, он торопливо перепрыгивал ступеньки небольших лестниц, отделяющих террасу от огромного сада, длинные аллеи которого окаймлялись густыми шпалерами винограда, а на грядах, расположенных по самой средине террас и обложенных красиво дерном, росли правильными рядами всевозможные фруктовые деревья, полные крупных пушистых персиков, сочных груш, больших желтых и зеленых слив, янтарных ранетов, миндаля, грецких орехов и белой и красной шелковицы.
Этот громадный, возвышающийся террасами сад, выходивший на три улицы и обнесенный вокруг каменной стеной, с его роскошными цветниками у дома, с оранжереями, теплицами, с его беседками, обвитыми пахучими цветами, и большим деревянным бельведером, откуда открывался чудный вид на Севастополь и его окрестности и откуда год спустя Вася в подзорную трубу смотрел, как двигались французские войска длинной синеющей лентой через Инкерманскую долину, направляясь к южной стороне города, — этот сад содержался в образцовом порядке и сиял чистотой, пленяя глаза, главным образом благодаря работе арестантов.
Партия их, человек в двенадцать — пятнадцать, ранним утром, как только солнце поднималось над городом, входила в большую калитку верхнего сада с задней улицы и работала в нем часов до трех или до четырех, пока двое конвойных солдатиков дремали, опершись на ружья, у калитки или где-нибудь в саду.
Арестанты, приходившие ежедневно, кроме праздников, на работу в сад командира порта, обыкновенно были одни и те же. Они таскали откуда-то ушаты с водой, поливали цветники и гряды, пололи траву, подстригали деревья, мели дорожки, посыпали аллеи свежим гравием и потом утрамбовывали их — одним словом, делали все, что приказывал главный садовник, вольнонаемный немец, аккуратный Карл Карлович.
Работа была не из тяжелых, и арестанты, по-видимому, были довольны, что им приходилось заниматься садом, и старались изо всех сил.
Вот к этим-то людям, отбывающим суровое наказание за свои вины, и торопился Вася.
III
Несмотря на суровое приказание матери и сестер не только не разговаривать с этими отверженными людьми, но даже и не подходить к ним близко, мальчик весело взбегал с террасы на террасу и окидывал зорким взглядом длинные аллеи, предвкушая удовольствие поболтать с арестантами и попользоваться частью их завтрака — хорошим куском красного сочного арбуза, заедая его, как и арестанты, ломтем черного хлеба, круто посыпанного солью. И тем и другим они радушно делились с барчуком, наперерыв угощая его.
Он находил этот завтрак самым лучшим на свете — куда вкуснее всяких изысканных блюд, подаваемых у них за обедом, — а в компании этих бритых людей, позвякивающих кандалами, чувствовал себя несравненно приятнее, веселее и свободнее, чем дома, особенно во время обедов, когда все домашние сидели молчаливые и подавленные, а он сам насильно глотал ложки противного супа, чтобы не навлечь гнева почти всегда сурового отца, и с нетерпением ждал конца обеда, безмолвный, не смея шевельнуться.
Познакомился он и сошелся с арестантами только нынешним летом, благодаря тому что бегал в сад один и что вообще за ним не было никакого надзора. До этого времени он их очень боялся и, забегая в верхний сад, чтоб полакомиться фруктами, старался прошмыгнуть мимо них в почтительном отдалении и обязательно бегом. Тогда он считал всех этих людей в серых шапках, роющих в саду землю или развозящих в тачках песок, способными на всякие злодейства, готовыми даже, как уверяла его еще давно няня Агафья, когда он капризничал, унести мальчика и потом его зажарить и съесть, хотя бы он был и адмиральский сын. Эти слова няни в свое время произвели глубокое впечатление на Васю, несмотря на то что другие лица, как, например, мать, сестры и братья, не заходили в своих обвинениях так далеко. По крайней мере, он ни от кого не слыхал подтверждения Агафьиных слов. Но, во всяком случае, отзывы, которые иногда как бы мимоходом бросались при мальчике об арестантах, не оставляли ни малейшего сомнения в том, что эти люди совмещают в себе столько пороков, что и не сосчитать, и если б их выпустить на волю, то они дали бы себя знать! Недаром же им бреют головы и держат в кандалах.
Так однажды говорил старичок генерал, приехавший с визитом к матери Васи, возмущенный по поводу какой-то жалобы, поданной арестантами на то, что их плохо кормят и не дают всего, что им по закону полагается. Этот старичок, прикосновенный, кажется, к делу о растрате арестантских сумм, разумеется, и не думал, что в скором времени, когда Севастополь будет в опасности перед неприятелем, всех этих арестантов выпустят на волю и снимут с них кандалы и они сделаются такими же доблестными защитниками осажденного города, как и остальные.
Все эти рассказы еще сильнее подстрекали любопытство мальчика, и, несмотря на страх, внушаемый ему этими ужасными людьми, он, однако, иногда решался наблюдать их, но, разумеется, на таком расстоянии, чтобы в случае какой-либо опасности дать немедленно тягу.
Их разговоры самого мирного характера, долетавшие до ушей Васи, добродушное мурлыканье какой-нибудь песенки во время работы и, наконец, многие другие наблюдения совсем не соответствовали тому представлению об арестантах, которые имел мальчик с чужих слов, и несколько поколебали его веру в справедливость показаний няни Агафьи.
Особенно поразили его два факта.
Однажды весной он увидал, как один из арестантов, пожилой высокий брюнет с сердитым взглядом больших, глубоко сидящих глаз, с нависшими черными всклоченными бровями, которого Вася считал самым страшным и боялся более других, заметив выпавшего из гнезда крошечного воробушка, тотчас же подошел к нему, взял его и, бережно зажав в руке, полез на дерево и положил на место, к радости беспокойно вертевшейся около и тревожно чирикавшей воробьихи. И когда он слез с дерева и принялся снова рассыпать из тачки на аллею песок, лицо его, к удивлению Васи, светилось лаской и добротой.
В другой раз арестанты нашли в саду заброшенного щенка, маленького, облезлого, худого, и отнеслись к нему с большой внимательностью и даже нежностью. Вася видел, как они совали ему в рот разжеванный мякиш черного хлеба, как положили его в укромный уголок, заботливо прикрыв его какой-то тряпкой, и слышал, как они решили взять его с собой, и это решение, видно, обрадовало всех.
— А то пропадет! — заметил тот же страшный арестант с нависшими бровями. — А я, братцы, за ним ходить буду заместо, значит, няньки! — прибавил он с веселым смехом.
По соображениям Васи, эти факты, во всяком случае, свидетельствовали, что и этим страшным людям не чужды проявления добрых чувств.
Для разрешения своих сомнений Вася вскоре обратился к старому денщику — матросу Кирилле, бывшему у них в доме одним из лакеев, с вопросом: правда ли, что арестанты уносят мальчиков и потом едят их?
Вместо ответа Кирилла, человек вообще солидный, серьезный и даже несколько мрачный, так громко рассмеялся, открывая свой большой рот, что Вася даже несколько сконфузился, сообразивши, что попал впросак, предложивши, видимо, нелепый вопрос.
— Кто это вам сказал, барчук? — спросил наконец Кирилла со смехом.
— Няня.
— Набрехала она вам, Василий Лександрыч, вроде хавроньи, а вы взяли да и поверили! Слыханное ли это дело, чтобы, с позволения сказать, ели человеков? Во всем крещеном свете нет такого положения, хоть кого вгодно спросите. Есть, правда, один такой остров, далеко отсюда, за окиянами, где вовсе дикие люди живут, похожие на обезьянов, так те взаправду жрут, черти, человечье мясо. Мне один матрос сказывал, что ходил на дальнюю[25] и везде побывал. Жрут, говорит, и крысу, и всякую насекомую, и змею, и человека, ежели чужой к им попадается. Но, окромя этого самого острова, нигде этим не занимаются, чтобы мальчиков есть. А русский человек и подавно на это не согласится. Это вас нянька нарочно пужала. Известно — баба! Не понимает, дурья башка, что брешет дитю! — пренебрежительным тоном прибавил Кирилла.
— Да я и не поверил няне. Я сам знаю, что людей не едят! — оправдывался задетый за живое самолюбивый мальчик. — Я так только спросил. И я знаю, что арестанты вовсе не страшные! — прибавил Вася не вполне, однако, уверенным тоном, втайне желая получить на этот счет разъяснения такого знающего человека, каким он считал Кириллу.
— С чего им быть страшными? Такие же люди, как и все мы. Только незадачливые, значит, несчастные люди — вот и всё.
— А за что же они, Кирилла, попали в арестанты?
— А за разные дела, барчук. Они ведь все из солдат да из матросов. Долго ли до греха при строгой-то службе? Кои и за настоящие, прямо сказать, нехорошие вины… На грабеж пустился или в воровстве попался. Ну и избывает свой грех… А кои из-за своего непокорного карахтера.
— Как так? — спросил Вася, не понимая Кириллу.
— А так. Не стерпел, значит, утеснениев, взбунтовался духом от боя да порки — ну и сдерзничал начальству на службе, — вот и арестантская куртка! А то и за пьянство попасть можно, всяко бывает! Ты и не ждешь, а вдруг очутишься в арестантских ротах.
— За что же?
— А за то, ежели, примерно, нравный человек да напорется на какого-нибудь зверя командира, который порет безо всякого рассудка и за всякий, можно сказать, пустяк. Терпит-терпит человек, да наконец и не вытерпит, да от обиды в сердцах и нагрубит… Небось расправа коротка! Проведут сквозь строй, вынесут замертво и потом в арестанты. И вы, барчук, не верьте, что про них нянька брешет. И бояться их нечего, пренебрегать ими не годится. Их жалеть надо, вот что я вам скажу, барчук, — заключил Кирилла.
После таких разъяснений, вполне, казалось, подтверждавших и собственные наблюдения Васи, он значительно меньше стал бояться арестантов, рисковал подходить к ним поближе и вглядывался в эти самые обыкновенные, по большей части добродушные лица, не имеющие в себе ничего злодейского. И они разговаривали, шутили и смеялись точно так, как и другие люди, а ели — казалось Васе — необыкновенно аппетитно и вкусно.
И однажды, когда Вася жадно глядел, как они утром уписывали, запивая водой, ломти черного хлеба, посыпанные солью, — один из арестантов с таким радушием предложил барчуку попробовать «арестантского хлебца», что Вася не отказался и с большим удовольствием съел два ломтя и пробыл в их обществе. И все смотрели на него так доброжелательно, так ласково, все так добродушно говорили с ним, что Вася очень жалел, когда шабаш[26] кончился и арестанты разошлись по работам, приветливо кивая головами своему гостю.
С тех пор между адмиральским сыном и арестантами завязалось прочное знакомство, о котором Вася, разумеется, благоразумно умалчивал, зная, что дома его за это не похвалят. И чем ближе он узнавал их, тем более и более убеждался, что и няня, и мать, и сестры, и старичок генерал решительно заблуждаются, считая их ужасными людьми. Напротив, по мнению Васи, они были славные и добрые, и он только удивлялся, за что таких людей, которые так усердно работали, так хорошо к нему относились, баловали его самодельными игрушками и так гостеприимно угощали его, — за что, в самом деле, им обрили головы и на ноги надели кандалы, лишив, бедных, возможности бегать, как бегает он.
Вася со всеми своими новыми знакомыми был в хороших отношениях, но более всего подружился с одним молодым, белокурым, небольшого роста, стройным арестантом с голубыми ласковыми глазами. Он не знал, за что попал этот человек в арестанты, и не интересовался знать, решив почему-то, что, верно, не за важную вину.
Он чувствовал какую-то особенную привязанность к этому арестанту с задумчивым грустным взглядом и за то, что тот рассказывал отличные сказки, и за то, что он был часто грустен, и за его мягкий, ласковый голос, и за его необыкновенно добрую и приятную улыбку — короче, решительно за все.
Звали его Максимом. Арестанты называли его еще «соловьем» за то, что часто во время работы он пел песни, и пел их замечательно хорошо.
Когда мальчик, бывало, слушал его пение, полное беспредельной тоски, невольное чувство бесконечной жалости к этому певцу в кандалах охватывало его маленькое сердце и к горлу подступали слезы.
И нередко, нервно потрясенный, он убегал.
IV
Вася попал в сад как раз вовремя.
Арестанты только что зашабашили на полчаса и, расположившись кто кучками, кто в одиночку в конце одной из аллей, под тенью стены, завтракали казенным черным хлебом и купленными на свои копейки арбузами.
Вася подбежал к ним и, веселый, зарумянившийся, полный радости жизни, весело кивал головой в ответ на общие приветствия с добрым утром. С разных сторон раздавались голоса:
— Каково почивали, барчук?
— Нянька не пужала вас?
— Не угодно ли кавуна[27], барчук?
— У меня добрый кавун!
— Барчук с Максимкой будет завтракать. Максимка нарочно большой кавун на рынке взял.
— А где же Максим? — спрашивал Вася, ища глазами своего приятеля.
— А вон он, от людей под виноградник забился. Идите к нему, барчук, да прикажите ему не ску́чить. А то он опять вовсе заскучил.
— Отчего?
— А спросите его… Видно, не привык еще к нашему арестантскому положению. Тоскует, что птица в неволе.
— А вчерась дома еще от унтерцера попало! — вставил чернявый пожилой арестант с нависшими всклоченными бровями, придававшими его рябоватому лицу несколько свирепый вид.
— За что попало? — поинтересовался Вася.
— А ежели по совести сказать, то вовсе здря… Не приметил Максимка унтерцера и не осторонился, а этот дьявол его в зубы… Да раз, да другой! Это хучь кому, а обидно, как вы полагаете, барчук? Еще если бы за дело, а то здря! — объяснял пожилой арестант главную причину обиды.
Вася, и по собственному опыту своей недолгой еще жизни знавший, как обидно, когда, бывало, и его наказывали дома не всегда справедливо, а так, в минуты вспышки гнева отца или дурного расположения матери, поспешил согласиться, что это очень обидно и что унтер-офицер, побивший Максима, действительно дьявол, которому он охотно бы «начистил морду».
Вызвав последними словами, заимствованными им из арестантского жаргона, одобрительный смех и замечание, что «барчук рассудил правильно», Вася поспешил к своему приятелю Максиму.
— Здравствуй, Максим! — проговорил он, когда залез под виноградник и увидал молодого арестанта, около которого лежали только что нарезанные куски арбуза и несколько ломтей черного хлеба.
— Доброго утра, паныч! — ответил Максим своим мягким голосом с сильным малороссийским акцентом. — Каково почивали? Попробуйте, какой кавунок добрый… Кушайте на здоровье! — прибавил он, подавая Васе кусок арбуза и ломоть хлеба и ласково улыбаясь при этом своими большими и грустными глазами. — Я вас дожидался.
— Спасибо, Максим. Я присяду около тебя… Можно?
— Отчего не можно? Садитесь, паныч. Здесь хорошо, прохладно.
Вася присел и, вынув из кармана несколько кусков сахара и щепотку чая, завернутого в бумажку, подал их арестанту и проговорил:
— Вот возьми… Чаю выпьешь…
— Спасибо, паныч… Добренький вы… Только как бы вам не досталось, что вы сахар да чай из дому уносите.
— Не бойся, Максим, не достанется. И никто не узнает… У нас все спят. Только папенька встал и сидит в кабинете. Да у нас чаю и сахару много! — торопливо объяснял Вася, желая успокоить Максима, и с видимым наслаждением принялся уплетать сочный арбуз, заедая его черным хлебом и не обращая большого внимания на то, что сок заливал его курточку.
Сунув чай и сахар в карман штанов, Максим тоже принялся завтракать.
— Еще, паныч? — проговорил он, заметив, что Вася уже съел один кусок.
— А тебе мало останется? — заметил мальчик, видимо колебавшийся между желанием съесть еще кусок и не обидеть арестанта.
— Хватит. Да мне что-то и есть не хочется.
— Ну так я еще съем кусочек.
Скоро арбуз и хлеб были покончены, и тогда Вася спросил:
— А ты что такой невеселый, Максим?
— Веселья не много, паныч, в арестантах.
— В кандалах больно?
— В неволе погано, паныч. И на службе было тошно, а в арестантах еще тошнее.
— Ты был солдатом или матросом?
— Матросом, паныч, в сорок втором экипаже служил… Может, слыхали про капитана первого ранга Богатова… Он у нас был командиром корабля «Тартарархов»[28].
— Я его знаю. Он у нас бывает. Такой толстый, с большим пузом…
— Так из-за этого самого человека я и в арестанты попал. Нехай ему на том свете попомнится за то, что он меня несчастным сделал.
— Что ж ты, нагрубил ему?
— То-то, нагрубил… Я, паныч, был матрос тихий, смирный, а он довел меня до затмения… Так сек, что и не дай боже!
— За что же?
— А за всё. И винно и безвинно… За флотскую часть. Два раза в гошпитале из-за его лежал. Ну, душа и не стерпела. Назвал его злодеем. Злодей и есть. И засудили меня, паныч. Гоняли скрозь строй, а потом в арестанты. Уж лучше было бы потерпеть… Может, от этого человека избавился и к другому бы попал — не такому злодею. По крайности, в матросах все-таки на воле жил. А тут, сами знаете, паныч, какая есть арестантская доля… Хоть пропадай с тоски! И всякий может тобой помыкать. Известно — арестант! — прибавил с грустною усмешкой Максим.
Вася, слушавший Максима с глубоким участием, после нескольких секунд раздумья проговорил с самым решительным видом:
— Так отчего ты, Максим, не убежишь, если тебе так нехорошо?
Радостный огонек блеснул в глазах арестанта при этих словах, и он ответил:
— А вы как думаете?.. Давно убег бы, коли б можно было, паныч. Пошел бы до своей стороны…
— А где твоя сторона?
— В Каменец-Подольской губернии. Может, слыхали город Проскуров. Так от него верстов десять наша деревня. Поглядел бы на мать да на батьку и пошел бы за австрийскую границу шукать доли! — продолжал Максим взволнованным шепотом, весь оживившийся и словно бы невольно высказывая свою давно лелеянную заветную мечту о побеге. — Только вы смотрите, паныч, никому не сказывайте насчет того, что я вам говорю, а то меня до смерти засекут! — прибавил Максим и словно бы испугался, что поверил свою тайну барчуку. Долго ли ему разболтать!
Вася торжественно перекрестился и со слезами на глазах объявил, что ни одна душа не узнает о том, что говорил Максим. Он может быть спокоен, что за него Максима не высекут. Хоть он и маленький, а держать слово умеет.
И когда Максим, по-видимому, успокоился этим уверением, Вася, и сам внезапно увлеченный мыслью о побеге Максима за австрийскую границу, о которой, впрочем, имел очень смутное понятие, продолжал таинственно серьезным тоном заговорщика:
— Ты говоришь, что нельзя убежать, а я думаю, что очень даже легко.
— А как же, паныч? — с ласковой улыбкой спросил Максим.
— А ты разбей здесь у нас в саду кандалы… Я тебе молоток принесу. А потом перелезь через стену да и беги на австрийскую границу.
Максим печально усмехнулся:
— В арестантской-то одёже? Да меня зараз поймают.
— А ты ночью.
— Ночью с блокшивы не убечь. Мы за железными запорами, да и часовые пристрелят…
Возбужденное лицо Васи омрачилось. И он печально произнес:
— Значит, так и нельзя убежать?
Арестант не отвечал и как-то напряженно молчал. Казалось, будто какая-то мысль озарила его, и его худое, бледное лицо вдруг стало необыкновенно возбужденным, а глаза загорелись огоньком. Он как-то пытливо и тревожно глядел на мальчика, точно хотел проникнуть в его душу, точно хотел что-то сказать и не решался.
— Что ж ты молчишь, Максим? Или боишься, что я тебя выдам? — обиженно промолвил Вася.
— Нет, паныч. Вы не обидите арестанта. В вас душа добрая! — сказал уверенно и серьезно Максим и, словно решившись на что-то очень для него важное, прибавил почти шепотом: — А насчет того, чтоб убечь, так оно можно, только не так, как вы говорите, паныч.
— А как?
— Коли б, примерно, достать платье.
— Какое?
— Женское, скажем, такое, как ваша нянька носит.
— Женское? — повторил мальчик.
— Да, и, примерно, платок бабий на голову… Тогда можно бы убечь!
Вася на секунду задумался и вслед за тем решительно проговорил:
— Я тебе принесу нянино платье и платок.
— Вы принесете, паныч?
От волнения он не мог продолжать и, вдруг схватив руку Васи, прижал ее к губам и покрыл поцелуями. В ответ Вася крепко поцеловал арестанта.
— Как же вы это сделаете? А как поймают?
— Не бойся, Максим. Никто не поймает. Я ловко это сделаю, когда все будут спать. Только куда его положить?
— А сюда, под виноградник. Да накройте его листом, чтобы не видно было.
— А то не прикрыть ли землей? Как ты думаешь, Максим? — с серьезным, деловым видом спрашивал Вася.
— Нет, что уж вам трудиться, паныч, довольно и листом. Сюда никто и не заглянет.
— Ну ладно. А я завтра рано-рано утром все сюда принесу. А то еще лучше ночью… Я не побоюсь ночью в сад идти. Чего бояться?
— Благослови вас Боже, милый паныч. Я буду век за вас молиться.
— Эй! На работу! — донесся издали голос конвойного.
— Я еще к тебе прибегу, Максим. Мы ведь больше не увидимся. Завтра тебя не будет! — с грустью в голосе произнес Вася.
С этими словами он вылез из виноградника и пошел в дом.
V
Целый день Вася находился в возбужденном состоянии, озабоченный предстоявшим предприятием. Увлеченный этими мыслями, он даже ни разу не подумал о том, что грозит ему, если отец как-нибудь узнает о его поступке. План похищения няниного платья и молотка, который он вчера видел в комнате, поглотил его всего, и он уже сделал днем рекогносцировку в нянину комнату, увидел, где лежит молоток, и наметил платье, висевшее на гвозде. День этот тянулся для него невыносимо долго. Он то и дело выбегал в сад, озабоченно ходил по аллеям и часто подбегал к Максиму, когда видел его одного. Подбегал и перекидывался таинственными словами.
— Прощай, голубчик Максим. Может быть, завтра уж ты будешь далеко! — проговорил он со слезами на глазах перед тем, как арестанты собирались уходить из сада.
— Прощайте, паныч! — шепнул арестант, взглядывая на мальчика взглядом, полным неописуемой благодарности.
Арестанты выстроились и ушли, позвякивая кандалами. Вася долго еще провожал их глазами.
По счастью, никто из домашних не обратил внимания на взволнованный вид мальчика. Правда, за обедом отец два раза бросил на него взгляд, от которого Вася замер от страха. Ему показалось, что отец прочел в душе его намерения и вот сейчас крикнет ему: «Я все знаю, негодный мальчишка!»
Но вместо этого отец только спросил:
— Отчего не ешь?
— Я ем, папенька.
— Мало. Надо есть за обедом! — крикнул он.
И Вася, не чувствовавший ни малейшего аппетита, усердно набивал себе рот, втайне обрадованный, что отец ни о чем не догадывается.
К вечеру молоток уже лежал под кроватью Васи. Пошел он в этот день спать ранее обыкновенного, хотя за чайным столом и сидели гости и рассказывали интересные вещи.
Когда он подошел к матери, она взглянула на него и озабоченно спросила, ощупывая его голову:
— Ты, кажется, болен, Вася? У тебя все лицо горит.
— Я здоров, мама. Устал, верно.
Он поцеловал ее нежную белую руку, простился с сестрами и гостями и, довольный, что отца не было дома и что не нужно было с ним прощаться, пробежал в детскую.
— Няня, спать! — крикнул он.
— Что сегодня рано? Или набегался?
— Набегался. Устал, няня! — говорил он, стараясь не глядеть ей в глаза и чувствуя некоторое угрызение совести перед человеком, которого собирался ограбить.
Няня раздела его и предложила ему рассказать сказку, но он отказался. Ему спать хочется. Он сейчас заснет.
— Ну так спи, родной!
Она поцеловала Васю, перекрестила его и хотела было уходить, как Вася вдруг проговорил:
— А знаешь, няня, после моих именин я подарю тебе новое платье.
— Спасибо, голубчик. Что это тебе взбрело на ум, к чему мне платье? У меня и так много платьев.
— А сколько?
— Да шесть будет, окромя двух шерстяных.
— А-а! — удовлетворенно произнес мальчик и прибавил: — Так я тебе, няня, что-нибудь другое подарю. После именин у меня будет много денег.
— Ишь ты, добрый мой! Спасибо на посуле… Ну, спи, спи. И я пойду спать.
Через несколько времени Вася услышал из соседней комнаты храп няни Агафьи.
Нервы его были слишком натянуты, и он не засыпал, решивши не спать до того времени, пока не заснут все в доме и он может безопасно пробраться в сад через диванную, тихонько отворив двери в сад, которые обыкновенно запирались на ключ. Мать не услышит, а спальня отца в другом конце дома. Наконец можно выпрыгнуть и из окна: невысоко.
До него доносились звуки корабельных колоколов, каждые полчаса отбивавших склянки. Он слышал монотонное и протяжное: «Слушай!» — перекрикивающихся в отдалении часовых и думал упорно и настойчиво о том, что он не должен заснуть и не заснет, — думал, как он отворит окно, прислушается, все ли тихо, и как пройдет к няне на цыпочках за платьем, думал о Максиме, как он завтра обрадуется и удерет на австрийскую границу. И ему там будет хорошо, и его никто не поймает. И никто не узнает, что это он, Вася, помог ему убежать. И ему приятно было сознавать, что он будет его спасителем.
Эти мысли, бродившие в его возбужденной голове, сменились другими. И он убежит за австрийскую границу, если в пансионе, в Одессе, куда его отвезут в сентябре, будет нехорошо и его будут сечь. Дома сечет отец — он смеет, а другие не смеют! Непременно удерет, разыщет Максима и поселится вместе с ним. Эта мысль казалась ему соблазнительной, но еще соблазнительнее была другая, внезапно пришедшая, — как он уже большим и генералом после долгого отсутствия вдруг подъедет на белом красивом коне к дому и как все удивятся, что он генерал. И отец не высечет его: он уже большой, а будет изумлен, что он такой молодой и уже генерал. И мать, и сестры, и братья — все будут удивлены, и все будут поздравлять его. И он расскажет, почему он бежал и как отличился на войне.
«Хо-ро-шо!» — подумал он, потягиваясь и не сознавая ясно, бредит ли он наяву или засыпает.
— Нельзя спать! — прошептал он и тотчас же заснул.
Что-то точно толкнуло его в бок, и он проснулся и быстро присел на постели, испуганный, что проспал и обманул Максима, и первое мгновение не мог сообразить, сколько теперь времени. Он протер глаза и озирался вокруг. Сквозь белую штору пробивался слабый свет. Слава богу! Еще, кажется, не поздно.
Он вскочил с постели, отдернул штору и взглянул в окно. Только что рассветало, и в саду стоял еще полумрак.
— Пора!
Едва ступая босыми ножонками, пробрался он в комнату няни, взял оттуда платье и платок, лежавший около ее постели, и вернулся к себе. Через несколько секунд он уж был одет, все похищенное свернуто и завязано в два полотенца.
Надо было решить вопрос: как пробраться в сад — через окно или идти через комнаты? Тихонько растворив окно, он заглянул вниз и отвернулся — слишком высоко! Тогда он снял с себя башмаки и в одних чулках вышел за двери.
Сердце его сильно билось, когда он, затаив дыхание, прислушиваясь к каждому шороху, пробирался по коридору мимо комнат сестер и наконец вошел в диванную. Вот и дверь… Осторожно повернул он ключ… Раз, два… раздался шум… Он на минуту замер в страхе и со всех ног пустился в сад, перепрыгивая ступеньки лестниц. Вот и вторая терраса сверху… Стремглав добежав до конца аллеи, он положил платье в указанное место, набросал на него кучу виноградных листьев и побежал домой.
Когда он благополучно вернулся и лег в постель, его трясло, точно в лихорадке. Он был бесконечно счастлив и в то же время страшно трусил, что вдруг все откроется и отец прикажет его самого отдать в арестанты.
VI
Проснулся он на другой день поздно. Няня стояла перед ним. Он вспомнил все, что было ночью, и поглядел на нее. Ничего. Она, по обыкновению, ласковая и добрая — видно, ни о чем не догадывается. На голове ее другой платок.
— Ишь, соня… Заспался сегодня. Вставай, уже девятый час.
Вася быстро поднялся, оделся и позволил сегодня няньке расчесать основательно свои кудри.
— А не видал ты где-нибудь, Васенька, моего платка с головы? Искала, искала — нигде не могла найти, точно скрозь землю провалился! — озабоченно проговорила она, обыскивая Васину кровать.
— Нет, няня, не видал.
— Чудно́е дело! — прошептала старуха.
— Да ты, няня, не тревожься. Я тебе новый платок куплю.
— Не в том дело. Не жаль платка, а куда он девался?
И когда Вася был готов, няня сказала:
— А папенька сердитый сегодня.
— Отчего?
— У нас, Васенька, беда случилась.
— Беда? Какая беда, няня?
— Один арестант из сада убежал утром.
У Васи радостно забилось сердце. Однако он постарался скрыть свое волнение и с напускным равнодушием спросил:
— Убежал? Как же он убежал?
— То-то и диво. Только что хватились. Платье свое арестантское оставил и убежал. Все дивуются: откуда он достал платье? Не голый же ушел. Теперь идет переборка. Всех допрашивает конвойный офицер. И папеньке доложили. Прогневался. Вдруг из губернаторского сада арестант убежал!
Ни жив ни мертв явился Вася в кабинет отца. Действительно, адмирал был не в духе и в ответ на обычное «здравствуйте, папенька» только кивнул головой. С облегченным сердцем ушел Вася, убедившись, что отец ничего не знает, и вскоре услышал крики отца, который распекал явившегося к нему с рапортом полицеймейстера. Вася целый день провел в тревоге, ожидая, что вот-вот его позовут на допрос к отцу.
Но никто его не звал. За обедом отец даже был в духе и соблаговолил сказать адмиральше, высокой, полной, пожилой женщине, сохранившей еще следы былой красоты:
— А ты слышала, что сегодня случилось? Каналья арестант убежал из нашего сада.
— Как же это он мог?
— Арестанты показывают, что у него с собой узелок был, когда их вели с блокшива. Верно, там платье и было. Он переоделся и убежал. Комендант совсем распустил их. Уж я ему говорил. И конвойные плохо смотрят. Ну да недолго побегает. Сегодня или завтра, верно, поймают. Как проведут сквозь строй — не захочет бегать!
У Васи ёкнуло сердце. Неужели поймают?
Однако когда через несколько дней мать спросила отца, поймали ли арестанта, тот сердито отвечал:
— Нет. Словно в воду канул, мерзавец! И никак не могли узнать, откуда он достал платье!
Когда через неделю Вася уже совсем успокоился и вышел утром в сад, пожилой арестант с всклоченными черными бровями, срезывавший гнилые сучья с дерева, таинственно поманил мальчика к себе и, когда тот подошел к нему, осторожно, чтобы никто не видал, сунул ему в руки маленький резной крестик и проговорил:
— Максимка приказал вам передать, барчук!
И, ласково глядя на Васю, прибавил необыкновенно нежным голосом:
— Пошли вам Бог всего хорошего, добрый барчук!
Максимка
I
Только что пробил колокол. Было шесть часов прелестного тропического утра на Атлантическом океане.
По бирюзовому небосклону, бесконечно высокому и прозрачно-нежному, местами подернутому, словно белоснежным кружевом, маленькими перистыми облачками, быстро поднимается золотистый шар солнца, жгучий и ослепительный, заливая радостным блеском водяную холмистую поверхность океана. Голубые рамки далекого горизонта ограничивают его беспредельную даль.
Как-то торжественно-безмолвно кругом.
Только могучие светло-синие волны, сверкая на солнце своими серебристыми верхушками и нагоняя одна другую, плавно переливаются с тем ласковым, почти нежным ропотом, который точно нашептывает, что в этих широтах, под тропиками, вековечный старик океан всегда находится в добром расположении духа.
Бережно, словно заботливый, нежный пестун, несет он на своей исполинской груди плывущие корабли, не угрожая морякам бурями и ураганами.
Пусто вокруг!
Не видно сегодня ни одного белеющего паруса, не видно ни одного дымка на горизонте. Большая океанская дорога широка.
Изредка блеснет на солнце серебристою чешуйкой летучая рыбка, покажет черную спину играющий кит и шумно выпустит фонтан воды, высоко прореет в воздухе темный фрегат или белоснежный альбатрос, пронесется над водой маленькая серая петрель, направляясь к далеким берегам Африки или Америки, — и снова пусто. Снова рокочущий океан, солнце да небо, светлые, ласковые, нежные.
Слегка покачиваясь на океанской зыби, русский военный паровой клипер «Забияка» быстро идет к югу, удаляясь все дальше и дальше от севера, мрачного, угрюмого и все-таки близкого и дорогого севера.
Небольшой, весь черный, стройный и красивый со своими тремя чуть-чуть подавшимися назад высокими мачтами, сверху донизу покрытыми парусами, «Забияка» с попутным и ровным, вечно дующим в одном и том же направлении северо-восточным пассатом бежит себе миль по семи-восьми в час, слегка накренившись своим подветренным бортом. Легко и грациозно поднимается «Забияка» с волны на волну, с тихим шумом рассекает их своим острым водорезом, вокруг которого пенится вода и рассыпается алмазной пылью. Волны ласково лижут бока клипера. За кормой стелется широкая серебристая лента.
На палубе и внизу идет обычная утренняя чистка и уборка клипера к подъему флага, то есть к восьми часам утра, когда на военном судне начинается день.
Рассыпавшись по палубе в своих белых рабочих рубахах с широкими откидными синими воротами, открывающими жилистые, загорелые шеи, матросы, босые, с засученными до колен штанами, моют, скребут и чистят палубу, борта, пушки и медь — словом, убирают «Забияку» с той щепетильной внимательностью, какой отличаются моряки при уборке своего судна, где всюду, от верхушек мачт до трюма, должна быть умопомрачающая чистота и где все, доступное кирпичу, суконке и белилам, должно блестеть и сверкать.
Матросы усердно работали и весело посмеивались, когда горластый боцман Матвеич, старый служака с типичным боцманским лицом старого времени, красным и от загара, и от береговых кутежей, с выкаченными серыми глазами, «чумея», как говорили матросы, во время «убирки», выпаливал какую-нибудь уж очень затейливую ругательную импровизацию, поражавшую даже привычное ухо русского матроса. Делал Матвеич это не столько для поощрения, сколько, как он выражался, «для порядка».
Никто за это не сердился на Матвеича. Все знают, что Матвеич добрый и справедливый человек, кляуз не заводит и не злоупотребляет своим положением. Все давно привыкли к тому, что он не мог произнести трех слов без ругани, и порой восхищаются его бесконечными вариациями. В этом отношении он был виртуоз.
Время от времени матросы бегали на бак, к кадке с водой и к ящику, где тлел фитиль, чтобы наскоро выкурить трубочку острой махорки и перекинуться словом. Затем снова принимались чистить и оттирать медь, наводить глянец на пушки и мыть борта, и особенно старательно, когда приближалась высокая худощавая фигура старшего офицера, с раннего утра носившаяся по всему клиперу, заглядывая то туда, то сюда.
Вахтенный офицер, молодой блондин, стоявший вахту с четырех до восьми часов, уже давно разогнал дрему первого получаса вахты. Весь в белом, с расстегнутой ночной сорочкой, он ходит взад и вперед по мостику, вдыхая полной грудью свежий воздух утра, еще не накаленный жгучим солнцем. Нежный ветер приятно ласкает затылок молодого лейтенанта, когда он останавливается, чтобы взглянуть на компас — по румбу ли правят рулевые, или на паруса — хорошо ли они стоят, или на горизонт — нет ли где шквалистого облачка.
Но все хорошо, и лейтенанту почти нечего делать на вахте в благодатных тропиках.
И он снова ходит взад и вперед и слишком рано мечтает о том времени, когда вахта кончится и он выпьет стакан-другой чаю со свежими, горячими булками, которые так мастерски печет офицерский кок, если только водку, которую он требует для поднятия теста, не вольет в себя.
II
Вдруг по палубе пронесся неестественно-громкий и тревожный окрик часового, который, сидя на носу судна, смотрел вперед:
— Человек в море!
Матросы кинули мгновенно работы и, удивленные и взволнованные, бросились на бак и устремили глаза на океан.
— Где он, где? — спрашивали со всех сторон часового, молодого белобрысого матроса, лицо которого вдруг побелело как полотно.
— Вон, — указывал дрогнувшей рукой матрос. — Теперь скрылся. А я сейчас видел, братцы. На мачте держался… Привязан, что ли, — возбужденно говорил матрос, напрасно стараясь отыскать глазами человека, которого только что видел.
Вахтенный лейтенант вздрогнул от окрика часового и впился глазами в бинокль, наводя его в пространство перед клипером.
Сигнальщик смотрел туда же в подзорную трубу.
— Видишь? — спросил молодой лейтенант.
— Вижу, ваше благородие. Левее извольте взять.
Но в это мгновение и офицер увидел среди волн обломок мачты и на ней человеческую фигуру.
И взвизгивающим дрожащим голосом, торопливым и нервным, он крикнул во всю силу своих здоровых легких:
— Свистать всех наверх! Грот и фок на гитовы! Баркас к спуску!
И, обратившись к сигнальщику, возбужденно прибавил:
— Не теряй из глаз человека!
— Пошел все наверх! — рявкнул сипловатым баском боцман после свистка в дудку.
Словно бешеные, матросы бросились к своим местам.
Капитан и старший офицер уже вбегали на мостик. Полусонные, заспанные офицеры, надевая на ходу кителя, поднимались по трапу на палубу.
Старший офицер принял команду, как всегда бывает при аврале, и, как только раздались его громкие отрывистые командные слова, матросы стали исполнять их с какой-то лихорадочной порывистостью. Все в их руках точно горело. Каждый словно бы понимал, как дорога каждая секунда.
Не прошло и семи минут, как почти все паруса, за исключением двух-трех, были убраны. «Забияка» лежал в дрейфе, недвижно покачиваясь среди океана, и баркас с шестнадцатью гребцами и офицером у руля спущен был на воду.
— С Богом! — крикнул с мостика капитан на отваливший от борта баркас.
Гребцы наваливались изо всех сил, торопясь спасти человека.
Но в эти семь минут, пока остановился клипер, он успел пройти больше мили, и обломка мачты с человеком не видно было и в бинокль.
По компасу заметили все-таки направление, в котором находилась мачта, и по этому направлению выгребал баркас, удаляясь от клипера.
Глаза всех моряков «Забияки» провожали баркас. Какой ничтожной скорлупкой казался он, то показываясь на гребнях больших океанских волн, то скрываясь за ними.
Скоро он казался маленькой черной точкой.
III
На палубе царила тишина.
Только порой матросы, теснившиеся на юте и на шканцах, менялись между собой отрывистыми замечаниями, произносимыми вполголоса:
— Должно, какой-нибудь матросик с потопшего корабля.
— Потопнуть кораблю здесь трудно. Разве вовсе плохое судно.
— Нет, видно, столкнулся с каким другим ночью.
— А то и сгорел.
— И всего-то один человек остался, братцы!
— Может, другие на шлюпках спасаются, а этого забыли.
— Живой ли он?
— Вода теплая. Может, и живой.
— И как это, братцы, акул-рыба его не съела. Здесь этих самых акулов страсть!
— Да-a, милые! Опасная эта флотская служба. Ах какая опасная! — произнес, подавляя вздох, совсем молодой чернявый матросик с серьгой, первогодок, прямо от сохи попавший в кругосветное плавание.
И с омраченным грустью лицом он снял шапку и медленно перекрестился, точно безмолвно моля Бога, чтобы он сохранил его от ужасной смерти где-нибудь в океане.
Прошло три четверти часа общего томительного ожидания.
Наконец сигнальщик, не отрывавший глаза от подзорной трубы, весело крикнул:
— Баркас пошел назад!
Когда он стал приближаться, старший офицер спросил сигнальщика:
— Есть на нем спасенный?
— Не видать, ваше благородие! — уже не так весело отвечал сигнальщик.
— Видно, не нашли! — проговорил старший офицер, подходя к капитану.
Командир «Забияки», низенький, коренастый и крепкий брюнет пожилых лет, заросший сильно волосами, покрывавшими мясистые щеки и подбородок густой черной заседевшею щетиной, с небольшими круглыми, как у ястреба, глазами, острыми и зоркими, — недовольно вздернул плечом и, видимо сдерживая раздражение, проговорил:
— Не думаю-с. На баркасе исправный офицер и не вернулся бы так скоро, если б не нашел человека-с.
— Но его не видно на баркасе.
— Быть может, внизу лежит, потому и не видно-с… А впрочем-с, скоро узнаем.
И капитан заходил по мостику, то и дело останавливаясь, чтобы взглянуть на приближавшийся баркас. Наконец он взглянул в бинокль и хоть не видел спасенного, но по спокойно-веселому лицу офицера, сидевшего на руле, решил, что спасенный на баркасе.
И на сердитом лице капитана засветилась довольная улыбка.
Еще несколько минут — и баркас подошел к борту и вместе с людьми был поднят на клипер.
Вслед за офицером из баркаса стали выходить гребцы, красные, вспотевшие, с трудом переводившие дыхание от усталости. Поддерживаемый одним из гребцов, на палубу вышел и спасенный — маленький негр, лет десяти-одиннадцати, весь мокрый, в рваной рубашке, прикрывавшей небольшую часть его худого, истощенного, черного, отливавшего глянцем тела.
Он едва стоял на ногах и вздрагивал всем телом, глядя ввалившимися большими глазами с какою-то безумной радостью и в то же время недоумением, словно не веря своему спасению.
— Совсем полумертвого с мачты сняли! Едва привели в чувство бедного мальчишку, — докладывал капитану офицер, ездивший на баркасе.
— Скорей его в лазарет! — приказал капитан.
Мальчика тотчас же отнесли в лазарет, вытерли насухо, уложили в койку, покрыли одеялами, и доктор начал его отхаживать, вливая в рот ему по нескольку капель коньяку.
Он жадно глотал влагу и умоляюще глядел на доктора, показывая на рот.
А наверху ставили паруса, и минут через пять «Забияка» снова шел прежним курсом, и матросы снова принялись за прерванные работы.
— Арапчонка спасли! — раздавались со всех сторон веселые матросские голоса.
— И какой же он щуплый, братцы!
Некоторые бегали в лазарет узнавать, что с арапчонком.
— Доктор отхаживает. Небось выходит!
Через час марсовой Коршунов принес известие, что арапчонок спит крепким сном, после того как доктор дал ему несколько ложечек горячего супа.
— Нарочно для арапчонка, братцы, кок суп варил, вовсе, значит, пустой, безо всего, так, отвар быдто, — с оживлением продолжал Коршунов, довольный и тем, что ему, известному вралю, верят в данную минуту, и тем, что он на этот раз не врет, и тем, что его слушают.
И, словно бы желая воспользоваться таким исключительным для него положением, он торопливо продолжает:
— Фершал, братцы, сказывал, что этот самый арапчонок по-своему что-то лопотал, когда его кормили, просил, значит: дайте больше, мол, этого самого супу. И хотел даже вырвать у доктора чашку. Однако не допустили: значит, брат, сразу нельзя… Помрет, мол.
— Что ж арапчонок?
— Ничего, покорился.
В эту минуту к кадке с водой подошел капитанский вестовой Сойкин и закурил окурок капитанской сигары. Тотчас же общее внимание было обращено на вестового, и кто-то спросил:
— А не слышно, Сойкин, куда денут потом арапчонка?
Рыжеволосый, веснушчатый, франтоватый, в собственной тонкой матросской рубахе и в парусинных башмаках, Сойкин не без достоинства пыхнул дымком сигары и авторитетным тоном человека, имеющего кое-какие сведения, проговорил:
— Куда деть? Оставят на Надежном мысу, когда, значит, придем туда.
«Надежным мысом» он называл мыс Доброй Надежды.
И, помолчав с важным видом, не без пренебрежения прибавил:
— Да и что с им делать, с черномазой нехристью? Вовсе даже дикие люди.
— Дикие не дикие, а все божья тварь. Пожалеть надо! — промолвил старый плотник Захарыч.
Слова Захарыча, видимо, вызвали общее сочувствие среди кучки курильщиков.
— А как же арапчонок оттель к своему месту вернется? Тоже и у его, поди, отец с матерью есть! — заметил кто-то.
— На Надежном мысу всяких арапов много. Небось дознаются, откуда он, — ответил Сойкин и, докурив окурок, вышел из круга.
— Тоже вестовщина!.. Полагает о себе! — сердито пустил ему вслед старый плотник.
IV
На другой день мальчик-негр хотя и был очень слаб, но настолько оправился после нервного потрясения, что доктор, добродушный пожилой толстяк, радостно улыбаясь своей широкой улыбкой, потрепал ласково мальчика по щеке и дал ему целую чашку бульона, наблюдая, с какою жадностью глотал он жидкость и как потом благодарно взглянул своими большими черными выпуклыми глазами, зрачки которых блестели среди белков.
После этого доктор захотел узнать, как мальчик очутился в океане и сколько времени он голодал, но разговор с пациентом оказался решительно невозможным, несмотря даже на выразительные пантомимы доктора. Хотя маленький негр, по-видимому, был сильнее доктора в английском языке, но так же, как и почтенный доктор, безбожно коверкал несколько десятков английских слов, которые были в его распоряжении.
Они друг друга не понимали.
Тогда доктор послал фельдшера за юным мичманом, которого все в кают-компании звали Петенькой.
— Вы, Петенька, отлично говорите по-английски, поговорите-ка с ним, а у меня что-то не выходит! — смеясь, проговорил доктор. — Да скажите ему, что дня через три я его выпущу из лазарета! — прибавил доктор.
Юный мичман, присев около койки, начал свой допрос, стараясь говорить короткие фразы тихо и раздельно, и маленький негр, видимо, понимал если не все, о чем спрашивал мичман, то, во всяком случае, кое-что и спешил отвечать рядом слов, не заботясь об их связи, но зато подкрепляя их выразительными пантомимами.
После довольно продолжительного и трудного разговора с мальчиком-негром мичман рассказал в кают-компании более или менее верную в общих чертах историю мальчика, основанную на его ответах и мимических движениях.
Мальчик был на американском бриге «Бетси» и принадлежал капитану («большому мерзавцу», — вставил мичман), которому чистил платье, сапоги и подавал кофе с коньяком или коньяк с кофе. Капитан звал слугу своего «боем»[29], и мальчик уверен, что это его имя. Отца и матери он не знает. Капитан год тому назад купил маленького негра в Мозамбике и каждый день бил его. Бриг шел из Сенегала в Рио с грузом негров. Две ночи тому назад бриг сильно стукнуло другое судно (эту часть рассказа мичман основал на том, что маленький негр несколько раз проговорил: «Кра, кра, кра» — и затем слабо стукнул своим кулачком по стенке лазаретной каютки), и бриг пошел ко дну. Мальчик очутился в воде, привязался к обломку мачты и провел на ней почти двое суток…
Но несравненно красноречивее всяких слов, если бы такие и мог сказать мальчик о своей ужасной жизни, говорило и его удивление, что с ним ласково обращаются, и забитый его вид, и эти благодарные его взгляды загнанной собачонки, которыми он смотрел на доктора, фельдшера и на мичмана, и главное — его покрытая рубцами, блестящая черная худая спина с выдающимися ребрами.
Рассказ мичмана и показания доктора произвели сильное впечатление в кают-компании. Кто-то сказал, что необходимо поручить этого бедняжку покровительству русского консула в Каптоуне и сделать в пользу негра сбор в кают-компании.
Пожалуй, еще большее впечатление произвела история маленького негра на матросов, когда в тот же день под вечер молодой вестовой мичмана, Артемий Мухин, или, как все его звали, Артюшка, передавал на баке рассказ мичмана, причем не отказал себе в некотором злорадном удовольствии украсить рассказ некоторыми прибавлениями, свидетельствующими о том, какой был дьявол этот американец капитан.
— Каждый день, братцы, он мучил арапчонка. Чуть что, сейчас в зубы: раз, другой, третий, да в кровь, а затем снимет с крючка плетку, — а плетка, братцы, отчаянная, из самой толстой ремешки, — и давай лупцевать арапчонка! — говорил Артюшка, вдохновляясь собственной фантазией, вызванной желанием представить жизнь арапчонка в самом ужасном виде. — Не разбирал, анафема, что перед им безответный мальчонка, хоть и негра. У бедняги и посейчас вся спина исполосована. Доктор сказывал: страсть поглядеть! — добавил впечатлительный и увлекавшийся Артюшка.
Но матросы, сами бывшие крепостные и знавшие по собственному опыту, как еще в недавнее время полосовали им спины, и без Артюшкиных прикрас жалели арапчонка и посылали по адресу американского капитана самые недобрые пожелания, если только этого дьявола уж не сожрали акулы.
— Небось у нас уж объявили волю крестьянам, а у этих мериканцев, значит, крепостные есть? — спросил какой-то пожилой матрос.
— То-то, есть!
— Чудно́ что-то! Вольный народ, а поди ж ты-ы! — протянул пожилой матрос.
— У их арапы быдто вроде крепостных! — объяснял Артюшка, слыхавший кое-что об этом в кают-компании. — Из-за этого самого у их промеж себя и война идет[30]. Одни мериканцы, значит, хотят, чтобы все арапы, что живут у их, были вольные, а другие на это никак не согласны — это те, которые имеют крепостных арапов, — ну и жарят друг дружку, страсть!.. Только господа сказывали, что которые мериканцы за арапов стоят, те одолеют! Начисто разделают помещиков мериканских! — не без удовольствия прибавил Артюшка.
— Небось Господь им поможет! И арапу на воле жить хочется… И птица клетки не любит, а человек и подавно! — вставил плотник Захарыч.
Чернявый молодой матросик-первогодок, тот самый, который находил, что флотская служба очень «опасная», с напряженным вниманием слушал разговор и наконец спросил:
— Теперь, значит, Артюшка, этот самый арапчонок вольный будет?
— А ты думал как? Известно, вольный! — решительно проговорил Артюшка, хотя в душе и не вполне был уверен в свободе арапчонка, не имея решительно никаких понятий об американских законах насчет прав собственности.
Но его собственные соображения решительно говорили за свободу мальчика. «Чёрта-хозяина» нет, к рыбам в гости пошел, так какой тут разговор!
И он прибавил:
— Теперь арапчонку только новый пачпорт выправить на Надежном мысу. Получи пачпорт — и айда на все четыре стороны!
Эта комбинация с паспортом окончательно рассеяла его сомнения.
— То-то и есть! — радостно воскликнул чернявый матросик-первогодок.
И на его добродушном румяном лице с добрыми, как у щенка, глазами засветилась тихая светлая улыбка, выдававшая радость за маленького несчастного негра.
Короткие сумерки быстро сменились чу́дной, ласковой тропической ночью. Небо зажглось мириадами звезд, ярко мигающих с бархатной выси. Океан потемнел вдали, сияя фосфорическим блеском у бортов клипера и за кормой.
Скоро просвистали на молитву, и затем подвахтенные, взявши койки, улеглись спать на палубе.
А вахтенные матросы коротали вахту, притулившись у снастей, и лясничали вполголоса. В эту ночь во многих кучках говорили об арапчонке.
V
Через два дня доктор, по обыкновению, пришел в лазарет в семь часов утра и, обследовав своего единственного пациента, нашел, что он поправился, может встать, выйти наверх и есть матросскую пищу. Объявил он об этом маленькому негру больше знаками, которые были на этот раз быстро поняты поправившимся и повеселевшим мальчиком, казалось уже забывшим недавнюю близость смерти. Он быстро вскочил с койки, обнаруживая намерение идти наверх погреться на солнышке, в длинной матросской рубахе, которая сидела на нем в виде длинного мешка, но веселый смех доктора и хихиканье фельдшера при виде черненького человечка в таком костюме несколько смутили негра, и он стоял среди каюты, не зная, что ему предпринять, и не вполне понимая, к чему доктор дергает его рубаху, продолжая смеяться.
Тогда негр быстро ее снял и хотел было юркнуть в двери нагишом, но фельдшер удержал его за руку, а доктор, не переставая смеяться, повторял:
— No, no, no[31]…
И вслед за тем знаками приказал негру надеть свою рубашку-мешок.
— Во что бы одеть его, Филиппов? — озабоченно спрашивал доктор щеголеватого курчавого фельдшера, человека лет тридцати. — Об этом-то мы с тобой, братец, и не подумали.
— Точно так, вашескобродие, об этом мечтания не было. А ежели теперь обрезать ему, значит, рубаху примерно до колен, вашескобродие, да, с позволения сказать, перехватить талию ремнем, то будет даже довольно обоюдно, вашескобродие, — заключил фельдшер, имевший несчастную страсть употреблять некстати слова, когда он хотел выразиться покудрявее или, как матросы говорили, «позанозистее».
— То есть как «обоюдно»? — улыбнулся доктор.
— Да так-с, обоюдно… Кажется, всем известно, что обозначает «обоюдно», вашескобродие! — обиженно проговорил фельдшер. — Удобно и хорошо, значит.
— Едва ли это будет «обоюдно», как ты говоришь. Один смех будет, вот что, братец. А впрочем, надо же как-нибудь одеть мальчика, пока не попрошу у капитана разрешения сшить мальчику платье по мерке.
— Очень даже возможно хороший костюм сшить. На клипере есть матросы по портной части. Сошьют.
— Так устраивай свой обоюдный костюм!
Но в эту минуту в двери лазаретной каюты раздался осторожный, почтительный стук.
— Кто там? Входи! — крикнул доктор.
В дверях показалось сперва красноватое, несколько припухлое, неказистое лицо, обрамленное русыми баками, с подозрительного цвета носом и воспаленными, живыми и добрыми глазами, а вслед за тем и вся небольшая, сухощавая, довольно ладная и крепкая фигура фор-марсового Ивана Лучкина.
Это был пожилой матрос, лет сорока, прослуживший во флоте пятнадцать лет и бывший на клипере одним из лучших матросов — и отчаянных пьяниц, когда попадал на берег. Случалось, он на берегу пропивал все свое платье и являлся на клипер в одном белье, ожидая на следующее утро наказания с самым, казалось, беззаботным видом.
— Это я, вашескобродие, — проговорил Лучкин сиповатым голосом, переступая большими ступнями босых жилистых ног и теребя засмоленной шершавой рукой обтянутую штанину.
В другой руке у него был узелок.
Он глядел на доктора с тем застенчиво-виноватым выражением и в лице и в глазах, которое часто бывает у пьяниц и вообще у людей, знающих за собой порочные слабости.
— Что тебе, Лучкин? Заболел, что ли!
— Никак нет, вашескобродие, — я вот платье арапчонку принес. Думаю: голый, так сшил и мерку еще раньше снял. Дозвольте отдать, вашескобродие.
— Отдавай, братец. Очень рад! — говорил доктор, несколько изумленный. — Мы вот думали, во что бы одеть мальчика, а ты раньше нас подумал о нем.
— Способное время было, вашескобродие, — как бы извинялся Лучкин.
И с этими словами он вынул из ситцевого платка маленькую матросскую рубаху и такие же штаны, сшитые из холста, встряхнул их и, подавая ошалевшему мальчику, весело и уже совсем невиноватым тоном, каким говорил с доктором, сказал, ласково глядя на негра:
— Получай, Максимка! Одёжа самая, братец ты мой, вери гут[32]. Одевай да носи на здоровье, а я посмотрю, как сидит… Вали, Максимка!
— Отчего ты его Максимкой зовешь? — рассмеялся доктор.
— А как же, вашескобродие? Максимка и есть, потому как его в день святого угодника Максима спасли, он и выходит Максимка. Опять же имени у арапчонка нет, а надо же его как-нибудь звать.
Радости мальчика не было пределов, когда он облачился в новую, чистую пару. Видимо, такого платья он никогда не носил.
Лучкин осмотрел свое изделие со всех сторон, обдергал и пригладил рубаху и нашел, что платье во всем аккурате.
— Ну, теперь валим наверх, Максимка. Погрейся на солнышке! Дозвольте, вашескобродие.
Доктор, сияя добродушной улыбкой, кивнул головой, и матрос, взяв за руку негра, повел его на бак и, показывая его матросам, проговорил:
— Вот он и Максимка! Небось теперь забудет идола-мериканца, знает, что российские матросы его не забидят.
И он любовно трепал мальчика по плечу и, показывая на его курчавую голову, сказал:
— Ужо, брат, и шапку справим… И башмаки будут, дай срок!
Мальчик ничего не понимал, но чувствовал по всем этим загорелым лицам матросов, по их улыбкам, полным участия, что его не обидят.
И он весело скалил свои ослепительно белые зубы, нежась под горячими лучами родного ему южного солнца.
С этого дня все стали его звать Максимкой.
VI
Представив матросам на баке маленького, одетого по-матросски негра, Иван Лучкин тотчас же объявил, что будет «доглядывать» за Максимкой и что берет его под свое особое покровительство, считая, что это право принадлежит исключительно ему уж в силу того, что он «обрядил мальчонка» и дал ему, как он выразился, «форменное прозвище».
О том, что этот заморенный, худой маленький негр, испытавший на заре своей жизни столько горя у капитана-американца, возбудил необыкновенную жалость в сердце одинокого как перст матроса, жизнь которого, особенно прежде, тоже была не из сладких, и вызвал желание сделать для него возможно приятными дни пребывания на клипере, — о том Лучкин не проронил ни слова. По обыкновению русских простых людей, он стыдился перед другими обнаруживать свои чувства и, вероятно, поэтому объяснил матросам желание «доглядывать» за Максимкой исключительно тем, что «арапчонок занятный, вроде облизьяны, братцы».
Однако на всякий случай довольно решительно заявил, бросая внушительный взгляд на матроса Петрова, известного задиру, любившего обижать безответных и робких первогодков-матросов, — что если найдется такой, «прямо сказать, подлец», который забидит сироту, то будет иметь дело с ним, с Иваном Лучкиным.
— Небось искровяню морду в самом лучшем виде! — прибавил он, словно бы в пояснение того, что значит иметь с ним дело. — Забижать дите — самый большой грех. Какое ни на есть оно: хрещеное или арапское, а все дите… И ты его не забидь! — заключил Лучкин.
Все матросы охотно признали заявленные Лучкиным права на Максимку, хотя многие скептически отнеслись к рачительному исполнению принятой им добровольно на себя хлопотливой обязанности.
Где, мол, такому «отчаянному матросне» и забулдыге-пьянице возиться с арапчонком?
И кто-то из старых матросов не без насмешки спросил:
— Так ты, Лучкин, значит, вроде быдто няньки будешь у Максимки?
— То-то за няньку! — отвечал с добродушным смехом Лучкин, не обращая внимания на иронические усмешки и улыбки. — Нешто я в няньки не гожусь, братцы? Не к барчуку ведь! Тоже и этого черномазого надо обрядить. Другую смену одёжи сшить, да башмаки, да шапку справить. Дохтур исхлопочет, чтобы, значит, товар казенный выдали. Пущай Максимка добром вспомнит российских матросиков, как оставят его, беспризорного, на Надежном мысу. По крайности, не голый будет ходить.
— Да как же ты, Лучкин, будешь лопотать с этим самым арапчонком? Ни ты его, ни он тебя!..
— Небось договоримся! Еще как будем-то говорить! — с какой-то непостижимой уверенностью произнес Лучкин. — Он даром что арапского звания, а понятливый. Я его, братцы, скоро по-нашему выучу. Он поймет.
И Лучкин ласково взглянул на маленького негра, который, притулившись к борту, любопытно озирался вокруг.
И негр, перехватив этот полный любви и ласки взгляд матроса, тоже в ответ улыбался, оскаливая зубы, широкой благодарной улыбкой, понимая без слов, что этот матрос друг ему.
Когда в половине двенадцатого часа были окончены все утренние работы и вслед за тем вынесли на палубу ендову с водкой и оба боцмана и восемь унтер-офицеров, ставши в кружок, засвистали призыв к водке, который матросы не без остроумия называют «соловьиным пением», — Лучкин, радостно улыбаясь, показал мальчику на свой рот, проговорив: «Сиди тут, Максимка!» — и побежал на шканцы, оставив негра в некотором недоумении.
Недоумение его, впрочем, скоро разрешилось.
Острый запах водки, распространявшийся по всей палубе, и удовлетворенно-серьезные лица матросов, которые, возвращаясь со шканцев, утирали усы своими засмоленными шершавыми руками, напомнили маленькому негру о том, что и на «Бетси» раз в неделю матросам давали по стакану рома, и о том, что капитан пил его ежедневно и, как казалось мальчику, больше, чем бы следовало.
Лучкин, уже вернувшийся к Максимке и после большой чарки водки бывший в благодушном настроении, весело трепанул мальчика по спине и, видимо желая поделиться с ним приятными впечатлениями, проговорил:
— Бон[33] водка! Бери гут шнапс, Максимка, я тебе скажу.
Максимка сочувственно кивнул головой и промолвил:
— Вери гут!
Это быстрое понимание привело Лучкина в восхищение, и он воскликнул:
— Ай да молодца, Максимка! Все понимаешь… А теперь валим, мальчонка, обедать. Небось есть хочешь?
И матрос довольно наглядно задвигал скулами, открывая рот.
И это понять было нетрудно, особенно когда мальчик увидал, как снизу один за другим выходили матросы-артельщики, имея в руках изрядные деревянные баки (мисы) со щами, от которых шел вкусный пар, приятно щекотавший обоняние.
И маленький негр довольно красноречиво замахал головой, и глаза его блеснули радостью.
— Ишь ведь, все понимает! Башковатый! — промолвил Лучкин, начинавший уже несколько пристрастно относиться и к арапчонку, и к своему умению разговаривать с ним понятно, и, взяв Максимку за руку, повел его.
На палубе, прикрытой брезентами, уже расселись, поджав ноги, матросы небольшими артелями, человек по двенадцать, вокруг дымящихся баков со щами из кислой капусты, запасенной еще из Кронштадта, и молча и истово, как вообще едят простолюдины, хлебали варево, заедая его размоченными сухарями.
Осторожно ступая между обедающими, Лучкин подошел с Максимкой к своей артели, расположившейся между грот- и фок-мачтами, и проговорил, обращаясь к матросам, еще не начинавшим, в ожидании Лучкина, обедать:
— А что, братцы, примете в артель Максимку?
— Чего спрашиваешь зря? Садись с арапчонком! — проговорил старый плотник Захарыч.
— Может, другие которые… Сказывай, ребята! — снова спросил Лучкин.
Все в один голос отвечали, что пусть арапчонок будет в их артели, и потеснились, чтобы дать им обоим место.
И со всех сторон раздались шутливые голоса:
— Небось не объест твой Максимка!
— И всю солонину не съест!
— Ему и ложка припасена, твоему арапчонку.
— Да я, братцы, по той причине, что он негра… некрещеный, значит, — промолвил Лучкин, присевши к баку и усадивши около себя Максимку. — Но только я полагаю, что у Бога все равны. Всем хлебушка есть хочется.
— А то как же? Господь на земле всех терпит. Небось не разбирает. Это вот разве который дурак, как вестовщина Сойкин, мелет безо всякого рассудка об нехристях! — снова промолвил Захарыч.
Все, видимо, разделяли мнение Захарыча. Недаром же русские матросы с замечательной терпимостью относятся к людям всех рас и исповеданий, с какими приходится им встречаться.
Артель отнеслась к Максимке с полным радушием. Один дал ему деревянную ложку, другой придвинул размоченный сухарь, и все глядели ласково на затихшего мальчика, видимо не привыкшего к особенному вниманию со стороны людей белой кожи, и словно бы приглашали его этими взглядами не робеть.
— Однако и начинать пора, а то щи застынут! — заметил Захарыч.
Все перекрестились и начали хлебать щи.
— Ты что же не ешь, Максимка, а? Ешь, глупый! Шти, братец, скусные. Гут щи! — говорил Лучкин, показывая на ложку.
Но маленький негр, которого на бриге никогда не допускали есть вместе с белыми и который питался объедками один, где-нибудь в темном уголке, робел, хотя и жадными глазами посматривал на щи, глотая слюну.
— Эка пужливый какой! Видно, застращал арапчонка этот самый дьявол мериканец! — промолвил Захарыч, сидевший рядом с Максимкой.
И с этими словами старый плотник погладил курчавую голову Максимки и поднес к его рту свою ложку…
После этого Максимка перестал бояться и через несколько минут уже усердно уписывал и щи, и накрошенную потом солонину, и пшенную кашу с маслом.
А Лучкин то и дело его похваливал и повторял:
— Вот это бон, Максимка. Вери гут, братец ты мой. Кушай себе на здоровье!
VII
По всему клиперу раздается храп отдыхающих после обеда матросов. Только отделение вахтенных не спит, да кто-нибудь из хозяйственных матросов, воспользовавшись временем, тачает себе сапоги, шьет рубаху или чинит какую-нибудь принадлежность своего костюма.
А «Забияка» идет да идет себе с благодатным пассатом, и вахтенным решительно нечего делать, пока не набежит грозовое облачко и не заставит моряков на время убрать все паруса, чтобы встретить тропический шквал с проливным дождем готовыми, то есть с оголенными мачтами, представляя его ярости меньшую площадь сопротивления.
Но горизонт чист. Ни с одной стороны не видно этого маленького серенького пятнышка, которое, быстро вырастая, несется громадной тучей, застилающей горизонт и солнце. Страшный порыв валит судно набок, страшный ливень стучит по палубе, промачивает до костей, и шквал так же быстро проносится далее, как и появляется. Он нашумел, облил дождем и исчез.
И снова ослепительное солнце, лучи которого быстро сушат и палубу, и снасти, и паруса, и матросские рубахи, и снова безоблачное голубое небо и ласковый океан, по которому бежит, снова одевшись всеми парусами, судно, подгоняемое ровным пассатом.
Благодать кругом и теперь. Тишина и на клипере. Команда отдыхает, и в это время нельзя без особой крайности беспокоить матросов — такой давно установившийся обычай на судах.
Притулившись в тени у фок-мачты, не спит сегодня и Лучкин, к удивлению вахтенных, знавших, что Лучкин «здоров спать».
Мурлыкая себе под нос песенку, слов которой не разобрать, Лучкин кроил из куска парусины башмаки и по временам взглядывал на растянувшегося около него, сладко спавшего Максимку и на его ноги, чернеющиеся из-за белых штанин, словно бы соображая, правильна ли мерка, которую он снял с этих ног тотчас же после обеда.
По-видимому, наблюдения вполне успокаивают матроса, и он продолжает работу, не обращая больше внимания на маленькие черные ноги.
И что-то радостное и теплое охватывает душу этого бесшабашного пропойцы при мысли о том, что он сделает «на первый сорт» башмаки этому бедному, беспризорному мальчишке и справит ему все, что надо. Вслед за тем невольно проносится вся его матросская жизнь, воспоминание о которой представляет довольно однообразную картину бесшабашного пьянства и по́рок за пропитые казенные вещи.
И Лучкин не без основательности заключает, что не будь он отчаянным марсовым, бесстрашие которого приводило в восторг всех капитанов и старших офицеров, с которыми он служил, то давно бы ему быть в арестантских ротах.
— За службу жалели! — проговорил он вслух и почему-то вздохнул и прибавил: — То-то она и загвоздка!
К какому именно обстоятельству относилась эта «загвоздка»: к тому ли, что он отчаянно пьянствовал при съездах на берег и дальше ближайшего кабака ни в одном городе (кроме Кронштадта) не бывал, или к тому, что он был лихой марсовой и потому только не попробовал арестантских рот, — решить было трудно. Но несомненным было одно: вопрос о какой-то «загвоздке» в его жизни заставил Лучкина на несколько минут прервать мурлыканье, задуматься и в конце концов проговорить вслух:
— И хуфайку бы нужно Максимке… А то какой же человек без хуфайки?
В продолжение часа, полагавшегося на послеобеденный отдых команды, Лучкин успел скроить передки и приготовить подошвы для башмаков Максимки. Подошвы были новые, из казенного товара, приобретенные еще утром в долг у одного хозяйственного матроса, имевшего собственные сапоги, причем «для верности», по предложению самого Лучкина, знавшего, как трудно у него держатся деньги, в особенности на твердой земле, уплату долга должен был произвести боцман, удержав деньги из жалованья.
Когда раздался боцманский свисток и вслед за тем команда горластого боцмана Василия Егоровича, или Егорыча, как звали его матросы, Лучкин стал будить сладко спавшего Максимку. Он хоть и пассажир, а все же должен был, по мнению Лучкина, жить по-матросски, как следует по расписанию, во избежание каких-либо неприятностей, главным образом со стороны Егорыча. Егорыч хоть и был, по убеждению Лучкина, «добер» и дрался не зря, а с «большим рассудком», а все-таки под сердитую руку мог съездить по уху и арапчонка за «непорядок». Так уж лучше и арапчонка к порядку приучать.
— Вставай, Максимка! — говорил ласковым тоном матрос, потряхивая за плечо негра.
Тот потянулся, открыл глаза и поглядел вокруг. Увидав, что все матросы встают и Лучкин собирает свою работу, Максимка торопливо вскочил на ноги и, как покорная собачонка, смотрел в глаза Лучкина.
— Да ты не бойся, Максимка! Ишь глупый… Всего боится! А это, братец, тебе будут башмаки.
Хотя негр решительно не понимал, что говорил ему Лучкин, то показывая на его ноги, то на куски скроенной парусины, тем не менее улыбался во весь свой широкий рот, чувствуя, вероятно, что ему говорят что-нибудь хорошее. Доверчиво и послушно пошел он за поманившим его Лучкиным на кубрик и там любопытно смотрел, как матрос уложил в парусинный чемоданчик, наполненный бельем и платьем, свою работу, и снова ничего не понимал и только опять благодарно улыбался, когда Лучкин снял свою шапку и, показывая пальцем то на нее, то на голову маленького негра, тщетно старался объяснить и словами и знаками, что и у Максимки будет такая же шапка с белым чехлом и лентой.
Но зато негр чувствовал всем своим маленьким сердцем расположение этих белых людей, говоривших совсем не на том языке, на котором говорили белые люди на «Бетси», и особенно доброту этого матроса с красным носом, напоминавшим ему стручковый перец, и с волосами, похожими цветом на паклю, который подарил ему такое чу́дное платье, так хорошо угостил его вкусными яствами и так ласково смотрит на него, как никто не глядел на него во всю жизнь, кроме пары чьих-то больших черных навыкате глаз на женском чернокожем лице.
Эти глаза, добрые и нежные, жили в его памяти как далекое, смутное воспоминание, нераздельное с представлением шалашей, крытых бананами, и высоких пальм. Были ли это грезы или впечатления детства — он, конечно, не мог бы объяснить; но эти глаза, случалось, жалели его во сне. И теперь он увидал и наяву добрые, ласковые глаза.
Да и вообще эти дни пребывания на клипере казались ему теми хорошими грезами, которые являлись только во сне, — до того они непохожи были на недавние, полные страданий и постоянного страха.
Когда Лучкин, бросив объяснения насчет шапки, достал из чемоданчика кусок сахару и дал его Максимке, мальчик был окончательно подавлен. Он схватил мозолистую, шершавую руку матроса и стал ее робко и нежно гладить, заглядывая в лицо Лучкина с трогательным выражением благодарности забитого существа, согретого лаской. Эта благодарность светилась и в глазах, и в лице… Она слышалась и в дрогнувших гортанных звуках нескольких слов, порывисто и горячо произнесенных мальчиком на своем родном языке перед тем, как он засунул сахар в рот.
— Ишь ведь, ласковый! Видно, не знал доброго слова, горемычный! — промолвил матрос с величайшей нежностью, которую только мог выразить его сиповатый голос, и потрепал Максимку по щеке. — Ешь сахар-то. Скусный! — прибавил он.
И здесь, в этом темном уголке кубрика, после обмена признаний, закрепилась, так сказать, взаимная дружба матроса с маленьким негром. Оба, казалось, были вполне довольны друг другом.
— Беспременно надо выучить тебя, Максимка, по-нашему, а то и не разобрать, что ты лопочешь, черномазый! Однако валим наверх! Сейчас антиллеринское ученье. Поглядишь!
Они вышли наверх. Скоро барабанщик пробил артиллерийскую тревогу, и Максимка, прислонившись к мачте, чтоб не быть сбитым с ног, сперва испугался при виде бегущих стремглав к орудиям матросов, но потом скоро успокоился и восхищенными глазами смотрел, как матросы откатывали большие орудия, как быстро совали в них банники и, снова выдвигая орудия за борт, недвижно замирали около них. Мальчик ждал, что будут стрелять, и недоумевал, в кого это хотят стрелять, так как на горизонте не было ни одного судна.
А он уже был знаком с выстрелами и даже видел, как близко шлепнулась какая-то штука за кормой «Бетси», когда она, спустившись по ветру, удирала во все лопатки от какого-то трехмачтового судна, которое гналось за шхуной, наполненной грузом негров. Мальчик видел испуганные лица у всех на «Бетси» и слышал, как ругался капитан, пока трехмачтовое судно не стало значительно отставать. Он не знал, конечно, что это был один из военных английских крейсеров, назначенный для ловли негропромышленников, и тоже радовался, что шхуна убежала и таким образом его мучитель капитан не был пойман и не вздернут на нока-рее за позорную торговлю людьми[34].
Но выстрелов не было, и Максимка так их и не дождался. Зато с восхищением слушал барабанную дробь и не спускал глаз с Лучкина, который стоял у бакового орудия комендором и часто нагибался, чтобы прицеливаться.
Зрелище учения очень понравилось Максимке, но не менее понравился ему и чай, которым после учения угостил его Лучкин. Сперва Максимка только диву давался, глядя, как все матросы дуют горячую воду из кружек, закусывая сахаром и обливаясь по́том. Но когда Лучкин дал и ему кружку и сахару, Максимка вошел во вкус и выпил две кружки.
Что же касается первого урока русского языка, начатого Лучкиным в тот же день, перед вечером, когда начала спадать жара и когда, по словам матроса, было «легче войти в понятие», то начало его — признаться — не предвещало особенных успехов и вызывало немало-таки насмешек среди матросов при виде тщетных усилий Лучкина объяснить ученику, что его зовут Максимкой, а что учителя зовут Лучкиным.
Однако Лучкин хоть и не был никогда педагогом, тем не менее обнаружил такое терпение, такую выдержку и мягкость в стремлении во что бы то ни стало заложить, так сказать, первое основание обучения, каковым он считал знание имени, что им могли бы позавидовать патентованные педагоги, которым вдобавок едва ли приходилось преодолевать трудности, представившиеся матросу.
Придумывая более или менее остроумные способы для достижения заданной себе цели, Лучкин тотчас же приводил их в исполнение.
Он тыкал в грудь маленького негра и говорил: «Максимка», затем показывал на себя и говорил: «Лучкин». Проделав это несколько раз и не достигнув удовлетворительного результата, Лучкин отходил на несколько шагов и вскрикивал: «Максимка!» Мальчик скалил зубы, но не усваивал и этого метода. Тогда Лучкин придумал новую комбинацию. Он попросил одного матросика крикнуть: «Максимка!» — и когда матрос крикнул, Лучкин не без некоторого довольства человека, уверенного в успехе, указал пальцем на Максимку и даже для убедительности осторожно затем встряхнул его за шиворот. Увы! Максимка весело смеялся, но, очевидно, понял встряхивание за приглашение потанцевать, потому что тотчас же вскочил на ноги и стал отплясывать, к общему удовольствию собравшейся кучки матросов и самого Лучкина.
Когда танец был окончен, маленький негр отлично понял, что пляской его остались довольны, потому что многие матросы трепали его по плечу, и по спине, и по голове и говорили, весело смеясь:
— Гут, Максимка! Молодца, Максимка!
Трудно сказать, насколько бы увенчались успехом дальнейшие попытки Лучкина познакомить Максимку с его именем, — попытки, к которым Лучкин хотел было вновь приступить, — но появление на баке мичмана, говорящего по-английски, значительно упростило дело. Он объяснил мальчику, что он не «бой», а Максимка, и кстати сказал, что Максимкиного друга зовут Лучкин.
— Теперь, брат, он знает, как ты его прозвал! — проговорил, обращаясь к Лучкину, мичман.
— Премного благодарен, ваше благородие! — отвечал обрадованный Лучкин и прибавил: — А то я, ваше благородие, долго бился… Мальчонка башковатый, а никак не мог взять в толк, как его зовут.
— Теперь знает… Ну-ка, спроси.
— Максимка!
Маленький негр указал на себя.
— Вот так ловко, ваше благородие! Лучкин! — снова обратился матрос к мальчику.
Мальчик указал пальцем на матроса.
И оба они весело смеялись. Смеялись и матросы и замечали:
— Арапчонок в науку входит…
Дальнейший урок пошел как по маслу.
Лучкин указывал на разные предметы и называл их, причем при малейшей возможности исковеркать слово коверкал его, говоря вместо рубаха — «рубах», вместо мачта — «мачт», уверенный, что при таком изменении слов они более похожи на иностранные и легче могут быть усвоены Максимкой.
Когда просвистали ужинать, Максимка уже мог повторять за Лучкиным несколько русских слов.
— Ай да Лучкин! Живо обучил арапчонка. Того и гляди, до Надежного мыса понимать станет по-нашему! — говорили матросы.
— Еще как поймет-то! До Надежного ходу никак не меньше двадцати дён… А Максимка понятливый!
При слове «Максимка» мальчик взглянул на Лучкина.
— Ишь, твердо знает свою кличку!.. Садись, братец, ужинать будем!
Когда после молитвы раздали койки, Лучкин уложил Максимку около себя на палубе. Максимка, счастливый и благодарный, приятно потягивался на матросском тюфячке, с подушкой под головой, и под одеялом, — все это Лучкин исхлопотал у подшкипера, отпустившего арапчонку койку со всеми принадлежностями.
— Спи, спи, Максимка! Завтра рано вставать!
Но Максимка и без того уже засыпал, проговорив довольно недурно для первого урока: «Максимка» и «Лючики», как переделал он фамилию своего пестуна[35].
Матрос перекрестил маленького негра и скоро уже храпел во всю ивановскую.
С полуночи он стал на вахту и вместе с фор-марсовым Леонтьевым полез на фор-марс.
Там они присели, осмотрев предварительно, все ли в порядке, и стали «лясничать»[36], чтобы не одолевала дрема. Говорили о Кронштадте, вспоминали командиров… и смолкли.
Вдруг Лучкин спросил:
— И никогда ты, Леонтьев, этой самой водкой не занимался?
Тверезый, степенный и исправный Леонтьев, уважавший Лучкина как знающего фор-марсового, работавшего на ноке, и несколько презиравший в то же время его за пьянство, категорически ответил:
— Ни в жисть!
— Вовсе, значит, не касался?
— Разве когда стаканчик в праздник.
— То-то ты и чарки своей не пьешь, а деньги за чарки забираешь?
— Деньги-то, братец, нужнее… Вернемся в Россию, ежели выйдет отставка, при деньгах ты завсегда обернешься.
— Это что и говорить…
— Да ты к чему это, Лучкин, насчет водки?
— А к тому, что ты, Леонтьев, задачливый матрос…
Лучкин помолчал и затем опять спросил:
— Сказывают: заговорить можно от пьянства?
— Заговаривают люди, это верно. На «Кобчике» одного матроса заговорил унтерцер. Слово такое знал… И у нас есть такой человек…
— Кто?
— А плотник Захарыч. Только он в секрете держит. Не всякого уважит. А ты нешто хочешь бросить пьянство, Лучкин? — насмешливо промолвил Леонтьев.
— Бросить не бросить, а чтобы, значит, без пропо́ю вещей.
— Попробуй пить с рассудком.
— Пробовал. Ничего не выходит, братец ты мой. Как дорвусь до винища — и пропал. Такая моя линия!
— Рассудку в тебе нет настоящего, а не линия! — внушительно заметил Леонтьев. — Каждый человек должен себя понимать… А ты все-таки поговори с Захарычем. Может, и не откажет… Только вряд ли тебя заговорит! — прибавил насмешливо Леонтьев.
— То-то и я полагаю! Не заговорит! — вымолвил Лучкин и сам почему-то усмехнулся, точно довольный, что его не заговорить.
VIII
Прошло три недели, и хотя «Забияка» был недалеко от Каптоуна, но попасть в него не мог. Свежий противный ветер, дувший, как говорят моряки, прямо «в лоб» и по временам доходивший до степени шторма, не позволял клиперу приблизиться к берегу; при этом ветер и волнение были так сильны, что нечего было и думать пробовать идти под парами. Даром потратили бы уголь.
И в ожидании перемены погоды «Забияка» с зарифленными марселями держался недалеко от берегов, стремительно покачиваясь на океане.
Так прошло дней шесть-семь.
Наконец ветер стих. На «Забияке» развели пары, и скоро, попыхивая дымком из своей белой трубы, клипер направился к Каптоуну.
Нечего и говорить, как рады были этому моряки.
Но был один человек на клипере, который не только не радовался, а, напротив, по мере приближения «Забияки» к порту, становился задумчивее и угрюмее.
Это был Лучкин, ожидавший разлуки с Максимкой.
За этот месяц, в который Лучкин, против ожидания матросов, не переставал пестовать Максимку, он привязался к Максимке, да и маленький негр в свою очередь привязался к матросу. Они отлично понимали друг друга, так как и Лучкин проявил блистательные педагогические способности, и Максимка обнаружил достаточную понятливость и мог объясниться кое-как по-русски. Чем более они узнавали один другого, тем более дружили. Уж у Максимки были две смены платья, башмаки, шапка и матросский нож на ремешке. Он оказался смышленым и веселым мальчиком и давно уже сделался фаворитом всей команды. Даже и боцман Егорыч, вообще не терпевший никаких пассажиров на судне, как людей, ничего не делающих, относился весьма милостиво к Максимке, так как Максимка всегда во время работ тянул вместе с другими снасти и вообще старался чем-нибудь да помочь другим и, так сказать, не даром есть матросский паек. И по вантам взбегал, как обезьяна, и во время шторма не обнаруживал ни малейшей трусости, — одним словом, был во всех статьях «морской мальчонка».
Необыкновенно добродушный и ласковый, он нередко забавлял матросов своими танцами на баке и родными песнями, которые распевал звонким голосом. Все его за это баловали, а мичманский вестовой Артюшка нередко на́шивал ему остатки пирожного с кают-компанейского стола.
Нечего и прибавлять, что Максимка был предан Лучкину, как собачонка, всегда был при нем и, что называется, смотрел ему в глаза. И на марс к нему лазил, когда Лучкин бывал там во время вахты, и на носу с ним сидел на часах, и усердно старался выговаривать русские слова…
Уже обрывистые берега были хорошо видны. «Забияка» шел полным ходом. К обеду должны были стать на якорь в Каптоуне.
Невеселый был Лучкин в это славное солнечное утро и с каким-то особенным ожесточением чистил пушку. Около него стоял Максимка и тоже подсоблял ему.
— Скоро прощай, брат Максимка! — заговорил наконец Лучкин.
— Зачем прощай? — удивился Максимка.
— Оставят тебя на Надежном мысу. Куда тебя девать?..
Мальчик, не думавший о своей будущей судьбе и не совсем понимавший, что ему говорит Лучкин, тем не менее догадался по угрюмому выражению лица матроса, что сообщение его не из радостных, и подвижное лицо его, быстро отражавшее впечатления, внезапно омрачилось, и он сказал:
— Мой не понимай Лючика.
— Айда, брат, с клипера. На берегу оставят… Я уйду дальше, а Максимка здесь.
И Лучкин пантомимами старался пояснить, в чем дело.
По-видимому, маленький негр понял. Он ухватился за руку Лучкина и молящим голоском проговорил:
— Мой нет берег! Мой здесь! Максимка, Лючика, Лючика, Максимка! Мой люсска матлос… Да, да, да…
И тогда внезапная мысль озарила матроса. И он спросил:
— Хочешь, Максимка, русска матрос?
— Да, да, — повторял Максимка и изо всех сил кивал головой.
— То-то бы отлично! И как это мне раньше невдомек… Надо поговорить с ребятами и просить Егорыча. Он доложит старшему офицеру.
Через несколько минут Лучкин на баке говорил собравшимся матросам:
— Братцы! Максимка желает остаться с нами. Будем просить, чтобы дозволили ему остаться… Пусть плавает на «Забияке»! Как вы об этом полагаете, братцы?
Все матросы выразили живейшее одобрение этому предложению.
Вслед за тем Лучкин пошел к боцману и просил его доложить о просьбе команды старшему офицеру и прибавил:
— Уж ты, Егорыч, уважь, не откажи. И попроси старшего офицера. Максимка сам, мол, желает… А то куда же бросить бесприютного сироту на Надежном мысу. И вовсе он пропасть там может, Егорыч. Жаль мальчонку. Хороший он ведь, исправный мальчонка.
— Что ж, я доложу. Максимка — мальчишка аккуратный. Только как капитан… Согласится ли арапского звания негру оставить на российском корабле. Как бы не было в этом загвоздки.
— Никакой не будет загвоздки, Егорыч. Мы Максимку из арапского звания выведем.
— Как так?
— Окрестим в русскую веру, Егорыч, и будет он, значит, русского звания арап.
Эта мысль понравилась Егорычу, и он обещал немедленно доложить старшему офицеру.
Старший офицер выслушал доклад боцмана и заметил:
— Это, видно, Лучкин хлопочет?
— Вся команда тоже просит за арапчонка, ваше благородие. А то куда его бросить? Жалеют… А он бы у нас заместо юнги был, ваше благородие! Арапчонок исправный, осмелюсь доложить. И ежели его окрестить, вовсе душу, значит, можно спасти.
Старший офицер обещал доложить капитану.
К подъему флага вышел наверх капитан. Когда старший офицер передал ему просьбу команды, капитан сперва было отвечал отказом. Но, вспомнив, вероятно, своих детей, тотчас же переменил решение и сказал:
— Что ж, пусть остается. Сделаем его юнгой. А вернется в Кронштадт с нами… что-нибудь для него сделаем. В самом деле, за что его бросать, тем более что он сам этого не хочет!.. Да пусть Лучкин останется при нем дядькой. Пьяница отчаянный этот Лучкин, а подите… эта привязанность к мальчику… Мне доктор говорил, как он одел негра.
Когда на баке было получено разрешение оставить Максимку, все матросы чрезвычайно обрадовались. Но больше всех, конечно, радовались Лучкин и Максимка.
В час дня клипер бросил якорь на Каптоунском рейде, и на другой день первая вахта была отпущена на берег. Собрался ехать и Лучкин с Максимкой.
— А ты смотри, Лучкин, не пропей Максимку-то! — смеясь, заметил Егорыч.
Это замечание, видимо, очень кольнуло Лучкина, и он ответил:
— Может, из-за Максимки я и вовсе тверёзый вернусь!
Хотя Лучкин и вернулся с берега мертвецки пьяным, но, к общему удивлению, в полном одеянии. Как потом оказалось, случилось это благодаря Максимке, так как он, заметив, что его друг чересчур пьет, немедленно побежал в соседний кабак за русскими матросами, и они унесли Лучкина на пристань и положили в шлюпку, где около него безотлучно находился Максимка.
Лучкин едва вязал языком и все повторял:
— Где Максимка? Подайте мне Максимку… Я его, братцы, не пропил, Максимку… Он мне первый друг… Где Максимка?
И когда Максимка подошел к Лучкину, тот тотчас же успокоился и скоро заснул.
Через неделю «Забияка» ушел с мыса Доброй Надежды, и вскоре после выхода Максимка был не без торжественности окрещен и вторично назван Максимкой. Фамилию ему дали по имени клипера — Забиякин.
Через три года Максимка вернулся на «Забияке» в Кронштадт четырнадцатилетним подростком, умевшим отлично читать и писать по-русски благодаря мичману Петеньке, который занимался с ним.
Капитан позаботился о нем и определил его в школу фельдшерских учеников, а вышедший в отставку Лучкин остался в Кронштадте, чтобы быть около своего любимца, которому он отдал всю привязанность своего сердца и ради которого уже теперь не пропивал вещей, а пил «с рассудком».
Матросик
I
Двое суток русский военный клипер «Жемчуг» «штормовал», как говорят моряки.
Двое суток он выдерживал жестокий ураган в Индийском океане, вблизи западного берега Северной Африки, встретив врага со спущенными стеньгами, под несколькими штормовыми парусами, с наглухо задраенными люками и с протянутыми на верхней палубе леерами.
Положение было серьезное.
В те ужасные долгие часы, когда ураган напрягал все свои силы, с диким воем потрясая мачты и завывая в трепыхавшихся снастях, и когда громадные, высокие и пенящиеся волны с бешенством нападали на маленький клипер со всех сторон, вкатываясь верхушками на палубу, и кидали его, словно щепку, готовые его поглотить, — в такие часы, казавшиеся вечностью, смерть витала перед глазами моряков. Эти водяные горы казались неминуемой общей братской могилой. И сердца даже бывалых и мужественных людей замирали в предсмертной тоске, хотя лица их и были сурово-спокойны и напряженно-серьезны.
К вечеру вторых суток буря несколько затихла, и все на клипере радостно и благодарно вздохнули, понимая, казалось, с большой ясностью, от какой избавились опасности и как были близки к смерти.
Клипер, хорошо построенный, не особенно пострадал во время трепки. Течи в трюме прибавилось, но немного. В нескольких местах волны проломали борт; офицерский катер и капитанский вельбот были сорваны с боканцев в океан — вот и всего.
Несмотря на то что буря заметно стихала и «Жемчуг» был уже вне опасности, и капитан, и старший штурман, видимо чем-то озабоченные, оба с истомленными, осунувшимися серьезными лицами, не сходили с мостика, тревожно вглядываясь в мрак наступившей ночи.
Казалось, теперь можно было бы поставить достаточно парусов и нестись со свежим попутным ветром к югу, но капитан, небольшой сухощавый человек лет под сорок, довольно сурового вида, вместо того приказал на ночь поставить только зарифленные марселя, бизань и фор-стеньги-стаксель и держаться в крутой бейдевинд, чтобы клипер, так сказать, топтался на месте.
Такое решение принято было капитаном потому, что он не знал точно места, где находится в данное время «Жемчуг». В течение двух суток урагана солнце ни на минуту не показывалось, и, следовательно, нельзя было по высоте солнца определить широту и долготу места. Не видно было ни луны, ни звезд, по которым тоже возможно «определиться», как говорят моряки.
А между тем ураган мог отнести клипер к берегам Африки, берега же эти были негостеприимны. Много рифов и подводных мелей было около них, и «Жемчуг», избавившись от одной опасности, легко мог набежать на другую, едва ли не худшую.
И теперь ночь была черна. На подернутом облаками небе ни одной звездочки.
Среди этой тьмы клипер покачивался на волнах, все еще сердито разбивающихся о бока «Жемчуга», и вахтенный офицер, молодой мичман, то и дело вскрикивал часовым на баке:
— Вперед смотреть!
Нередко тоже раздавался его молодой, звонкий голос:
— На марса-фалах стоять!
На эти предупреждающие окрики и часовые на баке, и вахтенные матросы, стоящие у марса-фалов, тотчас же отвечали:
— Есть, смотрим! Есть, стоим!
— Все равно ничего не увидать в этой проклятой тьме! — сердито проворчал капитан себе под нос, ни к кому не обращаясь. И минуту спустя приказал вахтенному офицеру: — Велите разводить пары́!
— Есть!
Мичман послал рассыльного за старшим механиком и вслед за тем дернул ручку машинного телеграфа.
Капитан почти не спал двое суток, позволяя себе вздремнуть в своей каюте час-другой, во время которых на мостике капитана заменял старший офицер.
И теперь его жестоко клонило ко сну.
Но он простоял еще два часа, пока не были готовы пары, и только тогда решил сойти отдохнуть.
Перед уходом он тихо заметил старшему штурману, стоявшему у компаса:
— Береженого и Бог бережет, Степан Степаныч!
— Совершенно верно-с, Иван Семеныч! — подтвердил старший штурман.
— И если, не дай бог, нанесет нас на мель…
Старый штурман угрюмо сплюнул и сурово сказал:
— Зачем наносить!
— Так все же машина поможет. Не так ли, Степан Степаныч?
Судя по тону голоса капитана, ему очень хотелось слышать от старого, опытного, много плававшего штурмана подтверждение своих слов, которым он и сам едва ли очень верил.
Что, в самом деле, могла сделать машина, да еще не особенно сильная, при таком свежем ветре и громадном волнении?
— Конечно-с! — лаконически ответил старший штурман.
Но его лицо, слабо освещенное светом, падавшим от компаса, старое, угрюмо-спокойное лицо, густо поросшее седыми баками, по-видимому, нисколько не разделяло надежд капитана на действительность помощи машины.
И словно бы желая, в свою очередь, успокоить свою тайную тревогу и тревогу капитана, он прибавил:
— Положим, ураган жарил по направлению к берегу, но все же в начале урагана мы были в пятидесяти милях от берега и держались в бейдевинд… Вот, Бог даст, завтра определимся. А теперь вам выспаться следует, Иван Семеныч!
— То-то очень спать хочется. Пойду вздремнуть. — И, обращаясь к вахтенному офицеру, громко и властно сказал: — Хорошенько вперед смотреть! Как бы берега близко не было… Чуть что заметите, дайте знать!
— Есть! — ответил мичман.
Капитан ушел и, не раздеваясь, бросился, как был, в кожане поверх сюртука и в фуражке, на диван и мгновенно уснул.
II
Притулившись на баке у наветренного борта, кучка вахтенных матросов, одетых в кожаны, с зюйдвестками на головах, тихо лясничала.
Чей-то громкий и насмешливый голос говорил:
— Ну разве не дурак ты, Матросик?! Как есть дурак!
Тот, кого звали Матросиком, тихо засмеялся и простодушно ответил:
— Дурак, значит, и есть.
— Да как же не дурак! Сидел бы теперь у себя дома, в деревне, а заместо того взял да и за другого на службу пошел… И хоть бы за деньги, а то дарма! Небось ничего не дали?
— Такая причина была, — оправдывался Матросик.
— Нечего сказать, причина! Вовсе прост ты, вот и причина!
Тот, кого называли Матросиком, словно бы оправдываясь, проговорил:
— Этот самый парень, заместо которого я пошел, братцы, только что поженился и очень приверженный к земле был мужик… Коренной в семье. Без его разор был бы. И так, братцы вы мои, убивались по нем отец с матерью да супруга, значит, евойная, что жалость взяла. Мне, думаю, что? Одинокий сирота, живу в работниках… Ну, таким родом и явился я к барину и в ноги: дозвольте, мол, в некрута вместо Васьки Захарова! Барин даже очень был доволен… Вот она, братцы, какая причина! — закончил Матросик.
Он проговорил эти слова необыкновенно просто, словно бы и поступок его был самый простой и он не сознавал, сколько в нем было доброты и самоотвержения.
За эту бесконечную доброту и готовность помочь всякому на «Жемчуге» все матросы любили этого первогодка. Звали его не по фамилии — фамилия его была Кушкин, — а Матросиком вследствие того, что Кушкин однажды, вскоре после назначения его на «Жемчуг», на вопрос боцмана: «Кто ты такой?» — вместо того чтобы ответить: «Матрос второй статьи Илья Кушкин», простодушно ответил: «Матросик».
Так с тех пор на клипере его все прозвали Матросиком.
И в самом деле, прозвище это подходило к Кушкину.
Это был маленького роста, худощавый, почти смуглый молодой паренек лет двадцати двухтрех, с пригожим, жизнерадостным, добрым лицом, главным украшением которого были большие темные глаза, полные какой-то чарующей ласки и привета. Когда Матросик улыбался, широко раскрывая свой рот с красными сочными губами и показывая ослепительно белые зубы, то невольно улыбались и те, на кого он смотрел.
Вся его маленькая фигурка была ладная и необыкновенно располагающая. Ходил он всегда веселой и легкой походкой и любил одеваться аккуратно и опрятно. Даже его желтоватого цвета руки с тонкими, слегка искривленными пальцами не были пропитаны смолой и грязны, как у других матросов. Матросик, видимо, щеголял опрятностью.
Уроженец одной из северных губерний, Илья Кушкин еще с отрочества плавал по бурному Ладожскому озеру и, поступивши в матросы и затем назначенный в кругосветное плавание на «Жемчуг», скоро сделался хорошим и исправным матросом.
Когда Матросик окончил свой рассказ, кто-то из кучки спросил:
— Так тебе, Матросик, ничего и не дали за твою простоту?
— Предлагали, братцы. Пятичницу давали.
— А ты не взял?
— То-то не взял. Бедные мужики эти Захаровы… Как с их взять? Однако угощение принимал — страсть угощали, братцы! А молодая баба, Васькина жена, так та мне две рубахи ситцевые справила. «Вовек, — говорит, — не забуду, Илья, что ты моего мужика при мне оставил». Небось люди добро помнят! — прибавил Матросик.
С мостика то и дело раздавались окрики вахтенного офицера. То он командовал: «Вперед хорошенько смотреть!», то: «На марса-фалах стоять!»
Эти частые громкие окрики среди ночной тишины несколько раздражали матросов.
— И чего это мичман зря суетится да глотку дерет? — заметил кто-то.
— А может, не зря, — промолвил Матросик.
— Коли встречных судов боится, все равно не увидишь скоро. Слава богу, хоть штурма прикончилась, а все-таки нехорошая ночь! — раздался чей-то голос.
— То-то вахтенный и опасается, что ночь!.. И пары́ по той же причине… И ходу нам нет! — сказал Матросик.
— По какой причине?
— А по той самой, братцы, что неизвестно, в какие места нас буря занесла. Вот он и опаску имеет. В море, братцы, завсегда надо опаску иметь. Я хоть и по озеру ходил, а Бога приходилось-таки часто вспоминать! — проговорил Матросик.
С этими словами он повернул голову к океану и стал зорко всматриваться вперед, в кромешную тьму, окружавшую со всех сторон покачивавшийся на волнах клипер.
Смотрел Матросик минут пять-десять и вдруг крикнул неестественно громким голосом:
— Бурун под носом!
— Марса-фалы отдать!.. — тревожно скомандовал вахтенный мичман.
Марсели бесшумно упали, и в то же мгновение «Жемчуг» остановился, врезавшись в гряду, и беспомощно стал биться, словно птица, попавшая в силки.
III
Капитан мгновенно проснулся и через минуту был на мостике. Старший офицер и старший штурман были там же. Все офицеры и все матросы, наскоро одевшись, выскочили наверх.
Клипер било жестоко о камни, и машина, работавшая полным ходом, не могла его сдвинуть с места. Видно было, что «Жемчуг» засел плотно.
Все были в подавленном состоянии.
Ветер дул свежий, и волны кружились вокруг клипера. Кругом — кромешная тьма.
Прошло бесконечных десять минут, и снизу дали знать, что течь увеличивается. Пущены были в ход все помпы, но вода тем не менее все прибывала. Положение было критическое, и не было никакой возможности высвободиться из него. И помощи ожидать было не от кого.
Однако на всякий случай зарядили орудия, и через каждые пять минут раздавались выстрелы, разносившие по океану весть о бедствии.
Но никто этих выстрелов, казалось, не слыхал.
Верхняя и нижняя палубы осветились фонарями. Молчаливые и сосредоточенно-серьезные матросы торопливо вытаскивали снизу на палубу провизию, паруса, запасный рангоут, разные вещи. У денежного сундука, вынесенного из капитанской каюты, стоял часовой.
Несмотря на работу всех помп, клипер постепенно наполнялся водой через полученные пробоины от ударов о камни гряды, в которой он засел. О спасении клипера нечего было и думать, и потому по приказанию капитана принимались меры для спасения людей и для обеспечения их провизией.
Но ночью при громадном волнении спустить шлюпки и посадить на них людей было бы безумием. Приходилось ждать рассвета.
И в голове каждого моряка, несмотря на спокойные, по-видимому, голоса капитана и старшего офицера, отдававших приказания, проносилась ужасная мысль: «Не исчезнет ли „Жемчуг“ в волнах до рассвета?»
И многие тихо молились.
Наконец забрезжило, и из сотни человеческих грудей вырвался крик радости. Громкое «ура» разнеслось по океану, споря с ревом ветра и гулом бурунов.
Высокий, казалось отвесный, берег неясными контурами выделялся близко, совсем близко. Между ним и грядой, на которой бился «Жемчуг», было не более пятидесяти сажен.
Но радость быстро сменилась отчаянием. Ветер не стихал; волны с грозным ревом разбивались о берег. Буруны пенились вокруг «Жемчуга». Все понимали, что спасение на шлюпках невозможно.
И близкий берег казался недостижимым, а смерть — неминуемой.
Выстрелы о помощи раздавались по-прежнему, но не вселяли надежды, хотя и привлекли на берег кучку арабов, которых можно было рассмотреть в бинокли.
Но что они могли сделать? Как помочь?..
IV
Рассвело.
Утро было серое и печальное. Низкие темные тучи заволакивали небо. Ветер не стихал. Волны по-прежнему были громадны.
«Жемчуг» по временам трещал от ударов, но еще держался на воде.
Утренняя молитва, пропетая, по обыкновению, всей командой, звучала покорным отчаянием.
Бледный, казавшийся стариком капитан, не сомневавшийся почти, что жена и трое его детей, оставшихся в Кронштадте, сегодня сделаются сиротами, все-таки не показывал ни перед кем своего отчаяния и распоряжался, словно бы надеялся на спасение.
И он обошел палубу и говорил, ободряя матросов:
— Скоро ветер стихнет, и мы на шлюпках доберемся до берега. Не робей, молодцы ребята!
И «молодцы ребята» как будто верили — так им хотелось верить! — и отвечали:
— Рады стараться, вашескобродие!
Вернувшись на мостик, капитан сказал старшему офицеру:
— Если бы конец подать на берег и на этом конце укрепить канат!.. Это единственная возможность спасти людей. Но как подать? Шлюпку немедленно зальет. Ветер не стихает. Барометр падает.
— Разве вплавь, Иван Семеныч?
— Вплавь? Но кто решится? Это верная гибель. Если чудом и доплывет, то разобьется о камни. Весь берег ими усеян. Но, во всяком случае, надо попробовать. Арабы могут перехватить конец, и тогда мы спасены. Прикажите поставить людей во фронт. Я вызову охотников.
Когда люди выстроились, капитан подошел к фронту и, объяснив, в чем дело, крикнул:
— Есть ли охотники выручить всех нас, ребята? Если есть, выходи.
Никто не шелохнулся. Всякий с ужасом взглядывал на пенистые волны, гребешки которых вкатывались на палубу.
Только маленький чернявый Матросик вышел из фронта, решительно подошел к капитану и, застенчиво краснея, проговорил:
— Я желаю, вашескобродие!
— Ты, Матросик?! — удивленно воскликнул капитан, невольно оглядывая маленькую, тщедушную на вид фигурку Матросика.
— Точно так, вашескобродие.
— Куда тебе!.. Ты сейчас же утонешь!
— Не извольте беспокоиться, вашескобродие. Я к воде способен. Плаваю, вашескобродие!
— И хорошо?
— Порядочно, вашескобродие! — скромно ответил Матросик, бывший превосходным пловцом.
— Но ты знаешь, чем рискуешь?
— Точно так, вашескобродие!
— И все-таки желаешь?
— Буду стараться, вашескобродие! Как для людей не постараться! — просто прибавил он.
— Ты будешь нашим спасителем, если подашь конец… С Богом! От имени всех спасибо тебе, Матросик! — проговорил взволнованно капитан.
Матросик быстро разделся догола, надел пробковый пояс и обвязался концом.
Когда все было готово, он низко поклонился всем и дрогнувшим голосом произнес:
— Прощайте, братцы!
— Прощай, Матросик!
Все смотрели на него как на обреченного.
Он перекрестился широким крестом и бросился в волны.
V
Все бинокли и подзорные трубы были устремлены на бесстрашного пловца. Голова его в виде черной точки то показывалась на гребнях, то исчезала между волнами.
«Молодец! Хорошо плывет!» — говорил про себя капитан, не отрывая глаз от бинокля.
Действительно, Матросик плыл хорошо, подгоняемый попутной волной… Уже близко, несколько размахов — и он у берега… Арабы ему что-то кричат, указывая вправо от взятого им направления. Но он ничего не понимает, довольный и радостный, что сейчас доплывет, укрепит к берегу конец и люди будут спасены.
Но вдруг набежавшая волна с силой бросает Матросика, и он всей грудью ударяется о прибрежный острый камень.
Ужасная боль и слабость мгновенно охватывают его. К нему подбегают арабы, и он им указывает на конец уже потускневшими глазами.
Смерть Матросика была почти моментальной.
VI
Арабы вытащили труп Матросика на песок и стали вытягивать конец.
Через полчаса за одну из скал, правее, был прикреплен канат, и по этому канату стали переправляться с «Жемчуга» люди. К полудню ветер заметно стих, так что возможно было продолжать переправу при помощи каната на шлюпках.
Когда все переправились на пустынный берег, капитан, указывая на труп маленького чернявого Матросика, сказал:
— Вот кто пожертвовал собой, чтобы нас спасти, братцы!
И, обнажив голову, приложился к покойнику. Все крестились и отдавали последнее целование Матросику.
А в это время «Жемчуг» исчезал под волнами.
1898
Отплата
Рассказ старого матроса
I
— Изволите знать, вашескобродие?
С этими словами старый отставной матрос Кирюшкин, с которым мы ранним августовским утром сидели на пеньках у опушки леса, разбирая только что собранные грибы, указал обрубленным указательным пальцем правой руки на старенького-престаренького отставного адмирала, ковылявшего, опираясь на палку, по дороге из Кронштадтской колонии в деревню Венки.
— Видать видал; он в колонии на даче живет; а не знаю! — ответил я.
— Это — Никандра Петрович Быстров. Слыхали, конечно?
— Не слыхал.
— Про Никандру Петровича не слыхали, вашескобродие?! — изумленно спросил Кирюшкин.
— То-то не слыхал.
— Довольно-таки диковинно, что не слыхали. Сами изволили служить во флоте и не знаете Никандры Петровича!
И, словно бы недовольный, что я не знаю Никандра Петровича, старый матрос пожал плечами, отчего дыра на его неопределенного цвета ветхом легоньком пальтеце обозначилась яснее, и покачал головой, на которой была матросская фуражка, тоже давно потерявшая свой прежний черный цвет и сделавшаяся рыжеватой. Сбитая на затылок, она оставляла открытым морщинистый пожелтевший лоб и часть белой головы.
— Чем же замечателен ваш Никандр Петрович?
— Очень даже замечателен, если угодно знать. Всякий старый матрос хорошо его помнит. Теперь, конечно, ежели по чести разобрать, что в нем? Одни, с позволения сказать, завалящие кости да шкура. Высох Никандра Петрович, вроде будто египетской муми… Вылез вот на солнышко, словно ящер из-под камня, у смерти отсрочки просит… Ему ведь, вашескобродие, что и мне, к девятому десятку подходит, и давно нам с ним на том свете паек идет. Пожалуйте, мол, такие-сякие, на разделку. И ты, ваше присходительство Никандра Петрович! И ты, отставной матрос первой статьи, бродяжка и пьяница, Андрейка Кирюшкин!.. Вот теперь что… А прежде, этак лет сорок тому назад, Никандра Петрович на весь балтинский флот гремел…
— Чем же?
— Боем и шлифовкой. Первый по зверству капитан был! — не без некоторой торжественности произнес старик.
Признаюсь, я никак не ожидал, что речь будет о такого рода знаменитости. Удивило меня еще и то, что Кирюшкин, не жалевший обыкновенно довольно энергичных эпитетов при воспоминаниях о некоторых командирах, с которыми служил и которые далеко не гремели на весь флот, подобно Никандру Петровичу, говорил об этом последнем без порицания.
Напротив, в тоне старческого, разбитого голоса Кирюшкина звучали как бы почтение и любовь к человеку, даже прославившемуся боем и «шлифовкой».
— Ну, Дмитрич, немного же замечательного в Никандре Петровиче!
— То-то очень даже много, вашескобродие…
— В том, что шлифовал?..
— Вы прежде извольте дослушать, тогда и спорьте, вашескобродие… В том и диковина, что этот самый Никандра Петрович сделался совсем другим, самым жалостливым, можно сказать, командиром.
— Ну?! — недоверчиво протянул я.
— Ни — не ну, а на моих глазах все это было. Когда я с им на «Дромахе»[37] на конверте в дальнюю ходил.
— Как же это случилось?
— Один матросик его выправил.
— Выправил? Расскажите, Дмитрич. Это любопытно.
— Еще бы не любопытно… Бывает, значит, с людьми это самое! — раздумчиво промолвил старик матрос.
— Редко только, Дмитрич.
— Редко, а бывает. Человек, примерно, и бога забыл, и совесть забыл, а придет такой час, и вдруг вроде будто все по-новому обернулось… А я так полагаю, по своему рассудку, вашескобродие, что всякому человеку, самому последнему, дадена совесть… Только не всегда такой случай выйдет, что она проснется и зазрит человека. Как об этом в науках пишут, вашескобродие?
— Пишут, что трудное это дело — перемениться в известные годы…
— То-то трудное, а Никандра Петрович вовсе переменился, — дай бог ему легко смерть принять. Я по себе знаю, какое это трудное дело, примерно, от водки отстать. Прямо-таки нету сил моего карахтера. Помните, вашескобродие, еще когда мы с вами на «Коршуне» взаграницу ходили, я был, можно сказать, как есть отчаянный пьяница?
— Как не помнить…
— И если миловали меня за пропой казенных вещей, то потому, что командир «Коршуна» прямо-таки добреющий человек был и почитал во мне хорошего марсового… Небось был марсовым, вашескобродие! — не без удовлетворенного чувства вспомнил старик.
Действительно, Кирюшкин был лучшим матросом на «Коршуне», отличался необыкновенной смелостью и притом был на редкость добрый человек, общительного и веселого характера, пользующийся общей любовью команды. И если б не его слабость напиваться мертвецки на берегу, пропивая все, что на нем бывало, то, конечно, он на службе был бы унтер-офицером и не был бы под конец жизни бездомным пьянчужкой, с трудом зарабатывавшим в Кронштадте на свое пропитание… По зимам он ходил в факельщиках, а летом занимался грибами.
Это лето, когда мы встретились после тридцати лет, Кирюшкин гостил у меня на даче, поселившись в сарае для дров. Трезвый, он доставлял всем большое удовольствие своими рассказами и необыкновенно уживчивым и деликатным характером. Его все любили, и кухарка с особенным гостеприимством угащивала Дмитрича.
Когда же он собирался отправиться в «дальнюю», как называл он свои запои, то деликатно исчезал, объясняя, что ему нужно по делам в Кронштадт, и возвращался через неделю, а то и две, в невозможном костюме, вроде того, какой был на нем в это утро, и несколько сконфуженный, что пропил старые пиджак и штаны, подаренные ему мной.
— И давал я тогда, вашескобродие, зарок капитану за евойную доброту — не пить… и вышел перед ним подлецом. Лупцевали меня раньше за это самое — я еще пуще пьянствовал. Вышел в отставку, к докторам ходил… «Так, мол, и так… Выпользуйте от пьянства…» Отреклись. Дивились только, как это я — такой старик, а живу с пьяными нутренностями… А по какой такой причине я не имею сил карахтера? Вот тут-то и загвоздка! А фор-марсового Егорушкина помните, вашескобродие?
— Помню.
— Тоже был, можно сказать, во всей форме пьяница, а как вышел в отставку — в рот не берет. Случай такой вышел…
— Какой?..
— Баба, вашескобродие… Есть такие бабы, что вовсе умеют оболванить мущинов… Так Егорушкин, как вернулся из дальней, и встретился с такой… Замуж запросил… А она: «Брось, говорит, пить, пойду». А не то поворот «оверштаг»! Она вдовая матроска была и слышала, как к повороту командуют. Ну, и как есть оболванила. Бросил пить из-за этой самой бабы… А и баба, если на совесть сказать, прямо-таки жидкая вовсе была, вашескобродие! Глаза только одни… А вот поди ж ты! Такую власть взяла над Егорушкиным, что он пить перестал… А ведь пил-то как раньше! Значит, ему случай вышел такой, а мне не вышло… Так вот и с Никандрой Петровичем.
— Так вы расскажите, Дмитрич, про вашего Никандра Петровича.
— Сейчас. Дозвольте только цигарку сделать, вашескобродие.
— Папироску не хотите ли, Дмитрич?
— Не занимаюсь ими. Я по-старинному, махорку курю.
Кирюшкин достал из кармана тряпицу с крошеной махоркой и обрывок газетной бумаги. Свернув слегка дрожавшими от пьянства руками цигарку, он закурил ее и, с наслаждением затянувшись, проговорил:
— Нет табаку лучше махорки, вашескобродие. И кашлю ослабку дает, и мокроту гонит.
И, откашлявшись, начал.
II
— Был Никандра Петрович во всем своем форце, когда перед Крымской войной назначили его командиром «Дромахи». Конверт был только что отстроен и назначен в дальнюю, и Никандру Петровича изо всех других выбрали, как самого что ни на есть исправного капитана… Дока он был на флотской службе, это надо правду сказать… И отчаянности в нем было много… Как есть был форменный капитан… смелый… Во флоте знали его отчаянность, еще когда он бригом «Скорым» командовал. Бывало, на других судах два рифа у марселей возьмут, а он дует себе на бриге без рифов… Знал, когда, значит, до точки дойти, не утопивши себя и людей. Ну и матросы были у него, вроде будто чертей… Он их тоже довел до отчаянности, потому что пощады не давал. Чуть что… заминка какая… меньше ста линьков не назначал… Такая у него была плепорция… А насчет бою, так это не в счет… Чистил… Почитай, ни одного матроса у него не было, чтобы, послуживши у него, остался с целыми зубами. Самый форменный мордобой был… Вы-то, вашескобродие, этого мордобойства уж не застали, а я десять лет при таком положенье служил… Сами понимаете, отчего другой матрос до бесчувствия напивался… Теперь небось нет такого пьянства, как было… Потому — другое положенье… и люди другие.
Старик затянулся, сплюнул и продолжал:
— А было в те поры Никандре Петровичу лет около сорока… И был он из себя видный, плотный и глазастый… Румяный такой и блондинистый… И очень приверженный к женской команде… Не брезговал… была бы только баба товаристая, а звания ейного не разбирал. Женатым не был, а в ту пору у него жила будто горничной одна шельмоватая девка, из Петербурга привезенная… Шлющая такая… Аленкой звали… Бегала она на конверт, когда мы в гавани вооружались… Завтракать носила своему барину… Так вот, как назначили к нам этого самого Ястреба — его так матросики звали, — и мы поняли, какие такие настоящие ястребы бывают… Налетал, я вам доложу. Так налетал, что и обсказать невозможно… А как вышли в море, пошла настоящая шлифовка… Не дай бог и вспомнить… Тьфу!
И Кирюшкин сплюнул.
— А вестовой у него — из наших «дромахинских» матросов — одно слово, словно бы в потемнение рассудка от страха вошел… Чуял он беду, как только Ястреб его в вестовые выбрал… Мы с Тепляковым земляки были… «Плохо, говорит, мое дело, Андрейка. Ястреб недаром меня в вестовые выбрал. Изничтожит он меня, попомни, говорит, мое слово… Потому зол он на меня». — «Что ты, говорю, мелешь. За что ему быть злым на тебя. Он тебя вовсе и не знает!» — «То-то, говорит, знает», — и сам с лица побелел.
И повинился мне тогда Тепляков, что он к этой самой Аленке приверженность имел и тайком забегал к ей на кухню, когда ейного барина дома не было. И раз он их застал. Однако ни слова не сказал. Но с той поры Тепляков остерегался ходить… Аленка все-таки бегала к нему в казармы и с ним гуляла. И Никандра Петрович, должно быть, догадывался, но только все-таки Аленку держал… очень уж занозистая девка была… Огонь-девка… — «Я, говорит, и своего Ястреба люблю, и матросика люблю… На всех меня хватит…»
— Что ж, Ястреб мстил Теплякову, что ли? — спросил я.
— А бог его знает, что в его душе было, а только он беднягу вестового почти что каждый день без всякого милосердия тиранил — то боем, то поркой… К каждой малости придирался… За все на нем сердце срывал. И до такой отчаянности его довел, что сам, должно быть, испугался, как бы матрос чего в потемнении ума не сделал! И этак месяцев через пять отчислил его от вестовых. И взаправду, пора было… а то Тепляков беспременно прикончил бы Никандру Петровича… Он, положим, терпеливый был, но все-таки норовистый. Есть такие, вашескобродие. Терпит-терпит до данного ему предела, а потом на всякую отчаянность пойдет. И доходил уж Тепляков до предела. Сознался после мне, что недобрые мысли были… Большое зло он на Ястреба имел. И пропасть бы им обоим, если б в те поры не увольнил Никандра Петрович своего вестового и не взял другого. Вовсе ожесточил человека и в тоску ввел! Однако и покурить пора, вашескобродие.
— Этот самый Тепляков и «выправил» Никандра Петровича? — спросил я.
— А вот узнаете, вашескобродие. Заставили рассказывать, так слушайте! — ворчливо ответил Дмитрич, задетый в своем самолюбии рассказчика, привыкшего, чтоб его слушали. И вообще он, несмотря на свою горемычную жизнь и почти нищенское положение, умел сохранять свое достоинство.
Докурив свою цигарку, старик сказал:
— А хорошо на солнышке… Кости-то старые греет… Верно, и Никандра Петрович солнышку радуется. Он и не знает, что мы про него рассказываем, и, верно, забыл, что мне три зуба вышиб…
— Три?
— То-то три, и сразу. Рука у него была тяжелая…
— И наказывал вас линьками?..
— И очень даже довольно часто… За пропой казны… Ну, да бог с ним… Я зла на него не имею… Мало ли чего было… И дай ему бог на том свете покою… Потому — понял свою ожесточенность и людей стал жалеть… Беспременно явлюсь к нему… Я и не знал, что он тут на даче…
— Кажется, тут… Ну, так рассказывайте, Дмитрич.
И старик продолжал.
III
— Назначили Теплякова фор-марсовым — он и раньше на фор-марсе служил — и гребцом на капитанский вельбот… Видный и пригожий из себя был Тепляков, Никандра Петрович любил, чтобы гребцы, что на его катере, что на вельботе, были здоровые, молодые и видные… По крайности лестно… И вскорости Тепляков в себя пришел… Свет божий увидал, как из вестовых вышел. А уж старался как, чтобы, значит, не могло быть капитанской шлифовки!.. Бывало, и на рее работал вовсю, и у орудия за комендора был… Провористый такой во всяком деле… И повеселел…
— А разве Ястреб ваш отошел?..
— По-прежнему разделывал, но только все же Теплякову не так часто попадало, а вместе со всеми, ежели, примерно, капитан прикажет всех марсовых перепороть…
— А это случалось часто?
— Небось раз в неделю обязательно… Чуть на секунд, на другой паруса закрепили позже евойного положения или марселя сменили на минуту позже, уж он заметит — сам в руках склянку держал — и, как ученье окончит, зыкнет: «Фор-марсовых или грот-марсовых на бак!» Ну, а там известная разделка. Получи по сту. И по другим случаям попадало… И сам, бывало, смотрит, как наказывают… Вовсе легко в жестокость приходил. Потому — видит, что нет ему противности, он от этой самой жестокости и пьянеет… Никого не боится — ни бога, ни черта. Нынче вот, как препона есть, небось жестоких командиров что-то нет. Утихомирил их батюшка император Александр Второй… Суди, мол, виноватого, а жестоким не будь… Хорошо. Плавали мы таким родом шесть месяцев и кляли Ястреба… А он и ухом не вел, что матросы его не терпят… Небось понимал это… Пришли мы наконец и на Яву-остров, в Батавию… Изволите помнить, вашескобродие?.. Мы с вами и на «Коршуне» там были… Еще там арака такая пьяная… Только араку эту я и помню… какой такой город… Пришли, а капитан ту ж минуту айда в город и велел вельботу через два дня у пристани быть в десять часов утра. Он везде в портах любил съезжать и уж там, сказывали, денежкам глаза протирал… Любил форснуть, ну и мамзелей угостить, чтобы, значит, знали, какой есть командир российского конверта… Он по этой части себя соблюдал и, бывало, ежели к себе гостей взагранице звал, то уж небось угостит и напоит.
— А сам пил?
— В плепорцию.
— И наверху никогда пьяным не бывал?
— Не видал… Так разве в каюте когда по-благородному выпьет, а чтобы наверху пьяный, этого никто не видал. Он до этого не допускал себя… Однако за пьянство с матроса не взыскивал. Только вернись в свое время, а в каком виде пьянства, до этого не касался. И старшему офицеру приказывал не взыскивать. Только чтобы пропою казенных вещей не было, а ты хоть в мертвом виде будь… На то ты и матрос… Однако вы все перебиваете, вашескобродие. На чем я остановился?.. Я и запамятовал…
— Как в Батавию пришли и капитан съехал на берег, а вельботу приказал приехать за ним через два дня…
— Ну вот, тут скоро и конец будет… Уехал это Никандра Петрович, и на конверте, значит, отдышка… Рады все, что два дня без Ястреба… На третий день послали с восьми часов вельбот за ним, и вскорости после того засвежело… Здоровый ветер поднялся… Кои матросы льстились, что в такой ветер он не пойдет на вельботе, а побудет на берегу; но только я сумлевался… Отчаянность-то его понимал… и на парей с одним унтерцером пошел на стакан араки… По-моему и вышло. В одиннадцатом часу и видим: жарит он на вельботе да еще под парусами… Однако два рифа у грота взял. А ветер все сильней… Вельбот совсем на боку… близко уж был к конверту, как в один секунд вельбот перевернуло — и все в воде… Тую ж минуту вахтенный офицер крикнул катерным на катер, и мы наваливаемся, чтобы спасти людей… А изволите знать, вашескобродие, акульев там страсть, на рейде-то… Гребу это я, а сам думаю: Ястребу крышка… Плавать он вовсе не мастер был, а волна ходила здоровая… Подошли… Кои матросы за перевернутый вельбот держатся, а Тепляков плывет и Никандру Петровича за волосы держит… Всех забрали, все только в воде искупались… Только капитан был в бесчувствии… А Тепляков мокрый, красный и смотрит на этого самого Ястреба по-хорошему… доволен, значит, что спас человека… Пристали это мы к конверту, принесли капитана в каюту и вскорости его в чувство привели… Оттерли… А то воды он хлебнул порядочно. А я Теплякова допрашиваю: «Как, мол, ты, Антошка, и своего злодея спас?» — «Сперва не хотел, говорит. Вижу, откинуло его парусом от вельбота и тонет он, а я поближности… И как увидал он меня, то с такой, говорит, тоской посмотрел — понял, мол, что не ждать ему от меня помощи, — что в тую ж минуту жалость меня взяла, и я к нему… А он уж захлебнулся и под водой. Я за волосы и… тут катер подошел… и чувствую я, говорит, Андрейка, теперь легкость на душе. А не спаси я его… был бы вроде убивца…» Только что это он рассказал мне и переоделся, как зовут Теплякова к капитану… Этак минут через десять вернулся он в расстройке… «Ну, что он тебе говорил? — спрашиваю. — Благодарил?» Тепляков все в подробности и обсказал, как Никандра Петрович, увидавши его, смотрел во все глаза и спросил: «Ты… ты меня спас?» А Тепляков ему: «Точно так, вашескобродие!» — «Ты?» — опять спросил Никандра Петрович. А Тепляков снова: «Точно так, вашескобродие!..» И после того Ястреб заплакал и сто рублей предлагал. Однако Тепляков отказался. «Я, говорит, не за деньги спасал…» — «Так проси чего хочешь», — спрашивал он. А Тепляков ему и скажи: «Дозвольте, вашескобродие, слово сказать». — «Говори». — «Пожалейте, вашескобродие, матросов!..» С тем и ушел… Видно, сам господь его умудрил ко времени сказать это самое… Не побоялся! — промолвил умиленно Дмитрич.
— Ну и что же, после этого переменился капитан?
— Совсем другим человеком стал… Ни этого боя не было… ни шлифовки…
— И не было наказаний?..
— Как не было… были. Без взыска нельзя, но только наказывал не зря и редко… И ожесточенность прошла… Вот каким родом матросик выправил Никандру Петровича… Небось редко такие дела бывают, а все-таки бывают! Случай такой подошел… Вот только мне случая не было, вашескобродие, — неожиданно заключил Дмитрич.
Скоро мы встали и молча побрели домой.
На «Чайке»
I
На большом, хорошо прикрепленном к полу диване в капитанской каюте, освещенной висячей, раскачивавшейся лампой, спал, слегка похрапывая, Павел Львович Озерский, командир клипера «Чайка», пожилой, смуглый брюнет с черными, сильно заседевшими баками и усами.
Он спал одетый в короткий, старенький буршлат (пальто) с штаб-офицерскими погонами с двумя звездочками и в высоких сапогах, надетых поверх штанов и перевязанных выше колен ремешками.
Пальто на меху, дождевик, фуражка и зюйдвестка висели на переборке около дивана.
Капитан прилег часа три тому назад здесь, на диване, вместо того чтобы по-настоящему соснуть в спальной, и спал тем беспокойным сном, каким спят моряки во время бурь и непогод, готовый в случае надобности немедленно выскочить наверх.
Должно быть, капитану снился хороший сон, переносивший его в иную обстановку, к близким людям в далекой России, потому что его волосатое, обыкновенно суровое лицо улыбалось во сне и толстые губы по временам шептали чьи-то уменьшительные имена с необыкновенною нежностью.
Очевидно, он был во сне среди своей семьи, оставленной им два года тому назад в Кронштадте, в уютной квартире, где полы не качаются, где не слышен скрип переборок, где ничто не принайтовлено…
Он был теперь далеко от всего этого, хотя и упирался ногами в кромку дивана, чтобы не упасть на пол.
Качка была сильная. Корму так и дергало. Она то стремительно поднималась вверх, вздрагивая всеми своими членами, точно в судорогах, то низвергалась, и тогда пенившиеся верхушки волн сердито облизывали наглухо задраенные толстые иллюминаторы (окна) капитанской каюты и словно бы говорили, что всего несколько дюймов отделяют пловцов от верной смерти в бушующем море.
Сильный удар волны в бок кормового подзора приподнял корму боком. Она на весу вздрогнула порывистее. Каютные переборки заскрипели сильнее. В соседней буфетной что-то грохнуло.
И капитан мгновенно проснулся.
Проснулся и, вскочив с дивана, присел, упираясь ногами в ножку стола, и первое мгновение, казалось, был еще под чарами сновидения.
Но в следующую же секунду эти чары исчезли.
Небольшие и опухшие, с красными веками глаза уже тревожно сверкали резким металлическим блеском, словно у вспугнутого волка, почуявшего опасность.
И капитан, весь насторожившийся, прислушивался к доносившемуся сквозь закрытый люк глухому гулу ветра и свисту его в снастях.
Выражение напряженной тревоги исчезло с его бледного, истомленного лица с морщинами на высоком лбу.
Корма по-прежнему поднималась и опускалась с стремительной правильностью. Переборки скрипели с однообразной, раздражающей певучестью. В доносившемся сверху гуле не было ничего угрожающего.
«На руле зевнули, подлецы!» — решил капитан и достал из кармана теплого вязаного жилета часы.
— Третий час! — проговорил он и, казалось, еще более успокоился, так как с полуночи до четырех на вахте стоял лейтенант Адрианов, исправный, хороший офицер, на которого капитан полагался.
— Рябка! — крикнул во все горло капитан.
— Есть! — донесся из-за дверей громкий басок.
И вслед за тем в каюту вошел, балансируя на уходившем из-под ног полу, небольшого роста, коренастый вестовой с заспанным, пучеглазым и довольно продувным лицом, человек лет за тридцать, и остановился у стола, придерживаясь за него рукой, чтобы не упасть.
— Кипяток есть?
— В готовности, вашескобродие!
— Медведя!
— Есть, вашескобродие!
И вестовой хотел было уйти, выписывая ногами мыслете, чтобы готовить «медведя», до которого и сам был охотник, как капитан сказал:
— Двери открой. Жарко. Верно, жарил, пока я спал?
— И вовсе пронзительная погода, вашескобродие! Подложил маленько! — докладывал Рябка, указывая пальцем на маленькую железную, раскаленную докрасна печку, стоявшую недалеко от дверей.
— Скотина! Когда ты поумнеешь?
— Не могу знать, вашескобродие! — с напускною простоватостью отвечал Рябка.
— То-то… нажарил, дурак!.. А что у тебя там грохнуло, а? Опять что-нибудь разбито?
— А графин, вашескобродие, упал из гнезда! — проговорил виновато, моргая глазами, вестовой.
— Из гнезда?.. Я вот тебе гнездо на роже сделаю, если еще из гнезда что-нибудь упадет… Понял?
— Понял, вашескобродие!
— Ступай и живо медведя… Да поумней, смотри!
— Есть! — отвечал Рябкин.
И, благополучно выбравшись из каюты, шепнул себе под нос:
— Ты-то у меня очень умен, скажи пожалуйста! Только и есть ума, что ругаться!
Произнес он эти слова без злобы, а больше из зубоскальства. Рябка вот уже четвертый год как «околачивался», по его выражению, в вестовых и доволен был своим положением, находя, что вестовым быть куда лучше, чем строевым, «форменным», матросом. Трудное, полное опасности матросское дело не по душе было трусоватому Рябке. В вестовых куда покойнее. Ни трудной работы, ни лупцовки от боцманов, ни порки. Знай себе одного капитана. А к нему Рябка приспособился за четыре года и находил, что с таким капитаном еще жить можно, — такие ли еще бывают!
Этот хоть и ругатель, но дрался редко и не зря, по мнению Рябки, и за все четыре года только два раза приказал отодрать его линьками. Ругался он, правда, за всякую малость, а то и так, для своего удовольствия, но зато был, по оценке вестового, больше с виду сердитый и «прост», так как вовсе не замечал, что Рябка таскает и чай, и сахар, и папиросы, и вино, и при съезде на берег даже одевает капитанские сорочки.
«Небось у него всякого припасу много!» — утешал себя вестовой, когда по временам слишком бесцеремонно пользовался капитанским добром и предпочтительно вином.
Он, впрочем, не находил это предосудительным, хотя и считал капитана за доверчивость человеком небольшого ума. Разрешая себе эксплуатировать капитанскую простоту в пределах пользования разными припасами, Рябка никогда и не подумал стащить хотя бы мелкую монетку из капитанского кошелька, считая это форменным воровством.
Минут через пять Рябка уже нес, выделывая довольно хитрые акробатические движения, чтобы не упасть, стакан крепкого черного кофе, на треть разбавленного ромом. Свободная рука служила балансом. Донести благополучно стакан с жидкостью во время отчаянной качки, когда палуба уходила из-под ног, было нелегко.
— Не расплесни, каналья! — строго окрикнул капитан, имея в виду специальную цель: придать большую цепкость ногам вестового.
— Никак нет, вашескобродие! — отвечал вестовой, прижимая к груди обернутый в салфетку стакан и подаваясь всем корпусом вперед, чтобы сохранить равновесие.
Выждав момент, когда корма, опустившись, была на мгновение неподвижна, Рябка быстро сделал несколько шагов «в гору», сунул капитану в руку стакан и хотел было отойти, но в это время корма уже взлетела вверх, и Рябка растянулся, «клюнув носом» палубу.
Капитан пустил по адресу своего вестового одно из тех приветствий, которыми он обыкновенно дарил матросов и в минуты гнева, и в минуты доброго настроения и за художественность и разнообразие выдумки по этой части заслужил у матросов даже кличку «музыканта». Вслед за тем ловким движением руки, державшей и не в такую качку «медведя», он поднес стакан к усам и, отхлебнув треть, довольно крякнул и, усмехаясь, проговорил не без нотки презрения в своем сипловатом голосе:
— А еще матрос!..
И, выпив всего «медведя», капитан протянул вестовому стакан и проговорил:
— Убери, и пальто!
— Есть, вашескобродие!
— Да смотри не растянись опять, как пьяная баба… А еще матрос! — насмешливо повторил капитан.
— Всякий может баланец потерять на такой качке, вашескобродие! — не без досады промолвил Рябка, задетый за живое насмешкой капитана.
— Всякий?! Сучий ты подкидыш, вот кто!..
— Меня никто не подкидывал, вашескобродие! — осторожно возразил Рябка и, выделывая ногами мыслете, благополучно дошел до дверей и, поставив в буфетной стакан, вернулся, чтобы подать своему капитану пальто.
Это нелегкое дело было исполнено довольно удачно, и Рябка не без некоторого удовлетворения проговорил, подавая шарф:
— Зябко, вашескобродие.
Умело ступая своими цепкими морскими ногами, капитан подошел к барометру и, взглянув на него, вышел из каюты.
А Рябка направился в буфетную выпить стакан «медведя». Он одобрял этот напиток не менее, чем капитан, и находил его пользительным.
Выпивши стакан и благоразумно поборовши соблазн выпить другой, он улегся в своей крошечной каютке напротив буфетной и моментально захрапел.
II
Наверху действительно было зябко.
Резкий ледяной ветер, свидетельствующий о близости Ледовитого океана, то гудел, то стонал в рангоуте и снастях, надувая марселя в четыре рифа и зарифленный фок, под которыми «Чайка» неслась, раскачиваясь и вздрагивая, узлов по двенадцати, убегая в бакштаг от попутной волны.
Небо черно от нависших туч. Вокруг мрак и непрерывный гул бушующего моря.
Изредка лишь из-за мчавшихся клочковатых облаков вдруг выглядывала полная луна, освещая своим таинственным серебристым светом холмистое море, несущийся клипер с его мачтами, парусами и палубой и рассыпающиеся у носа алмазные брызги верхушек волн, вкатывающихся на бак, чтобы вылиться в море через шпигаты. И снова мрак ледяной осенней ночи в Охотском море, куда клипер попал из Сан-Франциско, посланный начальником эскадры для крейсерства.
Когда капитан поднялся на мостик, его сразу охватило леденящим холодом после тепла каюты.
Расставив широко ноги и держась за поручни, капитан стал всматриваться.
Луна в эту минуту выплыла из-за облака.
Капитан воспользовался ее появлением на несколько секунд и взглянул на паруса, на небо, на море.
Взглянул — и на его лице не отразилось беспокойства. Ветер не крепчал.
— Как ход, Александр Васильич?
Лейтенант Адрианов, молодой человек с пригожим, совсем закрасневшим от холода лицом, ответил:
— Десять с половиной узлов, Павел Львович!
— А у вас на руле зевают!.. Эй, Кошкин! — крикнул капитан, перегнувшись через поручни мостика.
— Есть! — отвечал чей-то голос внизу.
— Я тебе покажу, как на руле зевать! А еще старший рулевой…
И, по обыкновению, капитан уснастил свой окрик.
— А к девяти часам и берег должен открыться. Не так ли, Евграф Иваныч? — обратился капитан к маленькой фигурке, одетой в затасканное пальто на беличьем меху, в валенках, с нахлобученной на лоб фуражкой и с шерстяным шарфом, обмотанным вокруг шеи и захватывающим нижнюю часть морщинистого, сухонького лица.
— Должен бы открыться, Павел Львович!.. Но только сами знаете… Наблюдений сегодня не было… Точно не определились. А течение… черт его знает… в Охотском море! — проговорил несколько ворчливым томом Евграф Иванович, старший штурман на «Чайке».
— Но, во всяком случае, не может быть большой ошибки, Евграф Иваныч, а?.. И берег еще далеко.
— А лучше бы, мне кажется, привести к ветру, да и покачиваться в бейдевинд, вместо того чтобы дуть по десяти с половиною узлов. Береженого и бог бережет, Павел Львович.
— Ну и трусу праздновать нечего, Евграф Иваныч. Не может же нас подать течением на семьдесят миль за день.
— Я, Павел Львович, трусу не праздную. Не привык-с, как вам известно.
— Да вы не обижайтесь, Евграф Иваныч. Слава богу, знаем друг друга. Немало с вами плавали. А только жаль даром время терять.
— Если бы еще ночь была светлая, что-нибудь видно было… А то…
Облака закрыли недолгую гостью — луну. Внезапно наступившая тьма словно бы докончила слова Евграфа Ивановича.
И под впечатлением этой тьмы, окутавшей со всех сторон быстро несущуюся вперед «Чайку», тревожное настроение, какое бывает от ожидания чего-то неизвестного, жуткого и страшного, невольно охватило и капитана.
Он, казалось, теперь и сам сомневался, как и Евграф Иванович, и в его голове пролетела мысль о возможности налететь на берег. И от этой мысли у него замерло сердце.
— Да… ночь, чтоб ей!.. — сердито проговорил капитан.
— То-то и есть… преподлейшая ночь! — повторил и старый штурман.
И, понимая отлично душевное состояние капитана, прибавил:
— А до света еще далеко. В восемь часов, не раньше, станет светло!
— Да не каркайте, Евграф Иваныч.
— Наше штурманское дело уж такое, Павел Львович, — каркать! — засмеялся Евграф Иваныч.
— Ну ладно… Будь по-вашему. Еще час пробежим, а потом приведем к ветру. Будем ночь на месте валандаться из-за вашего карканья, Евграф Иваныч!.. Ну, а часок я сосну… А вы, Евграф Иваныч, зайдите погреться ко мне. У Рябки «медведь» должен быть! Стакашку глотните. Ишь ведь холод!
Капитан пустил приветствие холоду и отдал вахтенному лейтенанту приказание разбудить себя через час.
— В бейдевинд приведем через час.
— Есть!
— Это Евграф Иваныч накаркал! — сердито проговорил капитан. — Пошли, — прибавил он, спускаясь с мостика.
III
Они спустились вниз. Перед входом в каюту капитан заглянул в каютку вестового и крикнул:
— Рябка!
Тот вскочил на ноги и протирал сонные еще, бессмысленные глаза.
— Очнулся?
— Точно так, вашескобродие!
— По «медведю» нам. Остался?
— Никак нет. Самая ежели малость нестоящая, вашескобродие!
— Ой, Рябка! Зубы у тебя, видно, все целы, скотина! Зачем мало сварил кофе? Чтобы сию минуту был «медведь»!
— В один секунд! — проговорил вестовой и нырнул в буфетную.
— Присаживайтесь-ка, Евграф Иваныч. Он живо приготовит. Смышленая бестия!
Но Евграф Иванович прежде посмотрел на барометр.
— Поднимается! — баском протянул он и присел на стул около стола.
— И норд-вест, кажется, полегче стал. Штормягой не пахнет!
— И без того он вроде шторма.
— А главное — ледяной ветер…
Капитан повесил пальто и неожиданно воскликнул:
— И на кой дьявол адмирал турнул нас сюда. Стояли бы себе в Сан-Франциско… Славно там… не правда ли, Евграф Иваныч?
— Собственно, в каком смысле, Павел Львович?
— Во всяком смысле хорошо, Евграф Иваныч. И погода, и насчет провизии, и… ну, одним словом, настоящий порт!.. А то осматривай собачьи дыры в Охотском море.
— Видно, что так, Павел Львович. Вот, бог даст, завтра и Гижигу увидим. Трущобистый городок-с. Я был там двадцать лет тому назад, когда ходил на транспорте «Алеут».
— А из Гижиги в Камчатку… Бобров покупать! — засмеялся капитан.
— Ну, Петропавловск все же лучше Гижиги, Павел Львович.
— Такая же дыра… Рябка! Дьявол! — вдруг гаркнул капитан.
И Рябка уже показался в дверях, делая всевозможные акробатические усилия, чтобы сохранить равновесие.
— Не пролей, Рябка! Ой, смотри не пролей!
— Не сумлевайтесь, вашескобродие! — храбро отвечал вестовой, хотя душа его и была полна сомнений.
Вероятно, и Евграф Иванович, большой любитель «медведя», который, по его словам, был очень полезен для моряков, как предохранительное средство от всяких болезней, тоже сомневался относительно целости напитка, понимая затруднительное положение вестового, у которого, при изрядной качке, по стакану, обмотанному салфеткой, в каждой руке и ноги не вполне морские.
И старый штурман быстро поднялся со стула. Привыкший за тридцать пять лет службы, из которых по крайней мере пятнадцать провел в море, ходить во всякую качку, он направился к вестовому, благополучно принял от него два стакана, вызвав в Рябке благодарное чувство, благополучно донес их к столу и, передавая один из них капитану, промолвил:
— Так-то оно вернее будет!
И, с видимым наслаждением выцедив стакан, крякнул и с серьезным видом человека, понимающего то, что хвалит, заметил:
— Отличный «медведь», Павел Львович! И в меру разбавлен.
— Да. Эта каналья отлично его готовит! — одобрил и капитан, выпив свой стакан.
«Каналья» довольно улыбался от этого комплимента, стоя у дверей и находя, впрочем, что готовить хорошо «медведя» не особенно трудно — стоит только наполнять ромом никак не менее как полстакана.
— Повторим, Евграф Иваныч?
— Не повредит-с, Павел Львович! — осторожно выразил свое согласие штурман.
Они выпили еще по стакану.
Несколько отогревшийся Евграф Иванович поблагодарил за угощение и, пожелав капитану хорошо соснуть часок, ушел наверх, взглянув, разумеется, по дороге на барометр.
Поднявшись на мостик, он снова стал у компаса, тщетно стараясь что-нибудь увидать в свой большой бинокль в этом мраке бурной ночи.
— Хоть бы луна показалась! — воркнул он про себя.
Но луна не показывалась, а «Чайка» неслась среди окутывающей ее со всех сторон тьмы.
Капитан, бросившись на диван, как был в теплом пальто, тотчас же захрапел.
Но ненадолго…
Прошло не более четверти часа, как вдруг страшный удар подбросил его, заставив проснуться.
Он мгновенно вскочил с дивана и, внезапно побледневший, бросился вон из каюты.
«Чайка» не двигалась с места. Она со всего хода врезалась на мель.
— Свистать всех наверх! — раздался нервный, тревожный голос вахтенного офицера.
Но и без этого окрика все офицеры и матросы «Чайки» торопливо выбегали на палубу, полные ужаса и отчаяния.
IV
Капитан не потерялся в эти критические минуты.
Напротив!
Сознание опасности, которой подвергались вверенные ему люди и любимый им клипер, словно бы удесятерило его энергию, наэлектризовало мужество и изощрило находчивость.
Он взбежал на мостик, готовый или спасти клипер, или погибнуть, испробовав все средства, какие только были возможны.
И, в несколько мгновений оценивший положение «Чайки», беспомощно стоявшей на мели в бурную ночь, он уже наметил себе план действий.
С этой минуты ужас, охвативший его в момент пробуждения, уступил место жажде борьбы и надежде выйти из нее победителем.
Схвативши рупор из рук старшего офицера, выскочившего из своей каюты в одном сюртуке, чтобы распоряжаться авралом, капитан приставил рупор к губам и скомандовал:
— Паруса крепить, и молодцами, ребята! Марсовые, к вантам! По марсам! Бизань и фок на гитовы! Кливера долой!
Его громовой голос звучал властно, покойно и уверенно.
И эта властная уверенность, это крепкое словечко, которое он пустил рулевым, не дали панике охватить людские души, помутив рассудок. И матросы, закаленные строгой морской дисциплиной, без малейшего колебания исполнили команду капитана. Марсовые торопливо подымались в темноте по вантам, чтобы, стоя у реев, убрать марселя, а другие матросы внизу тянули снасти, подбиравшие нижние паруса и убиравшие кливера на носу «Чайки».
В ту же минуту капитан приказал позванному на мостик старшему механику немедленно разводить пары и прибавил с нервною дрожью в голосе:
— Но как можно скорей… Каждая минута…
Он не досказал и, приложив рупор, крикнул наверх во всю мочь своих крепких легких:
— По реям!
Старший механик стремглав бросился в машину и приказал зажигать топки. Машина быстро осветилась огнями ламп и фонарей. Вода уже была в котлах. Топки заряжены углем. Кочегары, взволнованные и бледные, торопливо зажигали уголь растопками и для скорости смачивали их керосином.
А капитан в эту минуту, наклонившись к уху старшего офицера, чтобы ветер не относил тех приказаний, которые он ему торопился отдавать, говорил вздрагивавшей от холода, приземистой, маленькой фигурке старшего офицера:
— Осмотрите трюмы. Нет ли где течи. Если есть, все помпы и пластыри на пробоины. Чтобы гребные суда готовы были к спуску. Унтер-офицеры с топорами у мачт. Приготовиться бросать орудия и другие тяжести за борт. Осветить палубы и наверх фонарей. Распорядитесь!
Капитан говорил быстро, отрывисто и нервно.
И когда отдал приказания, прибавил конфиденциально:
— Плотно врезались… Каков-то грунт!
— Плотно. А не прикажете палить о бедствии?
— Палите, но кто услышит в этой дыре!
Старший офицер ушел исполнять все капитанские распоряжения. Капитан искал глазами на мостике старшего штурмана.
Но его не было. С фонарем в руках он уже делал обмер глубины кругом всего клипера.
Паруса закреплены.
Время от времени клипер, приподнимаемый волнением, бьется о дно, и эти удары производят подавляющее впечатление.
Кажется, что вот-вот клипер треснет пополам.
Старший штурман поднялся на мостик и докладывает капитану, что у передней части клипера глубина двенадцать футов, а у кормы четырнадцать.
— Ну, слава богу… Не очень врезались. А каков грунт?
— Песок.
В сердце капитана надежда растет. И она становится еще больше, когда мичман, посланный старшим офицером, докладывает, что течи нигде нет.
Вдобавок и ветер начинает заметно стихать.
Тем не менее он еще был достаточно крепок, и волны, большие и яростные, со всех сторон нападали на «Чайку» и грозили ее залить. Они уже свободно перекатывались через бак, попадали и с кормы, и матросы крепко держались за протянутые по обеим сторонам судна леера (веревки), чтоб не быть смытыми волнами.
Грянул выстрел, возвещающий о бедствии… По прошествии минуты — другой, третий…
Матросы толпились у грот-мачты, посредине клипера. Слабый свет развешанных фонарей освещал их напряженные серьезные лица. При каждом ударе клипера о дно среди матросов проносился вздох.
И вдруг вкатилась волна, обдала толпу и унесла двух матросов в море.
Капитан это увидал и крикнул:
— Держись, ребята, крепче. Не зевай!
Матросы крестились. Гибель двух товарищей произвела на всех удручающее впечатление. Еще за минуту не терявшие надежды на спасение, многие теперь были полны отчаяния.
И кто-то сказал:
— Скоро всем помирать, братцы!
Проходивший мимо старший офицер, услышав эти слова, крикнул:
— Вот и глупости говоришь! Видно, что первогодок! К утру сойдем с мели. До утра недолго ждать.
Он проговорил эти слова уверенным тоном, хотя сам далеко не был уверен в том, что говорил. Но он понимал, что паника заразительна, и счел своим долгом подбодрить матросов.
И действительно подбодрил на минуту. В этот момент из-за клочковатой тучи выглянула луна. Красивая и холодная, она осветила бушующее море, покрытое седыми буграми, и сбившуюся толпу людей, и кучку офицеров, и капитана, и штурмана на мостике.
При лунном свете море казалось еще ужаснее и положение беспомощнее.
Капитан и старший штурман направили бинокли вперед, стараясь увидать берег. Но мгла заволакивала горизонт.
— Видите, Евграф Иваныч, что-нибудь? — спросил капитан.
— Ничего-с!
— Сигнальщик! Видишь берег?
— Никак нет, вашескородие… Одна мгла.
Капитан все еще медлил принимать решительные меры, надеясь сняться с мели, как только будут готовы пары, приказавши дать полный задний ход. Но ранее часа пары не могли быть подняты, а час — целая вечность в таком положении.
А волны продолжали вкатываться, и палуба была покрыта водою. Удары учащались. Клипер шлепался о дно, казалось, с большею силой.
Старший офицер поднялся на мостик и доложил капитану, что все исполнено.
— Да вы пальто бы надели, Николай Николаич! Простудитесь! Ишь ведь, собака погода!
— Надо надеть.
И он послал сигнальщика за пальто.
— Придется баковое орудие за борт! — сердито сказал капитан.
— Да… Иначе не сойдем! — промолвил старший офицер.
— И выбросить все, что можно… чтоб облегчить нос.
— Прикажете?
— Да. Выбрасывайте!..
И капитан крикнул в рупор:
— Баковое орудие за борт…
Боцман Никитич повторил команду и прокричал:
— Вали, ребята, орудия кидать!
Шлепая по воде, матросы побежали на бак, где стояла большая пушка, через которую ходили волны.
— Не подступиться к ей! — сказал кто-то.
— Так волной и смоет…
Тогда один из старых матросов крикнул:
— Не бойтесь, подступимся.
И, обратившись к старшему офицеру, сказал:
— Дозвольте, ваше благородие, обвязаться концом. Я на орудию аркан наброшу.
Мысль была хорошая. Матроса обвязали концом. Он накинул петлю и, отброшенный волной, был удержан веревкой, которую держали матросы.
V
Работа была нелегкая. Обдаваемые ледяными волнами и обвязанные концами, чтоб не быть сброшенными в море, матросы возились у орудия. Наконец толстые веревки, прикреплявшие пушку к палубе, были отрублены и пушка свалена за борт.
— Прощай, матушка! — крикнул ей вслед тот самый матрос, который первый накидывал на нее петлю.
В то же время другая часть матросов выносила снизу разные запасные вещи рангоута, такелажа, мешки с провизией, бочки с солониной, и все это бросалось за борт.
Мокрые до нитки, иззябшие матросы уходили с бака и жались около грот-мачты и у машинного люка. Но и там их обдавали брызги волн. А пары уже начинали гудеть, и в сердцах моряков пробудилась надежда.
Весь мокрый, старший офицер поднялся на мостик и, доложив капитану, что работы окончены, не без горделивого чувства прибавил:
— Молодцами работали матросики, Павел Львович!
— Не трусят? Паники нет?
— Нет… Сперва было немного. И то молодые матросы. Да и старикам впору струсить.
Николай Николаевич недаром пользовался уважением и любовью матросов, так как сам любил их и относился к ним с редкой по тогдашним временам гуманностью. Он очень редко прибегал к телесным наказаниям и редко дрался, и то только в минуту служебного гнева, «с пыла», как говорили матросы, и без жестокости.
И матросы, отлично понимавшие начальство, прощали своему старшему офицеру эти вспышки. Они уважали его как хорошего моряка и справедливого человека, а главное, чувствовали, что Николай Николаевич не чужой им и, понимая трудную их службу, бережет их, не изнуряя непосильными работами, не придираясь зря и не гнушаясь иногда поговорить с матросом, сказать ему ласковое слово, обмолвиться шуткой…
И зато как же они старались для своего старшего офицера, которого окрестили прозвищем «Ласкового» за то только, что он обращался с ними по-человечески.
— Да… положение из бамбуковых! — согласился капитан и крикнул в рупор:
— Молодцы, ребята!..
— Рады стараться! — крикнула сотня голосов.
— Скоро на вольной воде будем! — продолжал капитан. — Тогда обсушитесь и обогреетесь. И по чарке велю раздать за меня!
— Покорно благодарим! — раздались голоса.
— Это Ласковый за нас постарался! — заметил какой-то матрос.
— Беспременно он! — подтвердили со всех сторон.
Матросы капитана не особенно любили и все хорошее, что делалось для них на клипере, всегда приписывали старшему офицеру.
Прошли еще долгих четверть часа, и в это время налетевшая волна смыла капитанский катер, висевший поверх борта, и проломила часть борта.
VI
— Как время, Евграф Иваныч? — нетерпеливо спросил капитан. — За ветром не услышишь, как бьют склянки.
Старший штурман, словно бы закаменевший в неподвижной позе у компаса, расстегнул пальто, достал из кармана вязаного шерстяного жилета свой английский полухронометр и поднес его к освещенному компасу.
— Без пяти четыре! — проговорил он.
— А когда светает?
— В шесть.
— Верно, мы засели в Гижигинской губе?
— Не иначе… Там мелей нет!
И старый штурман показал рукой за корму и надел перчатку.
— А ветер стихает, Евграф Иваныч.
— Стихает. К утру совсем стихнет, я думаю.
— Волнение только подлое.
— Тут, на отмели, подлейшее, а там, в море, ничего.
— Хотел бы я быть там! — вырвался словно бы страстный вопль из груди капитана.
— Бог даст, будем, Павел Львович!
— Вы думаете?
— А то как же! — вымолвил старший штурман, понимавший, как жестоко было бы ответить иначе человеку в положении капитана.
— Скорей бы пары…
В эту самую минуту раздался звонок в машинном телеграфе на мостике.
Капитан приложил ухо к переговорной трубе и услыхал нетерпеливо ожидаемые два слова:
— Пары готовы!
— Полный ход назад! — крикнул он в переговорную трубку. — На руле не зевать! Все с бака долой! — командовал капитан.
И сердце его сильно забилось в ожидании: тронется клипер или нет.
Машина застучала. Из трубы вылетал дым и летели искры, быстро уносимые ветром.
Многие матросы крестились. Все замерли в ожидании. И снова показавшаяся луна бесстрастно смотрела на эту кучу людей, для которой решался вопрос жизни или смерти.
Спастись при таком волнении на шлюпках нечего было и думать. Да и близко ли был берег, этого никто не знал. Кругом клипера было одно бурное море со своим грозным воем.
Прошла минута, другая, третья.
Машина часто и громко отбивала такты. Винт буравил воду. Но «Чайка», словно бы прикованная, но желавшая освободиться от цепей, только вздрагивала, билась о грунт и не двигалась с места.
— Самый полный! — злобно крикнул капитан в машину.
— Есть! Самый полный! — отвечали из машины.
Клипер не двигался…
— Фок-мачту рубить! — бешеным голосом крикнул капитан.
Старший офицер бросился на бак…
Уже занесли топоры…
— Отставить!.. Не надо! — вдруг раздался крик, полный радости и счастья.
И такой же радостный крик вырвался у матросов и пронесся на палубе.
«Чайка» медленно и как бы с трудом отходила назад и через несколько минут пошла быстрее, очутившись на вольной воде.
Минут через десять хода капитан крикнул:
— Стоп, машина!
И когда клипер остановился, скомандовал:
— Из бухты вон! Отдай якорь!
Раздался звук якорной цепи, якорь грохнул в воду, и «Чайка» остановилась, повернувшись носом против ветра.
— До утра простоим! — весело говорил капитан старшему офицеру. — А теперь велите команде дать по чарке водки, и пусть люди просушатся и обогреются. Да попросите вахтенного офицера раньше восьми часов команду не будить… А я пойду спать! А вы, Евграф Иваныч, на минуту зайдите ко мне! — обратился капитан к штурману.
— Слушаю-с.
— А течи нет, Николай Николаевич?
— Нет…
— И отлично… Я спать пошел.
VII
— Эй, Рябка! «Медведя»! — крикнул капитан, входя в каюту. Но Рябка не откликался. — Дьявол… Рябка!
Он заглянул в каюту вестового. Тот крепко спал. Капитан разбудил вестового. Тот вскочил и протирал глаза.
— Спал?
— Спал, вашескобродие!
— И ничего не слыхал?
— Никак нет, вашескобродие!
Капитан засмеялся и, обращаясь к штурману, заметил:
— Верно, «медведя» хватил много!
— Надо думать!
— Хватил, Рябка?
— Самую малость, вашескобродие!
— Ну, а теперь изготовь нам, да побольше! И печку затопи! Присаживайтесь-ка, Евграф Иваныч.
Но старый штурман прежде посмотрел на барометр и тогда только присел и весело заметил:
— А барометр поднимается, Павел Львович!
Первогодок
(Очерк из былой морской жизни)
I
Когда на пятый день после ухода из Кронштадта корвета «Ястреб» в кругосветное плавание «засвежело», как говорят моряки, и корвет бросало, точно щепку, со стороны на сторону по волнам разбушевавшегося Немецкого моря, молодой матросик Егор Певцов струсил не на шутку.
Это было первое его знакомство с бурей на море, его морское крещение.
Певцов был в числе вахтенных и потому в это осеннее неприветное утро находился наверху, на палубе «Ястреба», который под зарифленными парусами, поднимаясь с волны на волну и раскачиваясь, несся с крепким попутным ветром, доходящим до степени шторма, верст по семнадцати в час.
На нем было сто семьдесят пять матросов, пятнадцать офицеров, священник и доктор.
Бледный как смерть, с помутившимся взглядом серых больших глаз, стоял матросик у грот-мачты, крепко вцепившись рукой в снасти, чтобы не упасть на качающейся палубе, которая словно бы уходила из-под его ног, еще не привычных сохранять равновесие во время качки, — и, полный страха, взглядывал на высокие заседевшие волны, бросавшиеся со всех сторон на «Ястреба» и с грозным гулом разбивающиеся одна о другую.
Далеко-далеко раскинулось бурное море, вздымаясь высокими холмами. Белоснежные гребни их пенились и, срываемые ветром, рассыпались жемчужною пылью.
Идет непрерываемый морской гул, сливающийся с воем ветра, который то стонет, то гудит, проносясь по мачтам, парусам и снастям и потрясая веревки. Небо покрыто низкими, черными, быстро несущимися облаками. Горизонт застлан мглою.
Мрачно, тоскливо и холодно кругом.
Щемящая тоска и на сердце матроса, впервые увидавшего бушующее море и в страхе преувеличивающего опасность. Оно чужое ему, страшное и постылое, и он думает, что нет постылей морской службы. То ли дело на сухом пути!
И, когда корвет в своих стремительных размахах ложится боком и верхушки волн вливаются через борт на палубу, молодой матрос в ужасе широко открывает глаза и весь замирает.
Ему кажется, что корвет не поднимется, что вот-вот эти свинцовые водяные горы, которые тут, так близко, в нескольких шагах, поглотят судно со всеми людьми, и нет спасения. Смерть неминуема, — она глядит, холодная и страшная, из этих холодных и страшных волн.
А жить так хочется, так страстно хочется. За что умирать?
И матросик шепчет побелевшими, вздрагивающими губами:
— Господи, спаси и помилуй! Господи, спаси и помилуй!
Но корвет уже поднялся одним боком и стремительно ложится другим.
И в эти мгновенные промежутки надежда закрадывается в потрясенную душу матроса.
II
Егор Певцов первогодок.
Всего только шесть месяцев тому назад, как его, неуклюжего, крепкого и приземистого, белобрысого двадцатиоднолетнего паренька, с большими добродушными серыми глазами, в числе других новобранцев привели в Кронштадт из глухой деревушки Вологодской губернии.
Он сделался матросом, никогда в жизни не видавши не только моря, но даже и озера. Видал он только маленькую речонку Выпь, протекавшую у деревни.
Его поместили в казарму, одели в матросскую форму, и на другой же день экипажный командир, осматривавший новобранцев, оглядев Певцова, проговорил, обращаясь к командиру роты, в которую был назначен Певцов:
— Из этой «деревни» хороший марсовой выйдет!
И затем спросил Певцова:
— Как зовут?
— Егором! — испуганно отвечал новобранец.
— Фамилия?
Матросик в недоумении моргал глазами.
— Прозвище как?
— Певцов…
— Вологодский?
— Вологодские будем.
— Ну, братец, служи хорошо!.. Будь молодцом… Все, смотри, будьте молодцами! — подбодрил экипажный командир новобранцев.
И вслед за тем прибавил суровым тоном:
— А не то…
Он не досказал и ушел.
Но все новобранцы поняли, в чем дело. Они уже слышали, когда шли в партии, что на службе спуска не дают.
Действительно, в те времена спуска не давали и матросов учили при помощи очень суровых наказаний.
После крестьянской жизни трудно было Певцову привыкать к казарме.
Он первое время находился в постоянном страхе и, что называется, лез из кожи вон, чтобы не навлечь на себя наказание. Но по тем временам это не всегда было возможно.
Унтер-офицер Захарыч, назначенный обучать новобранцев выправке и ружейным приемам, добродушный вне службы пожилой человек, не отличался большим терпением и, сам выученный далеко не ласково, находил, что без боя «никак невозможно обломать деревенщину» и, как он выражался, привести в «форменный рассудок».
И этот унтер-офицер нередко зверел во время учебы. Ему все казалось, что «деревня» необыкновенно упорна и не «обламывается» с тою скоростью, с какою бы ему хотелось: и грудь не выпячена, и молодцеватого вида нет… Одним словом, новобранцы — мужики мужиками. Пожалуй, и ротный за это не похвалит и велит «всыпать» учителю.
И глаза учителя наливались кровью; его красноватое лицо с багровым от пьянства носом перекашивалось, и он начинал «крошить».
Матросик покорно выдерживал удары озверевшего унтер-офицера и только бледнел и жмурил глаза. Но потом целый день был сам не свой. Полный тоски и обиды, забивался он куда-нибудь в угол и думал горькие думы о безвыходности своего положения.
Подобная муштровка происходила ежедневно. Несмотря на старания Певцова угодить своим усердием Захарычу, редкий день обходился без того, чтобы матросик не был избит.
А Захарыч вдобавок еще говорит:
— Это еще что!.. на сухой пути… А в море будет вам, подлецы, настоящая разделка!
Подтверждение этих слов о настоящей «разделке» в море молодой матрос не раз слышал в казарме из обычных разговоров, которыми коротали вечера матросы. Наслушался он о строгостях на судах, о разных командирах и старших офицерах, которые за всякую малость приказывали полировать спину, и о том, как тяжела и опасна матросская служба в море, и о том, какие бывают в море штормы и ураганы.
Отчаяние и страх закрадывались в сердце молодого матроса; и в голову его пришла мысль о побеге.
Мысль эта не покидала первогодка. Его манил к себе густой старый лес, который он так любил и куда, бывало, ходил стрелять рябчиков из своего скверного ружьишка. Его манили поля… манила деревня с черными покосившимися избушками.
Там все свое, родное, к чему он привык с детства… Здесь все чужое… и это море…
О, каким постылым показалось ему оно, когда он увидал его однажды со стенки Купеческой гавани в одно из воскресений, когда был отпущен из казарм погулять!
III
Жестокое наказание, которому при всей роте был подвергнут один «отчаянный» матрос, пропивший все казенные вещи, бывшие на нем, произвело потрясающее впечатление на Певцова.
После этого случая мысль о побеге не давала покоя матросику.
И ровно через месяц после того, как Певцов был приведен в Кронштадт и выучивался у Захарыча, он в одно из воскресений, отпущенный гулять, решился не возвращаться более в казармы.
Кронштадтский босяк, с которым познакомился Певцов на рынке и потом зашел с ним в кабак, уверил молодого матроса, что в Питере паспорт легко раздобыть, стоит только найти там Вяземскую лавру; а с паспортом живи где угодно.
Часу в десятом утра Певцов с заветным рублем в кармане, рублем, принесенным из деревни, шел по льду, через море, в Ораниенбаум.
Шел он не по дороге, а стороной от нее, чтобы не встретиться с кем-нибудь.
Уже Певцов был на половине дороги, порядочно прозябши в рваном армяке, который ему дал босяк в обмен на казенную шинель, как увидал, что навстречу ему идет матрос, лицо которого было почти закрыто башлыком.
Скоро они сблизились. И вдруг встречный остановился и крикнул:
— Егорка! стой!
Матросик так-таки и обомлел: перед ним стоял Захарыч.
Изумлен был и Захарыч.
— Положим, я выпивши… У кумы в Рамбове был. Но только по какой причине ты в таком виде? Обсказывай, Егорка!
— Не погуби, Захарыч!
— Я не душегуб, Егорка… Я совесть имею. Говори сей секунд, что это ты задумал… Никак бежать?
— Силушки моей не стало, Захарыч…
— В отчаянность пришел?..
— В отчаянность…
— Из-за чего?.. Из-за меня?.. — дрогнувшим голосом произнес Захарыч.
— Изо всего… И из-за тебя… Захарыч…
— А я не с сердцов, Егорка, — виновато сказал Захарыч. — Надо обламывать тебя… форменного матроса сделать… Мне и невдомек, что ты такой… обидчивый… А я вот что тебе скажу: не бегай, Егорка!.. Не бегай, дурья голова!.. Я тебе добром говорю… Никому не доложу, что встретил тебя… Иди, коли хочешь, с богом, но только пропадешь ты… Поймают тебя и скрозь строй… за бега… А слышал ты, как это скрозь строй гоняют?
— Слышал…
— То-то и есть… Не дай бог!
— Все равно пропадать… И теперь ежели вернуться, пропал я.
— Пропал?! Я тебе не дам пропасть… Ежели я тебя до такой отчаянности довел боем, что ты вон в армячишке рваном бежать решился, то я и вызволить тебя должен, Егорка… Небось не пропадешь… Совесть-то у меня есть… Валим в Рамбов!.. Там я тебя опять как следует одену, и будешь ты снова матрос… И ни одна душа не узнает.
Матросик не верил своим ушам. Захарыч, который мучил его, так ласково говорит, жалеет его.
И, тронутый этой лаской до глубины души, он мог только взволнованно проговорить:
— Захарыч… Спасибо!
— И чувствительный же ты парень, Егорка!.. Так валим, что ли? Ишь ведь, зазяб!
Они пошли вместе в Ораниенбаум и скоро были у кумы.
— Здорово, кума! Опять обернулся! Надо с тобой обмозговать одно дело!.. Только прежде поднеси шкалик парню. Зазяб больно. И мне по спопутности! — весело говорил Захарыч куме, не старой еще женщине, вдове боцмана.
После того как оба выпили по шкалику, Захарыч о чем-то зашептался с кумой, и она тотчас же куда-то исчезла.
Вскоре она вернулась с форменной матросской шинелью и фуражкой, и матросика обрядили.
— Ну, теперь айда домой, Егорка!.. Только прежде еще по шкалику… не так ли, кума? И провористая же баба моя кума, Егорка!..
Выпили еще и пошли в Кронштадт.
И, когда матросик вернулся в казарму, она была ему уж не так постыла.
На другой день все новобранцы, бывшие в учебе у Захарыча, заметили, что он не так уж зверствует, как раньше. Правда, ругань по-прежнему лилась непрерывно, и одного непонятливого он съездил по уху, но съездил легко и вообще дрался с рассудком.
А Певцова, старавшегося изо всех сил, даже похвалил и вечером позвал пить чай.
Когда месяца через три матросика назначили в кругосветное плавание и он затосковал, Захарыч, тоже назначенный на «Ястреб», старался утешить своего любимца и обещал сделать из него хорошего марсового.
— Главное дело, не бойся! Вначале будто боязно, когда тебя, примерно, на рее качает; а потом ничего… Видишь, что другие матросики не боятся, стараются… Чем же ты хуже их? Я, братец ты мой, десять лет был марсовым и, как послали меня в первый раз марсель крепить, тоже полагал, что тут мне и крышка. Либо в море упаду, либо башку размозжу о палубу. А вот, как видишь, цел вовсе.
— Сказывают, строгость большая на море, Захарыч?
— Как следует быть… Но только ежели ты сам держишь себя в строгости, то не за что тебя и драть как Сидорову козу, коли командир и старший офицер наказывают не зря или в беспамятстве ума, а по чести и с рассудком… Без взыску нельзя… Такая уж взыскательная флотская служба…
— А как наш командир и старший офицер? Очень строгие? — с жадным любопытством спросил молодой матрос.
— То-то нет… Тебе на первый раз посчастливилось, Егорка! И жалостливые и матросом не брезгуют… Понимают, что у матроса не барабанная шкура и задарма нет у них положения разделывать спину. Особенно капитан… Я с ним плавал одно лето… С большим понятием человек… С им не нудно служить…
— А старший офицер?..
— Ишь ведь пужливый ты… допытываешься! — добродушно усмехнулся Захарыч.
И, помолчав, продолжал:
— Матросы, кои служили с ним раньше, сказывали, что добер… Однако любит при случае по зубам пройтись. Да ты, Егорка, не сумлевайся насчет этого! — вставил Захарыч, заметив испуг на лице первогодка. — У его рука, сказывали, легкая! А порет по справедливости, если кто свиноватил. А чтобы понапрасну обескураживать человека — ни боже мой! Да чего бояться? Ты у меня исправный и старательный матросик. За что тебя драть? И вовсе не за что! Так-то, Егорка! Счастье твое, что попал ты на судно к такому доброму капитану!
Эти слова, а главное, тон их, ласковый и душевный, очень подбодрили молодого матроса.
IV
И первые дни плавания не показались ему страшными.
Несмотря на позднюю осень, погода стояла тихая, и в Финском заливе и в Балтийском море не было ни ветра, ни волнения. Стоял штиль, и корвет, не покачиваясь, шел себе под парами, попыхивая дымком из горластой трубы.
Первогодок был назначен во вторую вахту. Он должен был находиться на палубе, у грот-мачты, в числе «шканечных» и исполнять работы, требующие только мускульного труда, то есть тянуть, или, как говорят матросы, «трекать» снасти (веревки).
Наверх взбираться, на ванты, и крепить паруса его не посылали еще.
Привык он и к судовой жизни, к жизни по точному расписанию. Привык по свистку боцмана вскакивать в пять часов утра из своей койки, подвешенной вместе с другими в междупалубном пространстве, называемом «жилой палубой», скатывать койку, нести ее наверх и класть в бортовое гнездо, затем петь во фронте утреннюю молитву и после кашицы и чая приниматься за обычную уборку палубы: скоблить ее камнем, проходить шваброй, окачивать водой — словом, доводить до той «каторжной», как говорят матросы, чистоты, которою щеголяют военные суда.
После мытья палубы начиналась чистка орудий, бортов и всех медных вещей, находящихся на палубе: поручней, кнехтов, уток и т.п. Суконок и кирпича не жалели.
И во время этой «убирки», то есть до восьми часов утра, когда поднимался флаг и начинался судовой день, молодой матрос привык видеть небольшую, круглую фигуру старшего офицера, который носился по корвету, заглядывая то туда, то сюда, покрикивая своим тоненьким тенорком и иногда «смазывая» лица лодырей матросиков, которые вместо работы болтали.
Привык Егор и слушать, как заливается «соловей». Так называли матросы старого боцмана Зацепкина, который во время уборки почти не переставая «заливался», то есть ругался, выпуская такие затейливые словечки, которые вызывали нередко веселое настроение в матросиках. До того эти вариации были неожиданны и затейливы.
К восьми часам уборка кончалась, и начинался день.
Благодаря гуманному отношению командира и дни не казались тяжелыми Егору.
До одиннадцати часов утра он вместе с другими матросами занят был какой-нибудь нетрудной работой наверху. Ему поручали или плести мат, или скоблить шлюпку, или разбирать по сортам пеньку. Каждый был занят делом. И тогда слышно было, как на палубе за работой мурлыкались вполголоса песни.
А в одиннадцать уже шабашили, и в начале двенадцатого два боцмана и все унтер-офицеры становились в кружок и долгим свистом возвещали о раздаче водки. Выносилась на палубу большая ендова, и каждый, по вызову, подходил и пил чарку. Выпивал и молодой матросик и с аппетитом ел вкусные матросские щи, мясо из них и затем кашу. Кормили отлично в море, и Егор отъедался на хороших харчах.
После обеда, если Егор не стоял на вахте, он вместе с другими отдыхал, растянувшись в жилой палубе, пока в три часа свисток боцмана не будил спавших. От трех до четырех шло обучение грамоте, и Певцов с особенной охотой занимался с одним из молодых офицеров и слушал, когда этот же офицер читал матросам что-нибудь вслух.
После этих занятий было какое-нибудь ученье — парусное или артиллерийское, — но недолгое благодаря распоряжению капитана не изнурять людей, и без того устававших во время вахт. А на вахте приходилось стоять по шести часов.
С пяти часов работ уже не было, и в это время матросы обыкновенно собирались на баке, слушали хор песенников и вели между собой беседы. В шесть ужинали, и в восьмом часу уже свистали на молитву, а после молитвы отдавалось приказание брать койки.
И подвахтенные отправлялись спать и спали крепким сном наработавшихся за день людей до утра, если только среди ночи не раздавался в палубе тревожный свисток в дудку и вслед за тем зычный окрик боцмана:
— Пошел все наверх рифы брать!..
Такой окрик раздался в шестую ночь после выхода из Кронштадта, когда корвет вошел в неприветное Немецкое море, отличающееся неправильным и очень беспокойным волнением.
Егор проснулся, соскочил с койки и едва устоял на ногах — так сильно качало. Испуганный, он крестился и в первую минуту растерялся.
— Живо… живо! Копайся у меня! — раздался грозный окрик боцмана Зацепкина.
И его здоровая, широкоплечая фигура носилась в слабо освещенной несколькими фонарями жилой палубе, и палуба оглашалась руганью.
— Вали наверх, черти! Лётом, идолы!.. Не то подгоню!
Матросик торопливо надевал короткое пальто-буршлат и искал шапку.
Из открытого люка доносился шум ветра.
Матросы стремглав выбегали наверх, а Егор, не привыкший ходить по качающейся палубе и растерянный, замешкался.
В эту минуту сверху спустился бывший на вахте Захарыч и подошел к нему.
— Иди… иди… не бойся, Егорка! А то боцман тебя не похвалит!.. — проговорил Захарыч.
И Певцов, с трудом перебирая ногами, чтобы не упасть, вышел одним из последних на палубу, направляясь к своему месту, к грот-мачте.
Его охватил резкий, холодный ветер, и у бака обдало солеными брызгами.
То, что увидал он при слабом свете луны, наполнило его сердце страхом.
А между тем ничего особенно страшного еще не было. Ветер только еще начинал крепчать, разводя большое волнение, и корвет порядочно-таки качало. Море гудело, но рев его еще не был страшен.
— Марсовые, к вантам! По марсам! — раздался звонкий, крикливый тенорок старшего офицера.
Стоявший на палубе первогодок увидал, как полезли наверх матросы, как затем расползлись по реям и стали делать свое трудное матросское дело: брать рифы у марселей. Их маленькие черные перегнувшиеся фигуры раскачивались вместе с реями, и молодому матросу казалось, что вот-вот сию минуту кто-нибудь сорвется с реи и упадет в бушующее море или шлепнется на палубу.
И сердце его замирало, и вместе с тем он удивлялся смелости матросов.
Вместе с другими Егор «стрекал» снасть. И сосед его, тоже первогодок, пожаловался:
— С души рвет. Моченьки нет. А тебя, Егорка?
— Мутит.
— И, страсти какие… Господи!
— Не разговаривать! — сердито крикнул офицер, заведовавший грот-мачтой.
— Я тебе поговорю! — прошептал унтер-офицер, грозя кулаком.
Молодые матросы притихли.
Аврал продолжался долго.
Взяли четыре рифа у марселей, убрали нижние паруса, спустили стеньги, закрепили покрепче орудия.
И, когда корвет был готов встретить шторм, просвистали: «Подвахтенных вниз».
Егор спустился в душную палубу, забрался в койку и испуганно озирался.
— Спи, спи, деревня! — насмешливо кинул ему сосед по койке.
— Страшно…
— Это какое еще страшно!.. Это что еще… А вот что завтра бог даст!..
— А что завтра?..
Но сосед отвечал громким храпом.
Скоро заснул и Егор.
Когда с восьми часов он вступил на вахту, буря уже разыгралась, и первогодок был в ужасе.
V
Он все еще цепенел от страха во время размахов корвета, но страх понемногу ослабевал, и нервы его словно бы притупились. Но, главное, он видел, что старые матросы хоть и были сосредоточены и серьезны, но никакого страха на их лицах не было.
И капитан, и старший офицер, и старший штурман, и молодой вахтенный мичман, тот самый мичман, который учил Егора грамоте, — все они, по-видимому, спокойно стояли на мостике, уцепившись за поручни и взглядывая вперед.
А боцман Зацепкин, находившийся на баке, кого-то ругал с такой же беззаботностью, с какою он это делал и в самую тихую погоду.
Все это действовало успокаивающим образом на смятенную душу матроса.
И как раз в эту минуту подошел к нему Захарыч.
— Ну что, брат Егорка? — участливо спросил он.
— Страшно, Захарыч! — виновато отвечал матросик.
— Еще бы не страшно! И всякому страшно, ежели он в первый раз штурму видит… Но только страху настоящего не должно быть, братец ты мой, потому судно наше крепкое… Что ему сделается?.. Знай себе покачивайся… И я тоже, как первогодком был да увидал бурю, так небо мне с овчинку показалось… Гляди… капитан наверху. Он башковатый. Он, не бойсь, и не в такую бурю управлялся… А с этим штурмом управится шутя… Он дока по своему делу!..
И матросик после этих успокоительных слов уж без прежнего страха глядел на высокие волны, грозившие, казалось, залить корвет.
А положение между тем было серьезное, и Захарыч это отлично понимал, но не хотел смущать своего любимца.
VI
Шторм усиливался.
Лицо капитана, по наружности спокойное, становилось все напряженнее и серьезнее по мере того, как волны все чаще и чаще стали перекатываться через палубу.
К полудню шторм достиг высшей степени своего напряжения. Нос корвета начинал зарываться в воде.
Капитан побледнел и тихо отдал приказание старшему офицеру приготовить топоры, чтобы рубить мачты для облегчения судна.
И старший офицер так же тихо и спокойно отдал это приказание унтер-офицерам.
И несколько человек стали у мачт, готовые по команде рубить их.
А Егор именно теперь, во время такой серьезной опасности, и не подозревал, что смерть близка, и надежда не покидала его.
Корвет метался среди волн и плохо слушался руля. Нос тяжело поднимался и чаще зарывался в воду.
— Руби фок-мачту! — раздался в рупор голос капитана.
Раздался стук топоров, и скоро фок-мачта упала за борт.
Нос облегчился, и волны перестали заливать корвет. Егор, не понимавший, в чем дело, увидал только, что лицо капитана просветлело. И лица старых матросов оживились. Многие крестились.
— И молодца же наш капитан, — сказал Егору, снова подходя к нему, Захарыч. — Вызволил!
— А разве опасно было?
— Еще как!.. Потопнуть могли… Штурма форменная!..
Егор ахнул, понявши, от какой он избавился опасности, и спросил:
— А теперь?..
— Теперь… Теперь слава богу!.. Да и штурма затихает.
Действительно, после полудня шторм стал утихать, и к вечеру корвет шел под парами, направляясь к Копенгагену.
— А зачем ты, Захарыч, не сказал мне тогда всей правды про бурю? — спрашивал в тот же вечер Егор Захарыча в жилой палубе.
— Зачем?.. А не хотел пугать тебя, Егорка… По крайности ты раньше не мучился бы страхом, если б, сохрани бог… Жалко мне тебя было, Егорка… вот зачем… А теперь ты сам знаешь, какие бури бывают… И после того, как видел настоящую штурму, станешь форменным матросиком, как и другие… Правильно я говорю?..
— Спасибо, Захарыч!.. Добрый ты!.. Век тебя не забуду! — дрогнувшим голосом отвечал молодой матросик.
Диковинный матросик
I
Среди тишины чудной тропической ночи колокол пробил четыре удара. Был час ночи, и до смены вахтенных было еще далеко. А спать так хотелось.
Тогда грот-марсовой старшина Аришкин, — степенный, пожилой человек, пользовавшийся на клипере «Голубчик» репутацией самого «башковатого» матроса, который в книжке мог читать и умел огорошивать «занозистыми» словечками даже такого ученого человека, как фельдшер, проговорил, обратившись к кучке дремавших у грот-мачты матросов:
— Не спи, братцы. А то как бы вахтенный не разбудил по-своему… Небось зубы начистит.
«Братцы» встрепенулись, услышавши мудрые слова, так как знали, что вахтенный лейтенант любил подкрасться, ровно кошка, и разбудить действительно «по-своему» заснувшего матроса.
Но ночь, волшебная тропическая ночь, тоже расточала свои сонные чары «по-своему», и не прошло и пяти минут после предостережения Аришкина, как уже среди кучки раздались подхрапывания.
— Ну уж и здоровы спать, идолы! — воркнул Аришкин и, наклонившись к спящим, проговорил: — Кошка идет!
Все моментально вскочили. «Кошкой» звали вахтенного лейтенанта Пыжикова, находившего, что «распускать» матросов не следует.
Аришкин засмеялся.
— Небось проснулись?.. Садись… я вам лучше что-нибудь расскажу… По крайности сон разгонит.
— То-то расскажи, Никоныч… уважь… А то как бы взаправду не подкралась Кошка, — заметил один из марсовых.
— Как не уважить вас, дрыхалов, уважу! — ласково промолвил Аришкин.
И плотней усевшись на бухту, откашлялся и начал вполголоса и слегка нараспев следующий рассказ.
II
— Тоже вот был у нас на клипере, на «Грозящем», когда мы на нем три года тому назад ходили в дальнюю, матросик один, Васька Пернатый прозывался. Отцы его, говорил, птицеловы были, и было им прозвище «Пернатые»… Так довольно даже редкий и диковинный матрос был, братцы вы мои. Такого никогда на флоте я не видывал. Человек, прямо сказать, с понятием и по матросской части знал, хорошим рулевым был и в Кронштадте веселым человеком оказывал себя, и карахтера тихого, и вином не занимался, а как уплыли мы из Кронштадта и вошли в заграничные места, тут, значит, и вышла эта самая загвоздка…
— В чем загвоздка? — спросил кто-то.
— А в том, братец ты мой, что вовсе в расстройку вошел. И чем дальше мы уходили, тем больше он быдто тронутый понятием становился. Ни с кем не говорил, чуждался, больше один да один, и все в тоске да в тоске, братцы вы мои. Глядит этто он на море, мурлычет себе под нос песню, а сам плачет… Однако тосковать — тосковал, а службу справлял форменно… А на берег съезжал, так ни на что и не смотрел, а прямо в кабак, и привозили его два раза размертвецки-пьяно… На клипере не дотрогивался и чарки своей не пил, а на берегу, значит, тоску свою залить хотел… Дошли мы таким родом до Мадер-острова, как остановил он старшего офицера и докладывает: «Дозвольте, вашескобродие, объяснить причину». — «Объясняй!» — говорит. «Так, мол, и так, как вам, говорит, будет угодно, а нет больше сил моего терпения!» Этто он докладывает, а сам бледный-пребледный из лица и похудал весь, хотя никакой хвори в себе не имел. А старший офицер малого терпения был человек и как вскрикнет: «Ты что, говорит, такой-сякой, лясы разводишь? Говори толком, в чем дело?» Пернатый не испугался и отчесал: «Явите, говорит, божескую милость, прикажите меня сей же секунд отправить обратно в Расею, а то я преступником-беглецом могу быть! Пробовал, говорит, я всячески принудить себя и не могу, вашескобродие. Тоска сосет!»
— Ишь ты… Что ж старший офицер?
— Известно что… Подумал, что матрос огурнуться хочет от флотской службы… Сперва-наперво ровно бы ошалел, что матрос с таким диковинным прошением осмелился, а потом: раз, два, три, и пошел лупцевать. Искровянил матроса в самом лучшем виде и говорит: «Я тебе, говорит, покажу сил-терпения. Отшлифовать велю, так поймешь свою дерзость прошения». А Васька Пернатый свое: «Не пойму, говорит, вашескобродие… Не от лодырства я прошусь!» Велел ему всыпать двадцать пять. Всыпали…
— За прекословие, значит?
— То-то за оно самое. Потому старший офицер очень скор был и прекословия не позволял… Любил, чтобы молчали, хотя бы он приказал самого себя съесть… Малого терпения был человек… А который нетерпеливый — хуже глупого бывает… Оделся, значит, Васька Пернатый после порки и безо всякой это злобы и как бы в задумчивости говорит унтерцерам, кои его линьками драли: «Никакие линьки, говорит, тоски не разгонят. Дойду до капитана, и вернут меня в Расею». Слушаем мы и думаем: «Спятил матросик»; кои с дурости и смеялись. Думали: чудит человек… А он, братцы, как опосля оказалось, и вовсе не не мог совладать со своей тоской. Хорошо. Ушли мы с Мадер-острова и вскорости зашли на Зеленые острова для запаса угля, живности и свежей провизии, потому, как сказывали, с островов Зеленых прямо хотели вальнуть на Яву-остров и минуя Надежный мыс (мыс Доброй Надежды). Ден в шестьдесят переход рассчитывали, потому и запасу всякого много брали. Как услышал про это самое Васька Пернатый — на нем лица нет. Ходит по клиперу как бы в потере чувств. И исхудал же он за это время — страсть… Было ему тогда этак годов тридцать, не больше, а с виду вроде старика оказывает… Однако до капитана не доходил… Боялся, видно, линьков… Он не очень-то их обожал… С умом человек был и хотя тихий, а обидчистый… Ладно. Стоим это мы в Портограндах (Порто-Грандо) четвертый день, грузим уголь, быков, свиней, уток и курей принимаем, у арапов пельсины покупаем, лакомимся, значит, как вдруг утром перекличка, а Васьки Пернатого нет…
— Сбежал? — нетерпеливо спросил один из слушателей.
— А ты слушай, тогда и узнаешь! — недовольно проговорил Аришкин. — А то «сбежал»!.. А может, и не сбежал…
— Так куда ж он делся?
Аришкин несколько секунд помолчал, словно бы желая, как опытный рассказчик, усилить внимание своей аудитории, и продолжал:
— Старший офицер как узнал, что Пернатый в нетчиках, очень даже осатанел. «Мы, говорит, его, подлеца, сыщем. Он беспременно от службы удрать хочет. Беглым мигрантом сделаться. Я покажу ему мигранта!..» Совсем без терпения человек был старший офицер… Не смозговал того, что Васька Пернатый в Расею бежать хотел, а он кулаками машет и кричит: «мигрант!» Это, значит, который человек со своей родины на чужую убегает, — пояснил Аришкин. — Ладно. Тую же минуту послали на берег шлюпку с мичманом к концырю, чтобы поймать, мол, и предоставить беглого казенного человека… А город этот самый Портогранда маленький… арапы больше живут… Пернатого-то скоро и разыскали в избенке арапской. После матрос, что с мичманом на поимку ездил, обсказывал, как беднягу под кроватью нашли… Забился туда… Насилу вытащили. И бросился он в ноги концырю и мичману. Плачет: «Не берите, мол, меня на клипер. Я в Расею доберусь и явлюсь по начальству. Пусть со мной что вгодно делают, но я по крайности в своей стороне буду». А мичман что может? Тоже подневольный офицер. Ему сказано доставить, он и должен был доставить. И пожалел он матросика, а привез на катере да еще для верности связал… Это жалеючи-то! — не без иронии прибавил рассказчик. — Привезли и тот же секунд без допроса, как, мол, и почему матрос от тоски на ответ в Расею бежит, — беднягу на бак и всыпали без счета… Вроде как в бесчувствии в лазарет снесли… А ведь все от непонятия… После уж только в понятие насчет матросика вошли… Тогда и старший офицер понял, что терпения в нем не было… То-то оно и есть…
В эту минуту неслышными шагами приблизился лейтенант Пыжиков. Аришкин тотчас же смолк.
— Вы тут что? Дрыхнете? — спросил лейтенант, вглядываясь в матросские лица.
Все поднялись и почти в один голос отвечали:
— Никак нет, ваше благородие!
— Я им сказку сказывал, ваше благородие! — доложил Аришкин.
— То-то… У меня на вахте поспи!.. Я разбужу! — проворчал лейтенант и пошел дальше.
III
Матросы опять уселись, и Аришкин продолжал:
— Отлежался Пернатый… Опять службу справляет… Опять тоскует… И боцман в ошалеватости… Не понимает… Однако пожалел. «Так, мол, и так, вашескобродие, как бы чего над собой Пернатый не сделал. В большой он, мол, расстройке!» — доложил боцман старшему офицеру. И старший офицер как быдто начал в понятие входить и торопливость свою оставил. «Присматривай за им, говорит, хорошенько и зря, говорит, не обескураживай боем. А там видно будет!» Ладно. Идем это мы тропиками, как вот теперь… Благодать одна… Тепло, служба легкая… И встречали мы в этих самых местах светлый праздник… А Васька-то Пернатый быдто отходить почал от тоски эти дни… Отстояли мы заутреню… А Пернатый около меня стоял… Гляжу: молится, с колен не встает и руками лицо закрыл… Плечи вздрагивают… Плачет…
Вышли это мы наверх… разгавливаемся… А солнышко поднимается… И светло стало… И матросики веселые… Праздник-то светлый, праздник праздникам… Только Васька сам не свой. Глядит это на яйца, на куличи, не ест, и такая в его лице тоска, братцы вы мои, что и не обсказать. «Полно, говорю, Вась… Через три года вернемся, говорю, в Расею…» А он ровно и не слушает. Уставил глаза на море да как вскочит на борт… На счастье, один матрос у борта стоял… схватил его за ноги… Насилу держит. А он голосом кричит: «Пустите, братцы, нет сил моего терпения… Лучше смерть».
Сняли его с борта. Привели к капитану, — он в то время команду обходил, проздравлял. «По какой такой причине ты жизни хотел решиться, матросик, и в такой великий день? — спросил капитан. — То бежать хотел, а теперь топиться?» Тот опять свое: «Тоскую, говорит, в чужих местах». Видит капитан, что человек на извод готов. Велел позвать доктора. «Обследуйте и доложите»… Он и доложил, что у Пернатого вроде быдто болезни… мудреное слово какое-то сказал… А выходит, что тоска по родине… Ну, капитан тотчас же потребовал Пернатого и говорит: «Как придем на Яву-остров, оставлю тебя, а ты с обратным судном вернешься в Расею!» И как услышал это Пернатый, то сразу же человеком стал. В настоящее понятие вошел… Повеселел… одно слово: матрос как матрос… А как пришли на Яву-остров и велели ему на конверт (корвет) перебираться, что в Расею шел, так и обсказать нельзя, как он обрадовался… Прощается со всеми и плачет от радости… Совсем диковинный матросик был! — заключил рассказчик.
Через несколько минут он поднялся и сказал:
— Трубчонку выкурить пойду… Смотри, опять не засните, черти!
— Не заснем, Никоныч. Ты разговорил сон… Да и скоро светать начнет… Ишь заря занимается.
1899
За «Щупленького»
I
Среди таинственного полусвета тропической лунной ночи плыл, направляясь к югу, военный корвет «Отважный», слегка покачиваясь и с тихим гулом рассекая своим острым носом точно расплавленное серебро — так ярко светилась фосфоричестым блеском вода.
На трех мачтах корвета стояли все паруса, какие только можно было поставить, и корвет, подгоняемый ровным мягким пассатом, шел узлов по пяти — шести, легко и свободно поднимаясь с волны на волну.
Ночь была воистину волшебная.
Спокойный в этих благодатных местах вечного пассата, Атлантический океан словно бы дремал и с ласковым рокотом катил свои лениво нагоняющие одна другую волны, залитые серебристым блеском полного месяца. Поднявшись высоко, он томно глядел с бархатного неба, сверкавшего бриллиантами ласково мигающих звезд. После истомы палящего тропического дня от океана веяло нежной прохладой.
Тишина вокруг. Тихо и на палубе корвета.
Вахтенный офицер, весь в белом, с расстегнутым воротом сорочки, лениво шагал по мостику, оглядывая по временам горизонт: нет ли где шквалистой тучки или огонька встречного судна, и изредка вскрикивал:
— На баке! Вперед смотреть!
— Есть! Смотрим! — отвечали два голоса с бака.
И скоро наступала тишина. И снова вахтенный офицер шагал по мостику и вдруг спускался на палубу ловить дремлющих и спящих.
Вахтенное отделение матросов было по своим местам, притулившись у мачт и бортов. Чтобы не поддаваться чарам сна, среди небольших кучек идут разговоры вполголоса: вспоминают про свои места, про Кронштадт, сказывают сказки и обмениваются критическими мнениями, порой весьма ядовитыми, насчет командира, старшего офицера, вахтенных начальников, штурманов, механиков, кончая доктором и батюшкой.
А соблазнительная дрема так и подкрадывается в неге дивной ночи и в мягком дыхании освежающего ветерка. И дремали бы себе матросы, стой на вахте другой офицер, зная, что в тропиках при пассате почти что и нечего опасаться. А у этого нельзя. Этот злющий. Его так и звали матросы — Злющий. Подкрадется и, чуть увидит задремавшего, изобьет. И с каким-то жестоким удовольствием изобьет, точно в самом деле беда, если матрос на такой благодатной вахте, когда нечего почти делать, вздремнет, готовый очнуться при первом же окрике.
И матросы борются с дремой, взглядывая по временам на мостик, где шагает Злющий, и не без зависти прислушиваясь к храпу вахтенных, которые сладко спят не внизу, как обыкновенно, а на палубе, обдуваемые легким ветерком, на своих тоненьких тюфячках.
— И хо-ро-шо, братцы! Ах, как хорошо! — раздался среди тишины мягкий голос у баковой пушки. — Такой ночи в нашей земле не увидишь… И теплынь… И звезд что понасеяно… И океан ласковый… Гляди — не наглядишься, — восторженно прибавил матрос и вздохнул полной грудью.
— Таких спокойных местов не много. Вот минуем тропики, войдем в Индийский океан… Там, небось, поймешь флотскую службу, — ответил сиплый басок.
— А страшно в Индийском?
— Еще как страшно-то! А тебе и вовсе нудно придется. Не по твоей комплекции служба флотская. Тебе, по твоему виду, прямо на скрипке играть… А там то и дело «пошел все наверх!» — боцман будет кричать. То поворот делать, то рифы брать, то штурмовые паруса ставить. Только поворачивайся да не считай зуботычин. Ну, а ты, братец, не того фасону. Недаром тебя Щупленьким прозвали. Щупленький и есть!
Тот, которого на корвете все звали Щупленьким, никогда не называя его по фамилии, действительно оправдывал свое прозвище.
Маленький, тоненький, с впалой грудью и бледноватым лицом, с ласковым и несколько испуганным взглядом больших серых глаз, этот первогодок, Семен Лузгин, попавший из деревенских пастухов в матросы, как-то плохо привыкал к морской службе, хотя и из кожи лез вон, чтобы привыкнуть и быть таким же лихим матросом, как другие. Но в нем не было ни физической силы, ни матросской отчаянности, и никак он ее приобрести не мог.
Фор-марсовый Леонтий Егоркин, здоровенный коренастый человек за сорок, полный этой самой отчаянности, которую он приобрел после изрядной порки в первые годы своего морского обучения, и потерявший от пьянства голос, был до некоторой степени прав, говоря, что Лузгину по его виду на скрипке играть.
И он действительно играл, и играл артистически, но не на скрипке, а на гармонике, и игрой своей доставлял огромное удовольствие всем, и особенно Леонтию Егоркину. Из-за этого, кажется, Леонтий Егоркин благосклонно относился к молодому матросику и жалел Щупленького. Впрочем, его и все жалели. Жалел даже и великий ругатель и «человек с тяжелой рукой», боцман Федосьев, и если и «смазывал» Щупленького, то больше для порядка и без всякой ожесточенности.
— Того и гляди, дух из его вон, ежели по-настоящему съездить! — словно бы оправдываясь, говорил боцман другим унтер-офицерам… — И что с его, с Щупленького, взять… Старания много, а какой он матрос! Он настоящего боя не выдержит! — не без презрения прибавлял Федосьев, хвалившийся, что сам в течение своей пятнадцатилетней службы выдержал столько боя, что и не обсказать.
— И опять же пужлив ты, Щупленький! — продолжал Егоркин. — Линьков боишься.
— То-то боюсь! — виновато отвечал матросик.
И восторженность в нем исчезла.
II
Пробило четыре склянки. Это, значит, было два часа пополуночи.
— Очередные на смену! На смену! — сонным голосом проговорил боцман, выходя с последним ударом колокола на середину бака.
— Есть, — одновременно ответили два голоса.
И из кучки матросов, лясничавших у бакового орудия, вышли Егоркин и Щупленький.
— Хорошенько вперед смотреть! — напутствовал их боцман, принимая вдруг резкий, начальственный тон.
— Ладно! Знаем! Не форси, Федосеич! — лениво ответил Егоркин, несколько удивленный, что боцман говорит о пустяках такому старому матросу.
— Ты-то, старый черт, знаешь, а вон этот… Э, ты, Щупленький!
— Есть! — испуганно отозвался матросик.
— В оба глаза глядеть и вместе вскричать, ежели что увидите.
— Есть! Буду глядеть!
— И не засни, дурья голова… Небось, знаешь, кто на вахте?
— Злющий, Андрей Федосеич!
— Прозеваешь вскрикнуть, велит тебя отшлифовать. И что тогда от тебя останется?
— Не могу знать! — вздрагивая всем телом, пробормотал Щупленький.
— Шкелет один… вот что.
— Да не нуди ты человека, Федосеич! — заметил Егоркин. — И то часовые смены ждут.
— Не нуди вас, дьявол! Так помни, Щупленький…
Они пошли на нос, и когда часовые вылезли из углублений у бугшприта, новые часовые сели на их места.
— Эка язык у боцмана! — с досадой проворчал Егоркин и стал смотреть вперед, на блестящую полоску океана.
Смотрел и Щупленький и замер от восторга — так красива была эта серебристая морская даль.
Очарованный и прелестью ночи, и сверкавшим мириадами звезд небосклоном, и красавицей луной, и таинственным тихо рокочущим океаном, молодой матросик, привыкший еще в пастухах к общению с природой, весь отдался ее созерцанию. Проникнутый чувством восторженного умиления и в то же время подавленный ее величием, он не находил слов. И что-то хорошее, и что-то жуткое наполняло его потрясенную душу. Несколько минут длилось молчание.
Примостившись в своем гнезде, Егоркин поглядывал на горизонт и думал о том, как хорошо было бы вздремнуть. И он уж начал было клевать носом, но, вспомнив о Злющем, встрепенулся и взглянул на товарища: не дремлет ли и он?
Восторженное выражение бледного, казавшегося еще бледней при лунном свете лица молодого матросика изумило Егоркина.
«Совсем чудной!» — подумал он и сказал:
— А хорошо здесь сидеть, братец ты мой! Точно в люльке, качает и ветерком обдает. Так и клонит ко сну… A ты остерегайся, Щупленький!.. Он, дьявол, как кошка, незаметно подкрадется… Неделю тому назад Артемьева накрыл и мало того, что зубы начистил, а еще наутро приказал всыпать двадцать пять линьков… Помнишь?..
Но, казалось, в эту минуту Щупленький был где-то далеко-далеко от действительности. Он забыл и о нелюбимой службе, и о Злющем, и о линьках, которых боялся со страхом тщедушного человека перед физической болью, полный трепета перед позором наказания. Человеческое достоинство, счастливо сохранившееся в нем в те отдаленные времена крепостного права, когда оно попиралось, чувствовало этот позор и в то же время беззащитность против него.
И, словно отвечая на мысли, волнующие его, он раздумчиво, протянул, как бы говоря сам с собой:
— И нет конца миру… И сколько одних океанов… Пойми все это!..
— Много ли, мало ли, тебе-то что! Не матросского понятия это дело.
— Не матросского, а глядишь кругом — и думается.
— А ты не думай. Брось лучше. На то старший штурман есть, чтобы обмозговывать эти дела. Их обучают по этой части.
— И всякий человек может думать… Душа просит… Ты возьми, примерно, звезды, — продолжал возбужденным тоном Щупленький, поднимая глаза к небу. — Отсюда они крохотные, а на самом-то деле — страсть какие великие… Мичман даве обсказывал. И далече-далече от нас, оттого и махонькими оказываются себе… И сколько их и не счесть! А вот, поди ж ты, висят на небе… друг около дружки цепляются… Удивление! Или взять месяц. По какой такой причине ходит себе по небу и льет свет? И из чего он? И что на ем? Поди-ка Дознайся! А мы вот плывем здесь и вроде будто пескарики перед всем этим божьим устроением…
И матросик повел рукой на океан.
Егоркину не было ни малейшего дела до этих деликатных вопросов. Вся его предыдущая жизнь матроса не располагала к ним. Думы его имели главнейшим образом строго практический характер лихого фор-марсового, который делал свое трудное и опасливое дело частью по привычке, частью из желания избегнуть наказаний, от которых физически больно, и добродушного пьяницы, напивавшегося вдребезги, как только урывался на берег, но не пропивавшего, однако, казенных вещей, так как за это наказывали беспощадно.
Немножко фаталист, как и все подневольные люди, он жил, как «бог даст». Даст бог доброго командира и доброго старшего офицера — и ничего себе жить, а даст бог недоброго — надо терпеть. А чтобы легче было терпеть и чтобы хоть на время забывать действительную жизнь, подчас каторжную, Егоркин напивался и тогда воображал себя свободным человеком.
Начал он запивать на берегу при строгом командире, но продолжал и при добром и мало-помалу привык при съездах на берег напиваться, как он говорил, «вовсю», чтобы не помнить себя. И уже тогда он не разбирал эпитетов, которыми награждал «злющих» офицеров, пьянствуя в каком-нибудь кабачке с товарищами.
Речи Щупленького показались Егоркину настолько странными, что он счел своим долгом высказаться. И с решительностью человека, не теряющегося ни при каких обстоятельствах, он уверенно проговорил:
— Бог все произвел как следует: и землю, и море, и небо, и звезды, и всякую тварь. Всему, братец ты мой, определил место — и шабаш! И людей обозначил: коим примерно в господах быть, коим в простом звании. Вот оно как! И ты зря не думай. Знай себе посматривай вперед!
Молодой матросик, едва ли удовлетворенный объяснением Егоркина, не продолжал разговора.
Так прошло несколько времени в молчании.
— И чудной ты! — проговорил вдруг Егоркин.
— Чем чудной?
— А всем! И прост сердцем, и понятие хочешь иметь обо всем. И на гармони играешь так, что душу в тоску вгоняешь… так за сердце и берешь… Ты раньше чем занимался? Землей?
— Я сирота. В пастухах все жил.
— А где же ты грамоте научился?
— Самоучкой.
— Ишь ведь!.. И всегда такой слабосильный был?
— Всегда.
— Так как же тебя забрили в матросы?
— И вовсе не хотели брать.
— То-то я и говорю, не подходишь ты по комплекции. По какой же причине взяли?
— Барин наш очень просил полковника, что некрутов принимал. «Возьмите, — говорит, — он мне не нужный!»
— Ишь ведь, собаки! — негодующе сказал Егоркин.
— Нет, Левонтий, барин был добер. Мужиков не утеснял! — заступился Щупленький.
— Хорош добер. Такого слабосильного, и на службу… Прямо, значит, доконать человека!.. А у тебя всякий человек добер… Всякому оправдание подберешь… Прост ты очень… Тебя вот не пожалели, а ты всякого жалеешь… Вовсе ты чудной! Небось, по-твоему, и Злющий наш добер?
— Вовсе не добер, но только не от природы, а от непонятия, — вот как я полагаю… И вразуми его бог понятием, он матросиков зря не утеснял бы… Выходит, и его пожалеть можно, что без понятия человек…
— Ну, я такого дьявола не пожалею… Сделай ваше одолжение!.. Из-за его понапрасну меня два раза драли. Да и других сколько… Попадись-ка он когда мне один в лесу…
— И ничего ты ему не сделал бы! — убежденно произнес Щупленький.
— Морду его каркодилью свернул бы на сторону, это не будь я Леонтий Егоркин! — с увлечением воскликнул матрос и даже оскалил свои крепкие белые зубы. — Попробовал бы сам, как скусно, тогда и остерегался бы… вошел бы в понятие… Мы, братец ты мой, боцманов учивали, кои безо всякого рассудка дрались, вводили их в понятие… Отлупцуем на берегу по всей форме, — смотришь, и человеком стал… Не мордобойничает зря… Опаску имеет. А всякому человеку опаска нужна, потому, дай ему волю над людьми, живо совесть забудет. Ты вот только очень устыдливый… И знаешь, что я тебе скажу? — неожиданно задал вопрос Егоркин.
— А что?
— Тебе бы в вестовые. Совсем легкое дело, не то что матросское… И главная причина — ни порки, ни бою, ежели к хорошему человеку попадешь.
— Не попасть.
— То-то можно.
— А как? У всех господ вестовые есть!
— Мичман Веригин хочет увольнить своего лодыря Прошку.
— За что?
— Что-то нехорошее сделал. Только мичман не хочет срамить Прошку. Вот тебе бы, Щупленький, к мичману в вестовые. Он хороший и прост. Не гнушается нашим братом, не то что другие.
— Несподручно как-то самому проситься, а я бы рад.
— А я доложу мичману… Так, мол, и так, ваше благородие. Он башковатый: поймет, что такого, как ты, вестового ему не найти… Сказать, что ли?
— Скажи.
— Завтра же скажу. Тебе вовсе лучше будет в вестовых.
— То-то лучше, — подтвердил и Щупленький.
В эту минуту раздался голос вахтенного начальника:
— Вперед смотреть!
— Есть! Смотрим! — отвечали оба часовые почти одновременно…
И примолкли.
III
А чары сна незаметно подкрадывались к обоим.
Чтобы самому не поддаваться им и не дать дреме овладеть и Щупленьким, Егоркин стал рассказывать сказку.
Молодой матрос слушал сказку внимательно, не спуская глаз с горизонта, но скоро глаза его начали словно бы застилаться туманом, и веки невольно закрывались. В его ушах раздавался сиплый голос Егоркина, но слова пропадали…
Убаюканный сказкой, матросик задремал.
Вполне уверенный, что Щупленький слушает сказку, Егоркин продолжал описывать большущего крылатого змия, который загородил Бове-королевичу дорогу ко дворцу королевны Роксаны, как вдруг увидал влево от себя зеленый огонек встречного судна. Огонек быстро приближался.
— Кричим! — тихо сказал он товарищу, толкая его в бок.
И с этими словами крикнул, повернув голову по направлению к мостику:
— Зеленый огонь влево!
Крикнул и снова толкнул товарища.
Молодой матрос повторил этот окрик несколькими секундами позже. И голос его дрогнул. И сам он, очнувшийся от дремы, глядел в ужасе на зеленый огонек.
— Задремал! — упавшим голосом сказал он.
Егоркин сердито молчал…
Боцман уже подбежал к часовым.
Он ударил раза два по шее молодого матроса и проговорил, обращаясь к Егоркину:
— И ты хорош! Дал ему дрыхнуть. Теперь будет разделка! Черти! Одни только неприятности из-за вас.
— Злющий, может, и не заметил! — сказал Егоркин, видимо желая успокоить молодого матроса, бледное лицо которого, полное отчаяния, словно бы говорило ему, что он отчасти виноват. Что бы ему догадаться, что Щупленький заснул…
— Не заметил? — усмехнулся боцман… — А вот он и сам бежит сюда! — понизив голос, проговорил боцман…
Действительно, высокий и худощавый лейтенант с рыжими бачками и усами торопливо несся на бак.
Боцман отошел от часовых. Те повернули головы к океану.
Егоркин снова взглянул на Щупленького.
Тот сидел ни жив ни мертв. И только губы его вздрагивали.
Великая жалость охватила сердце Егоркина при виде этого тщедушного, мертвенно-бледного молодого матросика, который и прост, и добер, и так хватает за душу, когда играет на гармонике.
И он чуть слышно сказал ему резким повелительным тоном:
— Злющий запросит — ты молчи!.. А не то искровяню. Понял? — угрожающе прибавил он.
Ничего не понявший и изумленный этим угрожающим тоном матросик испуганно ответил:
— Понял…
В эту минуту сзади над головами часовых раздались ругательства, и вслед за тем лейтенант спросил своим слегка гнусавым высоким голосом:
— Кто из вас двух, подлецов, позже крикнул?
— Я, ваше благородие! — отвечал, поворачивая голову, Егоркин.
Щупленький только ахнул.
— Ты, пьяница? Ты, старая каналья, спал на часах?
— Точно так. Задремал, ваше благородие.
— Эй, боцман! Дать ему завтра пятьдесят линьков, чтобы он вперед не дремал!..
И лейтенант торопливо ушел с бака и поднялся на мостик.
— Левонтий!.. Это как же… За что? — дрогнувшим голосом начал было Щупленький.
Взволнованный и умиленный, он продолжать не мог, чувствуя, что слезы подступают к горлу…
— Сказано: молчи да гляди вперед! — ласково ответил Егоркин.
И после паузы прибавил:
— Мне пятьдесят линьков наплевать. Я и по двести принимал. А ты?.. Ты ведь у нас Щупленький… Тебя пожалеть надо!.. А должно, пароход идет!.. — круто оборвал он речь.
Действительно, скоро в полусвете лунной ночи вырисовался силуэт большого океанского парохода с тремя мачтами.
Через четверть часа он уже попыхивал дымком из своей горластой трубы, приближаясь навстречу, окруженный серебристым поясом сверкнувшей воды.
Оба часовые глядели на проходивший пароход молчаливые.
Щупленький утирал слезы. Лицо Егоркина, обыкновенно суровое, светилось какою-то проникновенной задумчивостью.
А месяц и звезды, казалось, еще ласковее смотрели с высоты бархатистого темного купола.
И старик океан, казалось, еще нежнее рокотал в эту чудную тропическую ночь, бывшую свидетельницей великой любви матросского сердца.
«Отчаянный»
I
На Транзундском рейде, где практическая эскадра Балтийского флота простаивает большую часть короткого лета, стоял броненосный корабль «Грозящий» под флагом младшего флагмана, контр-адмирала почтенных лет, который «выплавывал» свой ценз на старшего флагмана и чин вице-адмирала.
Был первый час пасмурного и прохладного дня в конце июня. Матросы только что отобедали — на судах эскадры. Боцманы просвистали и выкрикнули:
— Команда, отдыхать!
Минут через пять боцман «Грозящего» Жданов отхлебывал чай, попыхивая папироской, в своей маленькой каютке на кубрике, чистой и убранной не без претензии на щегольство.
Фотографии высокопоставленных особ, отца Иоанна Кронштадтского и командира «Грозящего» в красивых выпиленных рамках, сделанных одним матросом за «спасибо» боцмана, были развешаны в соответствующем порядке на переборке против койки, аккуратно покрытой серым байковым одеялом, с двумя взбитыми подушками в белых наволоках в изголовье.
А над койкой, на дешевом ковре, красовался в голубой рамке с нарисованными незабудками фотографический кабинетный портрет молодой женщины с миловидным лицом и топорной фигурой, с растопыренными пальцами непомерно больших рук, выставленных, несомненно, ради колец, с брошкой на короткой шее и с серьгами в ушах.
Нечего и говорить, что эта дама в нарядном платье и в шляпке с перьями была супругой боцмана Жданова.
Он ничем не напоминал боцманов старого времени, этих смелых моряков, свершавших геройские поступки, не догадываясь о своем геройстве, отчаянных ругателей, бесшабашных пьяниц на берегу и огрубелых, но не злых, которые не чуждались таких же бесправных матросов, как они сами, и, разумеется, считали их товарищами я кляузы по начальству считали делом, недостойным боцмана.
К тому же и знали, что матросский линч усмирит боцмана, коли он несправедливый и зверствует в «бое».
Жданов — боцман новых времен и, разумеется, несравненно культурнее. Это был молодой человек лет тридцати, невысокого роста, плотный, склонный к полноте, франтовато одетый, понимающий обращение и не говорящий грубым голосом «луженой глотки», с большими круглыми глазами, усердными и решительными, рыжий, с веснушчатым белым румяным лицом, серьезным и самодовольным, выстриженный под гребенку и с небольшой подстриженной огненной бородой. На безымянном пальце опрятной руки — золотое обручальное кольцо, и на мизинце — перстень с бирюзой.
Разумеется, он не пил ни водки, ни вина. Иногда только баловался бутылкой пива. И без устали не сквернословил как виртуоз, а ругался тихо, внушительно и кратко.
Тщеславный и самодовольный, он, казалось, весь был проникнут сознанием своего достоинства и держал себя в отчуждении от матросов, чтобы не уронить престижа власти, связавшись с необразованной и грубой матросней, которая могла бы забыться перед боцманом и притом человеком других понятий. Недаром же он получал газету «Свет», почитывал книжки и считал себя очень умным и проницательным боцманом, который устроит благополучие своей жизни.
С матросами он обращался с внушительной строгостью и был беспощаден, особенно с провинившимися перед дисциплиной, и противоречий не допускал. Зато с офицерами был почтителен до искательности.
Морскую службу Жданов не любил. Особенно не любил и трусил моря, когда оно начинало рокотать и вздувалось большими волнами, но был безукоризненный исполнитель и усердный боцман, щеголявший своим педантизмом и безупречным поведением в глазах начальства.
И Жданов, пользуясь своим положением, не разбирал средств в приобретении. За шесть лет службы он скопил деньжонки. Прижимистый и оборотистый, он рассчитывал заняться каким-нибудь торговым делом, когда выйдет в запас.
Матросы боялись и не любили высокомерного и несправедливого боцмана, но он не обращал на это внимания. Жданов был уверен, что капитан и старший офицер ценят и одобряют строгого боцмана. Да и матросы не смели бы жаловаться на него. Они были надежные, да и он их держал в строгом повиновении.
Один только матрос, первую кампанию служивший на «Грозящем», обращал на себя беспокойное и озлобленное внимание боцмана.
«Совсем отчаянный!» — думал Жданов.
Он, разумеется, знал, что во время отдыха команды не имел права без особенной нужды беспокоить матросов, но потребовал Отчаянного.
II
Когда молодой худощавый чернявый матрос маленького роста вошел в боцманскую каюту и без всякого страха остановился у двери, боцман уже начинал беспокойно злиться.
Он медленно допивал стакан, умышленно не обращая внимания на матроса.
И, наконец, подняв на него злой неподвижный взгляд и понижая голос, значительно и медленно проговорил:
— Митюшин!
— Есть!
— Догадался, по какой причине боцман тебя потребовал?
— Я недогадливый! — ответил Митюшин.
Матрос не назвал боцмана Иваном Артемьевичем. Не вытянувшись перед ним, он стоял в непринужденной позе. Его смуглое с тонкими чертами лицо, обыкновенно подвижное, словно бы застыло в серьезном и строгом выражении. В сдержанном официальном тоне мягкого тона голоса как будто звучала ироническая нотка, и в быстрых острых черных глазах Митюшина мелькнула насмешливая улыбка и исчезла.
«Ишь, как стоит перед боцманом!» — подумал Жданов.
И, сдерживая гнев, самолюбиво покраснел и сказал:
— Так догадайся!
— Насчет чего?
— Хотя бы насчет того, что я насквозь вижу человека и могу его понять.
Митюшин молчал, словно бы поддразнивая боцмана.
— Сообразил?
— Видно, не сообразил!
— А еще много воображаешь о себе! — презрительно кинул Жданов.
Митюшин не возражал. Только глаза улыбнулись, верхняя тонкая губа в углу рта подергивалась, и лицо приняло вызывающее и слегка надменное выражение.
Боцман чувствовал едва скрываемое пренебрежение к себе матроса. С каким наслаждением искровянил бы он эту дерзкую рожу! Но Жданов трусил Отчаянного. От него всего можно ожидать.
Изнывая в злобе и едва сдерживаясь, боцман еще медленнее пытал Митюшина, процедив с угрозой в скрипучем своем голосе:
— Как бы не вышло с тобой серьезных неприятностей!
Митюшин словно бы нарочно зевнул, с видом человека, которого не пугают угрозы боцмана, а только наводят скуку, и равнодушно спросил:
— Какие еще неприятности?
— Дурака не строй… Не дерзничай… Ты с кем говоришь?
— С боцманом.
— Так смотри же у меня! — грозно крикнул Жданов, начиная терять самообладание.
— Что мне смотреть?
— Я тебе покажу, какие боцмана!
— Что показывать? Видел, какие из вас боцмана… А службу я сполняю как следует и закон понимаю.
— По-ни-ма-ешь? — выговорил разделено боцман багровея.
— Очень даже понимаю! — вызывающе бросил матрос.
Жданов вскочил, словно ужаленный, с табуретки и задыхающимся злобным голосом проговорил:
— Разве не знаю, какой ты отчаянный матрос и какие твои беззаконные мысли?.. О каких ты правах толкуешь матросам и перед ними куражишься?.. «Я, мол, все понимаю и ничего не боюсь, а вы, мол, терпите беспрекословно…» Знаю, какой ты пересмешник выискался и смехом порочишь начальство, которое почитать обязан по присяге. Так я с тебя этот форц собью. Поставлю в дисциплину на линию. В штрафные не долго перевести, хоть ты и первой статьи матрос. А тогда и по закону будут тебя пороть, умника. А прежде и без закона отполируют, как доложу, какой ты есть паршивая овца. Узнаешь, как бунтовать и команду мутить…
Матрос вспылил и с заблестевшими злым огоньком глазами взволнованно проговорил:
— Что ж! Доноси по начальству… Ври!… Я найду свои права!
— Молчать перед боцманом!..
— Я слушал твои умные речи. Послушай и мои! — решительно и возбужденно заговорил Митюшин. — Мы ведь с глазу на глаз. Может, и не слыхал от людей, какой ты бесстыжий и какой взяточник, боцман… Доноси, господин боцман… Пусть меня отдадут под суд, с моим удовольствием… Не сдрейфлю! Быть может, правда всплывет, как ты с матросов деньги берешь да на себя заставляешь их работать. Кто стул, кто обшить, кто сапог, кто тебе заместо вестового… Драться прав нет, а вы, сволочь, боцмана да унтерцеры, зубы выбиваете… Знаете, что боятся жаловаться, так вы тиранствуете?! И как бы деньгами где поживиться… Это тебе вместо бога… Бог-то только на языке, а в душе один рупь целковый да беззаконие! И как я ежели говорю, что на закон плюют и совесть забыли, — так я, по твоему воображению, бунтовщик? Ежели понимаю, что неправдой живете, так это бунт?! Свой же брат, такой же подневольный мужик был, а грозит в штрафные да пороть… Полагаешь — испугать и на линию поставить. Умник. Насквозь человека видишь, а не видишь, что не всякий свинья и за грош душу не продаст. Да и старшему офицеру, видно, не в догадку, какой ты во всей форме мерзавец!
Этот великолепный и благополучный боцман, считавший себя необыкновенно важной особой на корабле, ахнул от изумления и, растерянный, не останавливал дерзких слов возмущенного матроса.
Но прошла минута, и Жданов двинулся к матросу, помахивая кулаком. Побледневший как смерть Митюшин не подался шагу назад и, решительно глядя в глаза боцмана, кинул:
— Смей только. Искровяню твою сытую свиную морду!
И Жданов отвел свой взгляд. Кулак боцмана опустился. И еще медленнее прохрипел он сдавленным от злобы голосом:
— Поймешь, как найдешь свои права! Узнаешь, что с тобой, отчаянным, будет за оскорбление боцмана… Вон!
— Доноси, Иуда! Как бы самому не поперхнуться… Не все же поверят, что ты бунт открыл! — презрительно кинул матрос…
С этими словами Митюшин вышел из боцманской каюты.
III
И матросы называли Митюшина «Отчаянным».
Они дивились башковатому и беспокойному маленькому матросу, который ничего не боится, так как горячится против несправедливости и обижается, если что не по закону.
Матросы любопытно слушали возбужденные страстные речи, но недолюбливали и побаивались «законника» за его подчас ядовитые шутки и насмешки и часто не понимали, из-за чего кипятится этот образцовый по службе матрос и за что постоянно «скалит зубы» над своим же братом.
— Одно слово — отчаянный и много о себе полагает! — говорили про Митюшина.
Отчаянный чувствовал, что его алчущая правды душа не встречает сочувствия и что он, нелюбимый за язык, одинок.
И все-таки призывал возмущаться неправдой, издевался над равнодушными.
Теперь в беспокойном сердце Отчаянного прибавилась обида — и тяжкая обида! Нашелся матрос, который на своего же брата наушничал подлецу боцману! И за что? За то, что Митюшин матросам же хочет добра, защищая закон!
Митюшин знал, что против дисциплины виноват, «отчекрыжив» боцмана, и что во всяком случае будет «разделка». «Пожалуй, и под суд отдадут, ежели подлый боцман прибавит старшему офицеру всякого вранья и кляуз!» — рассуждал Митюшин.
И в минуты сомнения насчет торжества правды его воображение рисовало уже нещадную оскорбительную порку по закону после перевода в штрафные.
Но Отчаянный не только не сожалел о случившемся, а, напротив, испытывал нравственное облегчение. Острое беспокойство возмущенной души точно утихло после того, как боцман получил вполне им заслуженную сдачу.
«По крайней мере, пусть знает, какой он подлец!»
Митюшин предполагал, что боцман уже докладывает старшему офицеру об отчаянности подчиненного и после отдыха старший офицер позовет к себе и потребует объяснения.
Отчаянный тревожно ждал призыва и думал:
«Хотя старший офицер и строгий, но позволит обсказать все дело и тогда поймет, что исправный и усердный по службе матрос, который ни разу еще не был беззаконно наказан, не в отместку за себя сдерзничал боцману. И какой же Митюшин бунтовщик, если он только беспокоится из-за закона и подлости боцмана?»
Отчаянный не спал. Не до сна ему было.
Он повторял в уме то, что объяснит старшему офицеру, настроенному боцманом, и смелость Отчаянного диктовала смелые слова. Они, казалось ему, должны быть так же убедительны, как сама правда.
И сомнения рассеивались, как тучи ветром. Беспокойному мечтателю матросу верилось, что правда «окажет» и что старший офицер «полным ходом войдет в понятие».
Митюшин вспомнил, что до сих пор его не обескураживали на «Грозящем».
Действительно, он завоевал себе некоторое уважение.
На «Грозящем» были офицеры, которые напоминали старые времена флотской выучки. Она, казалось, снова входила в моду, и даже юные мичмана наскакивали с кулаками на людей и не испытывали ни малейшего смущения.
Но все эти господа, по-видимому, понимали, что Митюшин выделялся из толпы матросов и сознанием человеческого достоинства и пониманием своих прав. И потому закон оберегал неприкосновенность его тела. Да к тому же толковый и усердный матрос безукоризненно служил и не давал повода офицерам к выучке.
Час отдыха прошел. Просвистали вставать.
Вслед за тем пробила тревога к артиллерийскому учению.
IV
На мостик поднялся толстый, небольшого роста адмирал, с седой бородой, обрамлявшей добродушное полное лицо, довольный и ласково улыбающийся, каким привыкли все видеть младшего флагмана, когда он «выплавывал» свой ценз для увенчания его морской карьеры на якоре и, следовательно, не опасался за целость его броненосцев, — ведь эти великаны требуют искусного управления и часто напарываются на камни или притыкаются к мелям.
Адмирал смотрел на ученье, и маленькие добрые глаза его превосходительства принимали выражение мечтательного восторга при виде этих быстро заряжаемых гигантов-орудий, точно адмирал представлял себе настоящий бой, насколько могло представить воображение человека, не бывавшего в боях, — «Грозящий», натурально, победителем какого-нибудь «торгаша-англичанина».
— Превосходно-с, Виктор Иваныч! С особенным удовольствием смотрю на наших молодцов… Картина-с, — проговорил адмирал, обращаясь к капитану, стоявшему чуть-чуть сзади него, и приподнял голову и молодцевато выгнул грудь, чтобы казаться более высоким и более воинственным.
Пожилой плотный и представительный брюнет среднего роста, озабоченно и несколько беспокойно глядевший на ученье, приложил пальцы к козырьку фуражки и чуть подался вперед.
— Я и мечтаю-с, Виктор Иваныч… И как думаете, о чем?
— Не догадываюсь, ваше превосходительство!
— О том, что объяви нам Англия войну, так с такими матросиками, как наши, да с таким духом, как у нас, — раскатали бы мы англичан… Главное — дух… Что-с?
— Наверное, ваше превосходительство! — ответил капитан. И в то же время, сохраняя почтительно официальный вид хорошо вышколенного подчиненного, подумал: «Не то говоришь ты, адмирал! Нам не сунуться в море. Спрячем свой флот в Кронштадт и простоит он там! И теперь больше стоим, чем плаваем».
На это капитан, впрочем, не претендовал.
Как и адмирал, он не любил плаваний, которые так издергивали нервы осторожного до боязливости человека, не уверенного ни в себе, ни в тех судах, которыми командовал, пока благополучно «выплавывал» ценз.
Командовал «Грозящим» он только два месяца и, разумеется, не знавший его качеств (раньше он управлял броненосцами другого типа), был доволен стоянкой в Транзунде и, не без страха ответственности за свой семимиллионный броненосец, думал о переходах по Финскому заливу. Того и гляди… беда!
— Как фамилия этого комендора, Виктор Иваныч? — спросил Адмирал, указывая коротким белым и пухлым пальцем на Отчаянного, распоряжавшегося у орудия.
— Митюшин, ваше превосходительство!
— Бравый комендор… Любуюсь им, Виктор Иваныч!
— Усердный матрос, ваше превосходительство… Не правда ли, Иван Петрович?..
Старший офицер, длинноногий и худой капитан второго ранга, лет за тридцать, в очках, с академическим значком на груди поношенного сюртука, озабоченный, раздражительный и несколько ошалевший, точно человек, что-то позабывший, и своей фигурой, и удлиненной формой лица с длинным носом, и круто срезанным лбом напоминал собою болотную птицу.
Он порывисто подтвердил аттестацию капитана и, обращаясь к адмиралу, прибавил:
— Умный и способный матрос, ваше превосходительство!
— А поведения?
— Благонадежного, ваше превосходительство.
— Значит, не «закатывает»? — добродушно спросил адмирал и рассмеялся тихим мелким смехом.
— Трезвый…
— Так сделали бы его унтер-офицером! — в форме совета промолвил адмирал.
— Он уже на виду к производству… И боцман бы вышел хороший, ваше превосходительство.
— То-то я сразу заметил матроса… И лицо открытое… — промолвил адмирал.
Когда артиллерийское учение было окончено, старший офицер подошел к Митюшину и сказал:
— Молодцом, Митюшин! И адмирал тебя заметил.
— Слушаю, вашескобродие! — вымолвил матрос вместо обычного ответа — «рады стараться».
— Старайся, Унтер-офицером будешь!
По-видимому, это обещание не обрадовало Отчаянного. Он промолчал, и когда старший офицер пошел далее, выступая длинными шагами и поворачивая по сторонам голову, Митюшин усмехнулся и мысленно произнес:
«Нашел „цапель“ унтерцера! Какова еще будет разделка за боцмана! Верно, вечером, когда боцман пойдет к старшему офицеру за приказаниями, оплетет он матроса и тогда „цапель“ потребует», — подумал Митюшин.
Но пришел вечер, матросы отужинали, а Митюшина старший офицер не требовал.
V
Неизвестность тревожила Митюшина. Ему хотелось с кем-нибудь поделиться сомнениями и услышать слово одобрения.
И он в тот же вечер рассказал о своем столкновении с боцманом рулевому Чижову. Он был аккуратный, исправный и обходительный человек. Себя он не «оказывал», как говорил Митюшин, так как Чижов больше отмалчивался при щекотливых словах Отчаянного на баке или уходил. Но, казалось, понимал его и как-то с глазу на глаз одобрил его слова насчет «закона», хотя и умел в то же время ладить с боцманом Ждановым.
Рассказ Митюшина не вызвал сочувствия в Чижове.
Он покачал белобрысой головой, словно бы сокрушенно, и, оглянувшись вокруг лукавыми раскосыми глазами, тихо проговорил:
— Твое дело дрянь, Митюшин… Крышка!
— Будто? — недоверчиво спросил Митюшин.
— Очень даже просто. Напрасно ты оконфузил боцмана. И безо всякого права. Ведь с тобой он обращался по-благородному?
— Положим…
— В физиономию не заезжал? Боцманских слов не загибал?
— Смел бы?
— Он только почтения требовал… Так чего было с им хорохориться?.. И довел до злобы… Зачем ты связался с боцманом и отчекрыжил, какой он такой… По какому твоему форцу? Зачем беду накликал? — сентенциозно, не одобряя поступка Митюшина, прибавил Чижов.
— Зачем? — переспросил Отчаянный.
В его насмешливом голосе звучала грустная нотка разочарования в человеке, на которого надеялся.
— То-то зря… Форц хотел показать боцману…. себя потешить? Ну и потешился, а какой прок? Боцмана не обанкрутил, а себя зря обвиноватил. Небось, боцман с рассудком… Он во всей форме «обуродует» тебя по начальству… Ответь-ка насчет бунта!.. Вроде быдто бунт и окажет…
— И отвечу! — возбужденно промолвил Отчаянный.
— Ответишь? Отдадут тебя под суд и в штрафные — это как бог!
— Пусть! — раздраженно, возмущаясь Чижовым, ответил Митюшин.
— Пусть не пусть, а из-за фанаберии отдуешься… Насчет закона горячиться… Права, мол, имеешь? Тебе покажут права… И тебя же люди дураком назовут… Не суйся, мол, в чужую глотку… Мог бы за башковатость и старание в унтерцеры выйти… Ладил бы с начальством и жил бы по-хорошему, с опаской. А теперь за твое мечтание — крышка… Старший офицер строгий, не простит, — потому неповиновение. За это не прощают, не думай. И как пойдет опрос, дознаются, что ты насчет закона да про всякое начальство баламутил из-за своего языка… Не стеснялся своего звания… Вовсе, как дурак, втемяшился… А жил бы да жил, Митюшин, как прочие люди, если бы боцмана не оконфузил…
Отчаянный молчал, словно бы не находил слов, и, казалось, был подавлен.
И Чижов, подумавший, что Отчаянный струсил, прибавил:
— Одна есть загвоздка. Избавился бы от беды…
— Какая?
— Повинись перед боцманом. Тоже и ему не лестно, как в суде его обскажут… Пожалуй, простит… А тебе что?
Отчаянный серьезно ответил:
— Ай да ловко уважил! Спасибо, приятель!
— За что?.. Куда ты гнешь?
— Вполне открылся, какой ты есть, с потрохами!
— Видно, не нравится, что обо всем полагаю с рассудком?
— Даже с большим рассудком — обессудил меня дураком…
— Не лезь на рожон. Не полагай о себе… Помни, что» матрос.
— А поклонись я боцману и выйди в унтерцеры да беззаконно чисти твою лукавую рожу, так поумнею? Обскажи-ка! — с презрительной насмешкой промолвил маленький матрос.
— Ты все зубы скалишь!
— А как же с тобой?
— В штрафные, что ли, лестно?
— Беспременно желаю. Оттого и зубы скалю!
— Перестанешь! — злобно сказал Чижов.
— И скоро?
— Хоть завтра пройдет твоя отчаянность!
— По какой-такой причине?
— Отшлифуют на первый раз за боцмана. Небось, прошлое лето выпороли одного матроса и перевели в штрафные… Очень просто!
Митюшин ужаснулся при мысли, что его завтра же могут позорно наказать, и возмутился, что свой же брат, матрос, точно злорадствует позору ближнего и беззаконию.
Но в темноте вечера, у борта на баке, где два матроса беседовали, Чижов не видел бледного взволнованного лица и сверкающих черных глаз Отчаянного.
— Пусть шлифуют! А ты смотри! — вызывающе кинул он, скрывая свой ужас.
Чижов удивился:
— И с чего это ты такой отчаянный? Не могу я в толк взять…
— Ветром надуло…
— Где?
— На фабрике.
— Так. А на царской службе тоже, значит, надуло? — иронизировал Чижов, оскорбленный тоном Отчаянного.
— Верно, что так…
— Чудно что-то…
— Видно, не слыхал, что люди тоскуют по правде? — вдруг воскликнул Митюшин.
Чижов недоверчиво усмехнулся.
— То-то не понять! Душа в тебе свиная, а рассудок подлый… Еще рад, что матроса отпорют без всякого закона! Думаешь, только больно, — а не то, что позорно и обидно… И что присоветовал!.. Совесть-то в деревне оставил… А я полагал, что ты хоть и трус, а все-таки с понятием втихомолку! — негодующе прибавил Митюшин, возвышая голос.
— Ты что же ругаешься? Это по каким правам?
— Вали к своему боцману… Виляй свиным своим хвостом и обсказывай. Может, и ты ему про меня кляузничал… Так заодно…
— Усмирят тебя, дьявола отчаянного!
И Чижов, полный ненависти к нему, отошел.
Раздали койки. Митюшин долго не засыпал, думая грустные думы.
С полуночи он вышел на вахту и мерно шагал по палубе, ни с кем не заговаривая; он снова думал, одинокий, тоскующий, как вдруг к нему подошел матросик-первогодок.
Митюшин остановился.
— Что тебе? — спросил он.
Матросик застенчиво и душевно проговорил, понижая голос до шепота:
— А тебя, Митюшин, господь вызволит из беды за твою смелость. Я хоть и прост, а понял, отчего ты тоскуешь. Из-за правды тоскуешь. Из-за нее проучил боцмана! Жалеешь матроса, беспокойная ты душа!
— Спасибо на ласковом слове, Черепков! — горячо и взволнованно проговорил Митюшин.
И смятенная его душа просветлела.
Отчаянный вдруг почувствовал, что он не одинок.
VI
Утром, когда на «Грозящем» шла обычная «убирка», боцман Жданов был еще неприступнее и ходил по кораблю, словно надутый и обозленный индюк.
Сегодня боцман наводил большой страх на матросов. Более, чем обыкновенно, он сквернословил, придираясь из-за всякого пустяка, и несколько матросов прибил с хладнокровной жестокостью, не спеша и молча.
Отчаянный волновался.
Одному матросу, у которого из зубов сочилась кровь, он возбужденно и громко сказал:
— Что ты позволяешь этому зверю боцману тиранствовать над собой? Он не смеет драться!
Матрос молчал. Притихли и другие матросы, стоявшие вблизи. Притихли и любопытно ждали, что будет. Боцман стоял в двух шагах и слышал каждое слово Отчаянного.
Но Жданов только бросил на Митюшина беспощадный злой взгляд и пошел далее, великолепный, строгий и высокомерный.
«Сегодня будет разделка!» — решил Митюшин.
Действительно, за четверть часа до подъема флага вестовой старшего офицера вприпрыжку подошел к Митюшину.
— Старший офицер требует в каюту! — проговорил невеселым тоном вестовой.
И, понижая голос, участливо скороговоркой прибавил:
— Освирепел… страсть! Сей минут боцман был у «цапеля» и на тебя, Митюшин, кляузничал… Я заходил в каюту и слышал, как боцман против тебя настраивал. Так ты знай!
— Спасибо, брат! — порывисто проговорил Митюшин.
— А первым делом помалкивай… Слушай и не прекословь. Как отзудит, тогда обсказывай: так, мол, и так! Дозволит!
Митюшин, слегка побледневший и возбужденно припоминая смелые слова, которые хотел сказать, быстро спустился в кают-компанию.
Там сидели почти все офицеры корабля вокруг большого стола за чаем.
При появлении Отчаянного оживленные разговоры и споры вдруг стихли.
В кают-компании только что узнали, что этот исправный и способный матрос осмелился бунтовать и ругать при матросах даже самого адмирала. А боцмана чуть было не ударил.
И многие офицеры изумленными и беспощадными глазами оглядывали маленького смугловатого матроса с дерзкими глазами, который решительно и смело шел, направляясь к каюте старшего офицера.
— Экая наглая скотина! Тоже, агитатор на военном корабле! — презрительно воскликнул один юный пригожий мичман.
— Не ругай человека. Не по-джентльменски! Да еще не в отместку ли наговорил боцман. Нельзя ему доверять! — произнес по-французски высокий, с открытым добродушным лицом, брюнет мичман, обращаясь к товарищу укоризненно.
Митюшин догадался, что речь о нем. Он знал, что брюнет был добер с матросами и понимал закон.
Отчаянный бросил на мичмана быстрый сочувственный взгляд, точно благодарил единственного защитника, и без всякой робости постучал в двери старшего офицера.
— Входи!
Матрос вошел в просторную светлую одиночную каюту и, остановившись у запертой им двери, побледнел и, строго серьезный, напряженно глядел на старшего офицера. Слова, которые хотел сказать Отчаянный, словно бы исчезли из его головы в первую минуту.
Худощавый и высокий, Иван Петрович сидел у письменного стола, согнувши свои длинные ноги, и гневно, со сверкавшими под очками серыми глазами, взволнованно и торопливо делал затяжки из толстой папиросы и неистово теребил костлявыми длинными пальцами жидковатую русую бороду.
При взгляде на Митюшина, не имевшего виноватого вида, небольшие глаза старшего офицера расширились от изумления при такой, казалось, наглости матроса. И Иван Петрович уставился на Отчаянного, словно бы первый раз в жизни увидал и хотел рассмотреть такого опасного негодяя, который совершил неслыханное нарушение дисциплины и обнаружил возмутительные понятия.
Не роняя слова, старший офицер все более возмущался, отдаваясь гневу.
Так прошло несколько секунд.
Матрос не опускал глаз.
VII
— Ты вот какой! — наконец начал Иван Петрович, окончив папиросу. — Русский матрос нарушил присягу… Да… Присягу и совесть! Подстрекал матросов к неповиновению предержащим властям… Опорочил боцмана, ругал его и грозил оскорблением действием!.. Осмеивал начальство! А я еще хотел произвести тебя в унтер-офицеры, думал, что ты… Под суд… Будешь в морской тюрьме.
Митюшин не верил ушам, когда узнал, в чем его обвиняет и чем угрожает старший офицер, поверивший боцману.
— Вашескобродие! Дозвольте объяснить!
— Молчать! — крикнул старший офицер.
Митюшин смолк; казалось, положение его безнадежное… Старший офицер продолжал говорить и, взвинчивая себя гневом, уже грозил, что за подобное преступление присудит в арестанты.
— Под арест! На хлеб и воду! И если еще кому-нибудь дерзость — выпорю! — закончил старший» офицер.
Гнев его в ту же минуту стал утихать… Точно грозовая туча разразилась. И он словно смутился, когда мог увидать в этом бледном, страшно серьезном лице «преступника» страдальческое выражение и в глазах что-то тоскливое, словно бы полное укора и в то же время смелое.
— Вашескобродие! Дозвольте объяснить! — снова начал Митюшин.
— Что можешь объяснить? Боцман все доложил, какой ты гусь…
— Боцман, Вашескобродие, оболгал меня!
— Ты врешь… Разве боцман станет клеветать на матроса?
— Я бога помню, Вашескобродие, и не вру! Боцман в отместку накляузничал, и вы изволили поверить… На суде правда окажет, Вашескобродие…
Лицо Отчаянного дышало такой правдивостью и голос звучал такой искренностью, что матрос уже не казался «преступником», заслуживающим тяжкого наказания, и строгий офицер невольно смущенным тоном спросил:
— Ты ругал боцмана и грозил побить?..
— Точно так, ваше благородие!
— Разве боцман тебя теснил? Ведь с тобою все хорошо обращались?
— Точно так, Вашескобродие. Боцман не теснил, и все со мною обращались по закону…
— Так почему же ты оскорбил боцмана?
— Он тиранствует над матросами, Вашескобродие, и нет ему узды. Вам неизвестно, какой он взяточник и как бьет людей… И когда он поднял на меня кулаки в своей каюте, я не позволил… Сказал, что дам сдачу… Каждый это скажет, если доведут… Закона нет драться и оскорблять… И матрос может чувствовать! За дерзости я виноват, вашескобродие. Но не бунтовал и не подстрекал к неповиновению. Я только говорил матросам, что по закону нельзя драться, что надо жить по правде и по совести. Это разве бунт?
Митюшина словно бы захлестнула какая-то волна. Он возбужденно и страстно в подробности рассказал о столкновении с боцманом и отчего не может уважать такого бессовестного человека, из-за которого безвинно терпят матросы и не смеют жаловаться из боязни, что правда не всплывет и правые останутся виноватыми. Он говорил, как нудно из-за этого служить. А ведь закон для всех… Исполняй закон, и не было бы людям обиды.
— Но ты-то что за защитник закона? Кто тебе позволил?
— За правду беспокоюсь, вашескобродие… Говорил, что матрос не должен позволять, чтобы его били.
— И начальство бранил?
— Точно так. Случалось, осуживал, вашескобродие.
— За что ж ты смел судить?
— Каждый человек смеет судить по своему понятию, вашескобродие… Я и осуждал, что господа офицеры должны давать пример законно, а они дерутся, и нет им… Вот и весь был мой бунт.
— И меня бранил?
— Случалось, вашескобродие! — правдиво вымолвил Отчаянный.
— За что?
— За то самое, вашескобродие!
— Ты взаправду отчаянный! — промолвил старший офицер, но возмущенного чувства в нем уже не было.
Он задумался и находился в смятенном настроении человека, которого внезапно выбили из колеи.
Пронеслось что-то светлое, когда и он в дни юности беспокоился за правду… Сам безупречно честный, он возмущался боцманом, о проделках которого и не догадывался и которым начинал верить. Изумлялся Отчаянному и понимал, что он не бунтовщик, но во всяком случае беспокойный матрос и заслуживает наказания за нарушение дисциплины, и такой матрос будет заводить «истории». Если отдать его под суд, то, наверное, переведут в штрафные, — и будущность человека испорчена. Да и обнаружится многое, что делалось на «Грозящем» и что будет неприятно для старшего офицера и капитана.
Иван Петрович считал себя справедливым. И в голову его пришла мысль, что, по совести, следовало бы отдать под суд боцмана, если все, что говорил Митюшин, подтвердится дознанием. Но боцман был отличным исполнителем, и лишиться такого человека неприятно для старшего офицера. И главное, снова на суде вынесется тот сор, который выносить боится начальство, а Иван Петрович боялся всякого начальства, так как думал О своем благополучии. Да и, отдавая боцмана под суд, старший офицер обнаружил бы свою вину. Как он не знал таких беззаконий и служил с боцманом две кампании?
В конце концов старший офицер, раздраженный, что на «Грозящем» из-за матроса вышли такие неприятности для него, и без того целые дни хлопотавший без устали, запутался и не знал, что сделать с Отчаянным.
Прошла минута, другая. И наконец у старшего офицера явилось решение замять все это дело. По крайней мере, это казалось такому бесхарактерному человеку лучшим, выходом.
И он сказал Митюшину:
— Я прощу твой проступок, если ты будешь просить прощения у боцмана… Мне жаль тебя… А я поговорю с боцманом… Понял?
— Понял, вашескобродие!
— Но только смотри, чтоб впредь ни гу-гу… Не болтай, а то попадешь под суд и пропадешь… Не забудь этого… Какой бы ни был боцман — не твое это дело, а дело начальства… И не тебе о нем рассуждать… А если считаешь себя безвинно наказанным, можешь жаловаться по начальству!
Старший офицер думал, что спас Отчаянного и тот должен быть благодарен. В то же время история окончится. А боцмана он разнесет и ему пригрозит. Он перестанет драться и брать взятки…
Но Митюшин не только не обнаружил благодарных чувств — напротив, он был мрачен.
— Так ступай и под арест не садись!
— Слушаю, вашескобродие… Но только…
— Что еще?
— Я не пойду просить прощения у боцмана. Если кого под суд, то следует его, вашескобродие…
— Молчать! Я прикажу тебя выпороть! — вспылил старший офицер.
— На то закона нет, вашескобродие! Прикажите прежде судить, вашескобродие! Правда окажет! — ответил Отчаянный и вышел из каюты.
VIII
Старший офицер одумался, и Отчаянного розгами не наказали.
Через день после дознания его отправили в Петербург, и Отчаянный был посажен в морскую тюрьму как подследственный. Осенью его перевели в госпиталь, — у него оказалась скоротечная чахотка. В палате Отчаянный по-прежнему беспокоился за закон, тосковал по правде, говорил соседям-больным горячие речи…
Он все еще ждал суда и надеялся, что там «правда окажет» и боцмана уберут.
Отчаянный так и не дождался. Перед рождеством он умер.
Добрый
(Из дальнего прошлого)
I
Однажды, в начале декабря 186* года, когда щегольской корвет «Кречет» стоял на двух якорях на большом рейде Батавии, я — тогда юный гардемарин — правил вахтой с полуночи до четырех утра.
Огни были потушены. Вокруг царила тишина.
Капитан и большая часть офицеров были на берегу. Старший офицер, штурман, механик и «батя», как все звали иеромонаха Антония, никуда не съезжавшего с корвета, давно спали в своих душных каютах.
Команда спала на палубе. Отделение вахтенных дремало, примостившись на бухтах снастей и у пушек.
Только бодрствовали двое часовых да шагал взад и вперед по шканцам вахтенный унтер-офицер.
Не спал и один из вахтенных матросов — Аверьян Шняков.
Это был старший рулевой, серьезный и старательный человек лет под сорок, любивший иногда пофилософствовать на баке и вступавший охотно в беседы с теми офицерами, особенно с молодыми, которые пользовались его расположением за то, что не наказывали линьками, не дрались и не очень ругались.
Прислонившись к борту на шканцах, Шняков тихо мурлыкал под нос какую-то песню. И вдруг, обрывая ее, поднимал голову и вдумчиво смотрел на небо, усеянное брильянтами мигающих звезд, среди которого медленно-величаво поднималась томная и словно бы самодовольная луна.
Она, как говорят моряки, светила во «всю рожу».
Шняков вдыхал полною грудью нежную прохладу южной ночи и, казалось, проникновенно любовался ею.
Действительно, почти безмолвная и таинственная, она была прелестна.
Море едва трепетало рябью, отливавшею серебром, и словно о чем-то ласково шептало. И оно манило бы к себе, если бы по временам не показывалась над водой, совсем близко, отвратительная плоская большая голова каймана с неподвижными глазами.
На такой рейдовой вахте делать решительно нечего.
Я уж налюбовался ночью, до усталости шагал по мостику, мечтая о писательской славе, обошел два раза палубу — убедиться, что часовые не спят, и, прислонившись к поручням, вдруг почувствовал, что неотразимая и властная дрема сию минуту охватит меня.
«О, как хорошо заснуть!.. Какое наслаждение!.. Но вахтенному офицеру нельзя… Я, конечно, не засну… Я только постою немного».
И в ту же секунду заснул.
Через минуту-другую не то дремы, не то крепкого сна, полного сновидений, я открыл глаза и, сконфуженный, отошел от предательских поручней, спустился с мостика и направился к Шнякову, чтобы в разговоре с ним разогнать сон.
Мы были в отличных отношениях.
Шняков знал, как я уважал его, отличного рулевого и необыкновенно чуткого к правде, и как любил слушать его. И он иногда рассказывал о прежней службе, о разных начальниках, с которыми служил, о правде и неправде. Особенно любил он рассказывать, когда мы вдвоем катались, бывало, на двойке под парусами и когда Шняков деликатно учил своего юнца начальника не одним только управлениям шлюпкой.
В его рассказах чувствовался слегка скептический ум, но не озлобленный после двадцатилетней службы, а словно бы смягченный философией его доброго сердца.
II
— Не спится, Шняков? — тихо спросил я, приблизившись к нему.
Он встрепенулся, точно внезапно оторванный от дум, и повернул ко мне залитое лунным светом простое с крупными чертами лицо, густо заросшее русыми баками, худощавое, крепкое и загорелое, с вдумчивыми и серьезными серыми глазами.
— Ночь, ваше благородие! — еще тише ответил он, словно бы боялся спугнуть чары волшебной ночи.
И прибавил:
— Задумался, глядючи…
— О чем?
— Мало ли о чем, ваше благородие… Уследи-ка…
Шняков примолк и через минуту сказал:
— Хотя бы взять в понятие эти самые места…
— Хорошо!
— А крокодил да акул-рыба кишмя кишат… Вот вам и хорошо, ваше благородие! Опять же и то: надо и таким подлецам кормиться. Господь создал их для разбоя… Живи, мол, разбойничай… Ну и они что ни попало, своя рыба или человек, — все пища, и в пасть… Так ведь крокодил или акул-рыба без всякого понятия живет… На то он гад… Его и остерегайся… И убий… Можно… А ежели ты человек, да хуже крокодила… От его не убережешься… Прямо лезь в глотку, и шабаш!..
— Да ты разве таких людей знавал? Я только читал…
— То-то доводилось, ваше благородие… Мало ли околачиваюсь на флоте.
И, указывая рукой на рейд, прибавил:
— Вот на этом самом рейде матросики просто в отчаянность пришли… Кажется, наш брат не обидчист и терпелив, и то чуть было не начали вроде как бунтовать…
— И ты в Батавии был?
— Годов десять тому назад, ваше благородие. На клипере, на «Бойце», в дальнюю ходил… Капитаном у нас был Евген Иваныч Двинский… Может, слышали?
Я слышал, что Евгений Иванович Двинский, молодой адмирал, давно занимавший береговое место, был мягкий и очень добрый человек.
— И с таким добрым капитаном вы дошли до отчаянности? — воскликнул я.
— Что и говорить… Уж на что был добер! Не то чтобы наказать линьками или ударить, ругательного слова никому не сказал… Одно слово — вроде быдто андела был, ваше благородие!
— Так почему же вы хотели бунтовать?
— А потому, что ни с одним, самым что ни на есть злым, командиром не жили мы, как арестанты, с анделом Евген Иванычем. Не вызволи нас тогда один матросик, многим бы пришлось пройти скрозь строй… Небось изволили слышать, какие были наши права при императоре Николае Павловиче, да ежели еще за быдто как за бунт, за то, что дошли до отчаянности и хотели просить отдышки… Небось на «Кречете» никто не подумает бунтовать! — прибавил Шняков.
Нечего и говорить, как я был изумлен в эту ночную вахту в Батавии.
— Расскажи, голубчик, про все… все… Это что-то непонятное… Порядочный и добрый командир и… вдруг… Да как же это могло случиться? — спрашивал я, взволнованный и недоумевающий.
— Что ж… Извольте слушать… Я вам обскажу про доброго командира, ваше благородие. Всяких видал, но только другого, как Двинский, не видал. Разве на сухой пути доведется услышать про такого андела! — проговорил, усмехнувшись, Шняков и прибавил: — Сбегать на бак… Выкурю трубчонку и обернусь.
— Только, пожалуйста, поскорей, Шняков.
— Живо накурюсь, ваше благородие.
Через минуты две, которые показались мне бесконечными, Шняков вернулся на шканцы той быстрой походкой, какой обыкновенно ходят матросы на судах, прислонился к борту, взглянул на падающую звезду и среди тишины чудной ночи пониженным приятным голосом заговорил.
III
— Вот вы дивитесь, ваше благородие. А мы на «Бойце» спервоначалу вовсе в ошаление пришли, словно тебя ежели да нежданно огорошили по башке марса-фалом! Да как же это, господи? Евген Иваныч Двинский, командир, мол, добрый и жалостливый, сам по своим правам на вверенном ему судне вроде как царь, и у его на клипере с людьми зверствовали и до того начали вгонять в тоску, что и не обсказать… Небось ошалеешь и потом захочешь войти в понятие насчет такой обидной нашей тоски, ежели на баке с людей стали снимать шкуры… И вскорости поняли, ваше благородие, какая капитанская доброта…
— Какая?
— Никчемная, прямо сказать, здряная! — убежденно и взволнованно промолвил матрос, слегка поднимая голос.
И после паузы продолжал:
— И нет хуже такой доброты для матросов. Я так полагаю по своему рассудку, ваше благородие. Только напрасно она обнадеживает матроса и пуще его обескураживает… Веру в доброго человека смущает и вводит в большую тоску… По крайности видишь: командир вроде бешеной собаки, и знаешь. А ведь голубь, форменный голубь, а тебя обанкрутил хуже, чем коршун… А все: голубь… И сам себя почитает голубем… И господа на «Бойце»: голубь да голубь… А как мы обрадовались, как увидали Двинского… Богу молились. Вот, мол, бог нам дал на редкость доброго командира… Приехал на клипер — такой смирный, приветный и с нами обходительный… А из себя высокий и аккуратный, вовсе чернявый, этак лет тридцати с небольшим, лицо белое, чистое и черные глаза добрые-предобрые… Вот небось этот подлец и дитю не обнадежит глазами! — прибавил чуть слышно Шняков и кивнул головой на воду.
В нескольких шагах от корвета плыл кайман.
Через минуту он нырнул, и матрос продолжал:
— А флотской части не знал — сразу видно было. Допречь он все в адъютантах по штабам околачивался и в плавания почти не ходил. А назначили его командиром, сказывали, из-за отца… адмирал в силе находился, там отпору ему не было. Хорошо. И думали, ваше благородие, что командир помаленьку к должности своей приобыкнет, а нашему брату лестно… Кроткий… Небось слышал, баринок, какая тогда была флотская служба и на каких правах состоял матрос? Так, изволите понять, ежели голодному — и вдруг пища! Вовсе обескураженному матросу — и новый оборот жизни! Встал без страха и лег спать не избитый и не драный. И был я, ваше благородие, в таких обнадеженных мыслях, что душа взыграла… Радуюсь. Нас, мол, бесправных, бог вспомнил… А надо вам обсказать, ваше благородие, что до того я два года ходил марсовым на «Костенкине» корабле с командиром Обуховым… Может, слыхали? В прошлом году его увольнили. Не срами, мол, флота и получай пенсион. Небось и без живодерства матрос не оконфузит.
— Слышал про Обухова… Говорят, был жестокий.
— То-то. Бык и есть. Так и звали его в Кронштадте, потому никакого в нем божьего рассудка, а вроде бычьего. Всего и отпущено ему было от господа бога. И когда он не находился в понятии и сидел в каюте и марсалился — ничего себе, бык как бык, и вестовой очень даже обожал его. А ежели да ему войдет что в башку, то хотя на ней кол теши. Выкатит глаза, мотает головой и орет: «Чтобы по всей букве закона наказать!» Упрется и одно мычит: «Наказать по всей строгости закона». И хотя бы за пустячную провинность он, по бычьему своему разуму, по закону запарывал. «Я, мол, ничего другого понимать не желаю». И только как это, ваше благородие, в прежние времена давали таким, прямо сказать, остолопам волю над матросами? Просто даже никак не поймешь. Теперь, как царь наш Александр Николаич приказал, в каком виде надо понимать матроса, небось мы вздохнули. Вроде как людьми стали, ваше благородие. А тогда?..
Шняков только вздохнул и примолк.
IV
— Таким манером освободился я от Обухова и попал на «Боец»… к доброму капитану… в полной надежде на отдышку, и вместо того… нам вроде крышки…
— Да как же? — спросил я.
— А так же, ваше благородие. Из-за старшего офицера Перкушина. Очень даже бесстыжий и жестокий был человек, не тем будь помянут, покойник. Он-то и был настоящим командиром и разбойником. Над всем волю забрал.
— А Двинский?
— Только хлопал добрыми глазами. И как вышли мы из Кронштадта, обозначилось, что наш Евген Иваныч вовсе не понимал службы и большого рассудка не имел и без всякого мужчинского характера… Перкушин словно заворожил капитана, и весь Евген Иваныч с его добротой был у старшего офицера в полном повиновении, а быдто со своей амбицией. Шельмоватый и прельстивый был Перкушин. Вел свою линию. «Как, мол, прикажете?» А приказывал-то все он. И дока по флотской части был. И, надо правду сказать, отчаянный и ничего не боялся, ежели, бывало, заштормует. Умел управиться и не сойдет с мостика, как в шторму наш маленький клиперок бедует и зарывается в волнах. Подлый был человек, а во всей форме молодчага — распоряжался. С им и страха не было.
— А капитан что?
— Тоже для видимости стоял наверху и, однако, не мешался. И на ночь Перкушин всегда, бывало, в бурю капитана упрашивал отдохнуть. Я, мол, все ваши распоряжения сполню. А какие распоряжения? Раньше и плавал Евген Иваныч на яхтах, между Петербургом и Кронштадтом. Без старшего офицера он ни боже ни. И хотел бы, да не смеет. Только почет да что добрый. И сам, сказывали, не хотел срамиться, идти в капитаны, так отец принудил: «Карьер, говорит, сделаешь, а мы, говорит, выберем старшего офицера, собаку по морской части, он, говорит, твой клипер в лучшем виде будет держать и тебя не обанкрутит. Он с большим понятием помощник тебе будет, и ты его во всем слушай». И Перкушину тоже адмирал: «Так, мол, и так. Берегите сына и будьте ему настоящим помощником… Одним словом. А как благополучно вернетесь, говорит, не в пример выйдет награждение». Старший офицер сам опосля рассказывал левизору об этом, и вестовой сказывал на баке. Таким манером Перкушин и стал гнать свою линию, чтобы отличиться. Еще когда стояли в Кронштадте, готовились, хоть и строг был, а не оказывал всей своей подлости, но как ушли, по всей форме начал вгонять в тоску. Донимал учениями и требовал, чтобы матрос вроде как облизьяна летал по вантам и чтобы на секунд не смел опоздать с парусами или на другой какой работе. И вовсе как на скота смотрел на нашего брата. За каждую малость приказывал на бак и сам смотрел, как людей в линьки принимали. И цигарку курит да еще посмеивается. Вовсе без пыла, а с подлым, жестоким расчетом, спокойно изводил людей и без крика. И ругался мало. И не очень дрался, воздерживался, особенно при капитане. Но зато выучивал, ваше благородие, на баке… И такой страх навел, что матросы вроде как арестанты…
— Да как же капитан не знал, как старший офицер обращается? — спросил я.
— То-то не знал, ваше благородие. Порка шла обязательно в четыре часа утра, когда капитан спал.
— А пожаловаться?
— Не смели сперва дойти до капитана. Перкушин застращивал. Только, мол, пикни. И при капитане он был с матросами ровно лиса… Вовсе обманный был человек. И настраивал при случае Евгена Иваныча против команды. Они, мол, бесчувственные, грубые и пьяницы. С ими, мол, трудно добром. Для пользы службы и для порядка военного судна нужна строгость. Капитанский вестовой, Лаврюшка, обсказывал нам, как настраивал капитана Перкушин.
— А капитан что?
— Известно что: очень жалел, что ежели нужна строгость, но приказывал, чтобы никаких утеснениев не было и не наказывали без жалости линьками. Перкушин обнадежил, что он взыскивает с рассудком и, мол, от намерениев капитана по долгу службы отступить не может. Одним словом, объегоривал капитана… С им и левизор и механик — вроде шайки была… Перкушин вводил в тоску, а те двое «обуродовали» по угольной части, а уж левизор один по своей части прямо-таки грабил. И харч нам недобросовестный давал… А капитан все подписывал, что они ни дадут… Верь не верь, а подписывай, коли по должности своей не понимаешь… Таким манером вовсе обанкрутила доброго-то капитана шайка. Врут ему как сивые мерины и, как следовает, в глаза оказывают во всей форме уважение. И со стороны-то всем видно, а капитан будто ничего не замечает. Одно слово, оболванивают да еще про себя тишком над капитаном смеются. Вестовые слышат. А раз на берегу в Риве (Рио-Жанейро) выпивший левизор — башковат был брехать капитану насчет будто бы дешевой покупки всякого припаса — при мне кричал товарищу: «Я, говорит, что вгодно, то и делаю по своей части… Какие счета подам… Только спросит: „Верно?“ — „Обязательно верно…“ И, не читая, подмахнет… Очень добрый Евген Иваныч… Ровно дите!» Кричит, заливается… Дескать, как сподручно матроса обкрадывать. Господам-то смешно, а нам не до смеха было, ваше благородие! Во всех смыслах с им была тоска… Кровные наши денежки и то левизор зажиливал. Иди-ка на разбойников искать правды к нашему доброму!.. Однако надо передохнуть, ваше благородие.
V
— Прошло около года. Переходы мы делали не очень большие. Перкушин любил закатывать на берег, и потому мы захаживали во многие порты и в хороших стояли на якоре подольше. И как Перкушин на неделю съезжал на берег, у нас был словно праздник. Первый лейтенант, исправлявший должность старшего офицера за Перкушина, ни учениями не допекал, не наказывал людей… Правильный и по-настоящему добрый человек был. Понимал матроса и не считал его быдто тварью. Бывало, и слово приветливое скажет, и матрос чувствовал, что им не брезгует. И по морской части дошлый… И мы, ваше благородие, без всякого страха, а только чтоб первого лейтенанта не оконфузить, просто из кожи лезли вон и на фок-мачте, которой заведовал, и на вахтах, когда он стоял, и ученья, когда за старшего офицера делал не до измора, а много-много полчаса, а то час… «Вот, мол, какого бы нам старшего офицера!» — толковали мы, бывало, промежду себя на баке. Тогда и капитан взаправду был бы добрый!.. И был у нас, ваше благородие, один молодой матросик, Василий Кошкин, вместе со мной на фор-марсе работал… Лучший был марсовой и отчаянный в работе. И смирный, робкий был человек, вовсе безответный по терпеливости, а очень щекотливый к неправде. И, бывало, заговорит со мной, как жестоко изводит Перкушин людей, чуть не плачет. Большой жалостливости была его душа, ваше благородие, за людей. Главное — других жалел, самого его редко пороли, да и с рассудком, потому очень уж он боялся Перкушина и даже разбойнику трудно было придраться к такому старательному и отчаянному матросу… Вскорости перестал со мной говорить о старшем офицере и вовсе в задумчивость впал и затосковал… и под конец стал ожесточаться сердцем… Вдребезги напивался на берегу и, робкий, как-то ответил Перкушину. Тот только ахнул и на другое утро отодрал как Сидорову козу. В большую тоску вошел Кошкин… И шли мы из Ривы (Рио-Жанейро) на Надежный мыс (мыс Доброй Надежды), пришел перед вечером Василий на бак, вошел в круг около кадки с водой, закурил трубку и, сам бледный, сказал: «А так, братцы, никак невозможно! Дойдем, говорит, до капитана… Доложим, какой есть Перкушин! Капитан вовсе добер. Но только он не знает Перкушина… Доложим! Капитан, как узнает, ахнет. Увольнит, говорит, старшего офицера и назначит Алексея Николаича, первого лейтенанта, и всем нам, говорит, будет избавление». Удивились, как это смело обсказал наш смирный. Молчим. И забрало нас, и страшно, что после будет от Перкушина. Старые матросы стали говорить, что как бы еще хуже не вышло. А боцман прикрикнул: «Ты, говорит, чуть не первогодок, а учить старых матросов! Терпели, будем еще терпеть. Бог даст и отойдет Кобчик!» Перкушину и было прозвание «Кобчик». Он был маленький, крепкий, и нос загнутый, как у птицы, и глаза пронзительные и круглые, как у кобчика… А Кошкин свое. И еще забористей, и сам чуть не плачет… И объявил, что он будет докладывать капитану про Перкушина. Пусть только выстроит боцман во фронт… И нас, ваше благородие, прорвало… Откуда и страх пропал. А капитан вышел наверх и ласково так поглядывает. «Во фрунт!» — начал Кошкин. За им несколько голосов. А там все больше да громче. Видит боцман, что команда вошла в чувство, и сам в тоске из-за Перкушина. Тоже не отстал от своего же брата. «Ну и будет, черти, нам всем шлифовка», — сердито проговорил он и просвистал: «Всех наверх!» Через секунду команда стояла во фрунте. Кобчик выскочил обозленный. «Это бунт, Евген Иваныч! Не извольте к этим подлецам выходить! Позвольте, говорит, я с ими объяснюсь, как они смели самовольно во фрунт собраться. Это форменный бунт!»
— И что ж капитан? — невольно вырвалось у меня.
— Не послушался Кобчика. Сердце-то подсказало, что бунта нет, а одна, можно сказать, просьба. «Оставьте учить меня!» — вдруг окрикнул капитан и весь закраснел, и тут же будто испугался прыти. Однако прямо к нам: сконфуженный, ласковый, глаза добрые-предобрые и растерянные, быдто в удивлении, что команда собралась в унынии. И доложу вам, ваше благородие, и досадно, и жалко мне было глядеть на капитана. За свою же доброту приходилось ему за других перед матросами стоять в растерянности и оконфузливости. Помолчал так секунд-другой, поглядел на нас ласково и быдто жалеючи и приветливо тихим голосом поздоровался: «Здорово, братцы!» Ответили дружно и громко: «Здравия желаем, вашескородие!» Дескать, не против тебя мы осмелились. И капитан еще ласковей спросил: «По какой причине вы, братцы, собрались?» — «До вашескородия осмелилась дойти команда!» — доложил с правого фланга боцман. «Говори, боцман, в чем дело». И тогда вышел перед фрунт Кошкин, бледный как рубаха. «Дозвольте доложить, вашескородие?» — «Говори, Кошкин, не бойся, голубчик!» И Кошкин начал обсказывать… И чем дальше, тем больше приходил в взволнованность, как докладывал, в какой тоске матросы за притеснение и какая каждое утро на баке расправка… И вместе с Кошкиным все более и более краснел и капитан и приходил в расстройку и в тоску, и добрые глаза стали такие придумчивые и печальные…
И попросил Кошкин расследовать, по правде ли все он осмелился доложить командиру. «Если, говорит, не правда, засудите меня, вашескородие, а если я по чистой совести обсказал, защитите людей, вашескородие!» И замолчал. И матросы молчали. А боцман Никитич вовсе насупился, нахмурил брови и вдруг сказал: «Осмелюсь доложить вашескородию, что Кошкин смирный и примерный матрос по поведению и по службе и ни слова неправды не обсказал вашескородию». Молчал и поник головою капитан… И на палубе словно замерло. Такая вдруг стала тишина. Наконец Евген Иваныч поднял голову и, весь быдто взбунтовавшись, покраснел и гордо так сказал, что сам разберет дело и матросов ни в жисть не даст в обиду. «Больше, говорит, братцы, нещадности не будет». А Кошкина ласково приспокоил: «Спасибо, матросик, что объявил от полного своего сердца претензию. И не тоскуй, и не бойся. Тебе ничего не будет, и не будет никому взыску, что дошли до меня не по форме. Впредь сам буду по воскресеньям опрашивать… Расходись, молодцы!» — «Рады стараться, вашескородие! Чувствуем!» — в благодарной радости крикнули ребята. С этим капитан раздумчиво так пошел в свою каюту, и тую ж минуту следом пошел за ним и старший офицер, из себя побледневший. А форц прежний. Не понравился мне этот форц. Думаю: как бы он какой загвоздки не придумал, чтоб оправдать себя перед капитаном. Однако разошлись обнадеженные. Особенно радовался Кошкин. «Теперь, говорит, братцы, беспременно полный оборот нам будет. Капитан все узнал… По глазам видно, что не догадывался, как старший офицер живодерничал и как левизор кормил. Он защитит». И все хвалили теперь Кошкина, что придумал дойти до капитана и постоял за команду и так жалостливо обсказывал… И боцман Никитич похвалил за то, что Кошкин душу взбаламутил. А какой конец по капитанской лезорюции будет, боцман сомневался… Как, мол, Кобчик обкружит голубя и одурманит его.
— Что же вышло, Шняков?
— А вот доскажу. Только прежде надо покурить, ваше благородие.
И Шняков пошел на бак. А я снова обошел палубу. Сна уже давно не было, и ночная вахта проходила необыкновенно скоро. Уже пробило четыре склянки (два часа ночи).
VI
— В первое время Кобчик притих. Пороть порол, но без живодерства. Однако и к боцману и в особенности к Кошкину стал придираться — прямо-таки невзлюбил. И с капитаном во время первого же разговора была расстройка. Вестовой Лаврюшка и слышал, как старший офицер вломился в амбицию и пригрозил, что спишется по болезни с клипера на берег и возвратится в Россию. Матросы, мол, самовольно стали во фронт и облыжно показали на своего начальника, а капитан вместо взыска их же обнадежил бунтовать. И стал обсказывать, что наказывал матросов в своем праве и без жестокости… И до того сбил капитана, что расстроил его. И стал он и перед ним быдто извиняться и просить не уходить, но только чтобы Перкушин не вводил матросов в тоску, чтобы все было по-хорошему и матросы не жаловались. Кобчик обещал не вводить капитана в расстройку и просил только не очень-то верить матросам по своему доброму сердцу. Из-за этого, мол, они и стали полагать о себе. Вот Кобчик какую линию подвел, ваше благородие. И левизор приходил объясняться насчет харча. Правым остался. Верно, говорит, что одна бочка солонины скверная попалась, так ее прикажет немедленно выбросить за борт. Одно слово — обанкрутили Евген Иваныча. И он спрашивал раз насчет претензии, а потом уж перестал. И старший офицер на мысе Надежном и не думал списаться с клипера. И как вышли мы с Надежного, Кобчик опять по-старому стал зверствовать. И первым же делом боцмана разжаловал и дал двести линьков и Кошкина отшлиховал до отчаянности. И обоим сказал: «Попробуй-ка оба бунтовать, ты строить во фронт, а ты, подлец, облыжно жаловаться».
И разжалованный боцман, как его отпороли, сказал на баке: «Вот и капитанская лезорюция! Вот доходили до капитана». А Кошкин еще хуже затосковал. И капитан быдто не видит ничего. Однако вестовой сказывал — загрустил… Чует, что слово не сдержал, и не знает, как ему быть… А боцманом Кобчик сделал неверного унтер-офицера… Все передавал про команду старшему офицеру и вовсе вроде Иуды был. И дрался вовсю. Последнюю совесть в себе уничтожил… И решили на берегу избить до полусмерти Иуду боцмана. Проучить… Но когда еще берег, а пока вовсе обезнадежили, и никакой веры на защиту капитана не осталось… Дойди до его — еще хуже. И совсем покорились… Живем в страхе. И быдто в арестантских домах. А матросик Кошкин хуже затосковал и мучился совестью, что из-за его выдумки вместо избавления… еще товарищей подвел… И вовсе угрюмистый стал. И покорно терпел наказания Кобчика и бой боцмана Иуды… И ожесточился… Вот до чего довели, ваше благородие, тихого и смирного человека, ежели только и его сердце мучится по правде. Шли мы таким манером до Батавы… И перед самым приходом, в пятом часу утра, одного щуплого матроса Кобчик отпорол до бесчувствия, и его снесли в лазарет. Стали мы на рейд. Вышли вскорости к подъему флага. Ждем, как примет командир лепорт доктора о больном по случаю жестокой порки, однако капитан и после лепорта веселый, что поедет, мол, на берег. И фельдшер нам объяснил, что доктор не доложил о больном. Кобчик его упросил. Очень обиделись матросы, ваше благородие. И так ненавистен нам был Кобчик, что хоть скрозь строй бы прогнали… Однако боимся его… Молчим… Только про себя тишком говорим: «Что ж это, братцы, в чихотку будет Кобчик вгонять, и капитан его держит в полном доверии и ничего не знает». И берегу не радуемся, не смотрим на радостное утро. Кому оно на радость, а нам в тоску… А на мостике и капитан и многие другие офицера весело разговаривают, точно человек не в лазарете еле дышит… «Где ж, мол, правда?» Это я про себя думаю, и сердце бунтует, ваше благородие… Бунтует, и зло берет… Около меня Кошкин… Лица на ем нет… Глаза ввалимшись и как уголья… И я ему: «Давай, Вась, соберем матросов и во фрунт… Дойдем до капитана… Пусть пойдет в лазарет и увидит… Пусть освобонит нас от Кобчика!» А Кошкин: «Не надо… Лучше, говорит, одному принять скрозь строй, чем всем. Небось братцы добром вспомнят!» — «Да ты что надумал, Вась?» Я сразу понял по его глазам, что Кошкин надумал. Ни слова не сказал и уже пошел прямо к мостику, поднялся и, сняв шапку, остановился перед капитаном. Матросы так и ахнули… Ахнули и офицеры… Удивился и капитан. Однако сконфузился и с укором взглянул на Кобчика. Все замерли на палубе.
Взволнованный Шняков на секунду примолк.
VII
— Только голос дрожал, когда матросик доложил капитану: «Извольте, мол, заглянуть, вашескородие, в лазарет, как запорол утром человека старший офицер. И с той поры, как вашескородие обещали разобрать мою жалобу, старший офицер несколько ден притих и после стал еще более теснить людей… Вы, мол, обещали, что нам ничего не будет за претензию, а старший офицер и меня, и прежнего боцмана нещадно наказал и сказал, что за то, что дошли до командира. И с тех пор зря меня наказывал». — «Молчать! Как ты смеешь так говорить с капитаном!» — вдруг крикнул Кобчик. Ну, тут капитан осердился. «Молчите вы!» — велел он. И сказал Кошкину «Говори!» Кобчик тую ж минуту вниз… Не пожелал слушать. «Больше нечего говорить, вашескородие. Только освобоните людей от старшего офицера. Не доведите команду до отчаянности… А меня извольте наказать, вашескородие, за то, что осмелился самовольно объяснить насчет старшего офицера!» Капитан только махнул головой и побежал в лазарет. И фершал сказывал, что капитан очень огорчился, когда увидал больного. И спросил фершала: попадали в лазарет такие больные? Фершал доложил, что бывали. И тогда капитан обнадежил больного и сам закрыл руками глаза. Верно, слезы хотел скрыть… Сердце-то доброе и жалостливое… И увидал наконец, как окрутили его старший офицер и другие. Простоял он так с минуту и сказал доктору с тоской и укором: «И вы, доктор, вместе с другими меня обманывали?» И ушел в каюту. Так и не уехал на берег в тот день и все ходил в задумчивости по каюте. И не допускал к себе старшего офицера. А к вечеру уже послал за первым лейтенантом Алексеем Николаичем и велел быть ему старшим офицером, а Перкушину на его рапорте о болезни надписал: «По болезни можете вернуться в Россию и сегодня же уехать на берег». А мы прослышали и все еще не верим. Думаем: допустит к себе старшего офицера, и опять он останется. Однако, видно, сам этого боялся. Так и не допустил Перкушина. И Кобчик стал собираться и громко в кают-компании ругал капитана. И, как вечер, со всеми вещами уехал с клипера. Матросы крестились. И с той же минуты мы вздохнули с Алексей Николаичем. И, должно быть, Алексей Николаич посоветовал — вскорости сменили левизора. Не осмелься Кошкин пойти скрозь строй за команду, не избавились бы мы от Кобчика. До чего бы он нас довел, господь знает… Матросик нас вызволил из-за щекотливого к правде сердца. Вот оно что делает, смелое сердце, ваше благородие! — заключил Шняков.
— А Кошкину ничего не было?
— Ничего, ваше благородие.
— И больше никогда не доходили на «Бойце» до командира?
— После Батавы оборот пошел. За что же доходить? За хорошее?
Оба мы молча глядели на чудное звездное небо.
И вдруг раздался окрик часового:
— Кто гребет?
— Офицер!
Я скомандовал фалгребных и пошел к трапу встречать возвращавшихся с берега капитана и офицеров.
Месть
(Рассказ старого боцмана)
I
— Сами изволили служить во флоте, вашескобродие, так можете понимать, какая она есть флотская служба. Известно, вода — не сухой путь, и коли ты, значит, в своем рассудке, с ей не шути, а уважай ее и бога-то завсегда помни. Всего бывало. Ну и учили в старину нашего брата не по-нонешнему, а больше боем и линьками, особливо ежели командир или старший офицер были к этому привержены. Такое тогда положение было, что быдто без эстого никак невозможно…
— И долго вы служили, Захарыч?
— Двадцать три года отслужил царю, вашескобродие. Боцманом восемь лет был, три раза в «дальнюю» ходил… Всего, можно сказать, видал. Бились мы с клипером на каменьях у Сахалин-острова, ни раз в окиане во время погоды господа милосердного вспоминали, но только, прямо доложу вам, вовек не забыть, как это мы на «Чайке» домой, в Рассею, ворочались. Слыхали про «Чайку»-то? Ведь почти к Кронштадту подходили… Видно, господь несчастие послал нам в наказание. «Помни, мол, флот рассейский, что за грехи бывает!» Тридцать шесть годов, почитай, прошло с тех пор, а теперь, как вспомнишь…
Низенький, коренастый и седой как лунь Захарыч, с которым мы, сидя в небольшой лодке, ловили ранним летним утром окуней на ряжах, недалеко от Ораниенбаума, внезапно смолк и, весь внимание, напряженно глядел своими маленькими, оживившимися глазками на поплавок. Еще секунда, и Захарыч вытащил из воды крупного окуня.
— Окунек форменный! — прошептал Захарыч, снимая с крючка трепыхавшуюся рыбу и бросая ее в бачок с водой. — Здесь им вод, вашескобродие!
Он основательно насадил червяка, поплевал на него, закинул удочку и, закурив маленькую трубочку, набитую махоркой, примолк.
Мне было не до окуней.
Узнав, что Захарыч был на злополучной «Чайке», о трагической катастрофе которой мне довелось слышать в юности; я, разумеется, хотел узнать от очевидца подробности, тем более, что о причинах несчастия, в свое время ходили темные слухи.
— Так вы были, Захарыч, на «Чайке»? — воскликнул я.
— То-то был… на фор-марсе служил… Ноковым, вашескобродие… Господь вызволил… Немного тогда нас с «Чайки» спаслось, — почти шепотом говорил Захарыч, не спуская глаз с поплавка. — Ишь ведь шельмец, потрогал, а настояще брать не берет! — прибавил он, покачивая головой.
— Расскажите, Захарыч, о «Чайке»… Все, что помните, расскажите.
— Лучше, как отловим рыбку, тогда. А то рыба не любит разговору… Даром что рыба, а и в ей рассудок.
— Да вы, Захарыч, тихо рассказывайте, она и не услышит. А потом мы как следует закусим и уж будем удить молча.
— Разве что ежели тихо, — согласился Захарыч, видимо, несколько заинтересованный вопросом о закуске и бросая любопытный и умильный взор на стоявшую на корме корзинку, из которой торчала бутылка с водкой.
— Может, и теперь стаканчик выпьете? — предложил я.
— Что ж, вашескобродие, вреды не будет, ежели и выпить, — весело отвечал Захарыч, заметно оживившись. — Вместо как быдто чая. Оно даже пользительно, и самое время… Солнышко-то высоко поднялось. Скоро и флагу подъем… Эка ведь коровы! — с насмешливым презрением прибавил Захарыч, указывая побуревшею, с надувшимися жилами, рукой на стоявшие у Кронштадта два броненосца, отчетливо видневшиеся на чистом горизонте. — Никакого в их виду нет… Не то, как старинные суда… Мачты кургузые, голые… Только одно звание, что мачты, — говорил Захарыч, пока я откупоривал бутылку.
С благоговейною осторожностью взял он своими скрюченными, костлявыми пальцами маленький, до краев налитый стаканчик, затем снял с головы измызганный картуз и, перекрестившись и пожелав мне быть здоровым, медленно, с наслаждением пьяницы, стал цедить водку.
— Покорнейше благодарю, вашескобродие. Славная водка! — одобрительно вымолвил он, возвращая стаканчик.
— А закусить? — предложил я, протягивая Захарычу бутерброд.
— Много благодарны, вашескобродие. Я его погодя съем, — сказал он, пряча бутерброд в карман своего ветхого куцего пальтишки.
Наладив удочку, Захарыч закинул ее и тихим, слегка сипловатым баском начал свой рассказ среди мертвой тишины летнего погожего утра на штилевшем море.
II
— Ходили мы на этой самой «Чайке» без малого три года, вашескобродие, по разным местам. Клипер наш под парусами ловко ходил: ежели в бакштаг или полветра, так узлов по двенадцати отжаривал и парусину легко носил. Ходкое было судно и рулю послушливое, и носом не рыло воды. Добрый был клиперок. Ну и под парами, когда для нужностей, узлов по семи хаживал. Обошли мы на ем почитай весь свет. Были и на мысу, на Надежном, и в Китае, и в Японии, во Францисках в Америке, заходили и на разные острова, где черный народ быдто дикий живет. Всякую, значит, диковину довелось увидать по жарким-то землям, вашескобродие… Но только эти три года нам вроде веку показались, потому, прямо сказать, плавание было каторжное, и как «Чайка» вошла, значит; в Финский залив, то все мы крестились и благодарили господа, что, мол, конец каторге… А главная тому причина — командир.
— Сердитый был?
— Прямо сказать, злобный человек, и с им матросам была одна тоска. Из немцев, вашескобродие, сказывали, из ревельских баронов. Такой из себя сухопарый и долговязый, ровно цапель, и с матросом гордый-прегордый. Никогда от его никто не слыхал доброго слова. Выйдет это он наверх и ходит, как индюк, по шканцам. Молчит и только бачки свои рыжие пощипывает. А взглянет ежели на матроса лягушечьими глазами, то вроде быдто на червяка или на мразь какую. Очень он высоко себя полагал. Из немцев-господ многие, сказывают, так себя полагают, что кровь у них быдто не та, что у простого человека, а я так рассчитываю, что бог кровь всем одну дал, вашескобродие. Вестовой у его был, Акимка, — царство ему небесное! — из одной деревни мы были. Так и с им даже не допускал себя до разговору. «Скотина!», «свинья!» — вот и всего, а то больше знаком приказывал. Должен понимать! И терпел от его Акимка, ах как терпел! — завсегда с разбитой мордой ходил. Сбежать даже с клипера собирался этот самый Акимка, однако ребята отговорили. А жил бы теперь Акимка в Америке в вольном звании.
Захарыч на минуту примолк, оглядел удочку, закурил трубку и, попыхивая дымком, продолжал:
— Не один Акимка терпел; все мы терпели, — что тут поделаешь? И такая тоска была, что не приведи бог, и встал с тоской и лег с тоской… Всяких командиров видал я на своем веку, вашескобродие, и лютых, и занозистых, и, прямо сказать, бешеных, однако другого такого, как этот самый барон Шлига, господь не насылал ни раньше, ни после. Другой и зубы тебе отшлифует безо всякого, можно сказать, рассудка, и форменно отдерет, как сидорову козу, но ты можешь понять, что он хоть и тиранит тебя по своей должности и по карактеру, а все-таки тобой не пренебрегает. «Такой же, мол, и матрос человек есть, но только другого, значит, звания». И, как отойдет сердце, он на тебя зверем не смотрит и доброе слово скажет. А немец-то этот Шлига матросом пренебрегал, брезговал, значит, и все мы это понимали. Небойсь, матрос наскрозь начальника понимает, кто чего стоит и от каких причин зверствует. А этот дрался, можно сказать, без всякого пыла, злобственно и ненасытно. Чуть какая неисправка, сейчас поманит тебя пальцем — беги, значит, к ему. И станет кулаком морду расписывать не спеша, с расстановкой. Вдарит и подождет. Цокнет по зубам и даст кулаку отдых… И опять и опять, доколь не отпустит матроса с вздутым рылом, в крови; И норовил, чтобы почувствительнее. На это он ловок был. Так «дьяволом» да «анафемой» и звали его матросы промеж себя, другого названия ему и не было. И, прямо сказать, дьявол, не тем будь помянут покойник. Никакой жалости к людям не имел, словно бесчувственный какой. У меня о сю пору знак от него остался.
Захарыч приподнял картуз и указал на шрам у виска.
— Это он мне «бинком», вашескобродие, висок раскроил.
— За что?
— А за то, что на фор-марсе вышла заминка, — марсель чуть-чуть опоздали закрепить. На секунд, на другой, что ли. А он требовал, чтобы ни на один секунд опоздать не смели. На этот счет строг был. Ну, в числе прочих марсовых и меня. Кулак-то, видно, устал, по зубам ездивши, так он со всей силы меня бинком… Однако казенный бинок попортил, и это его осердило. Велел тогда всыпать. «Двадцать пять!» — говорит. А боцманам он приказывал наказывать по всей строгости и не торопясь, чтобы, значит, продлить терзание. И сам завсегда на баке стоял и смотрел, как наказывали… Стоит и цигарку курит. И требовал, чтобы линек был форменный. Одно слово, мучитель был, что и говорить… Однако без вины не наказывал — клепать нечего, но только при его строгости завсегда вина находилась. Редко кто уберегался… Всем попадало, и не было, кажется, на «Чайке» ни одного человека, который от его не терпел. И все Шлигу ненавидели. Офицеры тоже недолюбливали командира. Он и с ими не очень-то нежничал. Вестовые тогда сказывали, что в кают-компании очень им были недовольны и быдто собирались, по возвращении в Рассею, жаловаться на его… Но Шлига и в ус не дул… Очень уж гордый и упрямый был человек… Ну, и, надо правду сказать, по своему делу — капитан лихой и отчаянный… Бывало, штормуем форменно, а он, как ни в чем не бывало, стоит на мостике, зубы затиснул да только бачки свои пощипывает… Раз, доложу вам, трепало нас в Индийском окиане двое суток, потеряли мы грот-мачту, клипер бросало, словно щепку, волны так и ходили ходуном через палубу, — думали, тут и конец нам, а у этого самого Шлиги никакого страха нет, одна отчаянность. Стоит, рыжий дьявол, у штурвала, около рулевых, не моргнувши глазом, и только покрикивает: «Право!», «Лево!» — чтобы поперек волны клипер не бросило на погибель, да нет-нет по зубам рулевых, ежели оплошали. И вид у его все тот же: гордый-прегордый, быдто ему, отчаянному, и штурма нипочем, и смерть не страшна… И еще осрамил одного мичмана. Сам-то лба не перекрестил ни разу, а как заметил, что мичман вахтенный в страхе крестится, говорит ему: «Вы бы заместо флота лучше в монахи шли, коли, говорит, моря трусите. На вахте, говорит, не молятся, а службу справляют!» Мичман и сгорел от этих слов. Так, почитай, двое суток простоял Шлига у штурвала. Ни на кого не полагался. На час, на другой спустится вниз отдохнуть, оставивши заместо себя старшего офицера, и опять к своему месту… И стоит в кожане и зюйдвестке весь мокрый от воды и вокруг посматривает. И есть ему Акимка наверх подавал. Принесет это кусок сыру, да галетку, да рюмку хересу… Съест Шлига сыр, а галетку помочит в вине и посасывает… Матросы все это видят и только диву даются его отчаянности. «Ишь ведь, дьявол, какой спокойный!» Это про его говорят, и, глядя на командира, и в нас быдто страх пропадал. Управится, мол, анафема! И ведь точно управился, вашескобродие, даром что и мачту потеряли, и ураган был не приведи бог! Чуть бы командир растерялся, быть всем на дне. На третьи сутки полегчало. Поставили мы фор-марсель в четыре рифа и курц взяли на Цейлон-остров. А Шлига осмотрел клипер, приказал, что поломано, починить и ушел спать. Спал он целые сутки, а когда вышел наверх, то вместо доброго слова за то, что во время штурма все старались, он плотников в кровь разбил… Плохо, мол, починка идет! Да и боцманам попало. Он этим не стеснялся. Всех равнял и боцманам чистил зубы, как и другим прочим… Это заместо молебна-то! Думали, велит честь-честью молебен благодарственный отслужить батюшке, а он свой молебен отслужил. Шлига-то!.. Дён через десять добрались мы до Цейлон-острова, справили там новую грот-мачту, вооружили ее как следовает, и айда дальше… Он не любил застаиваться в портах, и сам редко съезжал на берег… Все, бывало, сидит один, как перст, в своей каюте и все письма пишет своей баронше.
— Жене?
— Никак нет, вашескобродие, невесте. Была у его, значит, оставлена в Рассее, под Ревелем, невеста. Жениться хотел по возвращении. Как уходили мы из Кронштадта, она со своею маменькой приезжала к нему прощаться. Такая высокая, статная и пригожая. Лицом чистая, белая и лет эдак двадцати. Сказывали, тоже из немок и тоже баронского звания. И они все по-немецки говорили, а когда прощались, она очень плакала, и он заскучимши был. И, надо полагать, очень обожал свою немку. Акимка сказывал, что патреты этой самой баронши по всем местам были в капитанской каюте: и над койкой, и по переборкам, и на письменном столе, и так, в патретной книге. И Шлига часто на их смотрел. Стоит и любуется и в тое время сам он, сказывал Акимка, добрее становился, не глядел зверем, как наверху. А как придем в порт, и концырь письма привезет, так Шлига и вовсе обрадуется, — запрется у себя в каюте и читает, да по нескольку раз сызнова, не начитается, что ему немка пишет. И что бы вы думали, вашескобродие? Акимка видел, как он письма-то эти целовал, а у самого слезы… Поди ж ты! Значит, и у его для этой баронши сердце-то смягчалось. То-то оно и есть! И я так полагаю, вашескобродие, что у всякого человека, самого злого, что-нибудь да найдется доброе, потому ежели ты на всех зло имеешь и никого на свете не любишь, так и самому нет житья. И страсть сколько он изводил бумаги на письма! Акимка говорил, что толстые пакеты посылал.:. Все, значит, к ей… И много подарков вез. А на себя скуп был, и не было у его положения, как у других командиров, к себе приглашать на обед офицеров. Так один и обедал все три года… И все один да один, с немкиными патретами… Только не довелось ему свидеться с бароншей… Господь наказал… А она, сказывали, как узнала про судьбу его, рассудку решилась.
Захарыч снова вытянул окуня. Наладив удочку, он не спеша закинул ее, но вместо того, чтобы продолжать рассказ, дипломатически покашливал, бросая и на меня и на корзинку такие выразительные взгляды, что я догадался предложить Захарычу выпить.
— Вовсе даже необходимо промочить глотку, вашескобродие, — с живостью согласился старик, и его темно-красное, изрытое морщинами лицо просияло, — а то пересохла от разговору… Быдто першит в ей…
— А не много ли будет, Захарыч, целого стаканчика натощак? — спросил я, собираясь наливать.
Захарыч вытаращил на меня глаза с видом обиженного человека.
— Много?.. Это старому-то боцману?
И не без достоинства прибавил:
— Мне, вашескобродие, ежели и всю вашу бутылку сразу, так не много, а не то что такой наперсток. Слава богу, пивали и знаем свою плепорцию!
С этими словами крепкий еще на вид, несмотря на свой седьмой десяток, Захарыч как-то молодцевато выпрямился на скамье и задорно приподнял голову, как будто приглашая полюбоваться его особой.
Он с прежним наслаждением припал к водке, затем закусил маленьким кусочком бутерброда и крякнул с видом удовлетворения.
— Вот теперь и рассказывать поспособнее. Водка эту самую мокроту гонит, вашескобродие, — пояснил Захарыч. — И ежели кашель, ничего лучше нет, как водка. И от всякой нутренности помогает.
И, сплюнув в воду, продолжал:
III
— Таким-то манером маялись мы, вашескобродие, на «Чайке» с эстим самым Шлигой и всячески проклинали его. Соберемся, бывало, это на бак покурить или перед сном лясничаем на палубе, только и разговору, что про Шлигу. «Такой, мол, сякой!» Разговором, значит, сердце облегчаем. Обидно ведь, что на других судах матросы как люди живут, а у нас ровно бы арестантские роты. И так, я вам доложу, иной раз приходилось нудно, что, кажется, взбунтуй кто нас в те поры, — пошли бы на бунт против командира… От одного старика матроса я потом слыхал, что в старину было такое дело на фрегате «Отважном». Может, слыхали, вашескобродие?
— Нет, не слыхал.
— А было такое дело, вашескобродие, — понижая голос, внушительно повторил Захарыч, — матрос, что рассказывал, в то время на этом фрегате служил. Тоже, значит, у их командир зверствовал безо всякого предела, и раз ночью в окиане боцмана и унтерцеры просвистали в дудки и крикнули все в один голос: «Пошел все наверх командира за борт кидать!» Вся команда выскочила наверх… И быть бы форменному бунту, вашескобродие, если б в ту пору не догадался старший офицер и не повернул все дело… Башковитый был и, сказывали, добер с матросом.
— Что же он сделал?
— Выскочил это он наверх, видит, народ шумит, и, ни слова не говоря, на полуют, а оттуда как зыкнет громовым голосом: «По местам стоять! К повороту!» Матросы, значит, услыхавши команду, бросились по своим местам. Известно, привыкли к службе. А он все командует: «Кливер-шкот, фока-шкот раздернуть! Право на борт!». И давай фрегату повороты делать: то оверштаг, то фордевинд. И этаким родом примерно с час целый все повороты давал и вовсе умаял народ. Устали, значит, матросы, и пыл у их прошел. А тем временем старший офицер все дело объяснил капитану. «Так и так, мол, хотели за борт вас кидать от вашей жестокости. Я, говорит, бунт пока прекратил, а теперь, говорит, вашего ума дело». Тогда командир вышел наверх и быдто ничего не знает. «Команду во фрунт!» — приказал. Стали во фрунт. «Молодцы, говорит, ребята. Лихо работали. С такими молодцами, говорит, и линьков не нужно!» И тую ж минуту приказал боцманам и унтерцерам линьки за борт покидать. Матросы: «Рады, мол, стараться!» — и разошлись… И после этого уже зверства не было. Наказывали с рассудком, и народ вздохнул… А командир собрал всех офицеров и просил все это дело в скрытности держать, чтобы никто в Рассею не давал знать… Клятву, сказывали, взял. Потому, значит, по совести понимал, что его вина, и не хотел матросов за бунт губить. Объяви он все, как было, пропало бы много народу. А он быдто ничего не слыхал, и ничего как быдто на фрегате и не было. По-благородному поступил, и матросы были им вполне довольны. А как вышел он в адмиралы, очень даже заботливый и ласковый был к матросу начальник. Я с им на флагманском корабле служил и на адмиральском вельботе гребцом состоял. Ни разу он не дрался и, бывало, завсегда награждал по чарке, как отвозили его на вельботе.
Захарыч примолк и, словно бы в раздумье, тихо покачал головой.
— Вот до какого греха, — снова заговорил Захарыч, — можно довести матроса, даром, что наш-то, российский матрос и терпок и покорен. Теперь-то легче служить. Не то положение, что в старину… Права дадены. Судись, коли что… А тогда, сами знаете. Однако терпели мы на «Чайке», можно сказать, со всею покорностью. Все думается, не век же терпеть, впереди, бог даст, и ослабка будет. И точно, ослабка вышла. Как пошли мы домой, в обратную, Шлига-то наш быдто маленько потише стал и не так тиранствовал, видно, от радости, что с немкой со своей скоро свидится. Ну да и то сказать: работали у нас на клипере, прямо сказать, в лоск, как бешеные. В три минуты марселя меняли, вашескобродие. За три-то года Шлига вышколил и навел страху. И как пришли мы в Копенгавань, а оттеда до Кронштадта рукой подать, — всем нам радостнее стало. Шабаш, мол, скоро Шлиге! Один только на клипере человек, антиллерийский унгерцер Яшкин, не радовался, а быдто еще угрюмистее стал и от тоски места себе не находил. И смотрит, бывало, на море сердито так, точно думу недобрую про себя думает. Тогда-то нам и невдомек, а, кажется, он и взаправду недоброе замышлял. Очень уж большую злобу он против Шлиги имел и не мог, значит, осилить сердца. Бывало, только заговорят при нем о командире, так Яшкин весь задрожит, побелеет с лица, а глаза у его загорятся злобно-презлобно. Со стороны глядя, и то жутко… Царство ему небесное, прости ему господь, ежели его рук было это дело…
И Захарыч, сняв картуз, медленно и торжественно перекрестился и тихо, чуть-чуть нараспев, продолжал:
— А был этот самый Яшкин из кантонистов, вашескобродие, и, сказывали, адмиральский быдто сын, не в законе прижитый от матросской женки, молодой парень, годов не более как тридцати, из себя очень даже видный и с форцом, особливо вначале, как Шлига его еще не донял. Сапоги, значит, со скрипом, часы при цепочке, перстенек, одно слово: фу ты на! И любил по-господски говорить разные такие слова… Хвастал, что умеет. И, надо правду сказать, был этот самый Яшкин человек с умом, но только норовистый и злопамятливый, и очень о себе воображал, совсем не по своему званию… Нами гнушался и компании не водил. «Я, мол, матросу не чета!» Офицеры его не допускали до разговору, — известно, нижний чин и другого звания. И такое, значит, ему было положение: от одних отстал, а к другим не пристал. Ни пава, ни ворона! Якшался он больше с писарем да фершалом, вместе с ими и на берег ездил… И при всем-то этом его воображении Шлига ему зубы чистил и порол отчаянно, даром, что Яшкин унтерцером был.
— За что?
— А за все, вашескобродие. А главная причина: понимал он непокорность Яшкина и хотел ее искоренить вовсе, чтобы, значит, не смел он о себе воображать. В скорости, как вышли мы из Кронштадта, стал Шлига Яшкина донимать. Пристал он к ему ровно клещ. А тогда Яшкин во всем своем форце был; думает: унтерцер антиллерийский, и что с им по-благородному, — Шлиги-то не знал. Хорошо. Вызвали это как-то всех наверх, к авралу, значит. Вышел и Яшкин и на баке зря стоит, вроде быдто пассажира. Шлига приметил это и, как кончился аврал, потребовал Яшкина к себе. Тот без всякого сумления идет это к капитану на мостик, форсисто так, подошел, фуражку снял и в глаза Шлиге смело смотрит. А Шлига это тихо таково спрашивает: «Вы кто такой на клипере есть?» — и в насмешку «выкает». — «Я, говорит, антиллерийский унтерцер!» — «Из кантонистов будете?» — «Точно так, вашескобродие, из учебной команды». — «Из учебной команды?.. Ах ты, говорит, подлец! Из учебной, а лодырничать на аврале?..» — И раз, другой, третий по зубам, и отчесал, я вам доложу, по всей форме. Ушел от его Яшкин совсем оконфуженный. Лицо в крови… Это при его-то форце. Обидно! И злобный-презлобный, от сраму ни на кого не глядя, спустился он в кубрик и цельный день примочки прикладывал, чтобы знаков на лице не оказывало. И с того самого разу и началась у его злоба против Шлиги. Боялся его, как, огня, и злобу имел. И что дальше, то больше, потому что и Шлига Яшкина терпеть не мог и, чуть что, всячески унижал его, словно изничтожить хотел. Спуску ему не было — и дубасил и порол. Раз, как теперь помню, вернулся Яшкин с берега (в Гонконте мы стояли) треснувши и заместо того, чтоб идти спать, стал на баке в пьяном виде грозить Шлиге… всячески ругал его… «И злодей, и такой, и сякой». Убрали Яшкина вниз, а Шлига-то все слышал и на следующий день приказал его выдрать. Да так и велел боцманам: «Спустить, говорит, этому мерзавцу шкуру!» И отодрали беднягу без всякого милосердия… Дали ему триста линьков и замертво снесли в лазарет. Неделю отлеживался и в себя, значит, приходил. С той поры Яшкин окончательно заскучил и в злобу вошел. «Я, говорит, сам пропаду и его, говорит, изведу, злодея!» Так опосля фершал сказывал, — ему он во всем открывался… Однако после этой самой, прямо сказать, арестантской порки Яшкин с виду присмирел и всячески старался, чтобы не проштрафиться, и по своей должности был исправным. И избегал попадаться на глаза Шлиге. Как ежели Шлига выйдет наверх, Яшкин — вниз, в кубрик, и отсиживается… Но только и Шлига зол и упрям был. Чуть какая неисправка около орудий — в зубы, а то на бак… Терпел Яшкин, про себя зло таил и весь свой прежний форц потерял… сидит больше внизу, думы думает, а то книжку какую от офицеров достанет; читает-читает и слезами зальется… А смирения все в ем не было… И раз, после того как его за что-то выпороли, он так на Шлигу посмотрел и такой у его был взгляд, что сам Шлига глаза опустил и прочь пошел, — понял, значит, что довел человека до последней отчаянности… И впрямь, совсем обеспутил человека! Прежде, бывало, съедет Яшкин на берег, честь-честью, больше по-благородному время проводил, в киятр сходит, выпьет самую малость, а потом стал пьянствовать, как на берег урвется, и привозили его на клипер в самом, можно сказать, последнем виде. Его завсегда уносили, бывало, поскорее вниз, чтобы Шлига не видал, — жалели Яшкина. А внизу он грозится и страшные самые слова кричит против Шлиги. «Убью, говорит, беспременно злодея за все мои мучения. Он, говорит, всю мою жисть извел!» И плачет, бывало, спьяна, ревмя ревет — жалко смотреть. А на утро протрезвится, и мрачный такой ходит, Да глазами исподлобья посверкивает, — совсем на душегуба похож… В последний год, однако, Яшкину стало легче жить… Уверился ли Шлига в его покорности, или жалость его взяла, но только бросил он его утеснять, дал, значит, отдышку. Однако Яшкин зла не забывал — не таковский он был человек, чтобы обиду простить; и чем ближе мы подходили к Рассее, тем он как бы потеряннее становился. Видно, злоба не давала ему спокою, и он тосковал… Пришли это мы в Копенгавань, все радуются, что скоро домой, а ему быдто от этого тошнее, и он ровно не в своем уме был человек. И на берег не съезжал — не пожелал… А ночью на рейде, — стоял я на вахте с полуночи, — смотрю, Яшкин пробирается к капитанской каюте. «Зачем это он?» — думаю. И страх меня взял. Однако вахтенный мичман его заметил и окликнул: «Ты, говорит, куда?» — «Вестового, отвечает, повидать нужно!» — а голос его дрожит. — «Завтра повидаешь!» Яшкин назад. Недоброе, должно быть, замышлял. На другой день вышли мы всею эскадрой: два конверта и два клипера — в Копенгавани, значит, «рандева»[38] была, — и в скорости вошли в Финский залив. Радуемся… Ветер попутный. Жарим под всеми парусами и клипер свой прибираем, чтобы домой во всем парате прийти. Погода славная. Солнышко светит сверху… Назавтра и в Кронштадте… Все матросы наверху, каждый за своим делом. Вышел и Шлига, и тоже веселый такой, — и ему, значит, лестно. Приказал крюйт-камеру вычистить, все там в порядок привести. Ну, известно, это Яшкина дело. Спустился он туда с двумя матросами, надели, как следовает, коты, фонари взяли безопасные… После фершал сказывал, что был быдто Яшкин в потемненности, когда шел вниз… Но только без внимания тогда оставили… Знали, что Яшкин чудит. Прошло так около часу времени. Шлига спрашивает у антиллерийского офицера: «Готово, мол, у вас?» — «Все, ответил, готово». — «Ну, говорит, пойдемте посмотрим!» И пошли себе, не думая, что больше не видать им божьего света.
Захарыч протяжно вздохнул.
— Как теперь помню, пробило шесть склянок, значит, три часа пополудни. На счастье свое, был я в ту пору на шканцах, собирался на вельбот лезть уключины чистить. Стою я это пока, взглядываю на Гоглан-остров, — мы мимо шли, — как вдруг загремело, словно из тысячи орудий пальнули… Взрыв, значит. Клипер подпрыгнул, затрясся весь, а я уж на другой стороне шканцев ничком оглушенный лежу, — откинуло. Поднялся в страхе, и ажно волос дыбом. Смотрю, впереди все в белом дыму и пламя пышет, а оттеда крик и стоны… Не приведи бог их слышать. Еще примерно секунд, и все стихло, а половины клипера уже нет, и вижу я, что и корма сейчас тонет. Перекрестился я и в воду… ухватился за стеньгу… А кругом наши, что живые остались, стараются отплыть от клипера, кто за что хватается… А волна большая была… Ветер свежий… Некоторые тонут… Держусь я за стеньгу, и фершал приплыл, ухватился. Надеемся. Видим, со всех судов шлюпки на спасенье идут… Обернулись мы на «Чайку» взглянуть, а ее звания нет… только обломки поверх воды плавают… Перекрестились мы с фершалом и ждем… Ну, тут в скорости подошли шлюпки и начали подбирать людей… Коих подобрали, а кои потопли, царство им небесное!
— А много спаслось?
— Третья часть спаслась команды и из офицеров десять человек, а всех офицеров было восемнадцать.
— И вы думаете, Захарыч, что это Яшкин взорвал?
— Полагать надо, что его это грех от злобы на командира. И на следствии многие так показывали.
— А может, взрыв произошел от неосторожности?
— Сумнительно, вашескобродие, потому, сами изволите знать, крюйт-камера такое место, что в ей завсегда строгую опаску имеют… Едва ли… А впрочем, один господь всемогущий знает, как было дело, а людям не доискаться настоящей правды.
Мы оба несколько времени сидели молча, не обращая внимания на удочки. Был мертвый штиль, и на море стояла какая-то торжественная тишина.
— Однако не пора ли и закусить, вашескобродие? — прервал молчание Захарыч. — За разговором, глядикось, и солнышко вовсе поднялось. И славный же день сегодня!.. На редкость по здешним местам! — добавил Захарыч.
Мы стали закусывать.
1894
Словарь морских терминов, встречающихся в рассказах
Абордаж — свалка или сцепка двух судов с целью нанести вред друг другу.
Авария — повреждение судна или груза.
Аврал — работа на корабле, в которой принимает участие вся команда. Во время аврала командует старший офицер.
Адмирал — звание начальствующего флотом. В России это звание делится на 4 чина: 1) генерал—адмирал, 2) адмирал, 3) вице—адмирал и 4) контр—адмирал. Во время пребывания в плавании адмирал имеет флаг на грот—мачте, вице—адмирал на фок—мачте и контр—адмирал на бизань—мачте.
Адмиральский час — выражение, получившее начало во времена Петра Великого; обозначает час, когда надо приступить к водке перед обедом. Петр Великий и его сподвижники — члены коллегий — прерывали заседания присутствий перед обедом в 11 часов и, возвращаясь домой, заходили в австерии выпить водки.
Анкерок — бочонок в одно, два, три ведра; употребляется для водяного балласта на шлюпках, для вина, уксуса и прочей мокрой морской провизии.
Апанер — положение каната, перпендикулярное к воде, при выхаживании якоря, когда последний еще не встал, т.е. не отделился от грунта.
Артель — команда на судне делится на артели, и каждая из своей среды выбирает артельщика.
Артиллерийский офицер — офицер морской артиллерии. Ныне этот корпус офицеров упразднен.
Ахтерштевень — брус, идущий вертикально или наклонно от киля и составляющий заднюю оконечность судна; к ахтерштевню навешивается руль.
Бакан — плавающий буй, ставится на якорь для обозначения опасности или ограждения мели.
Баковый — имеющий назначение работать на баке или предмет, помещаемый на баке.
Бакштаг (курс относительно ветра) — попутный ветер, составляющий с диаметральной плоскостью судна угол более 90° и менее 180°.
Бакштаг — снасть, которая служит для укрепления с боков рангоутных деревьев, трубы, боканцев и т.д.
Бакштов — толстая веревка, выпускаемая за корму; за нее крепятся гребные суда во время якорной стоянки.
Бак — передняя часть судна до фок—мачты. Посадить на бак — наказать. «На баке!» — так кричат, чтобы во время работы обратить внимание старшего из находящихся на баке чинов.
Бак — посуда; большая деревянная миса, употребляемая для пищи артели.
Баластина — чугунная или вообще металлическая плитка или брусок, употребляемые на судах для балласта.
Балкон — галерея за кормой.
Балласт — груз судна для того, чтобы оно не оставалось пустое. Может быть чугунный, каменный, песчаный или водяной.
Банка — мель среди глубокого места.
Банка (у шлюпки) — сиденье для гребцов.
Бар — мель, или нанос, образующийся у устьев рек.
Барашки, или зайчики — белые верхушки у волн.
Барк — коммерческие парусные суда, имеющие две мачты с прямыми парусами и одну (бизань—мачту) с косыми.
Баркас — самое большое гребное судно на корабле. Бывает и паровой.
Барометр — ртутный прибор для измерения давления атмосферы.
Баталер — унтер—офицер на судне, помощник комиссара. Содержатель провизионных запасов.
Батарея — на судне так называется палуба, на которой стоят орудия.
Бейдевинд — курс, самый близкий к линии ветра.
Береговые ветры (бризы) — правильно дующие ветры близ берега: днем с моря, а ночью с берега. Особенною правильностью отличаются в жарких странах.
Берег: наветренный — если ветер от него, и подветренный — если ветер дует на него.
Беседка — доска, на которой матрос, сидя, работает. Доска вставляется в петлю, образуемую снастью, таким узлом, чтобы он не затянулся.
Бизань — парус на задней, бизань—мачте.
Бимс — поперечный деревянный брус или железная угольная полоса между бортами. На бимсы настилаются палубы.
Бить склянки — бить в колокол число склянок.
Блок — бляха, ком — деревянный или железный; имеет внутри шкив (бакаутное или медное колесо, вращающееся между щеками блока) и служит для проводки снасти.
Боканцы — деревянные или железные брусья по бокам судна, на которых висят шлюпки.
Бора (от гpеч. и лат. Boreas) — жестокая приморская буря в Адриатическом море (на берегу Далмации), а также в Южной России, особенно на восточном побережье Черного моря.
Борт — сторона или бок судна.
Борт—о—борт — сближение двух судов, когда они почти касаются друг друга.
Бот — одномачтовое судно. Лоцманский бот — бот, на котором лоцман выходит в море для встречи судов.
Боцман — старший строевой унтер—офицер; на судне имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми.
Брамсель — парус, поднимаемый над марселем. Смотря по тому, какой мачте принадлежит, называется: гром—брамсель, фор—брамсель и крюйс—брамсель. Парус, поднимаемый над брамселем, называется бом—брамселем.
Брандвахта — караульное судно на рейде или в гавани.
Брандспойт — переносная пожарная помпа, употребляемая на судах помимо своего прямого назначения и для других надобностей, как то: скачивания палубы и каната, мытья бортов, обливания матросов в жарких странах и проч.
Брас — снасть бегучего такелажа, посредством которой ворочают реи. Брасы принимают названия тех реев, к которым они прикреплены (грота—брасы, фока—брасы, гром—марса—брасы, фор—марса—брасы и т.д.).
Брать высоты солнца — измерять угломерным инструментом высоты солнца.
Брашпиль — горизонтальный ворот, употребляемый для подъема якоря.
Брезент — сшитые вместе полотна парусины. Употребляются для застилки палуб и вообще для прикрытия предметов, которые надо защитить от сырости или пыли.
Брейд-вымпел — широкий вымпел. Поднимается на судах в знак присутствия особ императорской фамилии, управляющего морским министерством, главного командира порта или начальника отряда судов, не имеющего адмиральского чина.
Бриг — двухмачтовое парусное судно с прямыми парусами на прямых мачтах.
Броненосец — судно, защищенное броней.
Брызгас — работник, исполняющий все железные работы по судну.
Бугшприт — горизонтальное или наклонное дерево, выдающееся с носа судна.
Буек — поплавок и спасательный круг.
Буксировать — тащить за собою другое судно на толстой веревке, называемой буксиром.
Буревестник — птица из рода Procellaria.
Бурун — отбой и прибой волны между камнями или к берегу и от берега.
Бухта — небольшой залив.
Бухта — трос, свернутый кругами, или снасть, уложенная в круги. Из бухты вон! — приказание отойти от каната перед отдачей якоря.
Валек — утолщенная часть весла.
Вал гребной — вал, который приводит во вращательное движение винт парового судна.
Ванты — пеньковые или проволочные снасти стоячего такелажа, которыми укрепляются с боков и сзади мачты, стеньги и брам—стеньги.
Ватервейс — водяные стоки. Толстый деревянный брус, накладываемый на бимсы и прилегающий к борту; идет вокруг всей палубы.
Вахта — дежурство. Четырех— или шестичасовой промежуток времени на судах, в которых вступает на дежурство на верх офицер — вахтенный начальник — и с ним половина судовой команды. По времени вахты различаются на дневные и ночные. Каждая вахта команды делится на два отделения. Ближайший начальник вахты нижних чинов — боцман. Сутки на военных судах делятся на пять следующих вахт: 1) с полдня до 6 ч. веч., 2) с 6 веч. до полночи, 3) с полночи до 4 ч. утра, 4) с 4 ч. до 8 ч. утра и 5) с 8 ч. утра до полдня. Сменившиеся с вахты называются подвахтенными.
Вахтенный начальник — офицер, правящий вахтой, лицо, которому подчинена вся вахтенная команда. Вахтенный начальник за все время своей вахты отвечает за безопасность судна, за содержание в постоянной исправности, за соблюдение порядка и за исполнение всех приказаний командира и старшего офицера. Ему подчинен караул и все вахтенные офицеры и нижние чины. Отличительным знаком вахтенного начальника служит рупор. Вахтенному начальнику не разрешается садиться, курить, вступать в разговоры, не касающиеся его служебных обязанностей, и спускаться с верхней палубы, не сдав вахты другому вахтенному начальнику. Во время аврала на вахту вступает старший офицер.
Вахтенный (или шканечный) журнал — шнуровая книга, в которую заносятся все события из жизни судна и лиц, на нем плавающих, случаи сношения с другими судами и вообще все обстоятельства плавания (курс, направление и сила ветра, ход, крен, температура воды, высота барометра, состояние погоды, моря и неба, обороты винта, дрейф, паруса, под которыми идет судно, и т.п.). Подписывается вахтенным начальником.
Вельбот — шлюпка, имеющая нос и корму острые; она имеет пять—шесть распашных весел и, смотря по тому, для кого служит, получает название адмиральского, капитанского или офицерского вельбота.
Верп — небольшой якорь, употребляющийся преимущественно для завозов.
Весло — деревянное орудие для гребли. Части весла: валек (от уключины до рукоятки), рукоятка (место, за которое гребец держится руками) и лопасть (часть, погружаемая в воду). По роду гребли весла бывают распашные, когда на банке сидит один гребец, и катерные, когда на каждой банке сидит по два гребца. «Суши весла!» — команда, по которой гребцы, не вынимая весел из уключин, держат их в горизонтальном положении, лопастями параллельно воды. «Навались!» — греби сильней. «Табань обе!» — или «Табань правая!», «Табань левая!» — та сторона, которой отдано приказание, или обе гребут в противную сторону, от себя, сообщая шлюпке задний ход. «Шабаш!» — по этой команде весла убираются.
Вестовой — матрос, назначенный для услуг в кают-компании и офицерам.
Ветер заходит — становится круче. Отходит — становится полнее.
Веха — шест на поплавке, поставленном на камне или баластине (вместо якоря) для указаний фарватера или на месте утонувшего корабля.
Винт — двигатель, помещаемый за кормой парового судна.
Водоизмещение — вес воды, выдавливаемой судном при углублении его по грузовую ватерлинию.
Водолаз — человек, опускающийся на дно в водолазном аппарате.
Водопреснительный аппарат (опреснитель) — аппарат на судне, служащий для опреснения забортной соленой воды.
Волнение — колебание воды от действия ветра. Образующиеся выпуклости называются валами или волнами. Неправильное волнение называется толчеей.
Вооружать судно — оснастить его, снабдить артиллериею и всем необходимым для плавания.
Ворса — старые снасти, распущенные на пряди и каболки.
Вперед смотреть! — приказание, отдаваемое часовым с вахты для возбуждения их внимания.
Встать на якорь — бросить якорь.
Всех наверх! — команда, по которой вызываются люди наверх для работы.
Выбленки — тонкий трос поперек вант, составляющий лестницу, по которой поднимаются матросы для работ на марсах и реях.
Выбрать конец — вытянуть конец (веревки), поданный или брошенный на судно или на шлюпку.
Выгребать — подвигаться с трудом на веслах вперед.
Выйти на ветер — выйти на ту сторону, в которую дует ветер.
Вымбовка — рычаг, деревянный длинный брусок, который вкладывается в вырезки шпиля. Вымбовки служат для вращения шпиля.
Вымпел — узкий и длинный флаг, поднимаемый на брам—стеньге.
Выстрел — рангоутное дерево, служащее для постановки нижних лиселей. Во время якорной стоянки на выстрелах держатся привязанные на концах шлюпки.
Вытравить канат — выпустить в воду более каната, чем было.
Вытягиваться на рейд — выходить из гавани посредством завозов.
Гавань — место на воде, огражденное естественно или искусственно от волнения и представляющее удобную стоянку для судов.
Галета — морской сухарь; выпекается из ржаной или пшеничной муки и употребляется в плавании вместо хлеба.
Галс — веревка, удерживающая на должном месте нижний наветренный угол паруса.
Галс (курс корабля относительно ветра). — Если ветер дует с левой стороны, то говорят, что судно идет левым галсом; если же с правой, то говорят, что оно идет правым галсом. Лечь на другой галс — значит поворотить так, что ветер, дувший, например, в правую сторону судна, будет дуть в его левую сторону. Сделать галс — пройти одним галсом, не поворачивая.
Галфинд. — Когда направление ветра с курсом корабля составляет прямой угол, то говорят, что судно идет галфинд или вполветра.
Гальюн — пристройка к носу судна, где на старинных судах помещались штульцы для команды.
Гальюнщик — матрос, заведующий гальюнами.
Гандшпуг — палки, спица, всякий деревянный или железный рычаг.
Гардемарин. — С 1860 по 1882 г. это было офицерское звание, которое давалось по окончании курса в морском корпусе на 2 года, до производства в мичмана: теперь звание это принадлежит кадетам старшего класса морского корпуса.
Гарпун — небольшое железное копье, надеваемое на древко. Употребляется для ловли китов и другой большой рыбы.
Гитовы — снасти, которыми убираются паруса. Взять на гитовы — подобрать парус гитовами.
Гичка — легкая, узкая и длинная шлюпка с тупой кормой.
Гнать к ветру — идти бейдевинд, как можно круче.
Голанка или голландка — верхнее платье матроса. Род блузы из фланели или парусины. В русском флоте шьется из серой парусины.
Гордень у паруса — снасть, которою парус подтягивается к рею.
Горизонт — круг, отделяющий видимую часть земной поверхности от невидимой. Видимый горизонт — окружность круга, разделяющая, по—видимому, небо от воды. В сущности, эта окружность есть основание конуса, вершина которого в глазе наблюдателя, а образующие суть касательные к поверхности земли.
«Кто гребет?» — оклик проходящей мимо судна шлюпке или подходящей к нему шлюпке. На это со шлюпки отвечают: «Мимо!» — если она не пристает к борту, или: «Матрос, офицер с такого—то судна!» Командир в ответ называет имя своего судна, а адмирал отвечает: «Флаг!»
Грот — нижний парус грот—мачты.
Грунт — дно моря, реки, озера, океана.
Гюйс — флаг, ставящийся на военных судах на бугшприте, когда судно стоит на якоре.
Даглиск — левый становой якорь.
Двойка — двухвесельная малая шлюпка.
Дождевик — пальто из непроницаемой ткани.
Док — канал, который может быть осушаем; в него вводят суда для починки.
Долгота места — дуга экватора между некоторым меридианом, принятым за первый, и меридианом, проходящим через данное место.
Дрейф — отклонение от пути. Всякое судно, идя бейдевинд, кроме поступательного движения, имеет боковое, по направлению ветра; это последнее называется дрейфом. Лечь в дрейф — расположить паруса таким образом, чтобы от действия ветра на одни из них судно шло вперед, а от действия ветра на другие — пятилось назад. Во время лежания в дрейфе судно попеременно то идет вперед — восходит, то пятится назад — нисходит.
Дымовая труба — труба из машины, в которую выходит дым из топки после того, как он пройдет по дымогарным трубкам и поступит в дымовой ящик.
Делать столько-то миль в час, в сутки — проходить это число миль.
Ендова — медная посуда с носиком. В ендову наливают водку перед раздачей, и из нее матросы черпают чарками, когда пьют.
«Есть!» — слово, принятое во флоте вместо ответа: «слушаю», «хорошо» и т.д.
Завоз. — Чтобы протянуть судно вперед, назад или в сторону, на шлюпку подают якорь или верп, к которому привязывают кабельтов; шлюпка, отойдя в желаемом направлении, бросает якорь. Говорится, что она сделала завоз. Тянуться на таких завозах, чтобы пройти вперед без парусов, паров и весел, называется: верповаться.
Загребной — гребец или гребцы, действующие первыми от кормы веслами.
Закрепить парус — обнести сезнями или концом после того, как парус взят на гитовы.
Залив — губа или бухта. Часть моря, озера или реки, вдавшаяся в берег.
Залп — выстрелы, произведенные вдруг из нескольких орудий.
Запасный такелаж, паруса, стеньги и пр. — предметы судового вооружения, отпускаемые в запас.
Запеленговать — определить направление по компасу.
Зарываться — брать воду носом.
Зенит — точка на небе, находящаяся прямо над головой наблюдателя.
Зыбь — плавное волнение или колебание моря, бывающее обыкновенно или после ветра, или предвещающее его приближение.
Идти — плыть на судне.
Интрепель — холодное оружие вроде топора; употребляется при абордаже.
Кабельтов — трос толщиною от 6—13 дюймов.
Кабельтов — расстояние в 120 сажен. В море небольшие расстояния принято считать кабельтовами.
Каболка — пеньковая нить, составная часть всякого троса.
Каботажное судно — судно коммерческое, плавающее в виду берегов.
Кадка марса-фальная. — Бухта марса-фала укладывается в кадку для того, чтобы эта важная снасть, при отдаче, была всегда чиста.
Кадка фитильная — кадка, в которую ставится ночник с фитилем.
Калнор — диаметр канала орудия.
Камбуз — судовая кухня.
Канат якорный — цепной составляется из концов длиною каждый в 12 1/2 сажен; такой конец называется смычкой. Смычки соединяются между собою соединительными скобами.
Канонерская лодка — паровое военное судно, имеющее две или три голых мачты и от одного до трех поворотных орудий.
Капитан — командир военного судна или шкипер коммерческого. Флаг-капитан — штаб-офицер, состоящий при адмирале, командующем эскадрою.
Карбас — лодка, употребляемая жителями Архангельской губ.
Карта — изображение земной поверхности на бумаге; к таким изображениям прибегают по необходимости, за неудобством иметь глобусы больших размеров, на которых поверхность земли могла бы быть изображена с достаточною подробностью. Морские карты бывают меркаторские и плоские. Меркаторская карта — карта с меридианами и параллелями прямыми и друг к другу перпендикулярными линиями. Эти карты впервые были изданы нидерландским географом Меркатором, во второй половине XVI века, и поэтому получили название меркаторских. Градусы долготы на этих картах равны между собою и экваторному градусу. Градусы широты постепенно увеличены от экватора к полюсам в том же отношении, в каком градусы параллелей на земном шаре уменьшаются против экваторного градуса, так что все точки изображаемой на карте поверхности находятся в том же взаимном положении между собою, как и на земном шаре. Расстояния между этими точками те же самые, что и на земном шаре, но измеряются особым способом, т.е. снимаются циркулем и прокладываются к меридиану, и именно к той его части, против которой (по параллели) лежат данные пункты, так что масштаб изменяется с изменением широты пунктов. Меркаторские карты употребляются для больших плаваний. Плоская карта — употребляется для малых плаваний; на плоских картах меридианы изображены прямыми линиями, параллельными между собою; параллели также прямыми линиями, перпендикулярными меридианам. Градусы широты равны между собою; градусы долготы также равны между собою и экваторному градусу, если экватор включен в карту.
Картушка (на компасе) — бумажный или слюдовый круг, соединенный с магнитной стрелкой. Круг разделен на 32 деления, называемые румбами, и на градусы. Каждое деление, кроме того, разделяется на 4 части: на четверти румба.
Катер — шлюпка с более острыми обводами и вообще более легкой постройки, чем баркас. Преобладающий тип шлюпок на военных судах.
Качка — колебание корабля на волнении. Если судно качается с боку на бок, то говорят, что оно имеет боковую качку. Колебание судна вдоль киля называется килевою качкою.
Каюта — комната на корабле.
Кают-компания — общая каюта, салон для офицеров.
Киль — четырехгранный брус, составленный по длине судна из нескольких штук; он служит основанием судна.
Кильватер — струя, остающаяся за судном, когда оно идет. Так же называется строй, когда суда идут друг за другом, строй кильватера.
Китобой — судно, занимающееся китовым промыслом.
Класть руля — ворочать руль.
Кливер — косой треугольный парус, ставящийся впереди фок—мачты.
Клипер — судно, отличающееся от других типов быстротой хода и остротой своих обводов. Вооружено тремя мачтами; задняя — сухая, т.е. без прямых парусов.
Клотик — довольно толстый точеный кружок, имеющий четырехгранное отверстие в центре, которым надевается на флагшток или топ мачты. Он имеет два или три шкива для сигнальных фалов.
Кнехт — вертикальные брусья, имеющие шкивы и оканчивающиеся сверху головками. Они служат для проводки снастей и крепления и утверждаются или на палубе, или на внутреннем борте, или между шпангоутами; в последнем случае открытою остается одна головка.
Сигнальная книга — книга, в которой в алфавитном порядке помещены все необходимые для переговоров выражения, а также комбинации букв, по которой производится сигнал или нумер для ночных и туманных сигналов.
Койка — постель для матросов; шьется из белого коечного канифаса, длина ее равна 2 арш. 10 1/2 верш., а ширина 1 арш. 8 верш., глубина подвешенной койки 12 верш. Шьется из двух полотен, причем одно разрезывается продольно и вместе с балтами наставляется к краям другого полотна, так что швы приходятся по обеим сторонам койки. Принадлежность койки: пробковый матрац, подушка, одеяло и простыня. Все эти вещи закатываются в койку. Койки наверх! — по этому приказанию койки, скатанные, выносятся наверх своими хозяевами для укладки их на место, в коечные сетки.
Кок — повар, который готовит на судах пишу для матросов.
Колдунчик — флюгарка из перьев на штоке, который ставится на наветренной стороне мостика; по этой флюгарке определяют направление ветра. Способ весьма неточный, потому что флюгарка увлекается ходом судна и не показывает верного направления ветра.
Водолазный колокол — аппарат, имеющий форму колокола и открытый снизу. Внутри его помещается человек и в нем опускается на дно моря. Воздух под колоколом возобновляется посредством воздушного насоса, соединенного гуттаперчевой трубкой с аппаратом.
Комендор орудия — нумер, распоряжающийся действием орудия; он наводит орудие и производит выстрел. Это, собственно, первый комендор, а 2-й комендор стоит рядом с первым, по правую сторону, и заведует клином или подъемным винтом. На обязанности комендора лежит исправное содержание орудия со всею принадлежностью. Он же должен знать, как обращаться со спасательным линем, фалшфеером и сигнальной ракетой, а также уход за цепными канатами. Для образования комендоров существует особая школа при артиллерийской команде.
Комиссар — чиновник на корабле, заведующий провизией; он состоит под ведением ревизора.
Компас — прибор, по которому правят кораблем, определяют направление предметов и проч. Изобретение его весьма древнее; сведение о нем в Европу доставлено итальянцем Фловио—Жойя, который жил около 1300 года по Р.X. Некоторые предания свидетельствуют, что еще в двенадцатом столетии этот инструмент был в употреблении в Европе. Главные части компаса: стрелка с наклеенною на нее картушкой, котелок и шпилька, на которую накладывается центром картушка со стрелкой.
Конвоир, или конвоирующее судно — сопровождающее.
Кондуктор — воспитанник высшего класса технического училища морского ведомства.
Конец — всякая свободная снасть небольшой длины.
Консул — агент от правительства одного государства, назначаемый для охранения торговых интересов подданных этого государства за границей.
Контра-брасы — брасы спереди реев; так, например, у грота-рея, а на больших клиперах — и у фока-рея, контра-брасы постоянные и проводятся в помощь задним брасам, чтобы легче было бросать реи.
Корабельный инженер — строитель военных судов.
Корабль — всякое судно вообще называется кораблем. Собственно же корабль есть трехмачтовое военное судно, ныне изгнанное из употребления, как невыгодное для боя, потому что высокий борт корабля представляет слишком большой щит для неприятельских выстрелов. Корабли прежде были трех рангов: 74-х-пушечн. и 84-х-пушечн., двухдечные, и стопушечные, т.е. носившие от 110 до 120 пуш. — трехдечные. Последние начали строить испанцы. История в первый раз упоминает об испанском корабле «Филипп», с тремя рядами пушек, который находился в битве при Азорских островах с английским кораблем «Ревендж» в 1591 году. В каждом из трех рядов было поставлено по одиннадцати пушек на стороне и, кроме того, находилось 8 погонных портов в носу и были порты в корме. В Англии первый 3-х-дечный корабль построен в 1637 году. Адмиральский, или флагманский корабль — корабль, на котором адмирал, флагман имеет свой флаг и местопребывание.
Корвет — трехмачтовое военное судно с открытою батареею. По новой классификации военных судов такого типа более не существует.
Корма — задняя оконечность судна; смотря по форме своей, бывает: круглая, четыреугольная и заостренная.
Корсар — морской разбойник, грабящий коммерческие суда; слово заимствовано от итал.: corsare, corso; так назывались варварийские разбойничьи крейсеры в XVI столетии.
Кортик — ручное оружие, носимое всеми офицерами флота и корпусов, а также чиновниками морского ведомства при сюртуке.
Кочегарка — отделение в машине перед котлами: из этого отделения заряжаются топки и поддерживается в них огонь.
Кочегар — так называются те из машинной прислуги, которые назначаются собственно для ухода за котлами.
Кошка — конец, имеющий девять хвостиков. Прежде кошкой наказывали виновных.
Крамбол, иначе кранбал-брус, поддерживаемый снизу кницей (называемой санортус). Он прикреплен к скуле судна и служит крепом для подъема якоря. Крамболы бывают и железные, переносные, похожие с виду на шмон-балку. На левый крамбол. На правый крамбол. — Выражения, которыми определяют положение предмета или судна относительно того судна, на котором находятся. Судно видно на правый крамбол, — значит, оно находится на той линии, которая мысленно продолжена по направлению крамбола.
Крейсеровать — плавать в известном месте или между определенными местами моря. Крейсерство — плавание в определенном районе.
Кренометр — инструмент для измерения крена. Состоит из свободно висящей медной стрелки, вращающейся в центре дуги сектора; дуга разделена на градусы; середина обозначена нулем.
Крен — наклонение судна набок.
Крепить паруса — завертывать их или свертывать по реям, мачтам и проч., когда они были распущены, т.е. поставлены или отданы.
Крепление орудий по-походному — такое крепление, при котором орудия во время качки остаются неподвижными.
Крюйт-камера — погреб на корабле, где хранится порох; обыкновенно устраивается в подводной части корабля.
Крюйт-камерный фонарь — фонарь, которым освещается крюйт-камера; их обыкновенно бывает 2 или 4. Зажигаются вне крюйт-камеры, в особых отделениях.
Крюк! — приготовительная команда на шлюпке перед командой шабаш! По команде: крюк! баковые кладут весла, берут крюки и становятся во весь рост на своих местах. На четверках, шестерках, гичках, вельботах-двойках и тузах «крюк» не командуют.
Кто гребет? — оклик, который делает часовой (от спуска до подъема флага) проходящей мимо или подходящей к судну шлюпке.
Кубрик — самая нижняя жилая палуба на корабле; ниже ее идет трюм.
Купец — купеческое судно.
Курс — путь, по которому корабль плывет. Относительно ветра курс бывает: бейдевинд, когда угол, составляемый направлением судна с ветром, менее 8 румбов; галфинд, или пол-ветра, когда этот угол равен 8 румбам; бакштаг — от 8 до 16 румбов и фордевинд — когда ветер дует прямо по направлению движения судна. Продолжить курс — определить по карте направление, по которому надо идти.
Лавировать — идти по ломаной линии, ложась то на правый, то на левый галс бейдевинда.
Лаг — инструмент, имеющий вид сектора, служит для измерения переплытого расстояния. Устройство его основано на том, что при равномерном ходе по расстоянию, пройденному кораблем в минуту или в пол—, четверть минуты, можно судить о расстоянии, проходимом в час.
Лаг — борт судна; говорят, например, поворотиться лагом, стать лагом, навалил лагом и проч.
Лаг-линь, или лаглинь — линь, который привязывается к лагу (сектору). Он развязывается обыкновенно так: от вершины сектора оставляют на лине расстояние, равное длине судна или несколько более, и кладут в этом месте марку, т.е. ввязывают кусок флагдука. От этого флагдука измеряют линь на части в 48 фут, т.е. немного меньше 1/120 итальянской мили. По размерении его таким образом, через каждый 48 фут вплесниваются кончики веревок с узелками: одним, двумя, тремя и т.д., почему и самые расстояния называются узлами. Каждый узел делится пополам и в средину ввязывается петелька, означающая половину узла, каждая половина опять делится пополам, и ввязывается кончик, означающий четверть узла. Сколько узлов высучит лаглиня в течение 30 секунд, столько миль судно проходит в час. Объясняется это тем, что 30 секунд составляют 1/120 часть часа, и узел тоже почти 1/120 часть мили (1 3/4 версты). Принято считать узел в 48 фут, а не в 50,7, как бы следовало для того, чтобы судно считало себя всегда несколько впереди настоящего места, т.е. ближе к опасности. Лаглинь наматывается на вьюшку. Бросить лаг — выражение, употребляемое на судне, значит бросить сектор в воду, набрав бухточку линя, и замечать по склянке, сколько высучить в вышки линя; короче сказать, измерить ход судна в данный момент.
Лайба — простая большая чухонская лодка, с одною и с двумя мачтами, на каждой из которых по одному парусу. Эти лодки, до введения пароходов, употреблялись в окрестностях Петербурга для перевоза дров, сена и т.д.
Лапа у якоря — лопасти, которыми заканчиваются рога якоря.
Лебедка — небольшой брашпиль, назначенный и приспособленный к подъему тяжестей.
Леер — туго вытянутая веревка, у которой оба конца закреплены. Употребление лееров весьма разнообразно: они служат для постановки косых парусов, как-то: кливеров и стакселей, и смотря по тому, какой из парусов по ним ходит, называются кливер-леером, стаксель-леером. Леера прибиваются к реям (эти бывают и из прутового железа), и за них привязываются прямые паруса; белье и койки поднимают для просушки на бельевых и коечных леерах, и, наконец, леера протягивают вдоль палубы, во время качки, чтобы люди могли держаться.
Лежать на боку — говорится о судне, когда оно наклонено.
Лежать на таком-то румбе — говорится о судне или о другом предмете, видимом по такому—то румбу.
Лейтенант — второй офицерский чин в русском военном флоте. Золотые эполеты с тремя звездочками, погоны имеют одну продольную полосу и те же три звездочки.
Линь — тонкая веревка, трехпрядная, тоньше одного дюйма.
Лот-линь — линь, привязываемый к лоту. Этим линем измеряется глубина моря.
Лисель — парус, ставящийся с боку прямого паруса, как-то: брамселя, марселя и фока; сообразно с этим называется: брам-лисель, марса-лисель и ундер-лисель — последний бывает четыреугольный, как и все предыдущие, и треугольный; в первом случае он растягивается по выстрелу, во втором имеет вид треугольника, обращенного вниз вершиной. На мелких купеческих судах иногда ставят летучий ундер-лисель, особенно в свежий ветер, потому что во время качки и когда судно рыскает, выстрел зарывается в волнах. Ставится летучий ундер-лисель следующим образом: к углам нижней шкаторины обыкновенного ундер-лиселя привязывают реек одной с ней длины, а к концам рейка приплескивают концы шпрюйта, длиною несколько более длины рейка; за середину шпрюйта привязывают задний выстрел-брас. Такой ундер-лисель часто, при большом волнении, носят совершенно сухой.
Лотовый — человек, который бросает лот.
Лот (от голл. lood) — свинцовая гиря конической формы; в основании имеет гаечку, в которую перед опусканием лота кладут сало. К салу пристает песок, ракушка, камень и проч., и таким образом, вместе с глубиной, лотом определяется характер грунта. Для малых глубин употребляется ручной лот, а для больших дип-лот, отличающийся от первого только большим весом. Есть еще Массеев лот, или лен, изобретенный Массеем. Он употребляется для определения больших глубин.
Лот-линь — линь, привязываемый к лоту; он размерен или развязан на сажени, которыми принято выражать глубину. Бросать лот измерять глубину.
Лоция — руководство в прибрежных плаваниях, как-то: в шхерах, заливах, проливах, при входах в портах и вообще в морях, стесненных берегами, усеянных островами, мелями, подводными камнями, отмелями и проч. Лоция дает сведения о глубине, грунте дна моря, якорных местах, о течениях, их направлении, времени большой и мелкой воды, о фарватерах и створах на них одним словом, доставляет сведения о всем, что служит руководством к безопасному плаванию в тех местах, для которых лоция изложена.
Лоцман — моряк, хорошо знающий характер известного прибрежья и все местные проходы и фарватеры.
Люк — так называется как отверстие в палубе, служащее для схода вниз или для освещения палуб, — светлый люк, — так и прикрывающая его стеклянная рама или ставня.
Магнитная стрелка — железная или стальная полоска намагниченная. На нее накладывается компасная картушка.
Марса-фал — снасть, которою поднимается марсель.
Марсель — парус, который ставится между марса-реем и нижним реем.
Марсовой — работающий по расписанию на марсе. Старший из матросов марсовых или унтер-офицер называется марсовым старшиной. Грот-марсовой — который служит на грот-марсе. Фор-марсовой — служащий на фор—марсе.
Марс — деревянная площадка, наложенная на мачтовые лонгасалинги. Смотря по тому, какой мачте принадлежит, называется грот-марсом, крюйс-марсом или фор-марсом. На марсе! — оклик снизу, чтобы возбудить внимание марсовых.
Мат — бывает тканый, плетеный и шпикованный. Пеньковый ковер или коврик, употребляемый на судах для предохранения дерева или троса от порчи в местах, где они могут подвергаться трению, иногда же и для обтирания ног.
Мачта — самая нижняя стоячая часть рангоута. Бывает деревянная или металлическая; смотря по месту, занимаемому на палубе, называется: бизань-мачта — самая задняя или третья с носа; грот-мачта — средняя или вторая от носа мачта; фок-мачта — самая передняя; фальшивая мачта — такая, которую ставят на время, вместо потерянной настоящей мачты; она обыкновенно менее настоящей. Мачты рубить! — команда на шлюпке убрать паруса и мачты. Это делается или когда шлюпка пристает к борту или пристани, или когда она шла под парусами и желает идти на веслах.
Машинное отделение — отделение, занимаемое машиной.
Маяк — башня с фонарем; служит приметным знаком только для судов. На отмелях, идущих далеко от берега, или на банках, ставят с этою же целью суда с фонарями, называемые плавучими маяками.
Меридиан — большой круг, проходящий через полюсы мира, называется небесным меридианом, а через земные полюсы — земным.
Мертвый якорь — якорь или другой груз, положенный на каком—либо месте с поплавком или бочкой. За последнюю привязываются суда, т.е. становятся на мертвый якорь.
Мертвый штиль — такое состояние погоды, при котором вода представляет совершенно ровную, гладкую поверхность.
Миля (морская) — равна 1 3/4 версты.
Мичман — первый офицерский чин в русском военном флоте.
Держаться в море — говорится о судне. Значит, не входить в порт, а оставаться в море по каким—либо причинам, например, по случаю тумана, темноты и проч. Идти в море — говорится о судне, оставляющем порт.
Морской разбой, или пиратство — разбирается по законам того государства, которому принадлежит судно, захватившее пирата. Пираты, употребившие оружие, подвергаются смертной казни. Судно, подозреваемое в пиратстве, может быть остановлено, но невинно заподозренный может взыскивать убытки за остановку.
Мостик — на судах устраиваются мостики между кожухами или бортами, для командира, старшего офицера и вахтенных начальников.
Муссон — периодический ветер, который начинается и кончается всегда в те же времена года.
Навались! — приказание гребцам на шлюпке грести сильнее.
Найтовить — связывать веревкой, делать найтов.
Нактоуз — шкапок, в котором стоит компас на месте верхней крышки.
Нижние паруса — так называются фок и грот на судах с прямыми парусами.
Нижние реи — реи, служащие для нижних парусов.
Нижняя мачта — собственно мачта без стеньги и брам—стеньги.
Нок — так называется оконечность всякого горизонтального или почти горизонтального рангоутного дерева, напр.: рея, бугшприта, выстрела, утлегаря и проч.
Нетчик — отсутствующий на перекличке, не явившийся своевременно с берега.
Образной — матрос, назначенный смотреть за образом. Он прислуживает в походной судовой церкви.
Обрезать нос, или корму — пройти близко перед носом судна или за его кормой.
Обшивка — доски, которыми обшиты шпангоуты. Обшивка внутренняя которою обшиты шпангоуты с внутренней стороны, и внешняя — с внешней. Подводная часть судна, сверх наружной обивки, обивается медными листами, это называется медной обшивкой или металлической.
Овер-штаг поворот — состоит в том, что судно, лежавшее, положим, левым галсом, помощью руля и особого расположения парусов, катится влево, пока не пройдет бейдевинд на правый галс.
Огни открыть! — команда, по которой одновременно ставятся на места отличительные огни (боковые), а топовой поднимается на топ.
Одежда (матросская) — различается на зимнюю и летнюю. Зимняя состоит в нашем флоте из синей фланелевой рубахи, черных брюк и шинели (на берегу). В море шинель не полагается, а вместо нее выдается буршлат (укороченное пальто). Летняя состоит из белой рубахи с синим воротником и такими же обшлагами, белых брюк и полосатки.
Одержать или одерживать (говоря о руле) — уменьшить быстроту, с которой катится судно, когда положен руль право или лево. По команде одерживай! рулевой отводит руль, ставит его или прямо, или близко к этому положению.
Острога — копье, которым бьют китов и крупных рыб.
Отваливать — отойти на судне или шлюпке от пристани или от борта судна. На шлюпке обыкновенно командуют для этого: отваливай! — по этой команде баковый или двое баковых берут крюки и ими отваливают нос шлюпки от борта судна или от пристани.
Отдать якорь! — команда, по которой бросают в воду якорь.
Отдать паруса — распустить сезни, которыми паруса были привязаны.
Отдать снасть — отвернуть снасть с кнехта, с утки и проч., где она была завернута.
Вахтенное отделение — половина вахты или четверть всей судовой команды.
Открытый рейд — рейд, не защищенный от ветров и волнения.
Открыть берег — увидеть, рассмотреть очертание берега.
Отлив — ежедневное периодическое правильное движение моря, состоящее в том, что во всяком месте морские воды в продолжение шести часов постоянно возвышаются и, достигнув наибольшей высоты, сохраняют ее около семи минут; после того в продолжение шести часов они понижаются и в небольшом понижении остаются около семи минут; потом снова повышаются и т.д. Таким образом, море каждые сутки два раза повышается и два раза понижается. Движение, действием которого море возвышается, названо приливом, то же, которым понижается, отливом. Состояние моря при наибольшем возвышении называется полной водой, а при наибольшом понижении — низкою или малою водою.
Отличительные огни — морские паровые суда на ходу обязаны иметь: на фор—марсе — яркий белый огонь, на правой стороне — зеленый огонь, на левой стороне — красный огонь.
Отмель — пологость, идущая от берега в море, на которой глубина менее 5 сажен.
Отряд — несколько судов, плавающих соединенно, составляют отряд.
Отстаиваться — стоять в порту, в бухте или на рейде, в ожидании благоприятных условий для выхода в море, напр., попутного ветра, высокой воды, когда стихнет жестоко дующий ветер и проч.
Отходить (говоря о ветре) — делаться попутным.
Отшедшая широта — широта, от которой судно отправилось.
Отшедший пункт — пункт, от которого судно отправилось.
Очистить снасть — распутать, освободить ее.
Ошвартоваться — привязаться к берегу или пристани помощью перлиней или кабельтовов.
Паз — долевая щель между соприкасающимися досками или брусьями у наружной обшивки и у палубной настилки; его конопатят и заливают смолой.
Палуба — помост или пол на судах. На палубе военных судов ставят артиллерийские орудия. Верхняя палуба — или опер—дек; носовая часть ее называется баком, затем следует шкафут, потом шканцы и, наконец, самая кормовая часть верхней палубы называется ютом; кормовой борт — называется бортом.
Пампуши — большие башмаки, сшитые из кожи, войлока или сплетенные из волос; надевают их на сапоги, когда идут в крюйт—камеру или в пороховой погреб, где хранят порох, мякоть и прочие огнестрельные вещества; пампуши нужны для предосторожности, чтобы от шарканья сапогов по полу не произвести искры.
Парадный трап — трап с правой стороны военного судна.
Параллель — малый круг, параллельный экватору.
Паруса. Верхние паруса — паруса выше нижних. Задние паруса — так называются паруса на грот- и бизань-мачтах, в отличие от парусов фок-мачты, называемых передними. Крепить паруса — прямые паруса крепятся по реям, т.е. гитовами и горденями подтягиваются к своим реям и там скатываются и связываются сезнями. Косые паруса или опускаются вниз и крепятся по утлегарю, по бугшприту, по топу мачты и проч., или гитовами подтягиваются к своим гафелям и по мачтам и там крепятся сезнями. Нижние паруса — фок и грот. Отдать паруса — отвязать сезни, которыми паруса закреплены. Паруса полощет — выражение, означающее, что паруса не стоят, что их не надувает ветром, а треплет; это случается, когда ветер дует под очень малым углом к поверхностям парусов. Форсировать парусами — нести большую парусность, чем позволяет сила ветра.
Парусная каюта — каюта, в которой хранятся запасные паруса.
Парусник — мастеровой, который шьет паруса.
Парусное судно — судно, плавающее исключительно под парусами.
Парусность — все паруса одного судна составляют его парусность. Сумма площадей всех парусов — площади парусности.
Пассажир — лицо, не входящее в состав судовой команды. Этим именем в военном флоте, в насмешку, называют моряков, не интересующихся своею специальностью, плавающих в составе команды, но небрежно относящихся к своим судовым обязанностям.
Пассатный ветер — ветер, который сохраняет свое направление постоянно, в течение целого года; пассаты встречаются в Атлантическом и Тихом океанах. В первом между 29° и 8° северной широты дует постоянный северо-восточный пассат, и между 3° северной и 28° южн. шир. такой же постоянный юго-восточный. Страна между 8° и 3° сев. шир., разделяющая северо-восточный пассат от юго-восточного, отличается совершенным безветрием, прерываемым только по временам сильными порывами ветра или шквалами, а потому эта страна называется поясом тишины или безветрия.
Пеленговать — замечать по пель-компасу румб, на который с судна виден какой-либо предмет. Пеленг — угол, заключенный между магнитным меридианом и румбом, на котором виден предмет.
Переборка — перегородки, разделяющие трюм и части палуб на каюты или отделения, назначенные для хранения различных предметов.
Пересечь экватор — пройти экватор.
Переход — плавание от одного порта или места до другого.
Перлинь — вантрос толщиною от 4 до 6 дюймов.
Перты — род шпрюйтов под реями, на которых стоят люди при креплении парусов.
Пика — трехгранное железо, насаженное на длинное древко; одно из употребительнейших абордажных оружий.
Плавучий маяк — судно, поставленное на якорь вблизи опасности и приспособленное специально для того, чтобы служить маяком.
Пластырь для заделывания пробоин — изготовляется из двойной парусины и шпикованного мата. Подводится под пробоину на четырех концах троса парусиною к пробоине, а матом кнаружи. Нажимается давлением воды.
Плехт — правый становой якорь.
Пли! — команда, по которой первый комендор сильным и верным движением руки натягивает шнур от трубки и в то же время приставляет левую ногу к правой так, чтобы находиться вне отката орудия.
Поворот — переход с одного галса на другой; если при этом корабль переходит линию ветра носом к ветру, то такой поворот называется оверштаг; если же кормою к ветру, то — через фордевинд.
Давать погиб — давать выпуклость.
Подать конец — бросить веревку пристающей к борту шлюпке, на пристань, другому судну и проч.
Подветренная сторона. — Если судно идет правым галсом, то левая его сторона называется подветренной и обратно.
Подветренный берег — относительно идущего судна, напр., левым галсом, берег, находящийся с правой стороны, будет подветренным, а с левой наветренным.
Поддерживать пары — загрести жар в топках.
Поднимать пары — растопить хорошенько топку, чтобы в котле образовалось больше пару.
Подтянись к борту! — приказание шлюпке подтянуться, помощью крюка, к борту судна.
Подушка — всякий мешок, сшитый из парусины и набитый пенькой наподобие обыкновенной подушки; подкладывается в тех местах, где трутся между собою два дерева.
Подшкипер — помощник шкипера или самостоятельный содержатель унтер-офицерского звания.
Пожарная тревога — вызов людей по расписанию для тушения пожара. Команда вызывается по звону в колокол.
Позывные — флаги для распознавания судна.
Истинный полдень — момент, когда солнце достигнет наибольшей высоты.
Штилевые полосы — полосы океана, в которых господствует штиль. Более всего известны экваториальные штилевые полосы.
Полубаркас — второй баркас, несколько меньших размеров против первого.
Полундра! — окрик сверху вместо «берегись!», когда что—нибудь падает.
Помпа — постоянный, остающийся всегда на одном месте, насос; называется так в отличие от переносного насоса, называемого брандспойтом.
По местам! — приготовительная команда перед каким—либо судовым маневром: «По местам к повороту!», «По местам, паруса отдавать!» и проч.
Попутный ветер — ветер, дующий в корму или почти в корму.
Порт — отверстие в борту судна для орудия. Так же называется место, имеющее рейд или гавань для судов.
Поручень — деревянный брус или металлический прут, прикрепленный к вершинам стоек у трапов или мостика.
Послушное судно — хорошо слушает руля.
Потравить — дать слабину снасти.
Пошел все наверх! — вызов всей команды наверх для исполнения какого-либо маневра; при вызове прибавляется всегда, для чего команда вызывается, напр., рифы брать, паруса крепить и проч.
Пошел шпиль! — команда для начала вращения шпиля.
Править — направлять курс корабля. По-славянски: корманити.
Править вахтой — дежурить на судне, стоять на вахте.
Право на борт! — команда, по которой кладется руль право насколько можно.
Прекратить пары — выгрести жар из топок.
Претензия — заявление на смотру или на опросе претензий о незаконных и несправедливых действиях и распоряжениях начальства, о неудостоении за службу прав и преимуществ или о неудовлетворении положенным довольствием.
Привести к ветру — взять курс, относительно ветра, ближе к ветру, ближе к линии бейдевинда.
Придерживаться к ветру — идти ближе к линии ветра.
Принайтовить — скрепить найтовом.
Принять волну — выражение, употребляемое, когда волна закатится на палубу.
Приспуститься — идя под парусами бейдевинд, увеличить угол, составляемый направлением ветра с курсом.
Прокладывать по карте — наносить на карту курс судна, пришедший пункт и проч.; самое действие называется прокладкой.
Проложить курс — помощью транспортира и линейки провести на карте черту, соответствующую курсу судна.
Противное волнение — волнение, направляющееся против курса.
Противный ветер — дующий по направлению, противному курсу судна.
Прямо руль! — поставить руль в диаметральной плоскости.
Прямой парус — парус, который привязан к рею и может быть поставлен поперек судна; таковы: нижние паруса, марсели, брамсели и бом—брамсели.
Прямые паруса — паруса, которые привязываются к реям и могут быть поставлены поперек судна.
Пузо — выпуклость паруса, когда он надут ветром.
Пункт — место корабля на карте.
Путевой компас — компас, по которому правят судном.
Равноденствие — два времени в году, в которые день равен ночи. Одно из равноденствий, называемое жителями северного полушария весенним, всегда 10—23 марта, другое, называемое осенним, 11—24 сентября.
Разводить пары — затопить топки и поддерживать огонь, пока не образуются пары в котле.
Снасти разбирать! — команда, по которой снасти убираются, каждая в свою бухту; это делается после авральной работы, когда снасти еще не успели порядочно сложить.
Разоружить, разоружать — снять с судна такелаж и спустить рангоут.
Рассыльный — отряжаемый с вахты матрос специально для посылок вахтенного начальника.
Рангоут — мачты, снасти, реи, бугшприт и проч. деревья, на которых ставят паруса.
Рандеву — место встречи или соединения судов.
Расклепать цепной канат — разъединить канат в местах соединения, т.е. у скобы; выколотить расклепку у скобы.
Расписание — распределение людей на судне для различных работ и для заведывания различными частями.
Расцветиться флагами — поднять флаги в честь победы, или царского дня, или особо высокого праздника.
Ревизор — офицер, заведующий хозяйственной частью на корабле.
Рей (рея) — рангоутное дерево, подвешенное за середину и служащее для привязыванья паруса.
Рейд — часть моря, защищенная берегом и островами или молом от ветра. Если рейд не хорошо защищен от ветра, или не вполне, то называется открытым; в противном случае — закрытым.
Риф — гряда каменьев на поверхности воды; если они скрыты под водой, то риф называется подводным. По—славянски: гребень.
Риф — леер у паруса или ряд сезней, посредством которых площадь паруса уменьшается. Взять рифы у паруса — уменьшить площадь паруса, связывая риф—штерты или между собою, как у косых парусов, или за леер, как у прямых. Отдать рифы — развязать риф—штерты, которыми были взяты рифы.
Ровный ветер — ветер без порывов.
Ростры — собрание запасных деревьев на судне, как—то: стенег, реев, шкал и пр.; укладываются на судах различно, но большею частью, между фок— и гром—мачтами, так что между ними остается место для баркаса и других шлюпок, поднимаемых на палубу.
Рубашка паруса — середина закрепленного прямого паруса.
Рубка — каюта на верхней палубе или полукаюта под люком.
Рулевой — человек, который правит рулем. Рулевой старшина — старший из рулевых, на обязанности которого лежит исправное содержание штурвала, штуртроса, пактоузов и всего, что касается руля.
Руль — прежде называли — кормило; по-славянски кармань. Прибор для управления судном. Прямо руль! — приказание рулевому, чтоб он поставил румпель (прямой) в диаметральную плоскость. При этом положении стрелка аксиометра показывает нуль. Не зевать на руле! — напоминание рулевому, чтобы он не дремал. Право руль! — приказание поворотить румпель вправо. Руль на борт! — приказание поворотить румпель как можно больше вправо или влево, смотря по тому, «право на борт!» или «лево на борт!» было скомандовано.
Румб — румбом называется всякое направление от центра видимого горизонта к точкам его окружности. Из множества румбов 32 носят особые названия, и в числе их 2, именно О, W называются главными. Под словом румб подразумевают весьма часто величину угла между двумя румбами; в этом смысле говорят: один румб равен 11°15′; два румба — 22°30′ и т.д.
Румпель — деревянный или металлический брус, надеваемый на голову руля; служит он рычагом для поворачиванья руля вправо или влево.
Рупор — ручная трубка, сделанная из меди или жести, в виде усеченного конуса; служит для увеличиванья громкости голоса. Рупор употребляют во время командования, при управлении на судне парусами, чтобы произносимые командные слова на всем пространстве судна были слышны.
Руслени — площадки, приделываемые снаружи борта судна, на высоте верхней палубы; служат для отвода винта.
Рым — железное кольцо, вбиваемое в разных местах судна для закрепления за него снастей.
Рыскать — говорят, что судно рыскает, если оно виляет то в одну, то в другую сторону.
Ряжи — подводное заграждение, большею частью состоящее из свай, вбиваемых в фунт.
Садить — тянуть вниз; чтобы вытянуть фока- или грота-галса, командуют: фока- и грота-галсы садить!
Сажень — морская сажень имеет 6 фут.
Салинг — рама, состоящая из продольных брусков, называемых лонгасалингами, и из поперечных, называемых краницами. Надевается на топ стеньги и служит для отвода брам и бом—брам бакштагов.
Салют — отдание почести лицу, событию или флагу установленным числом выстрелов. Коммерческие суда при встрече друг с другом или с военными судами салютуют флагом, т.е. приспускают и поднимают до места три раза кормовой флаг.
Свалиться — сцепиться с другим судном.
Свистать. — Команда на судах вызывается на верх свистком в дудки; таким же свистком сопровождается всякая работа.
Свисток — действие, производимое дудкой. Так же называется и самая дудка, составляющая принадлежность унтер—офицеров на судне.
Секстан — отражательный и угломерный инструмент, принятый на судах для астрономических наблюдений.
Сигнал — всякие переговоры или предупреждения на отдаленном расстоянии. Поднять сигнал — поднять в известном сочетании сигнальные флаги. Сигнал с пушкой — если вместе с подъемом сигнала производится пушка, то это означает: или что требуется скорое исполнение, или — выговор. Сигнальная книга книга, по которой можно как сделать, так и разобрать всякий сигнал. Сигнальная пушка — пушка в известный условленный момент, напр., для начала гонки. Сигнальная ракета — служит приготовительным сигналом для сигналов на дальнем расстоянии, которые производятся пушечными выстрелами.
Сигнальщик — матрос, который имеет специальное назначение следить за всем окружающим и делать сигналы по приказанию вахтенного начальника.
Сирокко — так называется в Средиземном море юго—восточный ветер.
Систерна — железный ящик; в систернах на судах хранится пресная вода.
Склянка — песочные часы. Состоят из двух стеклянных конусов, соединенных между собою их вершинами и заключенных в деревянную или металлическую оправу. Оба конуса имеют друг с другом сообщение сквозь отверстие в их вершинах; в один из конусов насыпается мелкий и сухой песок в таком количестве, чтобы он пересыпался в другой конус в определенное время, например, в 30 сек. или в 15 сек., если склянки держать вертикально. Больших размеров склянки, как—то: получасовые, часовые и четырехчасовые, заменяли в старину часы на часах и давно вывелись из употребления, уступив место пружинным стенным часам. Несмотря, однако, на это, выражение склянка, означающее получасовой промежуток, до сих пор употребляется на судах.
Скрябка — инструмент, служащий для отскабливанья старой краски от борта, смолы с палубы и проч.
Скула. — Выпуклости в передней подводной части судна называются скулами.
Слабину выбрать! — приказание вытянуть снасть, чтобы она не имела слабины.
Следовать движениям адмирала — делать то, что делается на флагманском судне; например, если там ставят дождевые тенты, то следует их ставить и на судне, находящемся на одном рейде с адмиралом; если у адмирала команда в белых рубашках, то следует и судовую команду переодеть одинаково, и проч.
Смерч — водяной столб между небом и водой; состоит из двух конусов, сходящихся вершинами. Явление смерча сопровождается вихрем.
Вперед смотреть! — напоминание часовым, чтобы они не дремали. Последние отвечают: есть, смотрим!
Снасти — все тросы, входящие в вооружение судов и служащие для постановки и уборки парусов, для подъема и спуска рангоута.
Снасть — веревки, служащие на судне для постановки и уборки парусов и имеющие специальные назначения; называются вообще снастями. Отдать снасть отвернуть ее с кнехта или с утки, на которых она была завернута, закреплена. Очистить снасть — распустить ее, если бы она была спутана с другими снастями или задела за рангоутное дерево.
Снайтовить — соединить найтовом.
Снять вахту — принять дежурство по судну от другого.
Сняться с дрейфа — продолжать плавание после того, как судно лежало в дрейфе.
Собачья дыра — отверстие, люк в марсе, через который пролезают с вант на марс.
Содержатель — на военных судах бывают содержатели по шкиперской, комиссариатской и артиллерийской части; последний называется вахтером, первый шкипером или подшкипером и второй комиссаром или баталером.
Солнечный тент — тент, который ставится на судне или шлюпке для защиты от солнца.
Солнцестояние — точки, в которых солнце бывает в наибольшем удалении от экватора.
Спасательная лодка — бот для спасания погибающих.
Спасательный буек — буек, назначенный для подания помощи утопающему или упавшему в воду. Бывают различных форм и устройств.
Спасательный пояс — пробковый пояс или нагрудник, надеваемый в случае опасности быть смытым с палубы или другим образом опрокинутым в воду.
Сплесень — соединение двух веревок; чтобы сделать сплесень, концы распускают на пряди и пряди одного конца пробивают в переспущенные пряди другого, а пряди этого последнего пробивают в переспущенные пряди первого.
Сплескивать — сращивать две веревки, делая сплесень.
Спускаться — отходить от линии ветра, составлять угол курса с направлением ветра больший; напр., если судно шло бейдевинд и легло бакштаг, то оно спустилось.
Спустить баркас — поднять его с палубы судна и спустить на воду.
Срубить мачты — в переносном значении: убрать мачты, если они были поставлены на шлюпке.
Стаксели — треугольные паруса, подымаемые по лееру или по штагу.
Станционер — судно, находящееся постоянно на какой—нибудь станции в заграничном порту.
Старшина. Баковый старшина — унтер-офицер на баке. Марсовой старшина унтер-офицер, заведующий марсом. Рулевой старшина — старший из рулевых.
Старший офицер — старший после командира флотский офицер.
Стать фертоинг — стать на два якоря, имея такое количество каната у каждого, чтобы нос судна при всех переменах ветра оставался между якорями.
Статья — степень матросского звания.
Створ — направление, по которому видны вдруг два или несколько предметов один за другим, или линия, на которой один предмет закрывается другим.
Стеньга — дерево, служащее продолжением мачты. Брам—стеньга — дерево, служащее продолжением стеньги.
Стопорить — остановить тягу снасти, завернуть, закрепить снасть. Остановить вообще какое—либо действие.
Стоп! — команда, которая останавливает какое—либо действие.
Сухая (или голая) мачта — мачта без реев.
Тайфун — ураган в Китайском море.
Такелаж — общее наименование всех снастей. Такелаж, служащий для удержания рангоута (мачт, реев и т.п.) в надлежащем положении, называется стоячим, весь же остальной — бегучим.
Тали — снасть, основанная между блоками.
Тендер — одномачтовое судно с далеко выдающимся горизонтальным бугшпритом.
Тент — полотно, или парусина, растягиваемая над палубой для защиты от солнца или дождя.
Тифон — воздушное явление, состоящее из водяного столба, который, подобно вихрю, поднимается с чрезвычайной силой к небу.
Толчея — неправильное волнение.
Тонна — мера вместимости = 60 пудам.
Траверз — направление, перпендикулярное к курсу судна. Быть на траверзе — быть на линии, перпендикулярной к судну.
Травить — пропускать снасть, завернутую на кнехте.
Транспорт — судно, имеющее грузовой трюм и назначение преимущественно для перевоза грузов.
Тропики — два малые круга, параллельные небесному экватору и удаленные от него один к северу, другой к югу на 23°28′. Таковые же два малые круга, параллельные земному экватору и отстоящие от него на 23°28′, называются земными тропиками.
Трос — общее наименование веревок.
Трюм — самая нижняя часть внутреннего пространства судна.
Узел — величина узла (которыми измеряют пройденное кораблем расстояние) равна 1/120 части итальянской мили, т.е. 50 футам 8 дюймам, но опыт показывает, что при такой величине узлов скорость получается всегда меньше настоящей, почему постановлено делать расстояние между узлами в 48 ф. (см. лаг-линь).
Уключины — вырезки в бортах для весел или металлические сектора, вставляемые на бортах шлюпок.
Ураган — особый род ветра, отличающийся необыкновенной силой и производящий вследствие того самые ужасные и разрушительные действия. Скорость его доходит до 120 футов в секунду. Ураганы образуются чаще всего в тропиках и преимущественно в двух странах: при Антильских островах, в Мексиканском заливе и в Индийском океане. Время, в которое они наиболее свирепствуют, есть равноденствие.
Утлегарь — дерево, служащее продолжением бугшприта.
Уходить (убежать) от волны — идя фордевинд, нести столько парусов, чтобы волна не могла догнать судна.
Фалреп — тросы (веревки), заменяющие поручни у входных трапов. Матросы, назначаемые с вахты для подачи фалрепов, называются фалрепными.
Флагман — лицо, командующее эскадрой.
Флагманский корабль — судно, на котором флагман держит свой флаг.
Фок — самый нижний парус на передней фок-мачте.
Фок-мачта — передняя мачта.
Фордевинд — ветер, дующий прямо в корму или по курсу судна.
Форштевень — дерево, составляющее переднюю оконечность судна.
Фор — слово, прибавляемое к наименованиям реев, парусов и такелажа, находящихся выше марса фок-мачты.
Фрегат — военное трехмачтовое судно, имеющее одну закрытую батарею.
Фрегат — большая морская птица из породы чаек.
Фут — мера длины. В морской сажени 6 ф.
Ходом! — Приказание скорее тянуть что—нибудь или вертеть шпиль.
Хронометр — тщательно сделанные морские часы, подобные обыкновенным карманным, но отличающиеся от них более правильным ходом, мало изменяющимся от изменения температуры.
Шабаш — окончание работы.
Шаланда — небольшое грузовое судно.
Швабра — метла, сделанная из хорошо разбитой ворсы.
Швартов — тяжелый, крепкий канат, веревка, кабельтов, цепь, завозимый с судна на берег.
Широта — удаление места от экватора, считаемое по меридиану.
Шканцы — часть верхней палубы военного судна от грот-мачты до бизань-мачты.
Шкаторина — сторона или край паруса.
Шкафут — пространство на верхней палубе между грот- и фок-мачтами. Середина шкафута занята рострами.
Шквал — сильный порыв ветра.
Шкиперская — помещение на военном судне всех припасов, находящихся в ведении шкипера.
Шкипер — содержатель казенного имущества, как—то: такелажа, блоков, чоков, парусов и проч.
Шкот — снасть, которою рассечивается парус.
Шкуна — судно, имеющее две или три наклонные мачты с косыми парусами.
Шпигат — сквозное отверстие в борту для стока воды с палубы.
Шпиль — вертикальный ворот для подъема якорей и других тяжестей.
Штаг — снасть стоячего такелажа, которая держит рангоутное дерево в диаметральной плоскости.
Шторм — буря.
Шторм-трап — трап веревочный, свешиваемый за кормой судна. К этому трапу пристают шлюпки в очень свежую погоду и большое волнение, когда к борту корабля, без опасности для шлюпки, пристать нельзя.
Штурвал — механическое приспособление, облегчающее действие рулем.
Штык-болт — тонкая снасть, которой подтягивают баковые шкаторины парусов, когда у последних берутся рифы.
Штык-болтный — матрос, находящийся у этой снасти.
Экипаж — команда судна.
Экипаж — часть строевого состава на сухом пути, соответствующая в армии полку.
Эллинг — место строения кораблей на берегу, устроенное скатом.
Эскадра — несколько судов, плавающих под начальством адмирала.
Юнга — мальчик, готовящийся быть матросом.
Ют — кормовая часть верхней палубы, сзади бизань—мачты.
Якорь — прибор для задержания судна на месте. Встал якорь! — значит, отделился от грунта.
Ял — небольшая четырехугольная шлюпка на военном судне.
(Заимствовано из объяснительного морского словаря В.В.Вахтина)
1897
Примечания
1
«Чиновниками» матросы называют всех нестроевых: писарей, фельдшера, баталера, подшкипера. — Прим. автора.
(обратно)
2
баловень (фр.).
(обратно)
3
выгоду (от фр. profit).
(обратно)
4
коньяка (фр.).
(обратно)
5
гражданских чувств (от лат. civils — гражданский).
(обратно)
6
с глазу на глаз (фр.).
(обратно)
7
запутанности (от лат. complicatio).
(обратно)
8
Боа — удав; с давних пор считается, что он обладает способностью гипнотизировать свою жертву.
(обратно)
9
Павел Степанович Нахимов (1802—1855) — великий русский флотоводец, адмирал, один из организаторов героической обороны Севастополя, с октября 1854 года (после гибели В.А.Корнилова) ее руководитель. 28 июня 1855 года смертельно ранен.
(обратно)
10
Владимир Алексеевич Корнилов (1806—1854) — выдающийся русский военно—морской деятель, вице—адмирал, один из организаторов героической обороны Севастополя. Погиб 5 октября 1854 года.
(обратно)
11
Шенкель — обращенная к лошади часть ноги всадника от колена до щиколотки.
(обратно)
12
Такие монахи на судах бывали в прежние, отдаленные времена. Теперь, говорят, на суда дальнего плавания назначаются образованные монахи, из кончивших духовную академию. — Прим. автора.
(обратно)
13
В матросы обыкновенно берут малорослых людей. — Прим. автора.
(обратно)
14
Уменьшительное Варсонофия. — Прим. автора.
(обратно)
15
Буруны — пенящиеся волны над отмелью или рифом.
(обратно)
16
Честер — сорт сыра.
(обратно)
17
Фурманщик — владелец или возчик фу́ры, большой длинной телеги. Здесь: ловчий бездомных собак, разъезжающий в особом фургоне для ловли бездомных собак.
(обратно)
18
Замолчи! (франц.).
(обратно)
19
Лубочная картина — картина, печатавшаяся с гравированных липовых лубков и отличавшаяся примитивностью исполнения.
(обратно)
20
Олеография — копия с картин, писанных масляными красками.
(обратно)
21
Суд Линча — самосуд.
(обратно)
22
Никола-угодник — святой, считавшийся покровителем моряков.
(обратно)
23
Траншей-майор — наблюдающий за траншеями и за «секретами», скрытыми от лица неприятеля. (Примеч. автора.)
(обратно)
24
Согласно Библии, у Иакова было двенадцать сыновей, из которых самый младший, Вениамин, был особенно любим отцом и братьями.
(обратно)
25
Так матросы называют кругосветное плавание.
(обратно)
26
Шабаш — здесь: окончание работы, перерыв для отдыха (устар.)
(обратно)
27
Кавун — арбуз (укр.)
(обратно)
28
Так матросы Черноморского флота называли корабль «Трех иерархов».
(обратно)
29
Бой — по-английски: «мальчик».
(обратно)
30
Рассказ относится ко времени междоусобной войны в Соединенных Штатах (1861–1865).
(обратно)
31
Нет, нет, нет… (англ.).
(обратно)
32
Вери гут (правильно: «вери гуд») — очень хорошая (англ.).
(обратно)
33
Бон — хорошая (фр.).
(обратно)
34
В прежнее время, когда особенно процветала торговля неграми, состоялась международная конвенция между всеми почти государствами Европы о противодействии этому злу. В силу этой конвенции Франция и Англия посылали к берегам Африки и Америки военные крейсеры для ловли негропромышленников. С пойманными расправлялись строго. Капитана и помощника его вешали, а матросов отправляли в каторжные работы. Негров объявляли свободными, а пойманные суда делались призом поймавших.
(обратно)
35
Пестун — заботливый воспитатель (устар.).
(обратно)
36
Лясничать — разговаривать, болтать (устар.).
(обратно)
37
«Андромаха» (примеч. автора).
(обратно)
38
Место встречи (от фр. rendez-vous, рандеву).
(обратно)
Оглавление
Рассказ старого матроса
(Очерк из былой морской жизни)
(Из дальнего прошлого)
(Рассказ старого боцмана)