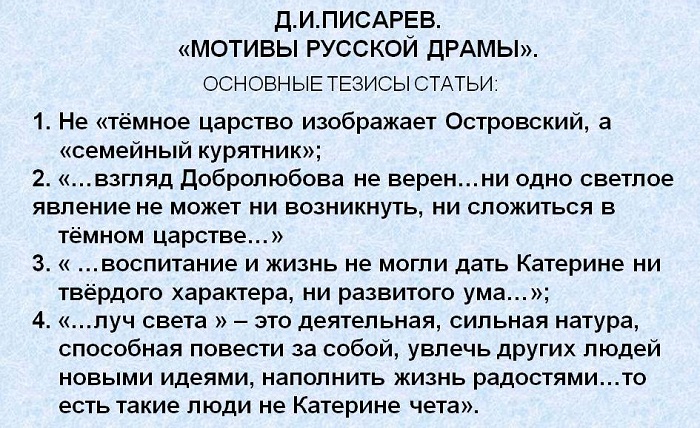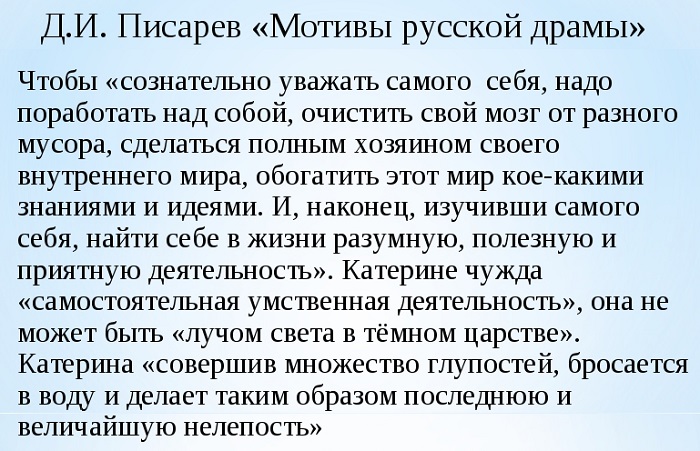Писарев Д. И Мотивы русской драмы
Писарев Д. И
Мотивы русской драмы
Основываясь на драматических произведениях Островского, Добролюбов показал нам в русской семье то «темное царство», в котором вянут умственные способности и истощаются свежие силы наших молодых поколений. <…> Эта статья была ошибкою со стороны Добролюбова; он увлекся симпатиею к характеру Катерины и принял ее личность за светлое явление. Подробный анализ этого характера покажет нашим читателям, что взгляд Добролюбова в этом случае неверен и что ни одно светлое явление не может ни возникнуть, ни сложиться в «темном царстве» патриархальной русской семьи, выведенной на сцену в драме Островского.
Катерина, жена молодого купца Тихона Кабанова, живет с мужем в доме своей свекрови, которая постоянно ворчит на всех домашних. Дети старой Кабанихи, Тихон и Варвара, давно прислушались к этому брюзжанию и умеют его «мимо ушей пропущать» на том основании, что «ей ведь что-нибудь надо ж говорить». Но Катерина никак не может привыкнуть к манерам своей свекрови и постоянно страдает от ее разговоров. В том же городе, в котором живут Кабановы, находится молодой человек, Борис Григорьевич, получивший порядочное образование. Он заглядывается на Катерину в церкви и на бульваре, а Катерина с своей стороны влюбляется в него, но желает сохранить в целости свою добродетель. Тихон уезжает куда-то на две недели; Варвара, по добродушию, помогает Борису видеться с Катериною, и влюбленная чета наслаждается полным счастьем в продолжение десяти летних ночей. Приезжает Тихон; Катерина терзается угрызениями совести, худеет и бледнеет; потом ее пугает гроза, которую она принимает за выражение небесного гнева; в это же время смущают ее слова полоумной барыни о геение огненной; все это она принимает на свой счет; на улице, при народе, она бросается перед мужем на колени и признается ему в своей вине. Муж, по приказанию своей матери, «побил ее немножко», после того как они воротились домой; старая Кабаниха с удвоенным усердием принялась точить покаявшуюся грешницу упреками и нравоучениями; к Катерине приставили крепкий домашний караул, однако ей удалось убежать из дома; она встретилась со своим любовником и узнала от него, что он по приказанию дяди уезжает в Кяхту; потом, тотчас после этого свидания, она бросилась в Волгу и утонула. Вот те данные, на основании которых мы должны составить себе понятие о характере Катерины. <…>
Во всех поступках и ощущениях Катерины заметна прежде всего резкая несоразмерность между причинами и следствиями. Каждое внешнее впечатление потрясает весь ее организм; самое ничтожное событие, самый пустой разговор производят в ее мыслях, чувствах и поступках целые перевороты. Кабаниха ворчит, Катерина от этого изнывает, Борис Григорьевич бросает нежные взгляды, Катерина влюбляется; Варвара говорит мимоходом несколько слов о Борисе, Катерина заранее считает себя погибшею женщиною, хотя она до тех пор даже не разговаривала с своим будущим любовником; Тихон отлучается из дома на несколько дней, Катерина падает перед ним на колени и хочет, чтобы он взял с нее страшную клятву в супружеской верности. Варвара дает Катерине ключ от калитки, Катерина, подержавшись за этот ключ в продолжение пяти минут, решает, что она непременно увидит Бориса, и кончает свой монолог словами: «Ах, кабы ночь поскорее!» А между тем и ключ-то был дан ей преимущественно для любовных интересов самой Варвары, и в начале своего монолога Катерина находила даже, что ключ жжет ей руки и его непременно следует бросить. При свидании с Борисом, конечно, повторяется та же история; сначала «поди прочь, окаянный человек!», а вслед за тем на шею кидается. Пока продолжаются свидания, Катерина думает только о том, что «погуляем»; как только приезжает Тихон и вследствие этого ночные прогулки прекращаются, Катерина начинает терзаться угрызениями совести и доходит в этом направлении до полусумасшествия; а между тем Борис живет в том же городе, все идет по-старому, и, прибегая к маленьким хитростям и предосторожностям, можно было бы кое-когда видеться и наслаждаться жизнью. Но Катерина ходит как потерянная, и Варвара очень основательно боится, что она бухнется мужу в ноги, да и расскажет ему все по порядку. Так оно и выходит, и катастрофу эту производит стечение самых пустых обстоятельств. Грянул гром. Катерина потеряла последний остаток своего ума, а тут еще прошла по сцене полоумная барыня с двумя лакеями и произнесла всенародную проповедь о вечных мучениях; а тут еще на стене, в крытой галерее, нарисовано адское пламя; и все это одно к одному – ну, посудите сами, как же в самом деле Катерине не рассказать мужу тут же, при Кабанихе и при всей городской публике, как она провела во время отсутствия Тихона все десять ночей? <…>
Вся жизнь Катерины состоит из постоянных внутренних противоречий; она ежеминутно кидается из одной крайности в другую; она сегодня раскаивается в том, что делала вчера, и между тем сама не знает, что будет делать завтра; она на каждом шагу путает и свою собственную жизнь и жизнь других людей; наконец, перепутавши все, что было у нее под руками, она разрубает затянувшиеся узлы самым глупым средством, самоубийством, да еще таким самоубийством, которое является совершенно неожиданно для нее самой. Эстетики не могли не заметить того, что бросается в глаза во всем поведении Катерины; противоречия и нелепости слишком очевидны, но зато их можно назвать красивым именем; можно сказать, что в них выражается страстная, нежная и искренняя натура. Страстность, нежность, искренность – все это очень хорошие свойства, по крайней мере все это очень красивые слова, а так как главное дело заключается в словах, то и нет резона, чтобы не объявить Катерину светлым явлением и не прийти от нее в восторг. Я совершенно согласен с тем, что страстность, нежность и искренность составляют действительно преобладающие свойства в натуре Катерины, согласен даже с тем, что все противоречия и нелепости ее поведения объясняются этими свойствами. <…> Эстетики подводят Катерину под известную мерку, и я вовсе не намерен доказывать, что Катерина не подходит под эту мерку; Катерина-то подходит, да мерка-то никуда не годится, и все основания, на которых стоит эта мерка, тоже никуда не годятся; все это должно быть совершенно переделано, и хотя, разумеется, я не справлюсь один с этою задачею, однако лепту свою внесу. <…>
… Каждый критик, разбирающий какой-нибудь литературный тип, должен, в своей ограниченной сфере деятельности, прикладывать к делу те самые приемы, которыми пользуется мыслящий историк, рассматривая мировые события и расставляя по местам великих и сильных людей. Историк не восхищается, не умиляется, не негодует, не фразерствует, и все эти патологические отправления так же неприличны в критике, как и в историке. Историк разлагает каждое явление на его составные части и изучает каждую часть отдельно, и потом, когда известны все составные элементы, тогда и общий результат оказывается понятным и неизбежным; что казалось, раньше анализа, ужасным преступлением или непостижимым подвигом, то оказывается, после анализа, простым и необходимым следствием данных условий. Точно так же следует поступать критику: вместо того чтобы плакать над несчастиями героев и героинь, вместо того чтобы сочувствовать одному, негодовать против другого, восхищаться третьим, лезть на стены по поводу четвертого, критик должен сначала проплакаться и пробесноваться про себя, а потом, вступая в разговор с публикою, должен обстоятельно и рассудительно сообщить ей свои размышления о причинах тех явлений, которые вызывают в жизни слезы, сочувствие, негодование и восторги. Он должен объяснять явления, а не воспевать их, он должен анализировать, а не лицедействовать. Это будет более полезно и менее раздирательно.
В истории явление может быть названо светлым или темным не потому, что оно нравится или не нравится историку, а потому, что оно ускоряет или задерживает развитие человеческого благосостояния. В истории нет бесплодно-светлых явлений; что бесплодно, то не светло, – на то не стоит совсем обращать внимания. <…>
Только умный и развитой человек может оберегать себя и других от страданий при тех неблагоприятных условиях жизни, при которых существует огромное большинство людей на земном шаре; кто не умеет сделать ничего для облегчения своих и чужих страданий, тот ни в каком случае не может быть назван светлым явлением; тот – трутень, может быть очень милый, очень грациозный, симпатичный, но все это такие неосязаемые и невесомые качества, которые доступны только пониманию людей, обожающих интересную бледность и тонкие талии. Облегчая жизнь себе и другим, умный и развитой человек не ограничивается этим; он, кроме того, в большей или меньшей степени, сознательно или невольно, перерабатывает эту жизнь и приготовляет переход к лучшим условиям существования. Умная и развитая личность, сама того не замечая, действует на все, что к ней прикасается; ее мысли, ее занятия, ее гуманное обращение, ее спокойная твердость – все это шевелит вокруг нее стоячую воду человеческой рутины; кто уже не в силах развиваться, тот по крайней мере уважает в умной и развитой личности хорошего человека, – а людям очень полезно уважать то, что действительно заслуживает уважения; но кто молод, кто способен полюбить идею, кто ищет возможности развернуть силы своего свежего ума, тот, сблизившись с умною и развитою личностью, может быть, начнет новую жизнь, полную обаятельного труда и неистощимого наслаждения. Если предполагаемая светлая личность даст таким образом обществу двух-трех молодых работников, если она внушит двум-трем старикам невольное уважение к тому, что они прежде осмеивали и притесняли, – то неужели вы скажете, что такая личность ровно ничего не сделала для облегчения перехода к лучшим идеям и к более сносным условиям жизни? Мне кажется, что она сделала в малых размерах то, что делают в больших размерах величайшие исторические личности. Разница между ними заключается только в количестве сил, и потому оценивать их деятельность можно и должно посредством одинаковых приемов. Так вот какие должны быть «лучи света» – не Катерине чета. <…>
Если читатель находит идеи этой статьи справедливыми, то он, вероятно, согласится с тем, что все новые характеры, выводимые в наших романах и драмах, могут относиться или к базаровскому типу, или к разряду карликов и вечных детей. От карликов и вечных детей ждать нечего; нового они ничего не произведут; если вам покажется, что в их мире появился новый характер, то вы смело можете утверждать, что это оптический обман. То, что вы в первую минуту примете за новое, скоро окажется очень старым; это просто – новая помесь карлика с вечным ребенком, а как ни смешивайте эти два элемента, как ни разбавляйте один вид тупоумия другим видом тупоумия, в результате все-таки получите новый вид старого тупоумия.
Эта мысль совершенно подтверждается двумя последними драмами Островского: «Гроза» и «Грех да беда на кого не живет». В первой – русская Офелия, Катерина, совершив множество глупостей, бросается в воду и делает, таким образом, последнюю и величайшую нелепость. Во второй – русский Отелло, Краснов, во все время драмы ведет себя довольно сносно, а потом сдуру зарезывает свою жену, очень ничтожную бабенку, на которую и сердиться не стоило. Может быть, русская Офелия ничем не хуже настоящей, и, может быть, Краснов ни в чем не уступит венецианскому мавру, но это ничего не доказывает: глупости могли так же удобно совершаться в Дании и в Италии, как и в России; а что в средние века они совершались гораздо чаще и были гораздо крупнее, чем в наше время, это уже не подлежит никакому сомнению; но средневековым людям, и даже Шекспиру, было еще извинительно принимать большие человеческие глупости за великие явления природы, а нам, людям XIX столетия, пора уже называть вещи их настоящими именами. <…>
1864
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Ю. В. Доманский. Архетипические мотивы в русской прозе XIX века. Опыт построения типологии г. Тверь
Ю. В. Доманский. Архетипические мотивы в русской прозе XIX века. Опыт построения типологии
г. Тверь
Понятие «архетип», введенное К. Г. Юнгом,[19] закрепилось во многих научных областях, в том числе и в литературоведении, где архетип понимается как универсальный прасюжет или
Д. И. Писарев Борьба за жизнь
Д. И. Писарев Борьба за жизнь
<…>Нет ничего удивительного в том, что Раскольников, утомленный мелкой и неудачной борьбой за существование, впал в изнурительную апатию; нет также ничего удивительного в том, что во время этой апатии в его уме родилась и созрела мысль
Писарев Д. И Мотивы русской драмы
Писарев Д. И
Мотивы русской драмы
Основываясь на драматических произведениях Островского, Добролюбов показал нам в русской семье то «темное царство», в котором вянут умственные способности и истощаются свежие силы наших молодых поколений. <…> Эта статья была ошибкою
Писарев Д. И Мыслящий пролетариат
Писарев Д. И
Мыслящий пролетариат
<…> Всех, кого кормит и греет рутина, роман г. Чернышевского приводит в неописанную ярость. Они видят в нем и глумление над искусством, и неуважение к публике, и безнравственность, и цинизм, и, пожалуй, даже зародыши всяких преступлений.
Первое представление новой драмы г. Островского
Первое представление новой драмы г. Островского
23 января, на Мариинском театре, было первое представление новой драмы А. Н. Островского «Грех да беда на кого не живут». Мы не будем говорить здесь об этой драме, потому что она составляет в нашей литературе такое явление,
Первое представление новой драмы г. Островского
Первое представление новой драмы г. Островского
Впервые — в журнале «Современник», 1863, № 1–2, отд. II, стр. 197–198 (ценз. разр. — 5 февраля). Без подписи. Авторство установлено в книге: В. Боград. Журнал «Современник». 1847–1866. Указатель содержания, Гослитиздат, М. —Л. 1959, стр. 418 и
Д. И. Писарев[444]
Д. И. Писарев[444]
Николай Яковлевич Прокопович и отношения его к Гоголю
П. В. Гербеля(Современник, 1858 г., февраль)[445]Дорого русскому сердцу имя Гоголя; Гоголь был первым нашим народным, исключительно русским поэтом; никто лучше его не понимал всех оттенков русской жизни и
Былинные мотивы в русской поэзии
Былинные мотивы в русской поэзии
Многие поколения русских поэтов используют былинные мотивы в своем творчестве. При этом русские поэты конечно же знали, что былины – это фольклорный жанр далекого прошлого, поэтому ни один из великих русских поэтов не пытался создать
Писарев Дмитрий Иванович считался одним из самых известных критиков второй половины 19 века наравне с Добролюбовым и Чернышевским.
В 10 классе школьники знакомятся со статьей Д. И. Писарева, — «Мотивы русской драмы», краткое содержание которой будет предложено далее. В ней публицист делает анализ персонажей пьесы Александра Николаевича Островского «Гроза».
Приводит свои тезисы и не соглашается с доводами, написанными ранее Добролюбовым в статье на эту же тему.
Причина написания статьи Д. И. Писаревым о «Грозе»
Писарев Дмитрий Иванович был известным молодым литературным критиком и публицистом во второй половине XIX в.
Писарев Дмитрий Иванович (1840-1868)
Молодой человек прожил недолгую жизнь и трагически погиб, однако его жизнь была достаточно насыщена событиями.
За свои работы, где он призывает к свержению династии Романовых и защищает Герцена, Писарев был даже сослан на 4 года в ссылку. Но и там он плодотворно трудился.
Критик был нигилистом и реалистом, что отражалось в его работах. Даже сам Ленин и его жена Крупская уважали его, а у вождя на столе даже стоял портрет Писарева.
Пьеса Островского «Гроза» после своего выхода в 1859 г. наделала много шума. Особенно она вызвала большой интерес среди критиков и публицистов. Было написано много рецензий и анализов на произведение, среди которых работа Писарева явно выделялась.
В 1864 г. в журнале «Русское слово» вышла критическая статья «Мотивы русской драмы». На написание работы Дмитрия Ивановича, в первую очередь, натолкнула статья «Луч света в темном царстве» другого известного критика, прозаика и публициста Николая Александровича Добролюбова. В ней Добролюбов делает анализ и даёт оценку главной героине пьесы «Грозы» Катерине.
Мнения Добролюбова и реалиста Писарева о мотивах поступков и характере главной героини разделились.
Таблица, представленная ниже, наглядно показывает, как они по-разному видят образ героини:
|
Трактовка Писарева |
Трактовка Добролюбова |
|
Героиня слабая, все ее поступки совершаются по первому влечению. |
Катерина имеет идеальный характер, любящий, созидательный. |
|
Согласно Писареву в «темном царстве» никак не может возникнуть светлое явление. |
Отношение к характеру и личности героини хорошо описывает следующая цитата Добролюбова: «Луч света и светлое явление в темном царстве». |
|
Героиня не имеет твердого характера и развитого ума. Запутанную ситуацию она решает самым глупым поступком – самоубийством. |
Девушка протестует против понятий и критериев нравственности Кабановой. Сила ее характера состоит в том, что она находит единственное освобождение, хоть и трагическое. |
|
Катерина не сделала ничего, чтобы облегчить свои и чужие страдания. |
Избавление от тяжкого бремени героини придает облегчение и читателю. |
Краткое содержание и основные положения статьи «Мотивы русской драмы»
Рекомендуется читать работу Писарева самостоятельно, так как он писал живым и задорным языком, что отличало его от остальных коллег. Но если такой возможности нет, предлагаем вам небольшой конспект статьи.
Вся работа Писарева — это своеобразный большой развернутый отклик на статью Добролюбова, где камнем преткновения критиков в основном является образ Катерины из пьесы.
Писарев абсолютно не согласен с Добролюбовым. Он считает, что в героине нет таких черт в характере, которые делают ее образ в произведении светлым, возвышенным и идеальным.
Наоборот, для него Катерина абсолютна неприметная, слабая и заурядная личность. Дмитрий Иванович согласен с коллегой, что героиня нежная и искренняя натура.
Писарев недоумевает: что за «добродетели, которые можно запросто сломать» и «любовь, которая способна проснуться от одного лишь взгляда». Нигилист и реалист Писарев видит в Катерине противоречивую личность: от мимолетного нежного взгляда в свою сторону Катерина в миг влюбляется, а от упреков начинает изнывать.
В статье он спорит не только с Добролюбовым, увидевшим в героине «луч света в темном царстве», но и с самим автором произведения.
Но самым нелогичным и абсурдным критик считает финал пьесы, где смешались жесткость главы семейства, муки бедной измученной девушки, ее любовь к негодяю. Все намешано: ревность, любовь, жестокость, отчаяние, мечтательность.
Писарев считает, что смесь таких чувств не может пробудить читателя ни к чему хорошему. Более того, она выглядит гротескной. Катерина не смогла пробудить никаких эмоций, ее самоубийство — глупый и бесполезный поступок.
Основной мыслью статьи является вывод: «нет в темном царстве света». Катерина никак не может быть «лучом» или «светлым явлением», ведь в темноте не может быть света.
Помимо полемики с Добролюбовым, Писарев в своей работе сравнивает образ Катерины с Базаровым из «Отцов и детей».
Конечно же, будучи нигилистом, критик своё предпочтение отдает герою-нигилисту Базарову, считая его человеком своего времени. А Катерину считает пережитком, «не такие люди нужны современной России».
Д.И. Писарев
Мотивы русской
драмы
Основываясь на драматических произведениях
Островского, Добролюбов показал нам в
русской семье то «темное царство»,
в котором вянут умственные способности
и истощаются свежие силы наших молодых
поколений. Статью прочли, похвалили и
потом отложили в сторону. Любители
патриотических иллюзий, не сумевшие
сделать Добролюбову ни одного
основательного возражения, продолжали
упиваться своими иллюзиями и, вероятно,
будут продолжать это занятие до тех
пор, пока будут находить себе читателей.
Глядя на эти постоянные коленопреклонения
перед народною мудростью и перед народною
правдою, замечая, что доверчивые читатели
принимают за чистою монету ходячие
фразы, лишенные всякого содержания, и
зная, что народная мудрость и народная
правда выразились всего полнее в
сооружении нашего семейного быта, —
добросовестная критика поставлена в
печальную необходимость повторять по
нескольку раз те положения, которые
давно уже были высказаны и доказаны.
Пока будут существовать явления «темного
царства» и пока патриотическая
мечтательность будет смотреть на них
сквозь пальцы, до тех пор нам постоянно
придется напоминать читающему обществу
верные и живые идеи Добролюбова о нашей
семейной жизни. Но при этом нам придется
быть строже и последовательнее
Добролюбова; нам необходимо будет
защищать его идеи против его собственных
увлечений; там, где Добролюбов поддался
порыву эстетического чувства, мы
постараемся рассуждать хладнокровно
и у видим, что наша семейная патриархальность
подавляет всякое здоровое развитие.
Драма Островского «Гроза» вызвала
со стороны Добролюбова критическую
статью под заглавием «Луч света в
темном царстве». Эта статья была
ошибкою со стороны Добролюбова; он
увлекся симпатиею к характеру Катерины
и принял ее личность за светлое явление.
Подробный анализ этого характера покажет
нашим читателям, что взгляд Добролюбова
в этом случае неверен и что ни одно
светлое явление не может ни возникнуть,
ни сложиться в «темном царстве»
патриархальной русской семьи, выведенной
на сцену в драме Островского.
Катерина, жена молодого купца Тихона
Кабанова, живет с мужем в доме своей
свекрови, которая постоянно ворчит на
всех домашних. Дети старой Кабанихи,
Тихон и Варвара, давно прислушались к
этому брюзжанию и умеют его «мимо
ушей пропущать» на том основании, что
«ей ведь что-нибудь надо ж говорить».
Но Катерина никак не может привыкнуть
к манерам своей свекрови и постоянно
страдает от ее разговоров. В том же
городе, в котором живут Кабановы,
находится молодой человек, Борис
Григорьевич, получивший порядочное
образование. Он заглядывается на Катерину
в церкви и на бульваре, а Катерина с
своей стороны влюбляется в него, но
желает сохранить в целости свою
добродетель. Тихон уезжает куда-то на
две недели; Варвара, по добродушию,
помогает Борису видеться с Катериною,
и влюбленная чета наслаждается полным
счастьем в продолжение десяти летних
ночей. Приезжает Тихон; Катерина терзается
угрызениями совести, худеет и бледнеет;
потом ее пугает гроза, которую она
принимает за выражение небесного гнева;
в это же время смущают ее слова полоумной
барыни о геенне огненной; все это она
принимает на свой счет; на улице, при
народе, она бросается перед мужем на
колени и признается ему в своей вине.
Муж, по приказанию своей матери, «побил
ее немножко», после того как они
воротились домой; старая Кабаниха с
удвоенным усердием принялась точить
покаявшуюся грешницу упреками и
нравоучениями; к Катерине приставили
крепкий домашний караул, однако ей
удалось убежать из дома; она встретилась
с своим любовником и узнала от него, что
он, по приказанию дяди, уезжает в Кяхту;
— потом, тотчас после этого свидания,
она бросилась в Волгу и утонула. Вот те
данные, на основании которых мы должны
составить себе понятие о характере
Катерины. Я дал моему читателю голый
перечень таких фактов, которые в моем
рассказе могут показаться слишком
резкими, бессвязными и в общей совокупности
даже неправдоподобными. Что это за
любовь, возникающая от обмена нескольких
взглядов? Что это за суровая добродетель,
сдающаяся при первом удобном случае?
Наконец, что это за самоубийство,
вызванное такими мелкими неприятностями,
которые переносятся совершенно
благополучно всеми членами всех русских
семейств?
Я передал факты совершенно верно, но,
разумеется, я не мог передать в нескольких
строках те оттенки в развитии действия,
которые, смягчая внешнюю резкость
очертаний, заставляют читателя или
зрителя видеть в Катерине не выдумку
автора, а живое лицо, действительно
способное сделать все вышеозначенные
эксцентричности. Читая «Грозу» или
смотря ее на сцене, вы ни разу не усомнитесь
в том, что Катерина должна была поступать
в действительности именно так, как она
поступает в драме. Вы увидите перед
собою и поймете Катерину, но, разумеется,
поймете ее так или иначе, смотря по тому,
с какой точки зрения вы на нее посмотрите.
Всякое живое явление отличается от
мертвой отвлеченности именно тем, что
его можно рассматривать с разных сторон;
и, выходя из одних и тех же основных
фактов, можно приходить к различным и
даже к противоположным заключениям.
Катерина испытала на себе много
разнородных приговоров; нашлись
моралисты, которые обличили ее в
безнравственности, это было всего легче
сделать: стоило только сличить каждый
поступок Катериаы с предписаниями
положительного закона и подвести итоги;
на эту работу не требовалось ни остроумия,
ни глубокомыслия, и поэтому ее действительно
исполнили с блестящим успехом писатели,
не отличающиеся ни тем, ни другим из
этих достоинств; потом явились эстетики
и решили, что Катерина — светлое явление;
эстетики, разумеется, стояли неизмеримо
выше неумолимых поборников благочиния,
и поэтому первых выслушали с уважением,
между тем как последних тотчас же
осмеяли. Во главе эстетиков стоял
Добролюбов, постоянно преследовавший
эстетических критиков своими меткими
и справедливыми насмешками. В приговоре
над Катериною он сошелся с своими
всегдашними противниками, и сошелся
потому, что, подобно им, стал восхищаться
общим впечатлением, вместо того чтобы
подвергнуть это впечатление спокойному
анализу В каждом из поступков Катерины
можно отыскать привлекательную сторону;
Добролюбов отыскал эти стороны, сложил
их вместе, составил из них идеальный
образ, увидал вследствие этого «луч
света в темном царстве» и, как человек,
полный любви, обрадовался этому лучу
чистою и святою радостью гражданина и
поэта. Если бы он не поддался этой
радости, если бы он на одну минуту
попробовал взглянуть спокойно и
внимательно на свою драгоценную находку,
то в его уме тотчас родился бы самый
простой вопрос, который немедленно
привел бы за собою полное разрушение
привлекательной иллюзии. Добролюбов
спросил бы самого себя: как мог сложиться
этот светлый образ? Чтобы ответить себе
на этот вопрос, он проследил бы жизнь
Катерины с самого детства, тем более
что Островский дает на это некоторые
материалы; он увидел бы, что воспитание
и жизнь не могли дать Катерине ни твердого
характера, ни развитого ума; тогда он
еще раз взглянул бы на те факты, в которых
ему бросилась в глаза одна привлекательная
сторона, и тут вся личность Катерины
представилась бы ему в совершенно другом
свете. Грустно расставаться с светлою
иллюзиею, а делать нечего; пришлось бы
и на этот раз удовлетвориться темною
действительностью.
Вo всех поступках и ощущениях Катерины
заметна прежде всего резкая несоразмерность
между причинами и следствиями. Каждое
внешнее впечатление потрясает весь ее
организм; самое ничтожное событие, самый
пустой разговор производят в ее мыслях,
чувствах и поступках целые перевороты.
Кабаниха ворчит, Катерина от этого
изнывает; Борис Григорьевич бросает
нежные взгляды, Катерина влюбляется;
Варвара говорит мимоходом несколько
слов о Борисе, Катерина заранее считает
себя погибшею женщиною, хотя она до тех
пор даже не разговаривала с своим будущим
любовником; Тихон отлучается из дома
на несколько дней, Катерина падает перед
ним на колени и хочет, чтобы он взял с
нее страшную клятву в супружеской
верности. Варвара дает Катерине ключ
от калитки, Катерина, подержавшись за
этот ключ в продолжение пяти минут,
решает, что она непременно увидит Бориса,
и кончает свой монолог словами: «Ах,
кабы ночь поскорее!» А между тем даже
и ключ-то был дан ей преимущественно
для любовных интересов самой Варвары,
и в начале своего монолога Катерина
находила даже, что ключ жжет ей руки и
что его непременно следует бросить. При
свидании с Борисом, конечно, повторяется
та же история; сначала «поди прочь,
окаянный человек!», а вслед за тем на
шею кидается. Пока продолжаются свидания,
Катерина думает только о том, что
«погуляем»; как только приезжает
Тихон и вследствие этого ночные прогулки
прекращаются, Катерина начинает терзаться
угрызениями совести и доходит в этом
направлении до полусумасшествия; а
между тем Борис живет в том же городе,
все идет по-старому, и, прибегая к
маленьким хитростям и предосторожностям,
можно было бы кое-когда видеться и
наслаждаться жизнью. Но Катерина ходит
как потерянная, и Варвара очень
основательно боится, что она бухнется
мужу в ноги, да и расскажет ему все по
порядку. Так оно и выходит, и катастрофу
эту производит стечение самых пустых
обстоятельств. Грянул гром — Катерина
потеряла последний остаток своего ума,
а тут еще прошла по сцене полоумная
барыня с двумя лакеями и произнесла
всенародную проповедь о вечных мучениях;
а тут еще на стене, в крытой галерее,
нарисовано адское пламя; и все это одно
к одному — ну, посудите сами, как же в
самом деле Катерине не рассказать мужу
тут же, при Кабанихе и при всей городской
публике, как она провела во время
отсутствия Тихона все десять ночей?
Окончательная катастрофа, самоубийство,
точно так же происходит экспромтом.
Катерина убегает из дому с неопределенною
надеждою увидать своего Бориса; она еще
не думает о самоубийстве; она жалеет о
том, что прежде убивали, а теперь не
убивают; она спрашивает: «Долго ли
еще мне мучиться?» Она находит
неудобным, что смерть не является; «ты,
говорит, ее кличешь, а она не приходит».
Ясно, стало быть, что решения на
самоубийство еще нет, потому что в
противном случае не о чем было бы и
толковать. Но вот, пока Катерина рассуждает
таким образом, является Борис; происходит
нежное свидание. Борис говорит: «Еду».
Катерина спрашивает: «Куда едешь?»
— Ей отвечают: «Далеко, Катя, в Сибирь».
— «Возьми меня с собой отсюда!» —
«Нельзя мне, Катя». После этого
разговор становится уже менее интересным
и переходит в обмен взаимных нежностей.
Потом, когда Катерина остается одна,
она спрашивает себя: «Куда теперь?
домой идти?» и отвечает: «Нет, мне
что домой, что равно». Потом слово
«могила» наводит ее на новый ряд
мыслей, и она начинает рассматривать
могилу с чисто эстетической точки
зрения, с которой, впрочем, людям до сих
пор удавалось смотреть только на чужие
могилы. «В могиле, говорит, лучше…
Под деревцом могилушка… как хорошо!..
Солнышко ее греет, дождичком ее
мочит…весной на ней травка вырастает,
мягкая такая… птицы прилетят на дерево,
будут петь, детей выведут, цветочки
расцветут: желтенькие, красненькие,
голубенькие… всякие, всякие». Это
поэтическое описание могилы совершенно
очаровывает Катерину, и она объявляет,
что «об жизни и думать не хочется»
. При этом, увлекаясь эстетическим
чувством, она даже совершенно упускает
из виду геенну огненную, а между тем она
вовсе не равнодушна к этой последней
мысли, потому что в противном случае не
было бы сцены публичного покаяния в
грехах, не было бы отъезда Бориса в
Сибирь, и вся история о ночных прогулках
оставалась бы шитою и крытою. Но в
последние свои минуты Катерина до такой
степени забывает о загробной жизни, что
даже складывает руки крест-накрест, как
в гробу складывают; и, делая это движение
руками, она даже тут не сближает идеи о
самоубийстве с идеею о геенне огненной.
Таким образом делается прыжок в Волгу,
и драма оканчивается.
Вся жизнь Катерины состоит из постоянных
внутренних противоречий; она ежеминутно
кидается из одной крайности в другую;
она сегодня раскаивается в том, что
делала вчера, и между тем сама не знает,
что будет делать завтра; она на каждом
шагу путает и свою собственную жизнь и
жизнь других людей; наконец, перепутавши
все, что было у нее под руками, она
разрубает затянувшиеся узлы самым
глупым средством, самоубийством, да еще
таким самоубийством, которое является
совершенно неожиданно для нее самой.
Эстетики не могли не заметить того, что
бросается в глаза во всем поведении
Катерины; противоречия и нелепости
слишком очевидны, но зато их можно
назвать красивым именем; можно сказать,
что в них выражается страстная, нежная
и искренняя натура. Страстность, нежность,
искренность — все это очень хорошие
свойства, по крайней мере все это очень
красивые слова, а так как главное дело
заключается в словах, то и нет резона,
чтобы не объявить Катерину светлым
явлением и не прийти от нее в восторг.
Я совершенно согласен с тем, что
страстность, нежность и искренность
составляют действительно преобладающие
свойства в натуре Катерины, согласен
даже с тем, что все противоречия и
нелепости ее поведения объясняются
именно этими свойствами. Но что же это
значит? Значит, что поле моего анализа
следует расширить; разбирая личность
Катерины, следует иметь в виду страстность,
нежность и искренность вообще и, кроме
того, те понятия, которые господствуют
в обществе и в литературе насчет этих
свойств человеческого организма. Если
бы я не знал заранее, что задача моя
расширится таким образом, то я и не
принялся бы за эту статью. Очень нужно
в самом деле драму, написанную с лишком
три года тому назад, разбирать для того,
чтобы доказать публике, каким образом
Добролюбов ошибся в оценке одного
женского характера. Но тут дело идет об
общих вопросах нашей жизни, а о таких
вопросах говорить всегда удобно, потому
что они всегда стоят на очереди и всегда
решаются только на время. Эстетики
подводят Катерину под известную мерку,
и я вовсе не намерен доказывать, что
Катерина не подходит под эту мерку;
Катерина-то подходит, да мерка-то никуда
не годится, и все основания, на которых
стоит эта мерка, тоже никуда не годятся;
все это должно быть совершенно переделано,
и хотя, разумеется, я не справлюсь один
с этою задачею, однако лепту свою внесу
Мы до сих пор, при оценке явлений
нравственного мира, ходим ощупью и
действуем наугад; по привычке мы знаем,
что такое грех; по уложению о наказаниях
мы знаем, что такое преступление; но
когда нам приходится ориентироваться
в бесконечных лесах тех явлений, которые
не составляют ни греха, ни преступления,
когда нам приходится рассматривать,
например, качества человеческой природы,
составляющие задатки и основания будущих
поступков, тогда мы идем все врассыпную
и аукаемся из разных углов этой дубравы,
то есть сообщаем друг другу наши личные
вкусы, которые чрезвычайно редко могут
иметь какой-нибудь общий интерес. Каждое
человеческое свойство имеет на всех
языках по крайней мере по два названия,
из которых одно порицательное, а другое
хвалительное, — скупость и бережливость,
трусость и осторожность, жестокость и
твердость, глупость и невинность, вранье
и поэзия, дряблость и нежность,
взбалмошность и страстность, и так далее
до бесконечности. У каждого отдельного
человека есть в отношении к нравственным
качествам свой особенный лексикон,
который почти никогда не сходится вполне
с лексиконами других людей. Когда вы,
например, одного человека называете
благородным энтузиастом, а другого
безумным фанатиком, то вы сами, конечно,
понимаете вполне, что вы хотите сказать,
но другие люди понимают вас только
приблизительно, а иногда могут и совсем
не понимать. Есть ведь такие озорники,
для которых коммунист Бабеф был
благородным энтузиастом, но зато есть
и такие мудрецы, которые австрийского
министра Шмерлинга назовут безумным
фанатиком.. И те и другие будут употреблять
одни и те же слова, и теми же самыми
словами будут пользоваться все люди
бесчисленных промежуточных оттенков.
Как вы тут поступите, чтобы отрыть живое
явление из-под груды набросанных слов,
которые на языке каждого отдельного
человека имеют свой особенный смысл?
Что такое благородный энтузиазм? Что
такое безумный фанатик? Это пустые
звуки, не соответствующие никакому
определенному представлению. Эти звуки
выражают отношение говорящего лица к
неизвестному предмету, который остается
совершенно неизвестным во все время
разговора и после его окончания. Чтобы
узнать, что за человек был коммунист
Бабеф и что за человек Шмерлинг, надо,
разумеется, отодвинуть в сторону все
приговоры, произнесенные над этими
двумя личностями различными людьми,
выражавшими в этом случае свои личные
вкусы и свои политические симпатии.
Надо взять сырые факты во всей их сырости,
и чем они сырее, чем меньше они замаскированы
хвалительными или порицательными
словами, тем больше мы имеем шансов
уловить и понять живое явление, а не
бесцветную фразу. Так поступает мыслящий
историк. Если он, располагая обширными
сведениями, будет избегать увлечения
фразами, если он к человеку и ко всем
отраслям его деятельности будет
относиться не как патриот, не как либерал,
не как энтузиаст, не как эстетик, а просто
как натуралист, то он наверное сумеет
дать определенные и объективные ответы
на многие вопросы, решавшиеся обыкновенно
красивым волнением возвышенных чувств.
Обиды для человеческого достоинства
туг не произойдет никакой, а польза
будет большая, потому что вместо ста
возов вранья получится одна горсть
настоящего знания. А одна остроумная
поговорка утверждает совершенно
справедливо, что лучше получить маленький
деревянный дом, чем большую каменную
болезнь.
Каждый критик, разбирающий какой-нибудь
литературный тип, должен, в своей
ограниченной сфере деятельности,
прикладывать к делу те самые приемы,
которыми пользуется мыслящий историк,
рассматривая мировые события и расставляя
по местам великих и сильных людей. —
Историк не восхищается, не умиляется,
не негодует, не фразерствует, и все эти
патологические отправления так же
неприличны в критике, как и в историке.
Историк разлагает каждое явление на
его составные части и изучает каждую
часть отдельно, и потом, когда известны
все составные элементы, тогда и общий
результат оказывается понятным и
неизбежным; что казалось, раньше анализа,
ужасным преступлением или непостижимым
подвигом, то оказывается, после анализа,
простым и необходимым следствием данных
условий. Точно так же следует поступать
критику: вместо того чтобы плакать над
несчастиями героев и героинь, вместо
того чтобы сочувствовать одному,
негодовать против другого, восхищаться
третьим, лезть на стены по поводу
четвертого, критик должен сначала
проплакаться и пробесноваться про себя,
а потом, вступая в разговор с публикою,
должен обстоятельно и рассудительно
сообщить ей свои размышления о причинах
тех явлений, которые вызывают в жизни
слезы, сочувствие, негодование или
восторги. Он должен объяснять явления,
а не воспевать их; он должен анализировать,
а не лицедействовать. Это будет более
полезно и менее раздирательно.
Искусственная грань, поставленная
человеческим невежеством между историею
и частною жизнью, разрушается по мере
того, как исчезает невежество со всеми
своими предрассудками и нелепыми
убеждениями. В сознании мыслящих людей
эта грань уже разрушена, и на этом
основании критик и историк могут и
должны приходить к одним и тем же
результатам. Исторические личности и
простые люди должны быть измеряемы
одною меркою. В истории явление может
быть названо светлым или темным не
потому, что оно нравится или не нравится
историку, а потому, что оно ускоряет или
задерживает развитие человеческого
благосостояния. В истории нет
бесплодно-светлых явлений; что бесплодно,
то не светло, — на то не стоит совсем
обращать внимания; в истории есть очень
много услужливых медведей, которые
очень усердно били мух на лбу спящего
человечества увесистыми булыжниками;
однако смешон и жалок был бы тот историк,
который стал бы благодарить этих
добросовестных медведей за чистоту их
намерений. Встречаясь с примером
медвежьей нравственности, историк
должен только заметить, что лоб
человечества оказался раскроенным; и
должен описать, глубока ли была рана и
скоро ли зажила, и как подействовало
это убиение мухи на весь организм
пациента, и как обрисовались вследствие
этого дальнейшие отношения между
пустынником и медведем. Ну, а что такое
медведь? Медведь ничего; он свое дело
сделал. Хватил камнем по лбу — и успокоился.
С него взятки гладки. Ругать его не
следует — во-первых, потому, что это ни
к чему не ведет; а во-вторых, не за что:
потому — глуп. Ну, а хвалить его за
непорочность сердца и подавно ке резон;
во-первых — не стоит благодарности: ведь
лоб-то все-таки разбит; а во-вторых —
опять-таки он глуп, так на какого же
черта годится его непорочность сердца?
Так как я случайно напал на басню Крылова,
то мимоходом любопытно будет заметить,
как простой здравый смысл сходится
иногда в своих суждениях с теми выводами,
которые дают основательное научное
исследование и широкое философское
мышление.
Наша частная жизнь запружена донельзя
красивы и чувствами и высокими
достоинствами, которыми всякий порядочный
человек старается запастись для своего
домашнего обихода и которым всякий
свидетельствует свое внимание, хотя
никто не может сказать, чтобы они
когда-нибудь кому бы то ни было доставили
малейшее удовольствие. Было время, когда
лучшими атрибутами физической красоты
считалась в женщине интересная бледность
лица и непостижимая тонкость талии;
барышни пили уксус и перетягивались
так, что у них трещали ребра и спиралось
дыхание; много здоровья было уничтожено
по милости этой эстетики, и, по всей
вероятности, эти своеобразные понятия
о красоте еще не вполне уничтожились и
теперь, потому что Льюис восстает против
корсетов в своей физиологии п, а
Чернышевский заставляет Веру Павловну
упомянуть о том, что она, сделавшись
умною женщиною, перестала шнуроваться.
Таким образом, физическая эстетика
очень часто идет вразрез с требованиями
здравого смысла, с предписаниями
элементарной гигиены и даже с инстинктивным
стремлением человека к удобству и
комфорту. «II faut souffrir pour etre belle» (чтоб
быть красивой, нужно страдать (фр.)),
говорила в былое время молодая девушка,
и все находили, что она говорит святую
истину, потому что красота должна
существовать сама по себе, ради красоты,
совершенно независимо от условий,
необходимых для здоровья, для удобства
и для наслаждения жизнью. Критики, не
освободившиеся от влияния эстетики,
сходятся с обожателями интересной
бледности и тонких талий, вместо того
чтобы сходиться с естествоиспытателями
и мыслящими историками. Надо сознаться,
что даже лучшие из наших критиков,
Белинский и Добролюбов, не могли
оторваться окончательно от эстетических
традиций. Осуждать их за это было бы
нелепо, потому что надо же помнить, как
много они сделали для уяснения всех
наших понятий, и надо же понимать, что
не могут два человека отработать за нас
всю нашу работу мысли. Но, не осуждая
их, надо видеть их ошибки и прокладывать
новые пути в тех местах, где старые
тропинки уклоняются в глушь и в болото.
Относительно анализа «светлых
явлений», нас не удовлетворяет эстетика
ни своим красивым негодованием, ни своим
искусственно подогретым восторгом. Ее
белила и румяна тут остаются ни при чем.
— Натуралист, говоря о человеке, назовет
светлым явлением нормально развитой
организм; историк даст это название
умной личности, понимающей свои выгоды,
знающей требования своего времени и
вследствие этого работающей всеми
силами для развития общего благосостояния;
критик имеет право видеть светлое
явление только в том человеке, который
умеет быть счастливым, то есть приносить
пользу себе и другим, и, умея жить и
действовать при неблагоприятных
условиях, понимает в то же время их
неблагоприятность и, по мере сил своих,
старается переработать эти условия к
лучшему. И натуралист, и историк, и критик
согласятся между собою в том пункте,
что необходимым свойством такого
светлого явления должен быть сильный
и развитой ум; там, где нет этого свойства,
там не может быть и светлых явлений.
Натуралист скажет вам, что нормально
развитый человеческий организм необходимо
должен быть одарен здоровым мозгом, а
здоровый мозг так же неизбежно должен
мыслить правильно, как здоровый желудок
должен переваривать пищу; если же этот
мозг расслаблен отсутствием упражнения
и если, таким образом, человек, умный от
природы, притуплен обстоятельствами
жизни, то весь рассматриваемый субъект
уже не может считаться нормально развитым
организмом, точно так же как не может
им считаться человек, ослабивший свой
слух или свое зрение. Такого человека
и натуралист не назовет светлым явлением,
хотя бы этот человек пользовался железным
здоровьем и лошадиною силою. Историк
скажет вам… но вы и сами знаете, что он
вам скажет; ясное дело, что ум для
исторической личности так же необходим,
как жабры и плавательные перья для рыбы;
ума тут не заменить никакими эстетическими
ингредиентами; это, может быть, единственная
истина, неопровержимо доказанная всем
историческим опытом нашей породы. Критик
докажет вам, что только умный и развитой
человек может оберегать себя и других
от страданий при тех неблагоприятных
условиях жизни, при которых существует
огромное большинство людей на земном
шаре; кто не умеет сделать ничего для
облегчения своих и чужих страданий, тот
ни в каком случае не может быть назван
светлым явлением; тот — трутень, может
быть очень милый, очень грациозный,
симпатичный, но все это такие неосязаемые
и невесомые качества, которые доступны
только пониманию людей, обожающих
интересную бледность и тонкие талии.
Облегчая жизнь себе и другим, умный и
развитой человек не ограничивается
этим; он, кроме того, в большей или в
меньшей степени, сознательно или
невольно, переработывает эту жизнь и
приготовляет переход к лучшим условиям
существования. Умная и развитая личность,
сама того не замечая, действует на все,
что к ней прикасается; ее мысли, ее
занятия, ее гуманное обращение, ее
спокойная твердость — все это шевелит
вокруг нее стоячую воду человеческой
рутины; кто уже не в силах развиваться,
тот по крайней мере уважает в умной и
развитой личности хорошего человека,
— а людям очень полезно уважать то, что
действительно заслуживает уважения;
но кто молод, кто способен полюбить
идею, кто ищет возможности развернуть
силы своего свежего ума, тот, сблизившись
с умною и развитою личностью, может быть
начнет новую жизнь, полную обаятельного
труда и неистощимого наслаждения. Если
предполагаемая светлая личность даст
таким образом обществу двух-трех молодых
работников, если она внушит двум-трем
старикам невольное уважение к тому, что
они прежде осмеивали и притесняли, — то
неужели вы скажете, что такая личность
ровно ничего не сделала для облегчения
перехода к лучшим идеям и к более сносным
условиям жизни? Мне кажется, что она
сделала в малых размерах то, что делают
в больших размерах величайшие исторические
личности. Разница между ними заключается
только в количестве сил, и потому
оценивать их деятельность можно и должно
посредством одинаковых приемов. Так
вот какие должны быть «лучи света»
— не Катерине чета.
«Яйца курицу не учат», — говорит наш
народ, и так эта поговорка ему по душе
пришлась, что он твердит ее с утра до
вечера, словами и поступками, от моря и
до моря. И передает он ее потомству, как
священное наследство, и благодарное
потомство, пользуясь ею в свою очередь,
созидает на ней величественное здание
семейного чинопочитания. И поговорка
эта не теряет своей силы, потому что она
всегда употребляется кстати; а кстати
потому, что ее употребляют только старшие
члены семейства, которые не могут
ошибаться, которые всегда оказываются
правыми и которые, следовательно, всегда
действуют благодетельно и рассуждают
поучительно. Ты — яйцо бессознательное
и должен пребывать в своей безответной
невинности до тех пор, пока сам не
сделаешься курицею. Таким образом
пятидесятилетние куры рассуждают с
тридцатилетними яйцами, которые с
пеленок выучились понимать и чувствовать
все, что так коротко и так величественно
внушает им бессмертная поговорка.
Великое изречение народной мудрости
действительно выражает в четырех словах
весь принцип нашей семейной жизни.
Принцип этот действует еще с полною
силою в тех слоях нашего народа, которые
считаются чисто русскими.
Реферат на тему:
«Мотивы русской драмы» Д.И.Писарева».
Пьеса «Гроза» была написана в 1859 году, когда Россия находилась в ожидании перемен. Пьеса вызвала интерес и как литературное произведение, многократно поставленное на самых разных сценах, и как явление общественной жизни середины прошлого века, всколыхнувшее и расколовшее и без того взволнованное предстоящей крестьянской реформой общество. Пьеса вызвала интерес у публики и критики. Современники Островского написали статьи – отклики на пьесу. Среди них самые известные: Добролюбова «Луч света в темном царстве» (1860), Писарева «Мотивы русской драмы» (1864), Ап. Григорьева «После «Грозы» Островского» (1860). Каждый из них принял пьесу Островского и увидел в ней, кроме произведения, достойного современной сцены, еще и общественное явление. Но каждый в «Грозе» открыл разное содержание. Остановимся на статье Писарева «Мотивы русской драмы».
Впервые статья была напечатана в мартовском номере журнала «Русское слово» за 1864 год в третьем номере, во втором отделе «Литературного обозрения», на страницах 1 – 58. Затем – в первой части первого издания (1866), на страницах 210 – 242. Статья расширила и углубила полемику между «Русским словом» и «Современником», начавшуюся ранее. Если на первом ее этапе полемическими выпадами со стороны «Русского слова» был затронут прежде всего Салтыков-Щедрин, как писатель не вполне «свой» в «Современнике», а в упрек редакции «Современника» ставилось отступление от традиций Чернышевского и Добролюбова, то в данной статье Писарев прямо указывает на статью «Луч света в темном царстве» Добролюбова, считая, что Катерина не может рассматриваться как «решительный цельный русский характер», а является лишь одним из порождений, пассивным продуктом «темного царства». Таким образом, Добролюбову приписывается идеализация этого образа, а развенчивание этого образа представляется истинной задачей «реальной критики». «Грустно расставаться с светлою иллюзиею, — замечает Писарев, — а делать нечего, пришлось бы и на этот раз удовлетвориться темною действительностью». «Причем Писарев не оставляет никаких сомнений в том, что речь идет не о частностях – трактовке одного образа и оценке одного произведения драматурга, а «об общих вопросах нашей жизни» (Сорокин Ю., 378-379).
Статья Добролюбова «Луч света в темном царстве» написана сразу по следам пьесы. Добролюбов работал над предыдущей статьей «Темное царство» почти одновременно с тем, как Островский писал «Грозу». Она посвящена творчеству Островского в целом. В «Грозе» же Добролюбов увидел свет, и свет этот несет Катерина.
Добролюбов так определил назначение критики: «Самым лучшим способом критики мы считаем изложение самого дела так, чтобы читатель сам, на основании выставленных фактов, мог сделать свое заключение». Чего ждет Добролюбов от литературы? «Мы требуем, — говорит он, — от нее одного качества, а именно – правды». Какова же правда, выводимая Островским в его произведениях? «Мы вовсе не купцов только имеем в виду, указывая на основные черты отношений, господствующих в нашем быте и так хорошо воспроизведенных в комедиях Островского. Современные стремления русской жизни… находят свое выражение в Островском с отрицательной стороны».
Добролюбов оценивает Катерину, ее поступки, характер как вызов миру, в котором она живет, радостно встречает ее появление в современной жизни. Добролюбову видится отрадным даже финал пьесы: «В нем дан страшный вызов самодурной силе, он говорит ей, что уже нельзя идти дальше, нельзя долее жить с ее насильственными, мертвящими началами. В Катерине мы видим протест против кабановских понятий о нравственности, протест, доведенный до конца, провозглашенный и под домашней пыткой и над бездной, в которую бросилась бедная женщина. Она не хочет мириться, не хочет пользоваться жалким прозябанием, которое ей дают в обмен за ее живую душу. Ее гибель – это осуществленная песнь плена вавилонского… отрадно видеть избавление Катерины – хоть через смерть, коли нельзя иначе».
Писарев же в своей статье во многом полемизирует с Добролюбовым. Сам язык Писарева, резкий, острый, ироничный, контрастирует с повествовательной манерой речи Добролюбова. Статья рассматривает явление «Грозы» под иным углом зрения, и, читая эту работу, нельзя забывать, что она написана четыре года спустя после постановки пьесы. Писарев лишь коротко останавливается на событиях, происходящих в пьесе, в то время как Добролюбов анализирует картины пьесы шаг за шагом. Почему?
В статье Добролюбова, в его размышлениях о Катерине, мы часто встречаем слово «натура». У Писарева же господствует слово «личность». Синонимы ли это, или речь ведется двумя критиками о разных явлениях и пьеса стала лишь толчком для решения важных проблем? Вот что является для Писарева отправной точкой его анализа: «Умная и развитая личность, сама того не замечая, действует на все, что к ней прикасается: ее мысли, ее занятия, ее гуманное обращение, ее спокойная твердость – все это шевелит вокруг нее стоячую воду человеческой рутины».
«Что тут должен делать критик?» — задает Писарев вопрос, который мы уже встречали у Добролюбова, но отвечает на него иначе: «Он должен говорить обществу и сегодня, и завтра, и послезавтра, и десять лет подряд… говорить так, чтобы его понимали… что народ нуждается не только в одной вещи, в которой заключаются уже все остальные блага человеческой жизни. Нуждается он в движении мысли, а это увеличение возбуждается и поддерживается приобретением знаний».
Трагедия Катерины, по мысли Писарева, состоит в том, что она не смогла еще стать развитой личностью. Для Писарева Катерина – натура стихийная, противоречивая, ее поступки бессознательны. Слепая отданность чувству делает ее беспомощной перед жизнью. Он удивляется, что критики не смогли «сделать Добролюбову ни одного возражения». Писарев говорит о Катерине: «Что это за любовь, возникающая от обмена нескольких взглядов?.. Наконец, что это за самоубийство, вызванное такими мелкими неприятностями, которые переносятся совершенно благополучно всеми членами всех русских семейств?». «Самоубийство… является совершенно неожиданно для нее самой», — замечает Писарев. Критик утверждает, что Добролюбов, увидев в каждом поступке Катерины что-либо хорошее, составил идеальный образ, увидел вследствие этого «луч света в «темном царстве». Писарев не может согласиться с этим, так как «воспитание и жизнь не смогли дать Катерине ни твердого характера, ни развитого ума. Ум дороже всего, или, вернее, ум – все».
Почему же так расходятся взгляды Писарева и Добролюбова? Чем вызвана столь демонстративная разность в истолковании одного и того же художественного образа у критиков революционно-демократического лагеря? Что побудило Писарева спорить со статьей Добролюбова спустя почти три с половиной года после ее появления в «Современнике», спустя два года после смерти автора статьи? Что заставляет одного писать о силе характера Катерины, а другого – о слабости этого характера? Резоны для подобного выступления были серьезные. И главный заключается в том, что Писарев решил оценить характер Катерины с позиций иного, хотя и отделенного всего несколькими годами, исторического периода. Россия, мы знаем, переживала пору, когда «люди и идеи росли очень скоро, в год свершалось столько дел и событий, сколько в другие времена не свершится и в десять – двадцать лет». Вспомним, что статья Добролюбова вышла в 1860 году на страницах журнала «Современник», во время революционного подъема, когда на первом плане стояли смелые и решительные герои, стремившиеся к новой жизни, готовые к смерти ради нее. В то время иного протеста быть не могло, но даже такой протест утверждал силу характера личности. Добролюбов всем направлением своей статьи подводил читателя к мысли о нарастании революционной ситуации в стране, о созревании народного самосознания, о силе стихийного сопротивления народа «темному царству», о невозможности для народа мириться со старым и жить по-старому. Добролюбов основной акцент делал на принципиально новых человеческих явлениях в мире самодурства, деспотического своевластия, темного царства. Он увидел в судьбе и характере Катерины симптомы народного пробуждения, раскрепощения, роста самосознания масс и радостно приветствовал близящуюся всенародную грозу.
Писарев, в эпоху спада демократического движения, не видит условий для непосредственного выступления масс, считает их не готовыми к сознательному действию.
Статья Писарева была написана в 1864 году, в эпоху реакции, когда нужны были мыслящие натуры. Поэтому Д.И.Писарев так и пишет о поступке Катерины: «… Совершив много глупостей, бросается в воду и делает таким образом последнюю и величайшую нелепость». В 1864 году Писарев главное внимание сосредоточил на другом: гроза не началась, народ не проснулся. Катерина, по мнению критика, — плоть от плоти темного царства. Писарев, подчинив свой анализ драмы конкретным социологическим заданиям, по существу, прошел мимо самого главного, что открыл в своей героине Островский: глубокая поэтическая одухотворенность, недюжинная сила нравственного чувства, пронзительная совестливость, бескомпромиссность отличают Катерину Кабанову…
В 1864 году Писарев скажет, что считает статью «Луч света в темном царстве» «ошибкою со стороны Добролюбова; он увлекся симпатией к характеру Катерины и принял ее личность за светлое явление». И Писарев стремится последовательно обосновать свою точку зрения.
Да, соглашается публицист «Русского слова», «страстность, нежность и искренность составляют действительно преобладающие свойства в натуре Катерины». Но ведь «каждое человеческое свойство, — напоминает он, — имеет на всех языках по крайней мере по два значения, из которых одно порицательное, а другое хвалительное, — скупость и бережливость, трусость и осторожность, жестокость и твердость, глупость и невинность, вранье и поэзия, дряблость и нежность, взбалмошность и страстность, и так далее до бесконечности». Имея в виду содержание пьесы Островского, ее основную драматическую коллизию, произвольно их истолковывая, Писарев категорически заключает: «Жестокость семейного деспота, фанатизм старой ханжи, несчастная любовь девушки к негодяю, кротость терпеливой жертвы семейного самовластия, порывы отчаяния, ревность, корыстолюбие, мошенничество, буйный разгул, воспитательная розга, воспитательная ласка, тихая мечтательность, восторженная чувствительность – вся эта пестрая смесь чувств, качеств и поступков… вся эта смесь сводится, по моему мнению, к одному общему источнику, который, сколько мне кажется, не может возбуждать в нас ровно никаких ощущений, ни высоких, ни низких. Все это различные проявления неисчерпаемой глупости».
Писарев остался глух к высокой духовной трагедии героини Островского. В статье «Мотивы русской драмы» дал заметную осечку способ «аллюзионного» анализа, при котором художественное произведение – лишь удобный предлог для собственных публицистических построений критика. Несправедливым приговором Катерине Кабановой звучат слова Писарева: «… кто не умеет сделать ничего для облегчения своих и чужих страданий, тот ни в каком случае не может быть назван светлым явлением».
Узника Петропавловки занимает не столько драматическая коллизия «Грозы», сколько необходимость дать еще одно развернутое обоснование теории реализма. Писарев исходит из конкретных проблем времени, полагая, что ведущий признак по-настоящему светлого явления – «сильный и развитый ум, любовь к полезному и истинному, стремление к умственным занятиям и страстное влечение к труду и к знаниям».
« По мнению Писарева, герои нового исторического периода, наступившего уже после написания статьи «Луч света в темном царстве», после смерти ее автора, — молодые люди, способные «полюбить идею», «развернуть силы своего свежего ума», начать новую жизнь, «полную обаятельного труда и неистощимого наслаждения» (Прозоров В.В., 58).
«Акцент переносится на формирование мыслящих работников типа Базаровых, которые «не Катерине чета» и которые могут взять на себя трудное дело просвещения народа. Люди этого типа должны положить все силы на подготовку условий для радикального переустройства общественной жизни на новых разумных и справедливых началах, просветить народ. «Много ли, мало ли времени придется нам идти к нашей цели, заключающейся в том, чтобы обогатить и просветить наш народ, — об этом бесполезно спрашивать. Это – верная дорога, и другой верной дороги нет» (Сорокин Ю., 379).
Писарев отмечает: «Но придет время, — и оно уже вовсе не далеко, — когда вся умная часть молодежи, без различия сословия и состояния, будет жить полною умственною жизнью и смотреть на вещи рассудительно и серьезно. Тогда молодой землевладелец поставит свое хозяйство на европейскую ногу; тогда молодой капиталист заведет те фабрики, которые нам необходимы, и устроит их так, как того требуют общие интересы хозяина и работников…».
По мнению Писарева, Базаровых в России ничтожно мало. И это беда, ее надо устранять всеми возможными силами: «Пока на сто квадратных миль будет приходиться по одному Базарову, да и то вряд ли, до тех пор все, и сермяжники и джентльмены, будут считать Базаровых вздорными мальчишками и смешными чудаками».
Что же делать этим «чудакам»? Образовывать народ? Писать для него книжки? Еще недавно так пылко защищавший идею народного просвещения, Писарев относится теперь к ней с некоторой долей сомнения. Разумеется, сомнение касается своевременности осуществления идеи, а не ее истинности. «Даже такое чистое и святое дело, как воскресные школы, оказывается еще сомнительным», — сокрушенно замечает он. Чем же тогда заниматься Базаровым? «Пока один Базаров окружен тысячами людей, не способных его понимать, до тех пор Базарову следует сидеть за микроскопом и резать лягушек и печатать книги и статьи с анатомическими рисунками…», — заключает критик.
«Обращение к точным знаниям, рациональная организация труда – вот лучшая и единственно возможная школа для народа. Писарев напоминает о мастерской, которую завела героиня романа Чернышевского «Что делать?» Вера Павловна: «Тут действительно дается нашим прогрессистам самая верная и вполне осуществимая программа деятельности. Много ли, мало ли времени придется нам идти к нашей цели, заключающейся в том, чтобы обогатить и просветить наш народ, — об этом бесполезно спрашивать. Это – верная дорога, и другой верной дороги нет». Другими словами, самовозгорания народного не происходит, и поэтому уповать пока можно и нужно лишь на молодых реалистов-разночинцев. Решительное слово в современной русской жизни надо ждать не от Катерины Кабановой, а от Евгения Базарова – таков главный итог статьи «Мотивы русской драмы» (Прозоров В.В., 59).
И Базаров и Катерина для Писарева не просто литературные герои, но эквиваленты той или иной программы действий, той или иной линии поведения революционной демократии в 1863 – 1866 годах. Впрочем, тем же была Катерина и для Добролюбова – и это отлично понимал Писарев. В атмосфере предгрозовой революционной ситуации протест Катерины, пусть и узколичный, стихийный, явился для Добролюбова провозвестником грядущего взрыва, поводом для острой постановки вопроса о революционных возможностях крестьянских масс.
Писарев ясно понимал этот замысел Добролюбова. И глубоко симпатично, что в 1864 году, несколько лет спустя после опубликования «Грозы», Писарев в специальной статье вновь возвращается к этой драме только затем, чтобы оспорить точку зрения Добролюбова на Катерину, а в действительности – взгляд Добролюбова на революционные возможности масс.
Разногласия Писарева с Добролюбовым, по собственному свидетельству Писарева, касались вопроса: что считать светлыми явлениями в нашей народной жизни?
Добролюбов видит в Катерине «характер, которым совершится решительный разрыв со старыми, нелепыми и насильственными отношениями жизни». Писарев, анализируя характер Катерины, говорит о ее темноте, о стихийности, бессознательности ее протеста и потому – полной его ненадежности и восклицает: «И от такой – то безнадежно – зачумленной личности Добролюбов ждет решительного разрыва!»
Скептическое отношение Писарева к серьезности протеста Катерины питается опытом освободительного движения, который получила русская революционная демократия в 1862 – 1866 годах. Стихийному порыву такой, по мысли Писарева, «безнадежно-зачумленной личности», как Катерина, Писарева противопоставляет деятельность Базарова: именно он – «настоящий луч света».
«И сила глупа, и невинность глупа, и только оттого, что они обе глупы, сила стремится угнетать, а невинность погружается в тупое терпение…». Таким образом, знание, утверждает в 1864 году Писарев, достигает двоякой цели: будит массы от сонного «тупого терпения» и убеждает эксплуататоров не «угнетать».
Вот почему «все новые характеры, выводимые в наших романах и драмах, могут относиться или к базаровскому типу, или к разделу карликов и вечных детей».
Это противопоставление Базарова Катерине, равно как и трактовка этих образов в статьях 1864 года, несут на себе резкую печать глубокого разочарования в революционных возможностях народа, убеждения, что в недрах русской жизни нет «никаких зачатков самостоятельного обновления; в ней лежат только сырые материалы, которые должны быть оплодотворены и переработаны влиянием общечеловеческих идей».
«Разочарование это было настолько сильным, что из человека колоссальной революционной энергии, который «не отступит перед препятствием и не струсит перед опасностью», Базаров в писаревских статьях этого времени грозил превратиться в чистого просветителя – пропагандиста социалистических и естественнонаучных идей» (Кузнецов Ф., 499 – 500).
Помимо этого основного предмета статьи – обоснования и защиты новой тактики демократического движения, противостоящей старой тактике, обоснованной «Современником» в годы революционной ситуации 1859 – 1861 гг., — Писарев полемизирует здесь и с «литературной программой» «Современника». Он обвиняет редакцию журнала в идейной неразборчивости. По этой линии идет критика произведений Островского «Козьма Захарьич Минин Сухорук» и «Тяжелые дни».
«Критик смелый, искренний, глубоко убежденный в правоте своего дела, в необходимости социального прогресса, в силе научного знания, Писарев привлекал к себе внимание не одного поколения читателей. Лучшие образцы его литературной критики сочетали страстную публицистичность, смелую постановку важнейших проблем общественной жизни с глубоким анализом литературных явлений, вскрывавшим социальную их значимость. Сила его мысли, его яркая, выразительная речь сохраняют свое воздействие и на современных читателей» (Сорокин Ю., 40).
Список литературы.
История русской литературной критики: Учеб. для вузов/ В. В. Прозоров, О. О. Милованова, Е. Г. Елина и др.; Под ред. В. В. Прозорова. – М.: Высш. шк., 2002. – 463 с.
Крупчанов, Л. М. История русской литературной критики XIX века: Учеб. пособие. / Л. М. Крупчанов. – М.: Высш. шк., 2005. – 383 с.
Кузнецов, Ф. Ф. Нигилисты? Д. И. Писарев и журнал «Русское слово». 2-е изд., перераб. и доп. / Ф. Ф. Кузнецов. – М.: Худож. лит., 1983. – 592 с.
Кулешов, В. И. История русской критики XVIII – начала XX веков: Учеб. для студентов пед. ин-тов по спец. «Рус. яз. и лит.» / В. И. Кулешов. – М.: Просвещение, 1991. – 432 с.
Плоткин, Л. Д. И. Писарев. Жизнь и деятельность. / Л. Плоткин. – М. – Ленинград: Худож. лит., 1962. – 232 с.
Прозоров, В. В. Д. И. Писарев: Кн. для учителя. / В. В. Прозоров. – М.: Просвещение, 1984. – 112 с.
Прокофьева Н.Н. Александр Николаевич Островский. / Н.Н. Прокофьева: Вступит. ст. и коммент. // Островский А.Н. Пьесы. – М.: Дрофа, 2007. – С. 5 – 27, 444 – 446.
Ревякин, А. Шедевры А. Н. Островского. / А. Ревякин: Вступит. ст. // Островский, А. Н. Гроза. – Ленинград: «Детская литература», 1964.
Сорокин, Ю. Писарев как литературный критик. / Ю. Сорокин: Вступит. ст. // Писарев, Д. И. Литературная критика: В 3-х т. – Ленинград: Худож. лит., 1981. Т. 1. Статьи 1859 – 1864 гг.: «Обломов», «Дворянское гнездо», «Три смерти», «Цветы невинного юмора» и другие. – 384 с.
Дмитрий Иванович Писарев
МОТИВЫ РУССКОЙ ДРАМЫ
I
Основываясь на драматических произведениях Островского, Добролюбов показал нам в русской семье то «темное царство», в котором вянут умственные способности и истощаются свежие силы наших молодых поколений. Статью прочли, похвалили и потом отложили в сторону. Любители патриотических иллюзий, не сумевшие сделать Добролюбову ни одного основательного возражения, продолжали упиваться своими иллюзиями и, вероятно, будут продолжать это занятие до тех пор, пока будут находить себе читателей1. Глядя на эти постоянные коленопреклонения перед народною мудростью и перед народною правдою, замечая, что доверчивые читатели принимают за чистую монету ходячие фразы, лишенные всякого содержания, и зная, что народная мудрость и народная правда выразились всего полнее в сооружении нашего семейного быта, — добросовестная критика поставлена в печальную необходимость повторять по нескольку раз те положения, которые давно уже были высказаны и доказаны. Пока будут существовать явления «темного царства» и пока патриотическая мечтательность будет смотреть на них сквозь пальцы, до тех пор нам постоянно придется напоминать читающему обществу верные и живые идеи Добролюбова о нашей семейной жизни. Но при этом нам придется быть строже и последовательнее Добролюбова; нам необходимо будет защищать его идеи против его собственных увлечений; там, где Добролюбов поддался порыву эстетического чувства, мы постараемся рассуждать хладнокровно и увидим, что наша семейная патриархальность подавляет всякое здоровое развитие. Драма Островского «Гроза» вызвала со стороны Добролюбова критическую статью под заглавием «Луч света в темном царстве». Эта статья была ошибкою со стороны Добролюбова; он увлекся симпатиею к характеру Катерины и принял ее личность за светлое явление. Подробный анализ этого характера покажет нашим читателям, что взгляд Добролюбова в этом случае неверен и что ни одно светлое явление не может ни возникнуть, ни сложиться в «темном царстве» патриархальной русской семьи, выведенной на сцену в драме Островского.
II
Катерина, жена молодого купца Тихона Кабанова, живет с мужем в доме своей свекрови, которая постоянно ворчит на всех домашних. Дети старой Кабанихи, Тихон и Варвара, давно прислушались к этому брюзжанию и умеют его «мимо ушей пропущать» на том основании, что «ей ведь что-нибудь надо ж говорить». Но Катерина никак не может привыкнуть к манерам своей свекрови и постоянно страдает от ее разговоров. В том же городе, в котором живут Кабановы, находится молодой человек, Борис Григорьевич, получивший порядочное образование. Он заглядывается на Катерину в церкви и на бульваре, а Катерина с своей стороны влюбляется в него, но желает сохранить в целости свою добродетель. Тихон уезжает куда-то на две недели; Варвара по добродушию помогает Борису видеться с Катериною, и влюбленная чета наслаждается полным счастьем в продолжение десяти летних ночей. Приезжает Тихон; Катерина терзается угрызениями совести, худеет и бледнеет; потом ее пугает гроза, которую она принимает за выражение небесного гнева; в это же время смущают ее слова полоумной барыни о геенне огненной; все это она принимает на свой счет; на улице при народе она бросается перед мужем на колени и признается ему в своей вине. Муж, по приказанию своей матери, «побил ее немножко» после того как они воротились домой; старая Кабаниха с удвоенным усердием принялась точить покаявшуюся грешницу упреками и нравоучениями; к Катерине приставили крепкий домашний караул, однако ей удалось убежать из дома; она встретилась с своим любовником и узнала от него, что он, по приказанию дяди, уезжает в Кяхту; — потом, тотчас после этого свидания, она бросилась в Волгу и утонула. Вот те данные, на основании которых мы должны составить себе понятие о характере Катерины. Я дал моему читателю голый перечень таких фактов, которые в моем рассказе могут показаться слишком резкими, бессвязными и в общей совокупности даже неправдоподобными. Что это за любовь, возникающая от обмена нескольких взглядов? Что это за суровая добродетель, сдающаяся при первом удобном случае? Наконец, что это за самоубийство, вызванное такими мелкими неприятностями, которые переносятся совершенно благополучно всеми членами всех русских семейств?
Я передал факты совершенно верно, но, разумеется, я не мог передать в нескольких строках те оттенки в развитии действия, которые, смягчая внешнюю резкость очертаний, заставляют читателя или зрителя видеть в Катерине не выдумку автора, а живое лицо, действительно способное сделать все вышеозначенные эксцентричности. Читая «Грозу» или смотря ее на сцене, вы ни разу не усомнитесь в том, что Катерина должна была поступать в действительности именно так, как она поступает в драме. Вы увидите перед собою и поймете Катерину, но, разумеется, поймете ее так или иначе, смотря по тому, с какой точки зрения вы на нее посмотрите. Всякое живое явление отличается от мертвой отвлеченности именно тем, что его можно рассматривать с разных сторон; и, выходя из одних и тех же основных фактов, можно приходить к различным и даже к противоположным заключениям. Катерина испытала на себе много разнородных приговоров; нашлись моралисты, которые обличили ее в безнравственности, это было всего легче сделать: стоило только сличить каждый поступок Катерины с предписаниями положительного закона и подвести итоги2; на эту работу не требовалось ни остроумия, ни глубокомыслия, и поэтому ее действительно исполнили с блестящим успехом писатели, не отличающиеся ни тем, ни другим из этих достоинств; потом явились эстетики и решили, что Катерина — светлое явление; эстетики, разумеется, стояли неизмеримо выше неумолимых поборников благочиния, и поэтому первых выслушали с уважением, между тем как последних тотчас же осмеяли3. Во главе эстетиков стоял Добролюбов, постоянно преследовавший эстетических критиков своими меткими и справедливыми насмешками. В приговоре над Катериною он сошелся с своими всегдашними противниками, и сошелся потому, что, подобно им, стал восхищаться общим впечатлением, вместо того чтобы подвергнуть это впечатление спокойному анализу. В каждом из поступков Катерины можно отыскать привлекательную сторону; Добролюбов отыскал эти стороны, сложил их вместе, составил из них идеальный образ, увидал вследствие этого «луч света в темном царстве» и, как человек, полный любви, обрадовался этому лучу чистою и святою радостью гражданина и поэта. Если бы он не поддался этой радости, если бы он на одну минуту попробовал взглянуть спокойно и внимательно на свою драгоценную находку, то в его уме тотчас родился бы самый простой вопрос, который немедленно привел бы за собою полное разрушение привлекательной иллюзии. Добролюбов спросил бы самого себя: как мог сложиться этот светлый образ? Чтобы ответить себе на этот вопрос, он проследил бы жизнь Катерины с самого детства, тем более что Островский дает на это некоторые материалы; он увидел бы, что воспитание и жизнь не могли дать Катерине ни твердого характера, ни развитого ума; тогда он еще раз взглянул бы на те факты, в которых ему бросилась в глаза одна привлекательная сторона, и тут вся личность Катерины представилась бы ему в совершенно другом свете. Грустно расставаться с светлою иллюзиею, а делать нечего; пришлось бы и на этот раз удовлетвориться темною действительностью.
III
Во всех поступках и ощущениях Катерины заметна прежде всего резкая несоразмерность между причинами и следствиями. Каждое внешнее впечатление потрясает весь ее организм; самое ничтожное событие, самый пустой разговор производят в ее мыслях, чувствах и поступках целые перевороты. Кабаниха ворчит, Катерина от этого изнывает; Борис Григорьевич бросает нежные взгляды, Катерина влюбляется; Варвара говорит мимоходом несколько слов о Борисе, Катерина заранее считает себя погибшею женщиною, хотя она до тех пор даже не разговаривала с своим будущим любовником; Тихон отлучается из дома на несколько дней, Катерина падает перед ним на колени и хочет, чтобы он взял с нее страшную клятву в супружеской верности. Варвара дает Катерине ключ от калитки, Катерина, подержавшись за этот ключ в продолжение пяти минут, решает, что она непременно увидит Бориса, и кончает свой монолог словами: «Ах, кабы ночь поскорее!» А между тем даже и ключ-то был дан ей преимущественно для любовных интересов самой Варвары, и в начале своего монолога Катерина находила даже, что ключ жжет ей руки и что его непременно следует бросить. При свидании с Борисом, конечно, повторяется та же история; сначала «поди прочь, окаянный человек!», а вслед за тем на шею кидается. Пока продолжаются свидания, Катерина думает только о том, что «погуляем»; как только приезжает Тихон и вследствие этого ночные прогулки прекращаются, Катерина начинает терзаться угрызениями совести и доходит в этом направлении до полусумасшествия; а между тем Борис живет в том же городе, все идет по-старому, и, прибегая к маленьким хитростям и предосторожностям, можно было бы кое-когда видеться и наслаждаться жизнью. Но Катерина ходит как потерянная, и Варвара очень основательно боится, что она бухнется мужу в ноги, да и расскажет ему все по порядку. Так оно и выходит, и катастрофу эту производит стечение самых пустых обстоятельств. Грянул гром — Катерина потеряла последний остаток своего ума, а тут еще прошла по сцене полоумная барыня с двумя лакеями и произнесла всенародную проповедь о вечных мучениях; а тут еще на стене, в крытой галерее, нарисовано адское пламя; и все это одно к одному — ну, посудите сами, как же в самом деле Катерине не рассказать мужу тут же, при Кабанихе и при всей городской публике, как она провела во время отсутствия Тихона все десять ночей? Окончательная катастрофа, самоубийство, точно так же происходит экспромтом. Катерина убегает из дому с неопределенною надеждою увидеть своего Бориса; она еще не думает о самоубийстве; она жалеет о том, что прежде убивали, а теперь не убивают; она спрашивает: «Долго ли еще мне мучиться?» Она находит неудобным, что смерть не является: «Ты, говорит, ее кличешь, а она не приходит». Ясно, стало быть, что решения на самоубийство еще нет, потому что в противном случае не о чем было бы и толковать. Но вот, пока Катерина рассуждает таким образом, является Борис; происходит нежное свидание. Борис говорит: «Еду». Катерина спрашивает: «Куда едешь?» Ей отвечают: «Далеко, Катя, в Сибирь». — «Возьми меня с собой отсюда!» — «Нельзя мне, Катя». После этого разговор становится уже менее интересным и переходит в обмен взаимных нежностей. Потом, когда Катерина остается одна, она спрашивает себя: «Куда теперь? домой идти?» и отвечает: «Нет, мне что домой, что в могилу — все равно». Потом слово «могила» наводит ее на новый ряд мыслей, и она начинает рассматривать могилу с чисто эстетической точки зрения, с которой, впрочем, людям до сих пор удавалось смотреть только на чужие могилы. «В могиле, говорит, лучше… Под деревцом могилушка… как хорошо!.. Солнышко ее греет, дождичком ее мочит… весной на ней травка вырастает, мягкая такая… птицы прилетят на дерево, будут петь, детей выведут, цветочки расцветут: желтенькие, красненькие, голубенькие… всякие, всякие». Это поэтическое описание могилы совершенно очаровывает Катерину, и она объявляет, что «об жизни и думать не хочется». При этом, увлекаясь эстетическим чувством, она даже совершенно упускает из виду геенну огненную, а между тем она вовсе не равнодушна к этой последней мысли, потому что в противном случае не было бы сцены публичного покаяния в грехах, не было бы отъезда Бориса в Сибирь, и вся история о ночных прогулках оставалась бы шитою и крытою. Но в последние свои минуты Катерина до такой степени забывает о загробной жизни, что даже складывает руки крест-накрест, как в гробу складывают; и, делая это движение руками, она даже тут не сближает идеи о самоубийстве с идеею о геенне огненной. Таким образом делается прыжок в Волгу, и драма оканчивается.
IV
Вся жизнь Катерины состоит из постоянных внутренних противоречий; она ежеминутно кидается из одной крайности в другую; она сегодня раскаивается в том, что делала вчера, и между тем сама не знает, что будет делать завтра; она на каждом шагу путает и свою собственную жизнь и жизнь других людей; наконец, перепутавши все, что было у нее под руками, она разрубает затянувшиеся узлы самым глупым средством, самоубийством, да еще таким самоубийством, которое является совершенно неожиданно для нее самой. Эстетики не могли не заметить того, что бросается в глаза во всем поведении Катерины; противоречия и нелепости слишком очевидны, но зато их можно назвать красивым именем; можно сказать, что в них выражается страстная, нежная и искренняя натура. Страстность, нежность, искренность — все это очень хорошие свойства, по крайней мере все это очень красивые слова, а так как главное дело заключается в словах, то и нет резона, чтобы не объявить Катерину светлым явлением и не прийти от нее в восторг. Я совершенно согласен с тем, что страстность, нежность и искренность составляют действительно преобладающие свойства в натуре Катерины, согласен даже о тем, что все противоречия и нелепости ее поведения объясняются именно этими свойствами. Но что же это значит? Значит, что поле моего анализа следует расширить; разбирая личность Катерины, следует иметь в виду страстность, нежность и искренность вообще и, кроме того, те понятия, которые господствуют в обществе и в литературе насчет этих свойств человеческого организма. Если бы я не знал заранее, что задача моя расширится таким образом, то я и не принялся бы за эту статью. Очень нужно в самом деле драму, написанную с лишком три года тому назад, разбирать для того, чтобы показать публике, каким образом Добролюбов ошибся в оценке женского характера. Но тут дело идет об общих вопросах нашей жизни, а о таких вопросах говорить всегда удобно, потому что они всегда стоят на очереди и всегда решаются только на время. Эстетики подводят Катерину под известную мерку, и я вовсе не намерен доказывать, что Катерина не подходит под эту мерку; Катерина-то подходит, да мерка-то никуда не годится, и все основания, на которых стоит эта мерка, тоже никуда не годятся; все это должно быть совершенно переделано, и хотя, разумеется, я не справлюсь один с этою задачею, однако лепту свою внесу.
Мы до сих пор при оценке явлений нравственного мира ходим ощупью и действуем наугад; по привычке мы знаем, что такое грех; по уложению о наказаниях мы знаем, что такое преступление; но когда нам приходится ориентироваться в бесконечных лесах тех явлений, которые не составляют ни греха, ни преступления, когда нам приходится рассматривать, например, качества человеческой природы, составляющие задатки и основания будущих поступков, тогда мы идем все врассыпную и аукаемся из разных углов этой дубравы, т. е. сообщаем друг другу наши личные вкусы, которые чрезвычайно редко могут иметь какой-нибудь общий интерес. Каждое человеческое свойство имеет на всех языках по крайней мере по два названия, из которых одно порицательное, а другое хвалительное, — скупость и бережливость, трусость и осторожность, жестокость и твердость, глупость и невинность, вранье и поэзия, дряблость и нежность, взбалмошность и страстность, и так далее до бесконечности. У каждого отдельного человека есть в отношении к нравственным качествам свой особенный лексикон, который почти никогда не сходится вполне с лексиконами других людей. Когда вы, например, одного человека называете благородным энтузиастом, а другого безумным фанатиком, то вы сами, конечно, понимаете вполне, что вы хотите сказать, но другие люди понимают вас только приблизительно, а иногда могут и совсем не понимать. Есть ведь такие озорники, для которых коммунист Бабеф4 был благородным энтузиастом, но зато есть и такие мудрецы, которые австрийского министра Шмерлинга5 назовут безумным фанатиком. И те и другие будут употреблять одни и те же слова, и теми же самыми словами будут пользоваться все люди бесчисленных промежуточных оттенков. Как вы тут поступите, чтобы отрыть живое явление из-под груды набросанных слов, которые на языке каждого отдельного человека имеют свой собственный смысл? Что такое благородный энтузиазм? Что такое безумный фанатик? Это пустые звуки, не соответствующие никакому определенному представлению. Эти звуки выражают отношение говорящего лица к неизвестному предмету, который остается совершенно неизвестным во все время разговора и после его окончания. Чтобы узнать, что за человек был коммунист Бабеф и что за человек Шмерлинг, надо, разумеется, отодвинуть в сторону все приговоры, произнесенные над этими двумя личностями различными людьми, выражавшими в этом случае свои личные вкусы и свои политические симпатии. Надо взять сырые факты во всей их сырости, и чем они сырее, чем меньше они замаскированы хвалительными или порицательными словами, тем больше мы имеем шансов уловить и понять живое явление, а не бесцветную фразу. Так поступает мыслящий историк. Если он, располагая обширными сведениями, будет избегать увлечения фразами, если он к человеку и ко всем отраслям его деятельности будет относиться не как патриот, не как либерал, не как энтузиаст, не как эстетик, а просто как натуралист, то он наверное сумеет дать определенные и объективные ответы на многие вопросы, решавшиеся обыкновенно красивым волнением возвышенных чувств. Обиды для человеческого достоинства тут не произойдет никакой, а польза будет большая, потому что вместо ста возов вранья получится одна горсть настоящего знания. А одна остроумная поговорка утверждает совершенно справедливо, что лучше получить маленький деревянный дом, чем большую каменную болезнь.
V
Мыслящий историк трудится и размышляет, конечно, не для того, чтобы приклеить тот или другой ярлык к тому или другому историческому имени. Стоит ли в самом деле тратить труд и время для того, чтобы с полным убеждением назвать Сидора мошенником, а Филимона добродетельным отцом семейства? Исторические личности любопытны только как крупные образчики нашей породы, очень удобные для изучения и очень способные служить материалами для общих выводов антропологии. Рассматривая их деятельность, измеряя их влияние на современников, изучая те обстоятельства, которые помогали или мешали исполнению их намерений, мы из множества отдельных и разнообразных фактов выводим неопровержимые заключения об общих свойствах человеческой природы, о степени ее изменяемости, о влиянии климатических и бытовых условий, о различных проявлениях национальных характеров, о зарождении и распространении идей и верований, и наконец, что всего важнее, мы подходим к решению того вопроса, который в последнее время блистательным образом поставил знаменитый Бокль6. Вот в чем состоит этот вопрос: какая сила или какой элемент служит основанием и важнейшим двигателем человеческого прогресса? Бокль отвечает на этот вопрос просто и решительно. Он говорит: чем больше реальных знаний, тем сильнее прогресс; чем больше человек изучает видимые явления и чем меньше он предается фантазиям, тем удобнее он устроивает свою жизнь и тем быстрее одно усовершенствование быта сменяется другим. — Ясно, смело и просто! — Таким образом, дельные историки путем терпеливого изучения идут к той же цели, которую должны иметь в виду все люди, решающиеся заявлять в литературе свои суждения о различных явлениях нравственной и умственной жизни человечества.
Каждый критик, разбирающий какой-нибудь литературный тип, должен в своей ограниченной сфере деятельности прикладывать к делу те самые приемы, которыми пользуется мыслящий историк, рассматривая мировые события и расставляя по местам великих и сильных людей. — Историк не восхищается, не умиляется, не негодует, не фразерствует, и все эти патологические отправления так же неприличны в критике, как и в историке. Историк разлагает каждое явление на его составные части и изучает каждую часть отдельно, и потом, когда известны все составные элементы, тогда и общий результат оказывается понятным и неизбежным; что казалось, раньше анализа, ужасным преступлением или непостижимым подвигом, то оказывается, после анализа, простым и необходимым следствием данных условий. Точно так же следует поступать критику: вместо того чтобы плакать над несчастиями героев и героинь, вместо того чтобы сочувствовать одному, негодовать против другого, восхищаться третьим, лезть на стены по поводу четвертого, критик должен сначала проплакаться и пробесноваться про себя, а потом, вступая в разговор с публикою, должен обстоятельно и рассудительно сообщить ей свои размышления о причинах тех явлений, которые вызывают в жизни слезы, сочувствие, негодование или восторги. Он должен объяснять явления, а не воспевать их; он должен анализировать, а не лицедействовать. Это будет более полезно и менее раздирательно.
Если историк и критик пойдут оба по одному пути, если оба они будут не болтать, а размышлять, то оба придут к одним и тем же результатам. Между частною жизнью человека и историческою жизнью человечества есть только количественная разница. Одни и те же законы управляют обоими порядками явлений, точно так же как одни и те же химические и физические законы управляют и развитием простой клеточки и развитием человеческого организма. Прежде господствовало мнение, будто общественный деятель должен вести себя совсем не так, как частный человек. Что в частном человеке считалось мошенничеством, то в общественном деятеле называлось политическою мудростью. С другой стороны, то, что в общественном деятеле считалось предосудительною слабостью, то в частном человеке называлось трогательною мягкостью души. Существовало, таким образом, для одних и тех же людей два рода справедливости, два рода благоразумия, — всего по два. Теперь дуализм, вытесняемый из всех своих убежищ, не может удержаться и в этом месте, в котором нелепость его особенно очевидна и в котором он наделал очень много практических гадостей. Теперь умные люди начинают понимать, что простая справедливость составляет всегда самую мудрую и самую выгодную политику; с другой стороны, они понимают, что и частная жизнь не требует ничего, кроме простой справедливости; потоки слез и конвульсии самоистязания так же безобразны в самой скромной частной жизни, как и на сцене всемирной истории; и безобразны они в том и в другом случае единственно потому, что вредны, т. е. доставляют одному человеку или многим людям боль, не выкупаемую никаким наслаждением.
Искусственная грань, поставленная человеческим невежеством между историею и частною жизнью, разрушается по мере того, как исчезает невежество со всеми своими предрассудками и нелепыми убеждениями. В сознании мыслящих людей эта грань уже разрушена, и на этом основании критик и историк могут и должны приходить к одним и тем же результатам. Исторические личности и простые люди должны быть измеряемы одною меркою. В истории явление может быть названо светлым или темным не потому, что оно нравится или не нравится историку, а потому, что оно ускоряет или задерживает развитие человеческого благосостояния. В истории нет бесплодно-светлых явлений; что бесплодно, то не светло, — на то не стоит совсем обращать внимания; в истории есть очень много услужливых медведей, которые очень усердно били мух на лбу спящего человечества увесистыми булыжниками; однако смешон и жалок был бы тот историк, который стал бы благодарить этих добросовестных медведей за чистоту их намерений. Встречаясь с примером медвежьей нравственности, историк должен только заметить, что лоб человечества оказался раскроенным; и должен описать, глубока ли была рана и скоро ли зажила, и как подействовало это убиение мухи на весь организм пациента, и как обрисовались вследствие этого дальнейшие отношения между пустынником и медведем. Ну, а что такое медведь? Медведь ничего; он свое дело сделал. Хватил камнем по лбу — и успокоился. С него взятки гладки. Ругать его не следует — во-первых, потому, что это ни к чему не ведет; а во-вторых, не за что: потому — глуп. Ну, а хвалить его за непорочность сердца и подавно не резон; во-первых — не стоит благодарности: ведь лоб-то все-таки разбит; а во-вторых — опять-таки он глуп, так на какого же черта годится его непорочность сердца?
Так как я случайно напал на басню Крылова, то мимоходом любопытно будет заметить, как простой здравый смысл сходится иногда в своих суждениях с теми выводами, которые дают основательное научное исследование и широкое философское мышление. Три басни Крылова, о медведе, о музыкантах, которые «немножечко дерут, зато уж в рот хмельного не берут», и о судье, который попадет в рай за глупость, — три эти басни7, говорю я, написаны на ту мысль, что сила ума важнее, чем безукоризненная нравственность. Видно, что эта мысль была особенно мила Крылову, который, разумеется, мог замечать верность этой мысли только в явлениях частной жизни. И эту же самую мысль Бокль возводит в мировой исторический закон. Русский баснописец, образовавшийся на медные деньги и, наверное, считавший Карамзина величайшим историком XIX века, говорит по-своему то же самое, что высказал передовой мыслитель Англии, вооруженный наукою. Это я замечаю не для того, чтобы похвастаться русскою сметливостью, а для того, чтобы показать, до какой степени результаты разумной и положительной науки соответствуют естественным требованиям неиспорченного и незасоренного человеческого ума. Кроме того, эта неожиданная встреча Бокля с Крыловым может служить примером того согласия, которое может и должно существовать, во-первых, между частною жизнью и историею, а вследствие этого, во-вторых, между историком и критиком. Если добродушный дедушка Крылов мог сойтись с Боклем, то критикам, живущим во второй половине XIX века и обнаруживающим притязания на смелость мысли и на широкое развитие ума, таким критикам, говорю я, и подавно следует держаться с непоколебимою последовательностью за те приемы и идеи, которые в наше время сближают историческое изучение с естествознанием. Наконец, если Бокль слишком умен и головоломен для наших критиков, пусть они держатся за дедушку Крылова, пусть проводят в своих исследованиях о нравственных достоинствах человека простую мысль, выраженную такими незатейливыми словами: «Услужливый дурак опаснее врага»8. Если бы только одна эта мысль, понятная пятилетнему ребенку, была проведена в нашей критике с надлежащею последовательностью, то во всех наших воззрениях на нравственные достоинства произошел бы радикальный переворот, и престарелая эстетика давным-давно отправилась бы туда же, куда отправились алхимия и метафизика.
VI
Наша частная жизнь запружена донельзя красивыми чувствами и высокими достоинствами, которыми всякий порядочный человек старается запастись для своего домашнего обихода и которым всякий свидетельствует свое внимание, хотя никто не может сказать, чтобы они когда-нибудь кому бы то ни было доставили малейшее удовольствие. Было время, когда лучшими атрибутами физической красоты считалась в женщине интересная бледность лица и непостижимая тонкость талии; барышни пили уксус и перетягивались так, что у них трещали ребра и спиралось дыхание; много здоровья было уничтожено по милости этой эстетики, и по всей вероятности эти своеобразные понятия о красоте еще не вполне уничтожились и теперь, потому что Льюис восстает против корсетов в своей физиологии9, а Чернышевский заставляет Веру Павловну упомянуть о том, что она, сделавшись умною женщиною, перестала шнуроваться10. Таким образом, физическая эстетика очень часто идет вразрез с требованиями здравого смысла, с предписаниями элементарной гигиены и даже с инстинктивным стремлением человека к удобству и комфорту. «Il faut souffrir pour ?tre belle»*, говорила в былое время молодая девушка, и все находили, что она говорит святую истину, потому что красота должна существовать сама по себе, ради красоты, совершенно независимо от условий, необходимых для здоровья, для удобства и для наслаждения жизнью. Критики, не освободившиеся от влияния эстетики, сходятся с обожателями интересной бледности и тонких талий, вместо того чтобы сходиться с естествоиспытателями и мыслящими историками. Надо сознаться, что даже лучшие из наших критиков, Белинский и Добролюбов, не могли оторваться окончательно от эстетических традиций. Осуждать их за это было бы нелепо, потому что надо же помнить, как много они сделали для уяснения всех наших понятий, и надо же понимать, что не могут два человека отработать за нас всю нашу работу мысли. Но, не осуждая их, надо видеть их ошибки и прокладывать новые пути в тех местах, где старые тропинки уклоняются в глушь и в болото.
* Чтобы быть красивой, нужно страдать (фр.).
Относительно анализа «светлых явлений» нас не удовлетворяет эстетика ни своим красивым негодованием, ни своим искусственно подогретым восторгом. Ее белила и румяна тут остаются ни при чем. — Натуралист, говоря о человеке, назовет светлым явлением нормально развитой организм; историк даст это название умной личности, понимающей свои выгоды, знающей требования своего времени и вследствие этого работающей всеми силами для развития общего благосостояния; критик имеет право видеть светлое явление только в том человеке, который умеет быть счастливым, т. е. приносить пользу себе и другим, и, умея жить и действовать при неблагоприятных условиях, понимает в то же время их неблагоприятность и, по мере сил своих, старается переработать эти условия к лучшему. И натуралист, и историк, и критик согласятся между собою в том пункте, что необходимым свойством такого светлого явления должен быть сильный и развитой ум; там, где нет этого свойства, там не может быть и светлых явлений. Натуралист скажет вам, что нормально развитый человеческий организм необходимо должен быть одарен здоровым мозгом, а здоровый мозг так же неизбежно должен мыслить правильно, как здоровый желудок должен переваривать пищу; если же этот мозг расслаблен отсутствием упражнения и если, таким образом, человек, умный от природы, притуплен обстоятельствами жизни, то весь рассматриваемый субъект уже не может считаться нормально развитым организмом, точно так же как не может им считаться человек, ослабивший свой слух или свое зрение. Такого человека натуралист не назовет светлым явлением, хотя бы этот человек пользовался железным здоровьем и лошадиною силою. Историк скажет вам… но вы и сами знаете, что он вам скажет; ясное дело, что ум для исторической личности так же необходим, как жабры и плавательные перья для рыбы; ума тут не заменить никакими эстетическими ингредиентами; это, может быть, единственная истина, неопровержимо доказанная всем историческим опытом нашей породы. Критик докажет вам, что только умный и развитой человек может оберегать себя и других от страданий при тех неблагоприятных условиях жизни, при которых существует огромное большинство людей на земном шаре; кто не умеет сделать ничего для облегчения своих и чужих страданий, тот ни в каком случае не может быть назван светлым явлением; тот — трутень, может быть очень милый, очень грациозный, симпатичный, но все это такие неосязаемые и невесомые качества, которые доступны только пониманию людей, обожающих интересную бледность и тонкие талии. Облегчая жизнь себе и другим, умный и развитой человек не ограничивается этим; он, кроме того, в большей или меньшей степени, сознательно или невольно, переработывает эту жизнь и приготовляет переход к лучшим условиям существования. Умная и развитая личность, сама того не замечая, действует на все, что к ней прикасается; ее мысли, ее занятия, ее гуманное обращение, ее спокойная твердость — все это шевелит вокруг нее стоячую воду человеческой рутины; кто уже не в силах развиваться, тот по крайней мере уважает в умной и развитой личности хорошего человека, — а людям очень полезно уважать то, что действительно заслуживает уважения; но кто молод, кто способен полюбить идею, кто ищет возможности развернуть силы своего свежего ума, тот, сблизившись с умною и развитою личностью, может быть начнет новую жизнь, полную обаятельного труда и неистощимого наслаждения. Если предполагаемая светлая личность даст таким образом обществу двух-трех молодых работников, если она внушит двум-трем старикам невольное уважение к тому, что они прежде осмеивали и притесняли, — то неужели вы скажете, что такая личность ровно ничего не сделала для облегчения перехода к лучшим идеям и к более сносным условиям жизни? Мне кажется, что она сделала в малых размерах то, что делают в больших размерах величайшие исторические личности. Разница между ними заключается только в количестве сил, и потому оценивать их деятельность можно и должно посредством одинаковых приемов. Так вот какие должны быть «лучи света» — не Катерине чета.
VII
«Яйца курицу не учат», — говорит наш народ, и так эта поговорка ему по душе пришлась, что он твердит ее с утра до вечера, словами и поступками, от моря и до моря. И передает он ее потомству, как священное наследство, и благодарное потомство, пользуясь ею в свою очередь, созидает на ней величественное здание семейного чинопочитания. И поговорка эта не теряет своей силы, потому что она всегда употребляется кстати; а кстати потому, что ее употребляют только старшие члены семейства, которые не могут ошибаться, которые всегда оказываются правыми и которые, следовательно, всегда действуют благодетельно и рассуждают поучительно. Ты — яйцо бессознательное и должен пребывать в своей безответной невинности до тех пор, пока сам не сделаешься курицею. Таким образом пятидесятилетние куры рассуждают с тридцатилетними яйцами, которые с пеленок выучились понимать и чувствовать все, что так коротко и так величественно внушает им бессмертная поговорка. Великое изречение народной мудрости действительно выражает в четырех словах весь принцип нашей семейной жизни. Принцип этот действует еще с полною силою в тех слоях нашего народа, которые считаются чисто русскими.
Только в молодости человек может развернуть и воспитать те силы своего ума, которые потом будут служить ему в зрелом возрасте; что не развилось в молодости, то остается неразвитым на всю жизнь; следовательно, если молодость проводится под скорлупою, то и ум и воля человека остаются навсегда в положении заморенного зародыша; и наблюдателю, смотрящему со стороны на этот курятник, остается только изучать различные проявления человеческого уродства. Каждый новорожденный ребенок втискивается в одну и ту же готовую форму, а разнообразие результатов происходит, во-первых, от того, что не все дети родятся одинаковыми, а во-вторых, от того, что для втискивания употребляются различные приемы. Один ребенок ложится в форму тихо и благонравно, а другой барахтается и кричит благим матом; одного ребенка бросают в форму со всего размаху, да еще потом держат в форме за вихор, а другого кладут помаленьку, полегоньку и при этом поглаживают по головке и пряником обольщают. Но форма все-таки одна и та же, и — не в укор будь сказано искателям светлых явлений — уродование идет всегда надлежащим порядком; так как жизнь не шевелит и не развивает ума, то человеческие способности глохнут и искажаются как при воспитании палкой, так и при воспитании лаской. В первом случае получается тип, который я для краткости назову карликами, во втором получаются также уроды, которых можно назвать вечными детьми. Когда ребенка ругают, порют и всячески огорчают, тогда он с самых малых лет начинает чувствовать себя одиноким. Как только ребенок начинает понимать себя, так он приучается надеяться только на свои собственные силы; он находится в постоянной войне со всем, что его окружает; ему дремать нельзя: чуть оплошаешь, тотчас лишишься всякого удовольствия, да еще налетят на тебя со всех сторон ругательства, затрещины и даже весьма серьезные неприятности, в виде многочисленных и полновесных ударов розгами. Гимнастика для детского ума представляется постоянная, и каждый безграмотный мальчишка, выдержанный в ежовых рукавицах свирепым родителем, удивит своими дипломатическими талантами любого благовоспитанного мальчика, способного уже восхищаться, по Корнелию Непоту, доблестями Аристида и непреклонным характером Катона11. Ум разовьется настолько, насколько это необходимо для того, чтобы обделывать практические делишки: там надуть, тут поклониться в пояс, здесь прижать, в другом месте в амбицию вломиться, в третьем — добрым малым прикинуться, — все это будет исполнено самым отчетливым манером, потому что вся эта механика усвоена во времена нежного детства. Но выйти из колеи этой механики ум уже не может; надует он десять раз, проведет и выведет, будет лгать и вывертываться, будет постоянно обходить препятствия, на которые постоянно будет натыкаться; но обдумать заранее план действий, рассчитать вероятности успеха, предусмотреть и устранить препятствия заблаговременно, словом, связать в голове длинный ряд мыслей, логически вытекающих одна из другой, — этого вы от нашего субъекта не ждите. Умственного творчества вы в нем также не найдете; практическое изобретение, создание новой машины или новой отрасли промышленности возможно только тогда, когда у человека есть знания, а знаний у нашего карлика нет никаких; он не знает ни свойств того материала, который он обработывает, ни потребностей тех людей, для которых он работает. Шьет он, положим, чемодан из кожи; кожа скверно выделана и трескается; ну, значит, чемодан надо вычернить, чтобы под краскою трещины были незаметны; и решительно ни одному карлику в голову не придет: а нельзя ли как-нибудь так выделать кожу, чтоб она не трескалась? Да и не может прийти; чтобы замазать трещину черною краскою, не нужно ровно никаких знаний и почти никакого труда мысли; а для того, чтобы сделать малейшее усовершенствование в выделке кож, надо по крайней мере всматриваться в то, что имеешь под руками, и обдумывать то, что видишь. Но мы никогда не были заражены такими мыслительными слабостями; поэтому мы разработали у себя барышничество и надувательство до высокой степени художественности, а все науки мы принуждены привозить к себе из-за границы; другими словами, мы постоянно обирали удобства жизни друг у друга, но производительность нашей земли мы не сумели увеличить ни на один медный грош. Не зная свойств предметов, карлик не знает и самого себя: он не знает ни своих сил, ни своих наклонностей, ни своих желаний; поэтому он ценит себя только по внешнему успеху своих предприятий; он меняется в своих собственных глазах, как акция сомнительного достоинства, которой курс колеблется на бирже; штука удалась, барыш в кармане, — тогда он великий человек, тогда он возносится выше нарицательной цены и даже выше облака ходячего; штука лопнула, капитал улетучился, — тогда он червь, подлец, поношение человеков; тогда он умоляет вас, чтоб вы на него плюнули, да только оказали бы ему участие. И хоть бы это было по крайней мере притворство, хоть бы он прикидывался несчастным для того, чтобы разжалобить вас, все было бы легче; а то ведь нет — действительно раздавлен и уничтожен, действительно пал в своих собственных глазах оттого, что потерпел убыток или другую неудачу; немудрено, что карлик отвертывается от друзей своих, когда они в несчастии; он и от самого себя рад был бы отвернуться, да жаль, некуда.
Все это понятно; только сознательное уважение человека к самому себе дает ему возможность спокойно и весело переносить все мелкие и крупные неприятности, которые не сопровождаются сильною физическою болью; а чтобы сознательно уважать самого себя и чтобы находить в этом чувстве высшее наслаждение, человеку надо предварительно поработать над собою, очистить свой мозг от разного мусора, сделаться полным хозяином своего внутреннего мира, обогатить этот мир кое-какими знаниями и идеями и наконец, изучивши самого себя, найти себе в жизни разумную, полезную и приятную деятельность. Когда все это будет сделано, тогда человеку будет понятно удовольствие быть самим собою, удовольствие класть на каждый поступок печать своей просветленной и облагороженной личности, удовольствие жить в своем внутреннем мире и постоянно увеличивать богатство и разнообразие этого мира. Тогда человек почувствует, что это высшее удовольствие может быть отнято у него только сумасшествием или постоянным физическим мучением; и это величественное сознание полной независимости от мелких огорчений в свою очередь сделается причиною гордой и мужественной радости, которую опять-таки ничто не может ни отнять, ни отравить. Сколько минут чистейшего счастья пережил Лопухов в то время, когда, отрываясь от любимой женщины, он собственноручно устроивал ей счастье с другим человеком? Тут была обаятельная смесь тихой грусти и самого высокого наслаждения, но наслаждение далеко перевешивало грусть, так что это время напряженной работы ума и чувства, наверное, оставило после себя в жизни Лопухова неизгладимую полосу самого яркого света. А между тем как все это кажется непонятным и неестественным для тех людей, которые никогда не испытали наслаждения мыслить и жить в своем внутреннем мире. Эти люди убеждены самым добросовестным образом, что Лопухов — невозможная и неправдоподобная выдумка, что автор романа «Что делать?» только прикидывается, будто понимает ощущения своего героя, и что все пустозвоны, сочувствующие Лопухову, морочат себя и стараются обморочить других совершенно бессмысленными потоками слов. И это совершенно естественно. Кто способен понимать Лопухова и сочувствующих ему пустозвонов, тот сам — и Лопухов и пустозвон, потому что рыба ищет где глубже, а человек где лучше.
Замечательно, что высокое удовольствие самоуважения в большей или меньшей степени доступно и понятно всем людям, развившим в себе способность мыслить, хотя бы эта способность привела их потом к чистым и простым истинам естествознания или, напротив того, к туманным и произвольным фантазиям философского мистицизма. Материалисты и идеалисты, скептики и догматики, эпикурейцы и стоики, рационалисты и мистики — все сходятся между собою, когда идет речь о высшем благе, доступном человеку на земле и не зависимом от внешних и случайных условий. Все говорят об этом благе в различных выражениях, все подходят к нему с разных сторон, все называют его разными именами, но отодвиньте в сторону слова и метафоры, и вы везде увидите одно и то же содержание. Одни говорят, что человек должен убить в себе страсти, другие — что он должен управлять ими, третьи — что он должен облагородить их, четвертые — что он должен развить свой ум и что тогда все пойдет как по маслу. Пути различные, но цель везде одна и та же, — чтобы человек пользовался душевным миром, как говорят одни, — чтобы в его существе царствовала внутренняя гармония, как говорят другие, — чтобы совесть его была спокойна, как говорят третьи, или наконец, — если взять самые простые слова, — чтобы человек постоянно был доволен самим собою, чтобы он мог сознательно любить и уважать самого себя, чтобы он во всех обстоятельствах жизни мог положиться на самого себя как на своего лучшего друга, всегда неизменного и всегда правдивого.
Если все мыслители понимают и ценят чувство самоуважения, то мы в этом отношении никак не должны считать мыслителями всех людей, читающих и пишущих философские сочинения. Рутинер, буквоед и филистер, к какой бы школе он ни принадлежал и какою бы наукою он ни занимался, всегда будет работать по обязанности службы, никогда не почувствует наслаждения в процессе мысли и поэтому никогда не составит себе понятия о чарующей прелести самоуважения. Дело в том, что все можно обратить в механику. У нас обращено в механику искусство надувательства, а в Западной Европе, со времен средневековой схоластики, в механику превратилось искусство писать ученые трактаты, рыться в фолиантах и получать самым добросовестным образом докторские дипломы, не переставая верить в колдовство или в алхимию. Закваска рутины так сильна, что многие немцы и англичане находят возможным заниматься даже естественными науками, не переставая быть, по своему миросозерцанию, чисто средневековыми субъектами. От этого выходят презабавные эпизоды. Например, знаменитый английский анатом Ричард Оуэн (прошу не смешивать с социалистом, Робертом Оуэном) упорно не желает видеть в мозгу обезьяны одну особенную штучку (аммониевы рога), потому что существование этой штучки у обезьяны кажется ему оскорбительным для человеческого достоинства12. Ему показывают, Гексли13 из себя выходит, а тот так и остается при своем. Не вижу, да и только! Любопытно также послушать, как Карл Фохт беседует с Рудольфом Вагнером, чрезвычайно замечательным физиологом и в то же время еще более замечательным филистером14. Но Оуэн и Вагнер во всяком случае превосходные исследователи; они смотрят во все глаза и сильно работают мозгом, когда вопрос не слишком близко подходит к их сердечным симпатиям. Напряженное внимание и размышление все-таки могут расшевелить и развить ум настолько, что чувство самоуважения сделается понятным и драгоценным. А есть и второстепенные Оуэны и Вагнеры; во всех философских и научных лагерях есть мародеры и паразиты, которые не только не создают мыслей сами, но даже не передумывают чужих мыслей, а только затверживают их, чтобы потом разбавлять готовые темы ушатами воды и составлять таким образом статьи или книги. Этим людям чувство самоуважения, разумеется, останется навсегда неизвестным.
Мы видим таким образом, что мыслители всех школ понимают одинаково высшее и неотъемлемое благо человека; мы видим, кроме того, что это благо действительно доступно только тем из мыслителей, которые в самом деле работают умом, а не тем, которые повторяют с тупым уважением слепых адептов великие мысли учителей. Вывод прост и ясен. Не школа, не философский догмат, не буква системы, не истина делают человека существом разумным, свободным и счастливым. Его облагороживает, его ведет к наслаждению только самостоятельная умственная деятельность, посвященная бескорыстному исканию истины и не подчиненная рутинным и мелочным интересам вседневной жизни. Чем бы ни пробудили вы эту самостоятельную деятельность, чем бы вы ни занимались — геометриею, филологиею, ботаникою, все равно — лишь бы только вы начали мыслить. В результате все-таки получится расширение внутреннего мира, любовь к этому миру, стремление очистить его от всякой грязи и, наконец, незаменимое счастье самоуважения. Значит, все-таки ум дороже всего, или, вернее, ум — все. Я с разных сторон доказывал эту мысль и, может быть, надоел читателю повторениями, но ведь мысль-то уж больно драгоценная. Ничего в ней нет нового, но если бы только мы провели ее в нашу жизнь, то мы все могли бы быть очень счастливыми людьми. А то ведь мы все куда как недалеко ушли от тех карликов, от которых совершенно отвлекло меня это длинное отступление.
VIII
По тем немногим чертам, которыми я обрисовал карликов, читатель видит уже, что они вполне заслуживают свое название. Все способности их развиты довольно равномерно: у них есть и умишко, и кое-какая волишка, и миниатюрная энергия, но все это чрезвычайно мелко и прилагается, конечно, только к тем микроскопическим целям, которые могут представиться в ограниченном и бедном мире нашей вседневной жизни. Карлики радуются, огорчаются, приходят в восторг, приходят в негодование, борются с искушениями, одерживают победы, терпят поражения, влюбляются, женятся, спорят, горячатся, интригуют, мирятся, словом — всё делают точно настоящие люди, а между тем ни один настоящий человек не сумеет им сочувствовать, потому что это невозможно; их радости, их страдания, их волнения, искушения, победы, страсти, споры и рассуждения — все это так ничтожно, так неуловимо мелко, что только карлик может их понять, оценить и принять к сердцу. Тип карликов, или, что то же, тип практических людей, чрезвычайно распространен и видоизменяется сообразно с особенностями различных слоев общества; этот тип господствует и торжествует; он составляет себе блестящие карьеры; наживает большие деньги и самовластно распоряжается в семействах; он делает всем окружающим людям много неприятностей, а сам не получает от этого никакого удовольствия; он деятелен, но деятельность его похожа на бегание белки в колесе.
Литература наша давно уже относится к этому типу без всякой особенной нежности и давно уже осуждает с полным единодушием то воспитание палкой, которое выработывает и формирует плотоядных карликов. Один только г. Гончаров пожелал возвести тип карлика в перл создания; вследствие этого он произвел на свет Петра Ивановича Адуева и Андрея Ивановича Штольца; но эта попытка во всех отношениях похожа на поползновение Гоголя представить идеального помещика Костанжогло и идеального откупщика Муразова15. Тип карликов, повидимому, уже не опасен для нашего сознания; он не прельщает нас больше, и отвращение к этому типу заставляет даже нашу литературу и критику бросаться в противоположную крайность, от которой также не мешает поостеречься; не умея остановиться на чистом отрицании карликов, наши писатели стараются противопоставить торжествующей силе угнетенную невинность; они хотят доказать, что торжествующая сила нехороша, а угнетенная невинность, напротив того, прекрасна; в этом они ошибаются; и сила глупа, и невинность глупа, и только оттого, что они обе глупы, сила стремится угнетать, а невинность погружается в тупое терпение; свету нет, и оттого люди, не видя и не понимая друг друга, дерутся в темноте; и хотя у поражаемых субъектов часто сыпятся искры из глаз, однако это освещение, как известно по опыту, совершенно не способно рассеять окружающий мрак; и как бы ни были многочисленны и разноцветны подставляемые фонари, но все они в совокупности не заменяют самого жалкого сального огарка.
Когда человек страдает, он всегда делается трогательным; вокруг него разливается особенная мягкая прелесть, которая действует на вас с неотразимою силою; не сопротивляйтесь этому впечатлению, когда оно побуждает вас, в сфере практической деятельности, заступиться за несчастного или облегчить его страдание; но если вы, в области теоретической мысли, рассуждаете об общих причинах разных специфических страданий, то вы непременно должны относиться к страдальцам так же равнодушно, как и к мучителям, вы не должны сочувствовать ни Катерине, ни Кабанихе, потому что в противном случае в ваш анализ ворвется лирический элемент, который перепутает все ваше рассуждение. Вы должны считать светлым явлением только то, что в большей или меньшей степени может содействовать прекращению или облегчению страдания; а если вы расчувствуетесь, то вы назовете лучом света — или самую способность страдать, или ослиную кротость страдальца, или нелепые порывы его бессильного отчаяния, или вообще что-нибудь такое, что ни в каком случае не может образумить плотоядных карликов. И выйдет из этого, что вы не скажете ни одного дельного слова, а только обольете читателя ароматом вашей чувствительности; читателю это, может быть, и понравится; он скажет, что вы человек отменно хороший; но я с своей стороны, рискуя прогневить и читателя и вас, замечу только, что вы принимаете синие пятна, называемые фонарями, за настоящее освещение.
Страдательные личности наших семейств, те личности, которым порывается посочувствовать наша критика, более или менее подходят под общий тип вечных детей, которых формирует ласковое воспитание нашей бестолковой жизни. Наш народ говорит, что «за битого двух небитых дают». Имея понятие о дикости семейных отношений в некоторых слоях нашего общества, мы должны сознаться, что это изречение совершенно справедливо и проникнуто глубокою практическою мудростью. Пока в нашу жизнь не проникнет настоящий луч света, пока в массах народа не разовьется производительная деятельность, разнообразие занятий, довольство и образование, до тех пор битый непременно будет дороже двух небитых, и до тех пор родители в простом быту постоянно будут принуждены бить своих детей для их же пользы. И польза эта вовсе не воображаемая. Даже в наше просвещенное время детям простолюдина полезно и необходимо быть битыми, иначе они будут со временем несчастнейшими людьми. Дело в том, что жизнь сильнее воспитания, и если последнее не подчиняется добровольно требованиям первой, то жизнь насильно схватывает продукт воспитания и спокойно ломает его по-своему, не спрашивая о том, во что обходится эта ломка живому организму. С молодым человеком обращаются так же, как и со всеми его сверстниками; других ругают — и его ругают, других бьют — и его бьют. Привык или не привык он к этому обращению — кому до этого. дело? Привык — хорошо, значит выдержит; не привык — тем хуже для него, пусть привыкает. Вот как рассуждает жизнь, и от нее невозможно ни ожидать, ни требовать, чтобы она делала какие-нибудь исключения в пользу деликатных комплекций или нежно воспитанных личностей. Но так как всякая привычка приобретается всего легче в детстве, то ясно, что люди, воспитанные лаской, будут страдать в своей жизни от одинаково дурного обращения гораздо сильнее, чем люди, воспитанные палкой. Воспитание палкой нехорошо, как нехорошо, например, повсеместное развитие пьянства в нашем отечестве; но оба эти явления составляют только невинные и необходимые аксессуары нашей бедности и нашей дикости; когда мы сделаемся богаче и образованнее, тогда закроется по крайней мере половина наших кабаков, и тогда родители не будут бить своих детей. Но теперь, когда мужик действительно нуждается в самозабвении и когда водка составляет его единственную отраду, было бы нелепо требовать, чтобы он не ходил в кабак; с тоски он мог бы придумать что-нибудь еще более безобразное; ведь есть и такие племена, которые едят мухомор. Теперь и палка приносит свою пользу, как приготовление к жизни; уничтожьте палку в воспитании, и вы приготовите только для нашей жизни огромное количество бессильных мучеников, которые, натерпевшись на своем веку, или помрут от чахотки, или превратятся понемногу в ожесточенных мучителей. В настоящее время вы имеете в каждом русском семействе два воспитательные элемента, родительскую палку и родительскую ласку; и то и другое без малейшей примеси разумной идеи. И то и другое из рук вон скверно, но родительская палка все-таки лучше родительской ласки.
Я знаю, чем я рискую; меня назовут обскурантом, а заслужить в наше время это название — почти то же самое, что было в средние века прослыть еретиком и колдуном. Я очень желаю сохранить за собою честное имя прогрессиста, но, рассчитывая на благоразумие читателя, надеюсь, что он понимает общее направление моей мысли, и, вооружившись этим упованием, осмеливаюсь уклоняться от общепринятой рутины нашего дешевого либерализма. Палка действительно развивает до некоторой степени детский ум, но только не так, как думают суровые воспитатели; они думают, что коли посечь ребенка, так он запомнит и примет к сердцу спасительные советы, раскается в своем легкомыслии, поймет заблуждение и исправит свою греховную волю; для большей вразумительности воспитатели даже секут и приговаривают, а ребенок кричит: «Никогда не буду!» и, значит, изъявляет раскаяние. Эти соображения добрых родителей и педагогов неосновательны ; но в высеченном субъекте действительно происходит процесс мысли, вызванный именно ощущением боли. В нем изощряется чувство самосохранения, которое обыкновенно дремлет в детях, окруженных нежными заботами и постоянными ласками. Но чувство самосохранения составляет первую причину всякого человеческого прогресса; это чувство, и только оно одно, заставляет дикаря переходить от охоты к скотоводству и земледелию; оно кладет основание всем техническим изобретениям, всякому комфорту, всем промыслам, наукам и искусствам. Стремление к удобству, любовь к изящному и даже чистая любознательность, которую мы в простоте души считаем бескорыстным порывом человеческого ума к истине, составляют только частные проявления и тончайшие видоизменения того самого чувства, которое побуждает нас избегать боли и опасности. Мы чувствуем, что некоторые ощущения освежают и укрепляют нашу нервную систему; когда мы долго не получаем этих ощущений, тогда организм наш расстроивается, сначала очень легко, однако так, что это расстройство заставляет нас испытать какое-то особенное ощущение, известное под названием скуки или тоски. Если мы не хотим или не можем прекратить это неприятное чувство, т. е. если мы не даем организму того, что он требует, тогда он расстроивается сильнее, и чувство делается еще неприятнее и томительнее. Для того чтобы постоянно чем-нибудь затыкать рот нашему организму, когда он таким образом начинает скрипеть и пищать, мы, т. е. люди вообще, стали смотреть вокруг себя, стали вглядываться и прислушиваться, стали двигать самым усиленным образом и руками, и ногами, и мозгами. Разнообразное двигание совершенно соответствовало самым прихотливым требованиям неугомонной нервной системы; это двигание так завлекло нас и так полюбилось нам, что мы занимаемся им теперь с самым страстным усердием, совершенно теряя из виду исходную точку этого процесса. Мы серьезно думаем, что любим изящное, любим науку, любим истину, а на самом деле мы любим только целость нашего хрупкого организма; да и не любим даже, а просто повинуемся слепо и невольно закону необходимости, действующему во всей цепи органических созданий, начиная от какого-нибудь гриба и кончая каким-нибудь Гейне или Дарвином.
IX
Если чувство самосохранения, действуя в нашей породе, вызвало на свет все чудеса цивилизации, то, разумеется, это чувство, возбужденное в ребенке, будет в малых размерах действовать в нем в том же направлении. Чтобы привести в движение мыслительные способности ребенка, необходимо возбудить и развить в нем ту или другую форму чувства самосохранения. Ребенок начнет работать мозгом только тогда, когда в нем проснется какое-нибудь стремление, которому он пожелает удовлетворить, а все стремления без исключения вытекают из одного общего источника, именно из чувства самосохранения. Воспитателю предстоит только выбор той формы этого чувства, которую он пожелает возбудить и развить в своем воспитаннике. Образованный воспитатель выберет тонкую и положительную форму, т. е. стремление к наслаждению; а воспитатель полудикий поневоле возьмет грубую и отрицательную форму, т. е. отвращение к страданию; второму воспитателю нет выбора; стало быть, очевидно, надо или сечь ребенка, или помириться с тою мыслию, что в нем все стремления останутся непробужденными и что ум его будет дремать до тех пор, пока жизнь не начнет толкать и швырять его по-своему. Ласковое воспитание хорошо и полезно только тогда, когда воспитатель умеет возбудить в ребенке высшие и положительные формы чувства самосохранения, т. е. любовь к полезному и к истинному, стремление к умственным занятиям и страстное влечение к труду и к знанию. У тех людей, для которых эти хорошие вещи не существуют, ласковое воспитание есть не что иное, как медленное развращение ума посредством бездействия. Ум спит год, два, десять лет и, наконец, доспится до того, что даже толчки действительной жизни перестают возбуждать его. Человеку не все равно, когда начать развиваться, с пяти лет или с двадцати лет. В двадцать лет и обстоятельства встречаются не те, да и сам человек уже не тот. Не имея возможности справиться с обстоятельствами, двадцатилетний ребенок поневоле подчиняется им, и жизнь начнет кидать это пассивное существо из стороны в сторону, а уж тут плохо развиваться, потому что когда на охоту едут, тогда собак поздно кормить. И выйдет из человека ротозей и тряпка, интересный страдалец и невинная жертва. Когда ребенок не затронут никакими стремлениями, когда действительная жизнь не подходит к нему ни в виде угрожающей розги, ни в виде тех обаятельных и серьезных вопросов, которые она задает человеческому уму, — тогда мозг не работает, а постоянно играет разными представлениями и впечатлениями. Эта бесцельная игра мозга называется фантазиею и, кажется, даже считается в психологии особенною силою души. На самом же деле эта игра есть просто проявление мозговой силы, не пристроенной к делу. Когда человек думает, тогда силы его мозга сосредоточиваются на определенном предмете и, следовательно, регулируются единством цели; а когда нет цели, тогда готовой мозговой силе все-таки надо же куда-нибудь деваться; ну, и начинается в мозгу такое движение представлений и впечатлений, которое относится к мыслительной деятельности так, как насвистывание какого-нибудь мотива относится к оперному пению перед многочисленною и взыскательною публикой. Размышление есть труд, требующий участия воли, труд, невозможный без определенной цели, а фантазия есть совершенно невольное отправление, возможное только при отсутствии цели. Фантазия — сон наяву; поэтому и существуют на всех языках для обозначения этого понятия такие слова, которые самым тесным образом связаны с понятием о сне: по-русски — греза, по-французски — r?verie, по-немецки — Tr?umerei, по-английски — day dream. Очень понятно, что спать днем, и притом спать наяву, может только такой человек, которому нечего делать и который не умеет употребить свое время ни на то, чтобы улучшить свое положение, ни на то, чтобы освежить свои нервы деятельным наслаждением. Чтобы быть фантазером, вовсе не нужно иметь темперамент особенного устройства; всякий ребенок, у которого нет никаких забот и у которого очень много досуга, непременно сделается фантазером; фантазия родится тогда, когда жизнь пуста и когда нет никаких действительных интересов; эта мысль оправдывается как в жизни целых народов, так и в жизни отдельных личностей. Если эстетики будут превозносить развитие фантазии как светлое и отрадное явление, то этим они обнаружат только свою привязанность к пустоте и свое отвращение к тому, что действительно возвышает человека; или, еще проще, они докажут нам, что они чрезвычайно ленивы и что ум их уже не переносит серьезной работы. Впрочем, это обстоятельство уже ни для кого не составляет тайны.
Х
Наша жизнь, предоставленная своим собственным принципам, выработывает карликов и вечных детей. Первые делают зло активное, вторые — пассивное; первые больше мучают других, чем страдают сами, вторые более страдают сами, чем мучают других. Впрочем, с одной стороны, карлики вовсе не наслаждаются безмятежным счастьем, а с другой стороны, вечные дети причиняют часто другим очень значительные страдания; только делают они это не нарочно, но по трогательной невинности или, что то же, по непроходимой глупости. Карлики страдают узкостью и мелкостью ума, а вечные дети — умственною спячкою и вследствие этого совершенным отсутствием здравого смысла. По милости карликов наша жизнь изобилует грязными и глупыми комедиями, которые разыгрываются каждый день, в каждом семействе, при всех сделках и отношениях между людьми; по милости вечных детей эти грязные комедии иногда заканчиваются глупыми трагическими развязками. Карлик ругается и дерется, но соблюдает при этих действиях благоразумную расчетливость, чтобы не наделать себе скандала и чтобы не вынести сора из избы. Вечный ребенок все терпит и все печалится, а потом, как прорвет его, он и хватит зараз, да уж так хватит, что или самого себя, или своего собеседника уложит на месте. После этого заветный сор, разумеется, не может оставаться в избе и препровождается в уголовную палату. Простая драка превратилась в драку с убийством, и трагедия вышла такая же глупая, какая была предшествовавшая ей комедия.
Но эстетики понимают дело иначе; в их головы засела очень глубоко старая пиитика, предписывающая писать трагедии высоким слогом, а комедии средним и, смотря по обстоятельствам, даже низким; эстетики помнят, что герой умирает в трагедии насильственною смертью; они знают, что трагедия непременно должна производить впечатление возвышенное, что она может возбуждать ужас, но не презрение, и что несчастный герой должен приковывать к себе внимание и сочувствие зрителей. Вот эти-то предписания пиитики они и прикладывают к обсуждению тех словесных и рукопашных схваток, которые составляют мотивы и сюжеты наших драматических произведений. Эстетики открещиваются и отплевываются от преданий старой пиитики; они не упускают ни одного случая посмеяться над Аристотелем и Буало и заявить свое собственное превосходство над ложноклассическими теориями, а между тем именно эти одряхлевшие предания составляют до сих пор все содержание эстетических приговоров. Эстетикам и в голову не приходит, что трагическое происшествие почти всегда бывает так же глупо, как и комическое, и что глупость может составлять единственную пружину разнообразнейших драматических коллизий. Как только дело переходит от простой беседы к уголовному преступлению, так эстетики тотчас приходят в смущение и спрашивают себя, кому же они будут сочувствовать и какое выражение изобразят они на своих физиономиях — ужас, или негодование, или глубокую задумчивость, или торжественную грусть? Но вообще надо им найти, во-первых, предмет для сочувствия, а во-вторых, возвышенное выражение для собственной физиономии. Иначе нельзя и говорить о трагическом происшествии.
Однако что же в самом деле, думает читатель, ведь не смеяться же, когда люди лишают себя живота или перегрызают друг другу горло? О, мой читатель, кто вас заставляет смеяться? Я так же мало понимаю смех при виде наших комических глупостей, как и возвышенные чувства при виде наших трагических пошлостей; совсем не мое дело и вообще не дело критика предписывать читателю, что он должен чувствовать; не мое дело говорить вам: извольте, сударь, улыбнуться, — потрудитесь, сударыня, вздохнуть и возвести очи к небу. Я беру все, что пишется нашими хорошими писателями, — романы, драмы, комедии, что угодно, — я беру все это как сырые материалы, как образчики наших нравов; я стараюсь анализировать все эти разнообразные явления, я замечаю в них общие черты, я отыскиваю связь между причинами и следствиями и прихожу таким путем к тому заключению, что все наши треволнения и драматические коллизии обусловливаются исключительно слабостью нашей мысли и отсутствием самых необходимых знаний, т. е., говоря короче, глупостью и невежеством. Жестокость семейного деспота, фанатизм старой ханжи, несчастная любовь девушки к негодяю, кротость терпеливой жертвы семейного самовластия, порывы отчаяния, ревность, корыстолюбие, мошенничество, буйный разгул, воспитательная розга, воспитательная ласка, тихая мечтательность, восторженная чувствительность — вся эта пестрая смесь чувств, качеств и поступков, возбуждающих в груди пламенного эстетика целую бурю высоких ощущений, вся эта смесь сводится, по моему мнению, к одному общему источнику, который, сколько мне кажется, не может возбуждать в нас ровно никаких ощущений, ни высоких, ни низких. Все это различные проявления неисчерпаемой глупости.
Добрые люди будут горячо спорить между собою о том, что в этой смеси хорошо и что дурно; вот это, скажут, добродетель, а вот это порок; но бесплоден будет весь спор добрых людей, нет тут ни добродетелей, ни пороков, нет ни зверей, ни ангелов. Есть только хаос и темнота, есть непонимание и неуменье понимать. Над чем же тут смеяться, против чего тут негодовать, чему тут сочувствовать? Что тут должен делать критик? Он должен говорить обществу и сегодня, и завтра, и послезавтра, и десять лет подряд, и сколько хватит его сил и его жизни, говорить, не боясь повторений, говорить так, чтобы его понимали, говорить постоянно, что народ нуждается только в одной вещи, в которой заключаются уже все остальные блага человеческой жизни. Нуждается он в движении мысли, а это движение возбуждается и поддерживается приобретением знаний. Пусть общество не сбивается с этой прямой и единственной дороги к прогрессу, пусть не думает, что ему надо приобрести какие-нибудь добродетели, привить к себе какие-нибудь похвальные чувства, запастись тонкостью вкуса или вытвердить кодекс либеральных убеждений. Все это мыльные пузыри, все это дешевая подделка настоящего прогресса, все это болотные огоньки, заводящие нас в трясину возвышенного красноречия, все это беседы о честности зипуна и о необходимости почвы16, и ото всего этого мы не дождемся ни одного луча настоящего света. Только живая и самостоятельная деятельность мысли, только прочные и положительные знания обновляют жизнь, разгоняют темноту, уничтожают глупые пороки и глупые добродетели и, таким образом, выметают сор из избы, не перенося его в уголовную палату. Но не думайте пожалуйста, что народ найдет свое спасение в тех знаниях, которыми обладает наше общество и которые рассыпают щедрою рукою книжки, продающиеся теперь для блага младших братьев по пятаку и по гривне. Если, вместо этого просвещения, мужик купит себе калач, то он докажет этим поступком, что он гораздо умнее составителя книжки и сам мог бы многому научить последнего.
Дерзость наша равняется только нашей глупости и только глупостью нашею может быть объяснена и оправдана. Мы — просветители народа?!. Что это — невинная шутка или ядовитая насмешка? — Да сами-то мы что такое? Не правда ли, как мы много знаем, как мы основательно мыслим, как превосходно мы наслаждаемся жизнью, как умно мы установили наши отношения к женщине, как глубоко мы поняли необходимость работать на пользу общую? Да можно ли перечислить все наши достоинства? Ведь мы так бесподобны, что когда нам покажут издали, в романе, поступки и размышления умного и развитого человека, тогда мы сейчас в ужас придем и глаза зажмурим, потому что примем неискаженный человеческий образ за чудовищное явление. Ведь мы так человеколюбивы, что, великодушно забывая свою собственную неумытость, лезем непременно умывать нашими грязными руками младших братьев, о которых болит наша нежная душа и которые, само собою разумеется, выпачканы также до помрачения человеческого образа. И усердно мажем мы грязными руками по грязным лицам, и велики наши труды, и пламенна наша любовь, во-первых, к чумазым братьям, а во-вторых, к их пятакам и гривнам, и человеколюбивые подвиги темных просветителей могут с величайшим удобством продолжаться вплоть до второго пришествия, не нанося ни малейшего ущерба тому надежному слою грязи, который с полным беспристрастием украшает как хлопотливые руки учителей, так и неподвижные лица учеников. Глядя на чудеса нашего народолюбия, поневоле прибегнешь к языку богов и произнесешь стих г. Полонского:
Тебе ли с рылом
Суконным да в гостиный ряд17.
Лучшие наши писатели очень хорошо чувствуют, что рыло у нас действительно суконное и что в гостиный ряд нам покуда ходить незачем. Они понимают, что им самим следует учиться в развиваться и что вместе с ними должно учиться то русское общество, которое для красоты слога называет себя образованным. Они видят очень ясно две вещи: первое — то, что наше общество, при теперешнем уровне своего образования, совершенно бессильно и, следовательно, не способно произвести в понятиях и нравах народа ни малейшего изменения, ни в дурную, ни в хорошую сторону; а второе — то, что если бы даже, по какому-нибудь необъяснимому стечению случайностей, теперешнему обществу удалось переработать народ по своему образу и подобию, то это было бы для народа истинным несчастием.
Чувствуя, понимая и видя все это, лучшие наши писатели, люди, действительно мыслящие, обращаются до сих пор исключительно к обществу, а книжки для народа пишутся теми литературными промышленниками, которые в другое время стали бы издавать сонники и новые собрания песен московских цыган. Даже такое чистое и святое дело, как воскресные школы, оказывается еще сомнительным. Тургенев совершенно справедливо замечает в своем последнем романе, что мужик говорил с Базаровым как с несмыслящим ребенком и смотрел на него как на шута горохового. Пока на сто квадратных миль будет приходиться по одному Базарову, да и то вряд ли, до тех пор все, и сермяжники и джентльмены, будут считать Базаровых вздорными мальчишками и смешными чудаками. Пока один Базаров окружен тысячами людей, не способных его понимать, до тех пор Базарову следует сидеть за микроскопом и резать лягушек и печатать книги и статьи с анатомическими рисунками. Микроскоп и лягушка — вещи невинные и занимательные, а молодежь — народ любопытный; уж если Павел Петрович Кирсанов не утерпел, чтобы не взглянуть на инфузорию, глотавшую зеленую пылинку, то молодежь и подавно не утерпит и не только взглянет, а постарается завести себе свой микроскоп и, незаметно для самой себя, проникнется глубочайшим уважением и пламенной любовью к распластанной лягушке. А только это и нужно. Тут-то именно, в самой лягушке-то, и заключаются спасение и обновление русского народа. Ей-богу, читатель, я не шучу и не потешаю вас парадоксами. Я выражаю, только без торжественности, такую истину, в которой я глубоко убежден и в которой гораздо раньше меня убедились самые светлые головы в Европе и, следовательно, во всем подлунном мире. Вся сила здесь в том, что по поводу разрезанной лягушки чрезвычайно мудрено приходить в восторг и говорить такие фразы, в которых понимаешь одну десятую часть, а иногда еще того меньше. Пока мы, вследствие исторических обстоятельств, спали невинным сном грудного ребенка, до тех пор фразерство не было для нас опасно; теперь, когда наша слабая мысль начинает понемногу шевелиться, фразы могут надолго задержать и изуродовать наше развитие. Стало быть, если наша молодежь сумеет вооружиться непримиримою ненавистью против всякой фразы, кем бы она ни была произнесена, Шатобрианом или Прудоном18, если она выучится отыскивать везде живое явление, а не ложное отражение этого явления в чужом сознании, то мы будем иметь полное основание рассчитывать на довольно нормальное и быстрое улучшение наших мозгов. Конечно, эти расчеты могут быть совершенно перепутаны историческими обстоятельствами, но об этом я не говорю, потому что тут голос критики совершенно бессилен. Но придет время, — и оно уже вовсе не далеко, — когда вся умная часть молодежи, без различия сословия и состояния, будет жить полною умственною жизнью и смотреть на вещи рассудительно и серьезно. Тогда молодой землевладелец поставит свое хозяйство на европейскую ногу; тогда молодой капиталист заведет те фабрики, которые нам необходимы, и устроит их так, как того требуют общие интересы хозяина и работников; и этого довольно; хорошая ферма и хорошая фабрика, при рациональной организации труда, составляют лучшую и единственную возможную школу для народа, во-первых, потому, что эта школа кормит своих учеников и учителей, а во-вторых, потому, что она сообщает знание не по книге, а по явлениям живой действительности. Книга придет в свое время, устроить школы при фабриках и при фермах будет так легко, что это уже сделается само собою.
Вопрос о народном труде заключает в себе все остальные вопросы и сам не заключается ни в одном из них; поэтому надо постоянно иметь в виду именно этот вопрос и не развлекаться теми второстепенными подробностями, которые все будут устроены, как только подвинется вперед главное дело. Недаром Вера Павловна заводит мастерскую, а не школу, и недаром тот роман, в котором описывается это событие, носит заглавие: «Что делать?». Тут действительно дается нашим прогрессистам самая верная и вполне осуществимая программа деятельности. Много ли, мало ли времени придется нам идти к нашей цели, заключающейся в том, чтобы обогатить и просветить наш народ, — об этом бесполезно спрашивать. Это — верная дорога, и другой верной дороги нет. Русская жизнь, в самых глубоких своих недрах, не заключает решительно никаких задатков самостоятельного обновления; в ней лежат только сырые материалы, которые должны быть оплодотворены и переработаны влиянием общечеловеческих идей; русский человек принадлежит к высшей, кавказской расе19; стало быть, все миллионы русских детей, не искалеченных элементами нашей народной жизни, могут сделаться и мыслящими людьми и здоровыми членами цивилизованного общества. Разумеется, такой колоссальный умственный переворот требует времени. Он начался в кругу самых дельных студентов и самых просвещенных журналистов. Сначала были светлые личности, стоявшие совершенно одиноко; было время, когда Белинский воплощал в себе всю сумму светоносных идей, находившихся в нашем отечестве; теперь, испытавши по дороге много видоизменений, одинокая личность русского прогрессиста разрослась в целый тип, который нашел уже себе свое выражение в литературе и который называется или Базаровым, или Лопуховым. Дальнейшее развитие умственного переворота должно идти так же, как шло его начало; оно может идти скорее или медленнее, смотря по обстоятельствам, но оно должно идти все одною и тою же дорогою.
XI
Не ждите и не требуйте от меня, читатель, чтобы я теперь стал продолжать начатый анализ характера Катерины. Я так откровенно и так подробно высказал вам свое мнение о целом порядке явлений «темного царства», или, говоря проще, семейного курятника, — что мне теперь осталось бы только прикладывать общие мысли к отдельным лицам и положениям; мне пришлось бы повторять то, что я уже высказал, а это была бы работа очень неголоволомная и вследствие этого очень скучная и совершенно бесполезная. Если читатель находит идеи этой статьи справедливыми, то он, вероятно, согласится с тем, что все новые характеры, выводимые в наших романах и драмах, могут относиться или к базаровскому типу, или к разряду карликов и вечных детей. От карликов и от вечных детей ждать нечего; нового они ничего не произведут; если вам покажется, что в их мире появился новый характер, то вы смело можете утверждать, что это оптический обман. То, что вы в первую минуту примете за новое, скоро окажется очень старым; это просто — новая помесь карлика с вечным ребенком, а как ни смешивайте эти два элемента, как ни разбавляйте один вид тупоумия другим видом тупоумия, в результате все-таки получите новый вид старого тупоумия.
Эта мысль совершенно подтверждается двумя последними драмами Островского, «Гроза» и «Грех да беда на кого не живет». В первой — русская Офелия, Катерина, совершив множество глупостей, бросается в воду и делает, таким образом, последнюю и величайшую нелепость. Во второй — русский Отелло, Краснов, во все время драмы ведет себя довольно сносно, а потом сдуру зарезывает свою жену, очень ничтожную бабенку, на которую и сердиться не стоило. Может быть, русская Офелия ничем не хуже настоящей, и, может быть, Краснов ни в чем не уступит венецианскому мавру, но это ничего не доказывает: глупости могли так же удобно совершаться в Дании и в Италии, как и в России; а что в средние века они совершались гораздо чаще и были гораздо крупнее, чем в наше время, это уже не подлежит никакому сомнению; но средневековым людям, и даже Шекспиру, было еще извинительно принимать большие человеческие глупости за великие явления природы, а нам, людям XIX столетия, пора уже называть вещи их настоящими именами. Есть, правда, и у нас средневековые люди, которые увидят в подобном требовании оскорбление искусства и человеческой природы, но ведь на все вкусы мудрено угодить; так пускай уж эти люди гневаются на меня, если это необходимо для их здоровья.
В заключение скажу несколько слов о двух других произведениях г. Островского, о драматической хронике «Козьма Минин» и о сценах «Тяжелые дни». По правде сказать, я хорошенько не вижу, чем «Козьма Минин» отличается от драмы Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла». И Кукольник и г. Островский рисуют исторические события так, как наши доморощенные живописцы и граверы рисуют доблестных генералов; на первом плане огромный генерал сидит на лошади и машет каким-нибудь дрекольем; потом — клубы пыли или дыма — что именно, не разберешь; потом за клубами крошечные солдатики, поставленные на картину только для того, чтобы показать наглядно, как велик полковой командир и как малы в сравнении с ним нижние чины. Так у г. Островского на первом плане колоссальный Минин, за ним его страдания наяву и видения во сне, а совсем назади два-три карапузика изображают русский народ, спасающий отечество. По-настоящему, следовало бы всю картину перевернуть, потому что в нашей истории Минин, а во французской — Иоанна д’Арк понятны только как продукты сильнейшего народного воодушевления. Но наши художники рассуждают по-своему, и урезонить их мудрено. — Что касается до «Тяжелых дней», то это уж и бог знает что за произведение. Остается пожалеть, что г. Островский не украсил его куплетами и переодеваниями; вышел бы премиленький водевиль, который с большим успехом можно было бы давать на сцене для съезда и для разъезда театральной публики. Сюжет заключается в том, что добродетельный и остроумный чиновник с бескорыстием, достойным самого идеального станового, устроивает счастье купеческого сына Андрея Брускова и купеческой дочери Александры Кругловой. Действующие лица пьют шампанское, занавес опускается, и статья моя оканчивается.
Примечания:
1 первые — «Русское слово», 1864, № 3.
По-видимому, намёк на статьи А.А. Григорьева (см. на нашей странице его статью “После «Грозы» Островского”).
2 Речь идёт, очевидно, о статьях Н.Ф. Павлова и А.М. Пальховского (см. сб. “Драма А.Н. Островского «Гроза» в русской критике”. Л., 1990).
3 Сторонниками «эстетической критики» были П.В. Анненков, В.П. Боткин и А.В. Дружинин. Анненков выступил в ж. «Бибилиотека для чтения» (1860, № 3) со статьёй против Н.Ф. Павлова (см. П.В. Анненков. Критические очерки. Спб., 2000).
4 Гракх Бабёф (1760-1797) — французский революционер-радикал, казнён в годы Директории.
5 Шмерлинг Антон (1805-1893) — австрийский политический деятель — министр юстиции, министр внутр. дел (1860-65), пожизненный член верхней палаты, до 1861 первый президент Верховного суда; был главою конституционной партии, проводил постепенные либеральные реформы.
6 Бокль (Buckle) Генри Томас (1821 — 1862), английский историк и социолог-позитивист. Главный труд — двухтомная «История цивилизации в Англии» (1857-61; русский перевод в «Отечественных записках», 1861, отд. изд., 1863-64). В этой работе Б. обращает внимание на изучение природной среды, движения населения, на распределение имуществ и рост просвещения. Б. связывал развитие сознания непосредственно с условиями географической среды, а накопление знаний считал причиной изменений в экономическом и политическом строе. Взгляды Б. проникнуты верой в безграничную силу разума и общественный прогресс, убеждением в возможности использования научных методов (особенно статистики) для познания законов истории. Эти черты мировоззрения Б. обеспечили ему популярность в кругах русской интеллигенции.
7 Имеются в виду басни «Пустынник и Медведь», «Музыканты» и «Вельможа».
8 Из басни «Пустынник и Медведь».
9 Льюис Джордж Генри (1817–1878), английский философ-позитивист, ученый и литературный критик, автор «Физиологии обыденной жизни» (1860).
10 Имеется в виду героиня романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?»
11 Корнелий Непот (ок. 100 — ок. 27 до н.э.) — римский историк, автор биографий выдающихся полководцев; Аристид Справедливый (ок. 540 — ок. 467 до н.э.) — древнегреческий политический деятель; Катон Марк Порций (Старший) (234 — 149 до н.э.) — римский политический деятель (ему принадлежит фраза «Карфаген должен быть разрушен», которую он повторял при каждом удобном случае).
12 Ричард Оуэн (1804 — 1892) — английский зоолог и палеонтолог, противник дарвинизма.
13 Гексли Томас (1825 — 1895) — английский зоолог, известен работами в области эмбриологии и сравнительной анатомии; в 1863 г. вышел русский перевод книги «Место человека в природе», где автор доказывал, что анатомические различия между человеком и высшими обезьянами менее значительны, чем между высшими и низшими обезьянами.
14 Между Карлом Фохтом (1817 — 1895), вульгарным материалистом, необычайно популярным в среде русской интеллигенции 1860-х гг., и Рудольфом Вагнером (1805 — 1864), немецким физиологом, спор шёл о существовании души.
15 Речь идёт о персонажах «Обыкновенной истории» И.А. Гончарова и второго тома «Мёртвых душ» Н.В. Гоголя.
16 С идеей «почвы», т.е. народной веры и народной нравственности, к которой нужно обратиться современному образованному человеку, выступали сотрудники журнала «Время» — Ф.М. Достоевский, Н.Н. Страхов и А.А. Григорьев.
17 Из романа в стихах Я.П. Полонского «Свежее предание» (глава 4).
18 Шатобриан Франсуа Рене (1768 — 1848) — французский писатель и политический деятель. Автор популярных в первой трети XIX в. повестей «Атала, или Любовь двух дикарей» (1801) и «Рене, или Следствия страстей» (1802); известны также «Гений христианства» (1802) и «»Замогильные записки» (опубл. в 1848-1850). Прудон Пьер Жозеф (1809 — 1865) — французский социалист, теоретик анархизма.
19 В этих словах отражается анропологическая теория В.А. Зайцева, соратника Писарева по ж. «Русское слово»; по его мнению, высшая (белая) раса противостоит низшим — монгольской и негритянской.
МОТИВЫ РУССКОЙ ДРАМЫ
Основываясь на драматических произведениях Островского, Добролюбов показал нам в русской семье то “темное царство”, в котором вянут умственные способности и истощаются свежие силы наших молодых поколений. Эта статья была ошибкой со стороны Добролюбова; он увлекся симпатией к характеру Катерины и принял ее личность за светлое явление. Подробный анализ этого характера покажет нашим читателям, что взгляд Добролюбова в этом случае неверен и что ни одно светлое явление не может ни возникнуть, ни сложиться в “темном
царстве” патриархальной русской семьи, выведенной на сцену в драме Островского.
Катерина, жена молодого купца Тихона Кабанова, живет с мужем в доме своей свекрови, которая постоянно ворчит на всех домашних. Дети старой Кабанихи, Тихон и Варвара, давно прислушались к этому брюзжанию и умеют его “мимо ушей пропущать” на том основании, что “ей ведь что-нибудь надо ж говорить”. Но Катерина никак не может привыкнуть к манерам своей свекрови и постоянно страдает от ее разговоров. В том же городе, в котором живут Кабановы, находится молодой человек, Борис Григорьевич, получивший порядочное образование. Он заглядывается на Катерину в церкви и на бульваре, а Катерина с своей стороны влюбляется в него, но желает сохранить в целости свою добродетель. Тихон уезжает куда-то на две недели; Варвара, по добродушию, помогает Борису видеться с Катериною, и влюбленная чета наслаждается полным счастьем в продолжение десяти летних ночей. Приезжает Тихон; Катерина терзается угрызениями совести, худеет и бледнеет; потом ее пугает гроза, которую она принимает за выражение небесного гнева; в это же время смущают ее слова полоумной барыни о геение огненной;
Все это она принимает на свой счет; на улице, при народе, она бросается перед мужем на колени и признается ему в своей вине. Муж, по приказанию своей матери, “побил ее немножко”, после того как они воротились домой; старая Кабаниха с удвоенным усердием принялась точить покаявшуюся грешницу упреками и нравоучениями; к Катерине приставили крепкий домашний караул, однако ей удалось убежать из дома; она встретилась со своим любовником и узнала от него, что он по приказанию дяди уезжает в Кяхту; потом, тотчас после этого свидания, она бросилась в Волгу и утонула. Вот те данные, на основании которых мы должны составить себе понятие о характере Катерины.
Во всех поступках и ощущениях Катерины заметна прежде всего резкая несоразмерность между причинами и следствиями. Каждое внешнее впечатление потрясает весь ее организм; самое ничтожное событие, самый пустой разговор производят в ее мыслях, чувствах и поступках целые перевороты. Кабаниха ворчит, Катерина от этого изнывает, Борис Григорьевич бросает нежные взгляды, Катерина влюбляется; Варвара говорит мимоходом несколько слов о Борисе, Катерина заранее считает себя погибшею женщиною, хотя она до тех пор даже не разговаривала с своим будущим любовником; Тихон отлучается из дома на несколько дней, Катерина падает перед ним на колени и хочет, чтобы он взял с нее страшную клятву в супружеской верности. Варвара дает Катерине ключ от калитки, Катерина, подержавшись за этот ключ в продолжение пяти минут, решает, что она непременно увидит Бориса, и кончает свой монолог словами: “Ах, кабы ночь поскорее!” А между тем и ключ-то был дан ей преимущественно для любовных интересов самой Варвары, и в начале своего монолога Катерина находила даже, что ключ жжет ей руки и его непременно следует бросить. При свидании с Борисом, конечно, повторяется та же история; сначала “поди прочь, окаянный человек!”, а вслед за тем на шею кидается. Пока продолжаются свидания, Катерина думает только о том, что “погуляем”; как только приезжает Тихон и вследствие этого ночные прогулки прекращаются, Катерина начинает терзаться угрызениями совести и доходит в этом направлении до полусумасшествия; а между тем Борис живет в том же городе, все идет по – старому, и, прибегая к маленьким хитростям и предосторожностям, можно было бы кое-когда видеться и наслаждаться жизнью. Но Катерина ходит как потерянная, и Варвара очень основательно боится, что она бухнется мужу в ноги, да и расскажет ему все по порядку. Так оно и выходит, и катастрофу эту производит стечение самых пустых обстоятельств. Грянул гром. Катерина потеряла последний остаток своего ума, а тут еще прошла по сцене полоумная барыня с двумя лакеями и произнесла всенародную проповедь о вечных мучениях; а тут еще на стене, в крытой галерее, нарисовано адское пламя; и все это одно к одному – ну, посудите сами, как же в самом деле Катерине не рассказать мужу тут же, при Кабанихе и при всей городской публике, как она провела во время отсутствия Тихона все десять ночей?
Вся жизнь Катерины состоит из постоянных внутренних противоречий; она ежеминутно кидается из одной крайности в другую; она сегодня раскаивается в том, что делала вчера, и между тем сама не знает, что будет делать завтра; она на каждом шагу путает и свою собственную жизнь и жизнь других людей; наконец, перепутавши все, что было у нее под руками, она разрубает затянувшиеся узлы самым глупым средством, самоубийством, да еще таким самоубийством, которое является совершенно неожиданно для нее самой. Эстетики не могли не заметить того, что бросается в глаза во всем поведении Катерины; противоречия и нелепости слишком очевидны, но зато их можно назвать красивым именем; можно сказать, что в них выражается страстная, нежная и искренняя натура. Страстность, нежность, искренность – все это очень хорошие свойства, по крайней мере все это очень красивые слова, а так как главное дело заключается в словах, то и нет резона, чтобы не объявить Катерину светлым явлением и не прийти от нее в восторг. Я совершенно согласен с тем, что страстность, нежность и искренность составляют действительно преобладающие свойства в натуре Катерины, согласен даже с тем, что все противоречия и нелепости ее поведения объясняются этими свойствами. Эстетики подводят Катерину под известную мерку, и я вовсе не намерен доказывать, что Катерина не подходит под эту мерку; Катерина-то подходит, да мерка-то никуда не годится, и все основания, на которых стоит эта мерка, тоже никуда не годятся; все это должно быть совершенно переделано, и хотя, разумеется, я не справлюсь один с этою задачею, однако лепту свою внесу.
… Каждый критик, разбирающий какой-нибудь литературный тип, должен, в своей ограниченной сфере деятельности, прикладывать к делу те самые приемы, которыми пользуется мыслящий историк, рассматривая мировые события и расставляя по местам великих и сильных людей. Историк не восхищается, не умиляется, не негодует, не фразерствует, и все эти патологические отправления так же неприличны в критике, как и в историке. Историк разлагает каждое явление на его составные части и изучает каждую часть отдельно, и потом, когда известны все составные элементы, тогда и общий результат оказывается понятным и неизбежным; что казалось, раньше анализа, ужасным преступлением или непостижимым подвигом, то оказывается, после анализа, простым и необходимым следствием данных условий. Точно так же следует поступать критику: вместо того чтобы плакать над несчастиями героев и героинь, вместо того чтобы сочувствовать одному, негодовать против другого, восхищаться третьим, лезть на стены по поводу четвертого, критик должен сначала проплакаться и пробесноваться про себя, а потом, вступая в разговор с публикою, должен обстоятельно и рассудительно сообщить ей свои размышления о причинах тех явлений, которые вызывают в жизни слезы, сочувствие, негодование и восторги. Он должен объяснять явления, а не воспевать их, он должен анализировать, а не лицедействовать. Это будет более полезно и менее раздирательно.
В истории явление может быть названо светлым или темным не потому, что оно нравится или не нравится историку, а потому, что оно ускоряет или задерживает развитие человеческого благосостояния. В истории нет бесплодно-светлых явлений; что бесплодно, то не светло, – на то не стоит совсем обращать внимания. Только умный и развитой человек может оберегать себя и других от страданий при тех неблагоприятных условиях жизни, при которых существует огромное большинство людей на земном шаре; кто не умеет сделать ничего для облегчения своих и чужих страданий, тот ни в каком случае не может быть назван светлым явлением; тот – трутень, может быть очень милый, очень грациозный, симпатичный, но все это такие неосязаемые и невесомые качества, которые доступны только пониманию людей, обожающих интересную бледность и тонкие талии. Облегчая жизнь себе и другим, умный и развитой человек не ограничивается этим; он, кроме того, в большей или меньшей степени, сознательно или невольно, перерабатывает эту жизнь и приготовляет переход к лучшим условиям существования. Умная и развитая личность, сама того не замечая, действует на все, что к ней прикасается; ее мысли, ее занятия, ее гуманное обращение, ее спокойная твердость – все это шевелит вокруг нее стоячую воду человеческой рутины; кто уже не в силах развиваться, тот по крайней мере уважает в умной и развитой личности хорошего человека, – а людям очень полезно уважать то, что действительно заслуживает уважения; но кто молод, кто способен полюбить идею, кто ищет возможности развернуть силы своего свежего ума, тот, сблизившись с умною и развитою личностью, может быть, начнет новую жизнь, полную обаятельного труда и неистощимого наслаждения. Если предполагаемая светлая личность даст таким образом обществу двух-трех молодых работников, если она внушит двум-трем старикам невольное уважение к тому, что они прежде осмеивали и притесняли, – то неужели вы скажете, что такая личность ровно ничего не сделала для облегчения перехода к лучшим идеям и к более сносным условиям жизни? Мне кажется, что она сделала в малых размерах то, что делают в больших размерах величайшие исторические личности. Разница между ними заключается только в количестве сил, и потому оценивать их деятельность можно и должно посредством одинаковых приемов. Так вот какие должны быть “лучи света” – не Катерине чета. Если читатель находит идеи этой статьи справедливыми, то он, вероятно, согласится с тем, что все новые характеры, выводимые в наших романах и драмах, могут относиться или к базаровскому типу, или к разряду карликов и вечных детей. От карликов и вечных детей ждать нечего; нового они ничего не произведут; если вам покажется, что в их мире появился новый характер, то вы смело можете утверждать, что это оптический обман. То, что вы в первую минуту примете за новое, скоро окажется очень старым; это просто – новая помесь карлика с вечным ребенком, а как ни смешивайте эти два элемента, как ни разбавляйте один вид тупоумия другим видом тупоумия, в результате все-таки получите новый вид старого тупоумия.
Эта мысль совершенно подтверждается двумя последними драмами Островского: “Гроза” и “Грех да беда на кого не живет”. В первой – русская Офелия, Катерина, совершив множество глупостей, бросается в воду и делает, таким образом, последнюю и величайшую нелепость. Во второй – русский Отелло, Краснов, во все время драмы ведет себя довольно сносно, а потом сдуру зарезывает свою жену, очень ничтожную бабенку, на которую и сердиться не стоило. Может быть, русская Офелия ничем не хуже настоящей, и, может быть, Краснов ни в чем не уступит венецианскому мавру, но это ничего не доказывает: глупости могли так же удобно совершаться в Дании и в Италии, как и в России; а что в средние века они совершались гораздо чаще и были гораздо крупнее, чем в наше время, это уже не подлежит никакому сомнению; но средневековым людям, и даже Шекспиру, было еще извинительно принимать большие человеческие глупости за великие явления природы, а нам, людям XIX столетия, пора уже называть вещи их настоящими именами.
1864
Писарев Д. И. МОТИВЫ РУССКОЙ ДРАМЫ
МОТИВЫ РУССКОЙ ДРАМЫ
Основываясь на драматических произведениях Островского, Добролюбов показал нам в русской семье то “темное царство”, в котором вянут умственные способности и истощаются свежие силы наших молодых поколений. Эта статья была ошибкой со стороны Добролюбова; он увлекся симпатией к характеру Катерины и принял ее личность за светлое явление. Подробный анализ этого характера покажет нашим читателям, что взгляд Добролюбова в этом случае неверен и что ни одно светлое явление не может ни возникнуть, ни сложиться в “темном царстве” патриархальной русской семьи, выведенной на сцену в драме Островского.
Катерина, жена молодого купца Тихона Кабанова, живет с мужем в доме своей свекрови, которая постоянно ворчит на всех домашних. Дети старой Кабанихи, Тихон и Варвара, давно прислушались к этому брюзжанию и умеют его “мимо ушей пропущать” на том основании, что “ей ведь что-нибудь надо ж говорить”. Но Катерина никак не может привыкнуть к манерам своей свекрови и постоянно страдает от ее разговоров.
В том же городе, в котором живут Кабановы, находится молодой человек, Борис Григорьевич, получивший порядочное образование. Он заглядывается на Катерину в церкви и на бульваре, а Катерина с своей стороны влюбляется в него, но желает сохранить в целости свою добродетель. Тихон уезжает куда-то на две недели; Варвара, по добродушию, помогает Борису видеться с Катериною, и влюбленная чета наслаждается полным счастьем в продолжение десяти летних ночей. Приезжает Тихон; Катерина терзается угрызениями совести, худеет и бледнеет; потом ее пугает гроза, которую она принимает за выражение небесного гнева; в это же время смущают ее слова полоумной барыни о геение огненной;
Все это она принимает на свой счет; на улице, при народе, она бросается перед мужем на колени и признается ему в своей вине. Муж, по приказанию своей матери, “побил ее немножко”, после того как они воротились домой; старая Кабаниха с удвоенным усердием принялась точить покаявшуюся грешницу упреками и нравоучениями; к Катерине приставили крепкий домашний караул, однако ей удалось убежать из дома; она встретилась со своим любовником и узнала от него, что он по приказанию дяди уезжает в Кяхту; потом, тотчас после этого свидания, она бросилась в Волгу и утонула. Вот те данные, на основании которых мы должны составить себе понятие о характере Катерины.
Во всех поступках и ощущениях Катерины заметна прежде всего резкая несоразмерность между причинами и следствиями. Каждое внешнее впечатление потрясает весь ее организм; самое ничтожное событие, самый пустой разговор производят в ее мыслях, чувствах и поступках целые перевороты. Кабаниха ворчит, Катерина от этого изнывает, Борис Григорьевич бросает нежные взгляды, Катерина влюбляется; Варвара говорит мимоходом несколько слов о Борисе, Катерина заранее считает себя погибшею женщиною, хотя она до тех пор даже не разговаривала с своим будущим любовником; Тихон отлучается из дома на несколько дней, Катерина падает перед ним на колени и хочет, чтобы он взял с нее страшную клятву в супружеской верности. Варвара дает Катерине ключ от калитки, Катерина, подержавшись за этот ключ в продолжение пяти минут, решает, что она непременно увидит Бориса, и кончает свой монолог словами: “Ах, кабы ночь поскорее!” А между тем и ключ-то был дан ей преимущественно для любовных интересов самой Варвары, и в начале своего монолога Катерина находила даже, что ключ жжет ей руки и его непременно следует бросить.
При свидании с Борисом, конечно, повторяется та же история; сначала “поди прочь, окаянный человек!”, а вслед за тем на шею кидается. Пока продолжаются свидания, Катерина думает только о том, что “погуляем”; как только приезжает Тихон и вследствие этого ночные прогулки прекращаются, Катерина начинает терзаться угрызениями совести и доходит в этом направлении до полусумасшествия; а между тем Борис живет в том же городе, все идет по – старому, и, прибегая к маленьким хитростям и предосторожностям, можно было бы кое-когда видеться и наслаждаться жизнью. Но Катерина ходит как потерянная, и Варвара очень основательно боится, что она бухнется мужу в ноги, да и расскажет ему все по порядку.
Так оно и выходит, и катастрофу эту производит стечение самых пустых обстоятельств. Грянул гром. Катерина потеряла последний остаток своего ума, а тут еще прошла по сцене полоумная барыня с двумя лакеями и произнесла всенародную проповедь о вечных мучениях; а тут еще на стене, в крытой галерее, нарисовано адское пламя; и все это одно к одному – ну, посудите сами, как же в самом деле Катерине не рассказать мужу тут же, при Кабанихе и при всей городской публике, как она провела во время отсутствия Тихона все десять ночей?
Вся жизнь Катерины состоит из постоянных внутренних противоречий; она ежеминутно кидается из одной крайности в другую; она сегодня раскаивается в том, что делала вчера, и между тем сама не знает, что будет делать завтра; она на каждом шагу путает и свою собственную жизнь и жизнь других людей; наконец, перепутавши все, что было у нее под руками, она разрубает затянувшиеся узлы самым глупым средством, самоубийством, да еще таким самоубийством, которое является совершенно неожиданно для нее самой. Эстетики не могли не заметить того, что бросается в глаза во всем поведении Катерины; противоречия и нелепости слишком очевидны, но зато их можно назвать красивым именем; можно сказать, что в них выражается страстная, нежная и искренняя натура. Страстность, нежность, искренность – все это очень хорошие свойства, по крайней мере все это очень красивые слова, а так как главное дело заключается в словах, то и нет резона, чтобы не объявить Катерину светлым явлением и не прийти от нее в восторг. Я совершенно согласен с тем, что страстность, нежность и искренность составляют действительно преобладающие свойства в натуре Катерины, согласен даже с тем, что все противоречия и нелепости ее поведения объясняются этими свойствами.
Эстетики подводят Катерину под известную мерку, и я вовсе не намерен доказывать, что Катерина не подходит под эту мерку; Катерина-то подходит, да мерка-то никуда не годится, и все основания, на которых стоит эта мерка, тоже никуда не годятся; все это должно быть совершенно переделано, и хотя, разумеется, я не справлюсь один с этою задачею, однако лепту свою внесу.
… Каждый критик, разбирающий какой-нибудь литературный тип, должен, в своей ограниченной сфере деятельности, прикладывать к делу те самые приемы, которыми пользуется мыслящий историк, рассматривая мировые события и расставляя по местам великих и сильных людей. Историк не восхищается, не умиляется, не негодует, не фразерствует, и все эти патологические отправления так же неприличны в критике, как и в историке. Историк разлагает каждое явление на его составные части и изучает каждую часть отдельно, и потом, когда известны все составные элементы, тогда и общий результат оказывается понятным и неизбежным; что казалось, раньше анализа, ужасным преступлением или непостижимым подвигом, то оказывается, после анализа, простым и необходимым следствием данных условий.
Точно так же следует поступать критику: вместо того чтобы плакать над несчастиями героев и героинь, вместо того чтобы сочувствовать одному, негодовать против другого, восхищаться третьим, лезть на стены по поводу четвертого, критик должен сначала проплакаться и пробесноваться про себя, а потом, вступая в разговор с публикою, должен обстоятельно и рассудительно сообщить ей свои размышления о причинах тех явлений, которые вызывают в жизни слезы, сочувствие, негодование и восторги. Он должен объяснять явления, а не воспевать их, он должен анализировать, а не лицедействовать. Это будет более полезно и менее раздирательно.
В истории явление может быть названо светлым или темным не потому, что оно нравится или не нравится историку, а потому, что оно ускоряет или задерживает развитие человеческого благосостояния. В истории нет бесплодно-светлых явлений; что бесплодно, то не светло, – на то не стоит совсем обращать внимания. Только умный и развитой человек может оберегать себя и других от страданий при тех неблагоприятных условиях жизни, при которых существует огромное большинство людей на земном шаре; кто не умеет сделать ничего для облегчения своих и чужих страданий, тот ни в каком случае не может быть назван светлым явлением; тот – трутень, может быть очень милый, очень грациозный, симпатичный, но все это такие неосязаемые и невесомые качества, которые доступны только пониманию людей, обожающих интересную бледность и тонкие талии. Облегчая жизнь себе и другим, умный и развитой человек не ограничивается этим; он, кроме того, в большей или меньшей степени, сознательно или невольно, перерабатывает эту жизнь и приготовляет переход к лучшим условиям существования.
Умная и развитая личность, сама того не замечая, действует на все, что к ней прикасается; ее мысли, ее занятия, ее гуманное обращение, ее спокойная твердость – все это шевелит вокруг нее стоячую воду человеческой рутины; кто уже не в силах развиваться, тот по крайней мере уважает в умной и развитой личности хорошего человека, – а людям очень полезно уважать то, что действительно заслуживает уважения; но кто молод, кто способен полюбить идею, кто ищет возможности развернуть силы своего свежего ума, тот, сблизившись с умною и развитою личностью, может быть, начнет новую жизнь, полную обаятельного труда и неистощимого наслаждения. Если предполагаемая светлая личность даст таким образом обществу двух-трех молодых работников, если она внушит двум-трем старикам невольное уважение к тому, что они прежде осмеивали и притесняли, – то неужели вы скажете, что такая личность ровно ничего не сделала для облегчения перехода к лучшим идеям и к более сносным условиям жизни? Мне кажется, что она сделала в малых размерах то, что делают в больших размерах величайшие исторические личности. Разница между ними заключается только в количестве сил, и потому оценивать их деятельность можно и должно посредством одинаковых приемов.
Так вот какие должны быть “лучи света” – не Катерине чета. Если читатель находит идеи этой статьи справедливыми, то он, вероятно, согласится с тем, что все новые характеры, выводимые в наших романах и драмах, могут относиться или к базаровскому типу, или к разряду карликов и вечных детей. От карликов и вечных детей ждать нечего; нового они ничего не произведут; если вам покажется, что в их мире появился новый характер, то вы смело можете утверждать, что это оптический обман.
То, что вы в первую минуту примете за новое, скоро окажется очень старым; это просто – новая помесь карлика с вечным ребенком, а как ни смешивайте эти два элемента, как ни разбавляйте один вид тупоумия другим видом тупоумия, в результате все-таки получите новый вид старого тупоумия.
Эта мысль совершенно подтверждается двумя последними драмами Островского: “Гроза” и “Грех да беда на кого не живет”. В первой – русская Офелия, Катерина, совершив множество глупостей, бросается в воду и делает, таким образом, последнюю и величайшую нелепость. Во второй – русский Отелло, Краснов, во все время драмы ведет себя довольно сносно, а потом сдуру зарезывает свою жену, очень ничтожную бабенку, на которую и сердиться не стоило.
Может быть, русская Офелия ничем не хуже настоящей, и, может быть, Краснов ни в чем не уступит венецианскому мавру, но это ничего не доказывает: глупости могли так же удобно совершаться в Дании и в Италии, как и в России; а что в средние века они совершались гораздо чаще и были гораздо крупнее, чем в наше время, это уже не подлежит никакому сомнению; но средневековым людям, и даже Шекспиру, было еще извинительно принимать большие человеческие глупости за великие явления природы, а нам, людям XIX столетия, пора уже называть вещи их настоящими именами.
1864
Loading…
Начало литературной деятельности
Д.И. Писарев с 1858 года стал писать эссе и разборы произведений. Изначально для журнала «Рассвет», а затем для «Русского слова». Делая разборы и анализ произведений не только русской, но и западной литературы, Дмитрий Иванович всегда требовал от писателя четкой позиции, доступности для широких слоев читателей. А также пропаганды гражданственности и ясности мышления.
Дмитрий Иванович в своих работах использует понятие разумного эгоизма, которое незадолго до него ввел Спиноза и активно использовал Чернышевский. Писарев призывал общество нащупать те пути, которые приведут к свободе не только политической, но и духовной. Оценки критика бывают очень резки. Это можно увидеть, прочитав краткое содержание «Мотивы русской драмы». Писарев в своем труде очень жестко оценил все поступки Катерины, заодно и раскритиковав Добролюбова за его статью «Луч света в темном царстве».
Н. А. Добролюбов
«Гроза» есть, без сомнения, самое решительное произведение Островского; взаимные отношения самодурства и безгласности доведены в ней до самых трагических последствий; и при всем том большая часть читавших и видевших эту пьесу соглашается, что она производит впечатление менее тяжкое и грустное, нежели другие пьесы Островского (не говоря, разумеется, об его этюдах чисто комического характера). В «Грозе» есть даже что-то освежающее и ободряющее. Это «что-то» и есть, по нашему мнению, фон пьесы, указанный нами и обнаруживающий шаткость и близкий конец самодурства. Затем самый характер Катерины, рисующийся на этом фоне, тоже веет на нас новою жизнью, которая открывается нам в самой ее гибели.
Дело в том, что характер Катерины, как он исполнен в «Грозе», составляет шаг вперед не только в драматической деятельности Островского, но и во всей нашей литературе. Он соответствует новой фазе нашей народной жизни, он давно требовал своего осуществления в литературе, около него вертелись наши лучшие писатели; но они умели только понять его надобность и не могли уразуметь и почувствовать его сущности; это сумел сделать Островский. <…></…>
Прежде всего вас поражает необыкновенная своеобразность этого характера. Ничего нет в нем внешнего, чужого, а все выходит как-то изнутри его; всякое впечатление переработывается в нем и затем срастается с ним органически. Это мы видим, например, в простодушном рассказе Катерины о своем детском возрасте и о жизни в доме у матери. Оказывается, что воспитание и молодая жизнь ничего не дали ей: в доме ее матери было то же, что и у Кабановых, — ходили в церковь, шили золотом по бархату, слушали рассказы странниц, обедали, гуляли по саду, опять беседовали с богомолками и сами молились… Выслушав рассказ Катерины, Варвара, сестра ее мужа, с удивлением замечает: «Да ведь и у нас то же самое». Но разница определяется Катериною очень быстро в пяти словах: «Да здесь все как будто из-под неволи!» И дальнейший разговор показывает, что во всей этой внешности, которая так обыденна у нас повсюду, Катерина умела находить свой особенный смысл, применять ее к своим потребностям и стремлениям, пока не налегла на нее тяжелая рука Кабанихи. Катерина вовсе не принадлежит к буйным характерам, никогда не довольным, любящим разрушать во что бы то ни стало. Напротив, это характер по преимуществу созидающий, любящий, идеальный. Вот почему она старается все осмыслить и облагородить в своем воображении; то настроение, при котором, по выражению поэта, —
Весь мир мечтою благородной Перед ним очищен и омыт, —
это настроение до последней крайности не покидает Катерину. <…></…>
В положении Катерины мы видим, что, напротив, все «идеи», внушенные ей с детства, все принципы окружающей среды — восстают против
ее естественных стремлений и поступков. Страшная борьба, на которую осуждена молодая женщина, совершается в каждом слове, в каждом движении драмы, и вот где оказывается вся важность вводных лиц, за которых так упрекают Островского. Всмотритесь хорошенько: вы видите, что Катерина воспитана в понятиях одинаковых с понятиями среды, в которой живет, и не может от них отрешиться, не имея никакого теоретического образования. Рассказы странниц и внушения домашних хоть и переработывались ею по-своему, но не могли не оставить безобразного следа в ее душе: и действительно, мы видим в пьесе, что Катерина, потеряв свои радужные мечты и идеальные, выспренние стремления, сохранила от своего воспитания одно сильное чувство —
страх
каких-то темных сил, чего-то неведомого, чего она не могла ни объяснить себе хорошенько, ни отвергнуть. За каждую мысль свою она боится, за самое простое чувство она ждет себе кары; ей кажется, что гроза ее убьет, потому что она грешница; картина геенны огненной на стене церковной представляется ей уже предвестием ее вечной муки… А все окружающее поддерживает и развивает в ней этот страх: Феклуши ходят к Кабанихе толковать о последних временах; Дикой твердит, что гроза в наказание нам посылается, чтоб мы чувствовали; пришедшая барыня, наводящая страх на всех в городе, показывается несколько раз с тем, чтобы зловещим голосом прокричать над Катериною: «Все в огне гореть будете в неугасимом». <…></…>
В монологах Катерины видно, что у ней и теперь нет ничего формулированного; она до конца водится своей натурой, а не заданными решениями, потому что для решений ей бы надо было иметь логические, твердые основания, а между тем все начала, которые ей даны для теоретических рассуждений, решительно противны ее натуральным влечениям. Оттого она не только не принимает геройских поз и не произносит изречений, доказывающих твердость характера, а даже напротив — является в виде слабой женщины, не умеющей противиться своим влечениям, и старается оправдывать
тот героизм, какой проявляется в ее поступках. Она решилась умереть, но ее страшит мысль, что это грех, и она как бы старается доказать нам и себе, что ее можно и простить, так как ей уж очень тяжело. Ей хотелось бы пользоваться жизнью и любовью; но она знает, что это преступление, и потому говорит в оправдание свое: «Что ж, уж все равно, уж душу свою я ведь погубила!» Ни на кого она не жалуется, никого не винит, и даже на мысль ей не приходит ничего подобного; напротив, она перед всеми виновата, даже Бориса она спрашивает, не сердится ли он на нее, не проклинает ли… Нет в ней ни злобы, ни презрения, ничего, чем так красуются обыкновенно разочарованные герои, самовольно покидающие свет. Но не может она жить больше, не может, да и только; от полноты сердца говорит она: «Уж измучилась я… Долго ль мне еще мучиться? Для чего мне теперь жить, — ну, для чего? Ничего мне не надо, ничего мне не мило, и свет божий не мил! — а смерть не приходит. Ты ее кличешь, а она не приходит. Что ни увижу, что ни услышу, только тут
(показывая на сердце)
больно». При мысли о могиле ей делается легче — спокойствие как будто проливается ей в душу. «Так тихо, так хорошо… А об жизни и думать не хочется… Опять жить?.. Нет, нет, не надо… нехорошо. И люди мне противны, и дом мне противен, и стены противны! Не пойду туда! Нет, нет, не пойду… Придешь к ним — они ходят, говорят, — а на что мне это?..» И мысль о горечи жизни, какую надо будет терпеть, до того терзает Катерину, что повергает ее в какое-то полугорячечное состояние. В последний момент особенно живо мелькают в ее воображении все домашние ужасы. Она вскрикивает: «А поймают меня да воротят домой насильно!.. Скорей, скорей…» И дело кончено: она не будет более жертвою бездушной свекрови, не будет более томиться взаперти с бесхарактерным и противным ей мужем. Она освобождена!..
Грустно, горько такое освобождение; но что же делать, когда другого выхода нет. Хорошо, что нашлась в бедной женщине решимость хоть на этот страшный выход. В том и сила ее характера, оттого-то «Гроза» и производит на нас впечатление освежающее, как мы сказали выше. <…></…>
Арест
В 1862 году Писарев нелегально печатает и издает в подпольной типографии небольшую брошюру, где выступает в защиту Герцена и призывает к свержению династии Романовых. Критик был схвачен и приговорен к четырем с половиной годам заключения в Петропавловской крепости. Там Писарев находился с 1862 года по 1865.
Интересно, что царское правительство идет на необычный шаг – сажает Писарева и одновременно разрешает ему работать, писать и печататься в журнале. Пожалуй, это можно объяснить, как желание правительства видеть все публикации и наработки Писарева, не опасаясь того, что критик будет тайно стараться что-то передать из камеры. Популярность Дмитрия Ивановича Писарева именно в тот период необычайно высока. После его освобождения она пойдет на спад.
Зрелость души — условие взрослой жизни
Более того, продолжает свою мысль критик, капитулировать перед мелкими, вполне преодолимыми жизненными трудностями, — это разве добродетель? Этим очевидным, логичным вопросом задается Писарев о «Грозе» Островского. Разве это может быть примером для поколения, чей удел — изменить рабскую Россию, угнетаемую местными «князьками» по типу Кабанихи и Дикого? В лучшем случае такой суицид может вызвать лишь Однако же в результате борьбу с социальной группой богатеев и манипуляторов должны вести волевые и образованные люди!
Вместе с тем не уничижительно отзывается Писарев о Катерине. «Гроза», считает критик, не зря столь последовательно изображает ее образ, начиная с детства. Образ Катерины в этом смысле подобен незабвенному образу Ильи Ильича Обломова! Проблема ее несформировавшейся личности — в идеально уютном детстве и юности. Родители не готовили ее к взрослой жизни! Более того, они не дали ей должного образования.
Однако следует признать, что в отличии от Ильи Ильича, попади Катерина в более благоприятную среду, чем семья Кабановых, она бы, скорее всего, состоялась, как личность. Островский этому дает обоснование…
Смена взглядов
После того, как вспыхнуло восстание в Польше в 1863 году, Дмитрий Иванович Писарев, как и многие другие общественные деятели того периода, разочаровался в революционном пути выхода из кризиса, в котором находилась Россия. Теперь появился новые ориентир (или идеал) – технический прогресс, достижения в области науки. По выражению самого Дмитрия Ивановича, вперед Россию поведут мыслящие реалисты. Именно в этот период пишется статья Писарева «Мотивы русской драмы», краткое содержание которой будет дано ниже.
В конце шестидесятых годов девятнадцатого века Д.И. Писарев уходит из журналов «Русское слово» и «Дело» в журнал Некрасова «Отечественные записки». Там Писарев так же продолжает публиковать критические разборы, отзывы на книги, при этом меняя курс на естественность и научность. Во многом принципы Писарева основаны на идеях нигилизма. Даже Пушкина Писарев считал вредоносным. А вот первые романы Достоевского, Тургенева и Толстого привлекли внимание критика.
Шестнадцатого июля 1868 года, купаясь в Рижском заливе, Дмитрий Писарев утонул.
Неумение сладить сама с собой
Вместе с тем критика Писарева о «Грозе» объективно указывает на инфантильность и импульсивность Катерины. Она выходит замуж не по любви. Лишь улыбнулся ей велиречивый Борис Григорьевич, племянник купца Дикого, и — готово дело: спешит Катя на тайное свидание. При этом она, сблизившись с этим, в принципе, чужим человеком, совершенно не задумывается о последствиях. «Неужели автор изображает «светлый луч?!» — спрашивает читателя критическая статья Писарева. «Гроза» отображает крайне нелогичную героиню, не умеющую не только справиться с обстоятельствами, но и сладить сама с собой. После измены мужу, находясь в депрессии, по-детски напуганная грозой и кликушеством полоумной барыни, она признается в содеянном и сразу же идентифицирует себя с жертвой. Банально, не правда ли?
По совету маменьки Тихон ее «немножко», «для порядку» бьет. Однако издевательства самой свекрови становятся на порядок изощренней. После того как Катерина узнает о том, что Борис Григорьевич едет в Кяхту (Забайкалье), она, не обладающая ни волей, ни характером, решается на самоубийство: бросается в реку и тонет.
Влияние и значение
Пожалуй, в шестидесятые годы девятнадцатого века именно о Писареве можно было сказать, что он проповедует самые яркие принципы нигилизма. Поставив в основу интеллектуальную свободу, Писарев в своих работах доказывал, что, только откинув традиции и пережитки прошлого, путем большой внутренней работы общество сможет выйти на новый уровень своего развития, перестроится.
Манера написания статей у Д.И. Писарева была яркая и красочная. Всегда очень много эмоций и задора. Дмитрия Ивановича очень любил Ленин. По воспоминаниям Крупской, пока пребывал в ссылке в Шушенском держал его портрет у себя на столе.
Писарева обычно называют третьим после Чернышевского и Добролюбова среди критиков-шестидесятников. Плеханов считал Писарева одним из самых выдающихся представителей шестидесятых годов девятнадцатого века в России.
Катерина — не «луч света»
Критика Писарева о «Грозе» начинается с формулировки вывода об опрометчивости вывода Добролюбова. Он мотивирует его, приводя аргументы из авторского текста пьесы. Его полемика с Николаем Добролюбовым напоминает резюмирование умудренного опытом пессимиста по поводу выводов, сделанных оптимистом. Согласно рассуждениям Дмитрия Ивановича, сущность Катерины — меланхолична, в ней нет настоящей добродетели, характерной для людей, которых называют «светлыми». По мнению Писарева, Добролюбов допустил систематическую ошибку в анализе образа главной героини пьесы. Он собрал все ее позитивные качества в единый позитивный образ, игнорировав недостатки. По мнению же Дмитрия Ивановича, важен диалектический взгляд на героиню.
Развитие драмы в России
Если говорить о развитии драмы в России, то первые попытки можно отнести к концу семнадцатого века. Следует выделить драмы «Царь Максимилиан» и «Лодка» как хорошие образцы народного творчества, ибо тогда драмы, как жанр, существовали только в виде народных произведений.
Восемнадцатый век – это новый этап развития. Драмы Сумарокова и Ломоносова – это проповедь гражданских идеалов, восхваление России. Но также это и обличительные произведения против тирании и деспотизма. Конец восемнадцатого века – это Фонвизин и его «Недоросль». Традиции Фонвизина продолжили Пушкин, Гоголь, Салтыков-Щедрин, Островский и другие. Именно на основе трудов этих авторов и писал Дмитрий Писарев «Мотивы русской драмы», краткое содержание которой будет ниже.
Общая оценка
Оставаясь глухим к духовному состоянию героини Островского, Писарев подошел к нему прагматично. Писареве проповедовал яркие стороны взглядов нигилиста, взяв за основу большой разбор произведения Островского, который написал Добролюбов.
Автор наблюдателен, сумел возбудить в зрителе сострадание и понимание ситуации. Но некоторые моменты, как считал Писарев и некоторые другие критики, были чрезмерно преувеличены.
Эта полемика помогла писателю ярко показать, в чем было новаторство Островского, его талант обличителя самодурства и невежества в обществе.
«Мотивы русской драмы». Отзывы современников
Данное произведение вызвало бурную реакцию со стороны русской интеллигенции шестидесятых годов девятнадцатого века. Иначе быть не могло – статья была написана в годы, когда России требовалось новое мышление. Совсем недавно, в 1861 году, отменили крепостное право. Казалось, что Россия выходит на путь перемен. Потому и статья Писарева именно в духе времени: критичная, местами злая, обличающая старые порядки и традиции.
Сам Добролюбов, на статью которого в своей опирался Писарев, ответить на вызов уже не мог, ибо умер в 1861 году. Зато Дмитрия Ивановича не поддержала та часть литературного общества, которая считалась реакционной. В статье «Мотивы русской драмы» Д.И. Писарев не стеснялся продвигать свои, как казалось ему на тот момент, революционные взгляды. За это данную статью очень оценил Герцен. Позже, уже в конце девятнадцатого века, эту работу, как и другие произведения Писарева, очень высоко оценил Плеханов.
Помимо статьи «Мотивы русской драмы», Писарев написал еще множество критических очерков и статей, повлиявших на целое поколение шестидесятников. Об этих работах ниже.
Другие произведения автора
Среди самых важных, главных статей критика, которые повлияли на умонастроение читающей интеллигенции, можно назвать статью «Базаров» по роману Тургенева «Отцы и дети». В статье Писарев выводит личность человека, которая, по мнению критика, должна стать в основе российского общества. Писарев говорит, что базаровщина – пусть и болезнь, но ее выстрадать необходимо. Ибо уже не остановить, и никуда от нее не деться.
Еще можно выделить статью под заголовком «Борьба за жизнь» по роману Достоевского «Преступление и наказание». Критик проводит анализ Раскольникова, его поступков, характера, а также старается выявить все факторы, которые привели персонажа к преступлению.
Главная героиня как страдающая часть темного царства
Молодая женщина проживает с мужем Тихоном у свекрови, богатой купчихи, имеющей (как сейчас говорят) «тяжелую энергетику», что тонко подчеркивает критическая статья Писарева. «Гроза», как трагическая пьеса, во многом обусловлена этим образом. Кабаниха (так по-уличному зовут ее) патологически зациклена на моральном угнетении окружающих, постоянными упреками, ест их, «как ржа железо». Это она делает по-ханжески: т. е. постоянно домогаясь, чтоб домашние «поступали по порядку» (точнее, следуя ее указаниям).
Тихон и его сестра Варвара адаптировались к речам маменьки. Особенно чувствительна к ее придиркам и унижениям ее невестка, Катерина. Она, обладающая романтичной, меланхолической психикой, действительно несчастна. Ее цветные сны и мечты обнажают совершенно детское мировосприятие. Это мило, однако не есть добродетелью!