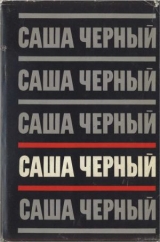Конец
Книга закончилась. Надеемся, Вы провели время с удовольствием!
Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями:
Оглавление:
-
Черный Саша. Рассказы для больших
1
-
АХ, ЗАЧЕМ НЕТ ЧЕХОВА НА СВЕТЕ! ПРОЗА САШИ ЧЕРНОГО
1
-
РАССКАЗЫ, НАПИСАННЫЕ В РОССИИ*
10
-
ЛЮДИ ЛЕТОМ*
10
-
I «ТИХОЕ ОЗЕРО»
10
-
II. БЕЗ ГАЛСТУКОВ
12
-
IlI ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА
14
-
IV ПЕРВЫЕ ЖЕЛТЫЕ ЛИСТЬЯ
16
-
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО*
19
-
СЛУЧАЙ В ЛАГЕРЕ*
35
-
ДРУГ*
38
-
ХРАБРАЯ ЖЕНЩИНА*
41
-
МИРЦЛЬ*
45
-
ИЕРОГЛИФЫ* (НЕ-ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ)
56
-
НЕСЕРЬЕЗНЫЕ РАССКАЗЫ*
60
-
ТРЕТЕЙСКИЙ СУД* (ШУТКА В I БЕЗДЕЙСТВИИ)
60
-
МОСКОВСКИЙ СЛУЧАЙ* (РАССКАЗ ОБЫВАТЕЛЯ)
65
-
САМОЕ СТРАШНОЕ*
68
-
ИСПАНСКАЯ ЛЕГЕНДА*
70
-
ЭКОНОМКА*
72
-
ИЗОБРЕТАТЕЛИ*
74
-
ИЛЛИНОЙССКИЙ БОГАЧ*
76
-
ДИСПУТ*
78
-
ПАТЕНТОВАННАЯ КРАСКА*
80
-
ПОЛНАЯ ВЫКЛАДКА* (ПОДЛИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ)
82
-
КОЛБАСНЫЙ ОККУЛЬТИЗМ* (РАССКАЗ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА)
85
-
КУПАЛЬЩИКИ*
87
-
БУЙАБЕС*
89
-
ЗАМИРИТЕЛЬ*
91
-
СЫРНАЯ ПАСХА* (РАССКАЗ ЭМИГРАНТА)
93
-
ГРЕЧЕСКИЙ САМОДУР*
94
-
ПИСЬМО ИЗ БЕРЛИНА*
96
-
ЭМИГРАНТСКИЕ РАССКАЗЫ, НЕ СОБРАННЫЕ В КНИГУ
97
-
БЕРЛИНСКОЕ РОЖДЕСТВО*
97
-
РАКЕТА* (ПАСХАЛЬНЫЙ РАССКАЗ)
98
-
КЛЕЩ*
100
-
МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ* (НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ РАССКАЗ)
102
-
ДОРОГОЙ ПОДАРОК* (ЭМИГРАНТСКАЯ БЫЛЬ)
104
-
ЖИТОМИРСКАЯ МАРКИЗА*
105
-
В ЛУННУЮ НОЧЬ*
108
-
ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПАРИЖА В МЕДОН И ОБРАТНО*
110
-
ТАБАЧНЫЙ ПАТРИОТ*
113
-
ФИЗИКА КРАЕВИЧА*
114
-
ВИЗИТ*
117
-
ПТИЧИЙ ДЕНЬ*
119
-
НАСТОЯЩИЙ БУЙАБЕС*
122
-
ПТИЧКА*
126
-
КОФЕ ПО-ТУРЕЦКИ*
127
-
КАПИТАН БОПП* (СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РАССКАЗ)
129
-
СВАДЬБА ПОД КАЛАНЧОЙ*
133
-
«ТИХОЕ КАБАРЕ»*
137
-
«ЛЮДОВИК ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ»* (РАССКАЗ КРОТКОГО ЧЕЛОВЕКА)
140
-
ЧЕЛОВЕК С ЗАВЯЗАННЫМИ УШАМИ* (РАССКАЗ ОФИЦЕРА)
142
-
ФОКС-ВОРИШКА*
144
-
МОРСКАЯ ПОДУШКА*
145
-
КОМАРИНЫЕ МОЩИ*
146
-
КОЗЬЯ ФЕРМА*
148
-
ОТБОРНЫЕ ДЫНИ*
149
-
МЕЛКОЗЕМЕЛЬНЫЙ ГРИПП*
150
-
БУБА*
154
-
АФРИКАНСКИЕ ВЕЩИ*
155
-
АКАЖУ*
159
-
У МОРЯ*
160
-
УЮТНОЕ СЕМЕЙСТВО*
161
-
СТРАШНЫЙ СОН*
164
-
ПАСХАЛЬНЫЙ СЮРПРИЗ*
165
-
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»*
169
-
КОММЕНТАРИЙ
173
-
РАССКАЗЫ, НАПИСАННЫЕ В РОССИИ
174
-
НЕСЕРЬЕЗНЫЕ РАССКАЗЫ
181
-
ЭМИГРАНТСКИЕ РАССКАЗЫ, НЕ СОБРАННЫЕ В КНИГУ
187
Настройки:
Ширина: 100%
Выравнивать текст
Домик в саду
В саду было пусто. Только на полянке, за ёлками на весь сад весело стучал топор. Стучал да стучал.
На стук топора из белого дома приплелась кошка Маргаритка. Села на кучу прошлогодних листьев и видит: стоит среди поляны рыжий плотник Данила и тешет брёвна. Обошла кошка вокруг Данилы, обнюхала пахучую жёлтую щепку, которая, как сумасшедшая, прыгнула к ней прямо на нос из-под топора, и давай мяукать.
– Мяу-мур, – мур и мяу, – я знаю, что это будет.
– А что, госпожа кошка? – вежливо спросил скворец с берёзы и нагнул вниз голову со своей жёрдочки.
– Мняу! Вам очень хочется знать?
– Чики-вики, очень.
– Видите ли, в том белом доме живут две девочки…
– Розовая и белая?
– Мяу, да, и у них есть папа, такой огромный папа, в два раза больше самой огромной собаки. Да. Так вот этот папа вчера заказал плотнику Даниле для своих детей дом…
– Чики-вики, скворечник.
– По-вашему – скворечник, по-нашему – дом…
И вот – хлоп, где-то щёлкнула дверь, и с крыльца белого дома понеслись вперегонку к полянке две девочки: одна розовая, поменьше, круглая, как колобок, – Тася; другая в белом, длинненькая и худая, как жёрдочка, – Лиля.
Прибежали и давай прыгать вокруг Данилы:
– Данила, Данилушка, миленький, самый миленький, когда же дом будет готов?
– Через месяц.
– Ай-яй-яй! Да вы не шутите, мы серьёзно вас спрашиваем…
– Ну, через неделю.
Тася и Лиля посмотрели друг на друга, вздохнули – вот тебе раз!
– Сегодня будет готово к обеду, – сказал Данила, улыбаясь в рыжую бороду. – А что мне за это будет?
– Всё, всё, всё! Всё, что хотите!
– Ладно. Всё так всё.
Гуп! Гуп! – и топор опять заходил по бревну.
Распилил Данила бревно на четыре куска, заострил концы, словно карандаши очинил, и вбил в землю.
– Ловко, – сказала кошка, – это он будет пол настилать.
А из белого дома приковылял ещё один человечек: кухаркин сынок, Василий Иванович, весом с курицу, двух лет, с хвостиком, румяный, как помидор. Пришёл, палец в рот, вытаращил глазки, пустил слюну и смотрит.
– Васенька, иди-ка, червячок, сюда, посмотри, – позвала Лиля и посадила рядом с собой на бревно.
Сидят, как галки, все четверо: Лиля, Тася, кошка и Василий Иванович и смотрят.
Хорошо!
А Данила старается. Знает он, каково ждать, когда дом строится! Притащил из сарая доски, собрал быстро стенки, – хитрый был, молчал, а всё у него было заготовлено, – вставил раму, приложил так, чтобы окно к речке выходило, чтобы всё можно было видеть: и лодки, и уток, и купальную пёструю будку…
– Мур-мяу! – сказала кошка и ткнула Лилю головой. – Окно со стеклом, как же я буду через окно лазить?! Это он, верно, нарочно, за то, что я у него вчера ватрушку стянула…
…Понеслись вперегонку к полянке две девочки…
– Да не приставай ты, чучелка. – Лиля не понимала кошкина языка, да и некогда было с ней возиться.
– Данила, Данила, – запищала Тася, – а Данила? Уже можно жить?
– По-го-ди… Какая смешная девочка! – заскрипела скворчиха над головой у Таси. – Как же можно жить без крыши и без дверцы? Ага, вот и дверцы! Какие большие и совсем не круглые! Ничего он не понимает, этот Данила…
Кошка посмотрела одним глазом на скворчиху и лениво зевнула:
– Мняу… Эй ты, скворечная курица, иди-ка лучше в свой ящик спать! Сама ты ничего не понимаешь, а ещё рассуждаешь, тоже…
Скворчиха сделала вид, что не слышит, – стоит ли со всякой кошкой связываться!
– С новосельем! – сказал Данила, взял топор под мышку, набил трубку, закурил и ушёл.
– Ай да домик! Настоящая крыша, настоящие дверцы, настоящее окно… А внутри как хорошо, прямо запищишь от удовольствия, по бокам лавочки, как в вагоне. Под окном столик на крючках, смолой пахнет, чистенький такой, словно его кошка языком облизала.
Стёкла в окошке переливаются, а за окном, как на ладошке, вся голубая река: утки плывут и кланяются, верба на берегу зелёными лентами машет, жёлтый катерок пробежал, фыркая, как мокрая собака. Хорошо!
Посмотрела Лиля на Тасю, Тася на Лилю, Василий Иванович на кошку и кошка на всех, – вдруг что-то все вспомнили и сразу затормошились.
А мебель? А картинки? А занавески? А кухня? А посуда?
– Ах ты, боже мой, какие мы свистульки!
Подхватили девочки Василия Ивановича – одна справа, другая слева – под мышки, как самовар, и понесли к дому. Кошка осталась.
Ходит да нюхает всё: новый домик, надо же привыкнуть. Смотрят с берёзы скворец и скворчиха и удивляются – никогда ещё в саду они такого чуда не видали. Впереди шагает Василий Иванович, пыхтит и волочит по земле красный коврик, за ним вприпрыжку Тася с целым кукольным семейством на руках, за ней Лиля с жестяной кухней, с резной полочкой, с самоваром, за ними мама с занавеской и с посудой (такая большая, а с девочками играет!), за ней папа, широкий, как купальная будка, идёт, очками на солнце блестит, а в руке молоток и картинки, за ними кухарка с морковками, а в самом хвосте чёрная собака Арапка – ничего не несёт, идёт, язык высунула и тяжело дышит…
– Чики-вики, – запищала скворчиха, – идём скорей в скворечник, у меня даже голова закружилась…
Пошла работа! Разостлали в домике коврик, углы утыкали зелёной вербой, прибили картинку – «мальчика-с-пальчика», приколотили полочку, расставили посуду, накололи занавеску – и готово.
Папа с кухаркой Агашей были оба толстые и никак не могли пролезть в дверь, как ни старались. Поздравили девочек со двора с новосельем и ушли. А мама, маленькая, худенькая, осталась было с ними жить, всё расставила, всё прибрала, вытерла Василию Ивановичу нос, сняла с волос малиновую ленту и повязала её кошке, ради новоселья, вокруг шеи и только собралась с ними стряпать, как её позвали в белый дом… Ушла, как её ни просили остаться.
– Нельзя, – говорит, – червячки. У вас свой дом, у меня свой, – как же дом без хозяйки останется? До свиданья!
Так и ушла.
– А кто же у нас будет хозяйкой? – спросила Тася.
– Я, – сказала Лиля.
– А я?
– И ты тоже.
– А Василий Иванович?
– Наш сын.
– А кошка?
– Судомойка.
– Мняу! Скажите пожалуйста! – обиделась кошка. – Почему судомойка?
– Потому что тарелки лижешь, – захрипела старая Арапка, хлопая, как деревяшкой, хвостом по полу.
– А ты не лижешь?
– Лижу, да не твои.
– Эй, вы, не ссориться. – Тася топнула башмачком, взяла ведёрко и пошла к реке за водою.
Возле дома на траву поставили кухню, собрали щепок, растопили плиту, перемыли в ведёрке морковку, нарезали и поставили вариться, а сами опять в дом.
Только уселись и затворили дверцы – слышат из белого дома кто-то спешит, задыхается.
– Молчать, сидеть тихо! – скомандовала Лиля.
Тася посмотрела в щёлку и уткнулась губами в Василия Ивановича: смешно, хоть на пол садись, а рассмеяться нельзя.
А за дверцами стоял важный человек: брат Витя, – приготовишка, в длинных штанишках, – с девочками играть не любил, – стоял и смотрел.
– Отворить? – шепнула Тася.
– Пусть просит.
– Эй, вы! – раздалось за дверью.
Ни гу-гу.
– Да пустите же, курицы!
– Пустить? – опять шепнула Тася.
– Слушай, – Лиля подбежала к двери и взялась за крючок, – мы тебя пустим жить, только, только…
– Что только?
– Что ты нам принесёшь в дом?
– Жареного таракана.
– Кушай сам! Нет, – ты всерьёз скажи…
– А вот, а вот… я вам… выкрашу крышу!
Трах! Крючок слетел, и дверь чуть сама не спрыгнула с петель, дом так и закачался.
– Выкрасишь крышу?!
– Могу!
– В зелёную краску?!
– Могу и в зелёную.
Витя был большой мастер. Через полчаса крыша была зелёная, как лягушка, и Витины руки были зелёные, и кошкин хвост был зелёный (зачем суётся?), и даже на Тасин башмак капнула зелёная краска.
Вода в кастрюльке закипела. Вытащили морковку, разрезали на кусочки, разложили на тарелочки и дали всем – и Василию Ивановичу, и Арапке, и кошке.
А когда пообедали, опять заперли дверь на крючок, тесно-тесно уселись на лавочке и давай петь:
Наш дом! Наш дом!
С окном!
С крыльцом!
Наш дом! Наш дом!
С потолком!
С крючком!..
Замечательная песня.
Целый день не вылезали из домика, и когда позвали их обедать в большой дом, так и не пошли, заставили всё принести к себе в домик.
Так и просидели до вечера. Ночевать в домике им не позволили, да и холодно, – пришлось идти всей компанией в белый дом, в свою детскую. Ах, как не хотелось!
Ушли. Луна вылезла из-за речки. В домике стало пусто и тихо. Совсем тихо. Кошка проводила детей и вернулась.
Обошла домик кругом, – дверь на задвижке. Какая досада!
Там за лавочку во время обеда завалился кусочек котлеты, завтра прозеваешь – Арапка съест. Она на это мастерица!
Сидит кошка, зевает: идти в сарай на стружки спать или здесь перед дверью клубком свернуться?
И вдруг прислушалась – шуршит что-то в домике, шуршит да шуршит. Забежала с другой стороны, ухватилась когтями за окно, смотрит: сидит на столике за стеклом мышь и ест кошкину котлету, лапками так и перебирает.
– Ах ты, разбойница!
Рассердилась кошка, даже зубами заскрипела. А мышь увидела её, смеётся, хвостиком машет, дразнит, – за стеклом не страшно.
Свалилась кошка на траву, посидела, подумала и пошла к дверям.
– Тут и лягу… Утром Лиля и Тася двери откроют – покажу я тебе, как чужие котлеты есть!..
Не знала она, глупая, что в углу, когда плотник Данила пол сбивал, один сучок из доски выскочил: много ли мышке надо, чтобы уйти?…
‹1917›
‹1918›
Невероятная история
Знаете ли вы, что такое «приготовишка»? Когда-то до войны так называли в России мальчуганов, обучавшихся в гимназиях в приготовительном классе.
Мужчина этак лет восьми, румяный, с весёлыми торчащими ушами. В гимназию шагал он не прямо по тротуару, как все люди, а как-то зигзагами, словно норвежский конькобежец. За спиной висел чудовищный ранец из волосатой и пегой коровьей шкуры. В ранце тарахтели пенал, горсть грецких орехов, литой чёрный мяч, арифметика и Закон Божий. В руке – надкусанное яблоко. Полы светло-мышиной шинели, подбитые стёганой ватой, отворачивались на ходу, как свиные уши. Шапка тёмно-синяя, с белыми кантами, заломлена по бокам пирожком, а герб в подражание второклассникам согнут в трубочку: не как-нибудь! На ногах – броненосцы: огромные резиновые ботики, на которые лаяли все встречные собаки.
Вот, собственно говоря, что такое «приготовишка».
Учёности его я касаться не буду, потому что сам затруднился бы вам теперь ответить, «что делает предмет», какая разница между множимым и множителем и как назывались несимпатичные братья Иосифа, продавшие его в Египет.
* * *
В Москве на Сивцевом Вражке жил у пухленькой баловницы-тётки один такой приготовишка, Васенька Горбачёв. И была у него мечта. Не какая-нибудь вычитанная из «Тысячи и одной ночи» мечта, а самая простая и доступная. Васенька видал как-то в цирке у Дурова дрессированного зайца, который зубами, по желанию публики, вытаскивал карту любой части света, катался на маленьком заячьем велосипеде и, скосив глаза вбок, отдавал честь старой легавой собаке.
Штуки не бог весть какие… Мальчик решил скопить денег, купить простого деревенского зайца и обучить его тайком в ванной комнате совсем другой вещи: четырём арифметическим действиям и таблице умножения.
Счёт, раз заяц говорить не умеет, можно ведь отбивать лапкой…
Вот будет сюрприз! Во всех газетах появится Васин портрет с зайцем, директор гимназии объявит ему перед всем классом благодарность и напишет тёте письмо, что племянник её, Василий Горбачёв, затмит когда-нибудь самого Ломоносова.
От каждого завтрака, – а давала ему тётка каждое утро гривенник, – экономил он по три копейки и, когда накопил рубль медью, обменял его в мелочной лавочке на серебряный. Зажал рубль в ладонь и в первый же свободный день пошёл в ботиках, весело насвистывая, на Трубную площадь, где продавали в клетках и прямо с рук всякое зверьё и птицу.
* * *
Чудесно было на Трубной площади! Небо синенькое, весеннее, под галошами вкусно чмокала, налитая водой, слякоть, у обочины тротуара искрился и лопотал ручей, словно он не по людной Москве бежал, а по деревенской околице. На окне в портерной – бутылки играли на солнце ярче аптечных шаров. А народу на площади – муравейник. И всё можно достать, чего пожелаешь: конопляное семя, кормушки для птиц, муравьиные яйца в пакетиках – фунтиками.
В ивовых клетках копошилась живая тварь: дымчато-голубые горлинки, выпятив грудку, ворковали под столами и нежно друг дружку подталкивали клювами, надувались толстые чёрные куры-испанки в лохматых штаниках, нарядный карликовый петушок со своей белой курочкой, словно игрушечные, смотрели на толпу стеклянными глазками. Иволги, сойки, чижи… Белка свернулась в рыжий пушок и спит, – надоело ей вдоль клетки прыгать… Мопсы, маленькие, совсем ещё дети, высовывали розовые носы из-за пазухи оборванца… Но зайца – не было. Нигде не было!
Три раза обошёл Васенька площадь, во все лари заглядывал, под все столы: нет зайца.
– Чего покупаете, купец? – хрипло спросил вдруг у приготовишки опухший босяк и зорко посмотрел на серебряный рубль, торчавший из Васиного кулака.
– Зайца…
– Шкурку, что ли?
– Какую шкурку! – Мальчик обиделся. – Живого зайца, как вы не понимаете. Да вот нету. Продали, что ли, всех…
Босяк задумался.
Мальчик решил скопить денег, купить деревенского зайца и обучить его совсем другой вещи…
– Много ли дашь? Я достану.
– А что он стоит? – Васенька и сам не знал, как живых зайцев расценивают: на вес, что ли, или в длину по вершкам.
– Рупь. – Босяк снова покосился на Васин рубль, перевёл глаза на пивную лавку и сплюнул.
– Девяносто пять копеек? – робко спросил Васенька.
Он знал, что надо торговаться. Да на пятак внизу у них в мелочной сразу можно бы зайцу свежей капусты купить.
– Рупь, – хрипло повторил опухший субъект. – Через полчаса приходи сюда, видишь, вон где сбитенщик стоит. Будет тебе заяц.
– Живой?!
– Дохлыми не торгуем.
Васенька радостно щёлкнул языком и побежал, чтоб убить время, к знакомой табачной лавке через улицу. Там в окне давно уже он заприметил серию марок мыса Доброй Надежды. Надо спросить о цене и выменять на двойники.
Целых полчаса! И куда это босяк за зайцем отправился? Нырнул в подворотню, фить – и исчез.
* * *
Не прошло и получаса, – Васенька уже давно на Трубной площади топтался около указанного места. От нетерпения даже минутную стрелку на своих чёрных часиках на пять минут вперёд перевёл.
Наконец, видит, идёт босяк, а под мышкой у него какое-то серое чудовище лапами дёргает.
Заяц!..
Босяк нос об зайца вытер, дух перевёл и заторопил:
– На! Давай рубль! Еле раздобыл… Тащи, тащи живей, чего глаза расстегнул? Под зад поддерживай, башку под локоть зажми, а то даст стрекача – пропал твой рупь ни за копейку…
Сказал, заржал на ходу, картуз козырьком назад передвинул и скрылся, – только дверь в пивной хлопнула.
Понёс мальчик своего драгоценного зайца домой, хоть и не легко нести, сам так весь улыбкой и расцвёл. На трамвай денег нет, да и не пустят с зайцем.
– Сиди смирно! Ишь тяжёлый какой, словно утюгов наелся.
А заяц не унимается, лапами, как пожарный насос работает, так и рвётся прочь из-под мышки, точно его казанским мылом намылили.
И вдруг…
* * *
Тётя Варя в ужас пришла. Приплёлся её любимый Васенька домой, плачет – рыдает захлёбывается, по всей мордашке слёзы рукавом размазаны, а в руках дрянная заячья шкурка.
– Что с тобой, Василёк?! Кто тебя обидел?! Что за шкурка такая?…
– Мо-шен-ник меня обмо-шен-ни-чал! Я у него на Трубной зай-ца купил… Ду-мал тебе сюрприз устроить, обучить зайца таб-ли-це умножения. А босяк, тётечка, взял рубль…
– Ну?!
– Сунул мне зайца… Я несу, а он барахтается. И вдруг… он шкурку свою рас-по-рол… и из шкурки живая кошка вылезла… и убежала!
– Как кошка?!
– Ну, как ты не понимаешь! Босяк кошку во дворе сцапал, наскоро в заячью шкурку зашил… и мне продал… Народ кругом хохочет! Я сначала испугался, потом растерялся, а потом плакать стал… Досадно ведь, тётечка! Что я теперь делать буду?!
– Не плачь, Василёк…
Тётка племянника по стриженой головке гладит, а самой и жалко его, и смешно.
– Не плачь! Я с тобой сама пойду, настоящего живого зайца купим. Обучим его хоть геометрии, ты у меня мальчик учёный, авось выучишь. А плакать не надо. Что это в самом деле? Мужчина – и плачет.
– Купишь, тётя?! В самом деле?… Побожись, что купишь!
– Божиться грешно… Тётке и так верить надо. А вот ты поди умойся, ишь целое озеро по лицу размазал. Да приходи чай пить с малиновым вареньем. Хорошо?
Побежал Васенька по коридору, ногами взбрыкивает, куда и горе девалось.
А тётка за спицы свои взялась: Васеньке чулки надвязывать. Вяжет и ворчит:
– Вот, прости господи, какие мошенники окаянные по Москве пошли… Кошку в заячий мех среди бела дня зашивают, дитя обманывают. Тьфу!
‹1925›
Голубиные башмаки
Было это в Одессе, в далёкие дни моего детства.
Младший брат мой Володя, несмотря на свои шесть с половиной лет, был необычайно серьёзный мальчик.
По целым дням он всё что-то такое мастерил, изобретал, придумывал.
Пальцы у него были всегда липкие, курточка в бурых кляксах, от волос пахло нафталином, а в карманах от мелкой дроби до сломанного пробочника можно было найти такие вещи, какие ни у одного старьёвщика не разыщешь.
Даже искусственный глаз нашёл где-то на улице и никогда с ним не расставался: натирал его о штанишки и всё пробовал, какие предметы будут к глазу притягиваться.
Изобретает – и всё, бывало, что-нибудь жуёт в это время: хлеб с повидлом, резинку либо копчёную колбасную верёвочку.
Кто знает, может быть, Эдисон тоже, когда был мальчиком и производил свои первые опыты, жевал жвачку, чтобы облегчить сложную работу своих мозгов.
К несчастью для себя, Володя изобретал всё такие вещи, которые до него давно уже были изобретены и всем надоели.
То делал из серы, зубного порошка и вазелина непромокаемый порох.
То приготовлял из ягод шелковичного дерева чернила: давил ягоды в чашке, встряхивал, переливал сок в пузырёк, перемазывал нос, обои и руки до самых локтей.
А потом приходила бабушка, шелковичные чернила выливала в раковину, щёлкала Володю медным напёрстком по голове и брюзжала: «Это не мальчик, а химический завод какой-то! Готовые чернила стоят в лавочке три копейки, а ты знаешь, сколько новые обои стоят?… Шмаровоз![1]1
Шмаровоз – человек, развозивший дёготь (шмару). Шмара – так назывался дёготь на малороссийском наречии (преимущественно в южных и юго-западных регионах России). – Примеч. ред.
[Закрыть]
»
Володя не обижался, к напёрстку он привык, а «шмаровоз» даже и не ругательство, а так, чепуха какая-то.
Уходил в кухню, выедал там из сырых вареников вишни и вырезал на пробках, приготовленных для укупорки кваса, печатные буквы. Точно книгопечатание не было и без него изобретено.
Особенно любил он совершенствовать разные ловушки.
То в мышеловку привязывал на проволоке сразу три приманки, чтоб по три мыши оптом ловить – для экономии.
Но проволочка зажимала защёлку, мыши приходили, наедались и до того полнели, что даже щель в углу под комодом пришлось им прогрызть пошире: не влезали.
То липкую бумагу для мух смазывал мёдом и до того густо посыпал сахарным песком, что мухи паслись-паслись, а потом безнаказанно выбирались через все липкие места по сахарным крупинкам на свободу и на всех зеркалах и стёклах клейкие следы оставляли.
А больше всего, помню, возился он с силками для голубей.
Обыкновенные силки дело не хитрое: мальчишки, перебегая через улицу, вырывали из лошадиных хвостов волосы, надо было только не попадаться на глаза ломовым – «биндюжникам», а то и собственных волос лишишься; потом они плели леску, делали петли – вправо и влево поочерёдно, прикрепляли силки к колышку и засыпали зерном… Голубь ходит, урчит, разгребает лапками зёрна, пока ножку в петле не завязит. Вот и вся штука.
Приготовлял из ягод шелковичного дерева чернила…
Но Володе этого было мало.
От каждой петли он ещё проводил с нашего дворика к своему окошку нитку.
И привязывал каждую нитку к колокольчику на гибкой камышинке над столом.
Чтобы, пока он у стола другим делом занят (мастерит сургуч из стеарина и бабушкиной пудры), каждый попавшийся голубь ему со двора сигнализацию подавал.
Конечно, и голуби, и соседний петух, и даже мелкие нахалы-воробьи всё зерно съедали, а колокольчики хоть и звонили, да впустую: все петли, благодаря Володиному усовершенствованию, вместо того чтобы стягиваться, только растягивались.
Так у нас немало провизии тогда зря пропадало – на мышей, да на мух, да на птичье угощение.
А если посчитать, сколько сам Володя во время своих опытов глотал: то повидло, то гусиных шкварок, то, право, можно было на эти деньги не то что голубя, живого страуса из Африки выписать.
* * *
Однажды утром, когда дед собрался в гавань в свой угольный склад по делам, Володя пристал, чтобы дед и его с собой взял.
Слыхал он от приказчика, что там, на угольном складе, тьма голубей: слетаются лошадиный корм клевать, пока телеги углём грузят.
Дед согласился: что ты поделаешь, когда упрямый мальчик по пятам за тобой ходит из спальни в столовую, из столовой в переднюю и всё клянчит…
Надел Володя новые жёлтые башмаки, захватил с собой силки и обещал к вечеру весь чердак голубями заселить.
А я остался дома, потому что, когда в первый раз сказки Андерсена читаешь, никакая гавань, никакие голуби на свете тебя не соблазнят.
Часа через три я очнулся: на кухне с треском хлопнула о пол тарелка, и кухарка с таким изумлением вскрикнула «ах ты, боже мой!», точно крыса в котёл с супом вскочила.
Прибежала бабушка и тоже ахнула: на пороге кухни стоял с носками в руке, широко расставив босые ноги, голубиный охотник…
Стоял перед бабушкой, как раскаявшийся беглый каторжник, и тихо ревел, утирая носком неудержимо катившиеся по пухлым щекам слёзы.
– Где башмаки?!
– Жу… Жулик унёс…
– Какой жулик?! Кто посмеет в Одессе с живого мальчика башмаки снимать? Чучело ты несчастное!
– Я не чу-че-ло… Я сам… снял… За что ты меня мучаешь?
И стал реветь всё громче и громче. Так громко, что ни одного слова нельзя было разобрать.
Только пузыри изо рта выскакивали.
А потом, когда немного успокоился, вспомнил, что у него есть самолюбие, упёрся – и ни одного слова больше ни бабушка, ни кухарка из него не вытянули.
Тогда я увёл его в детскую, угостил финиками, которыми я в то утро чтение андерсеновских страниц подсахаривал, и упросил по дружбе рассказать, что такое случилось с ним в гавани.
Володя разжал второй кулак, положил в карман кусок канифоли, взял с меня слово, что я не буду над ним смеяться, и всё мне рассказал.
* * *
Голубей на угольном складе не оказалось.
Приказчик Миша объяснил Володе, что «биндюжники» только после обеда приедут, а пока все голуби в гавань улетели подбирать пшеницу, которую на заграничный пароход грузили.
Дедушка ушёл в свою контору.
Володя повертелся и решил, что такого случая упускать не следует: гавань в двух шагах, когда ещё сюда попадёшь?
Скользнул за ворота, прошёл под эстакадой, и действительно – голубей на набережной туча…
Прямо живая перина на камнях шевелилась!
Отошёл он в сторонку, выбрал среди груды ящиков укромное местечко и пристроил свои снасти. Засыпал их сплошь пшеницей, притаился за ящиком и застыл.
А голуби по краям пшеничной дорожки ходят, лениво лапками разгребают, никакого им дела до Володиной ловушки нет. Вся набережная в зёрнах, ешь не хочу…
Володя ждал-ждал… Грузчики стали на обед расходиться.
Совсем он разочаровался, хотел было и силки свои смотать. Видит, стоит в стороне симпатичный босяк и на него смотрит.
Подошёл поближе, сел наземь, взрезал арбуз и ломтик Володе дал.
А потом разговорился, посмотрел на Володины силки и засвистал. Кто же так голубей ловит? Это способ устарелый!..
Конечно, Володя зашевелился – какие такие ещё способы есть? Босяк подумал, спросил брата, один ли он тут.
Узнал, что дедушка в конторе за эстакадой, и свой секрет Володе с глазу на глаз открыл: надо в небольшие детские башмаки, лучше всего в жёлтые – этот цвет голуби обожают, – насыпать зерна. Голубь в башмак голову сунет и наестся до того, что зоб у него колбасой распухнет, так в башмаке и застрянет.
Тут его и бери голыми руками. Хочешь, говорит, попробуем… Твои башмаки в самый раз подходящие.
Володя разулся, доверчив он был, как божья коровка, да и новый способ заинтересовал.
Босяк сунул башмаки под мышку, хлопнул по ним ладонью и ушёл за ящик, приказав брату сидеть тихо-тихо, пока он ему не свистнет…
Он так и просидел с полчаса. А потом ноги затекли, и стали его чёрные мысли мучить.
Вскочил он, бросился за ящик.
Туда-сюда: ни босяка, ни башмаков. Только голуби под ногами переваливаются-урчат… Возьми голой рукой.
И вот так, всхлипывая, – к дедушке в склад он и носа показать не решился, – босой, через весь город, с носками в руке, добрался он домой на Греческую улицу…
Помню очень хорошо: прослушал я Володин рассказ серьёзно-пресерьёзно, ведь дал слово…
Но когда он под конец стал свои босые пальцы рассматривать и опять захныкал, я не выдержал: убежал в переднюю, сунул нос в дедушкино пальто и до того хохотал, что у меня пуговица на курточке отскочила.
За обедом я на бедного Володю и глаз не поднимал. Вспомню, что голуби «жёлтый цвет обожают», так суп у меня в горле и заклокочет… Бабушка, помню, даже обиделась:
– Был в доме один сумасшедший, а теперь и второй завёлся. Поди-поди из-за стола, если не умеешь сидеть прилично!
Обрадовался я страшно, выскочил пулей и весь порог супом забрызгал.
Потому что, когда тебя смех на части разрывает, в такую минуту и капли супа не проглотишь.
‹Не позже 1932›
рических лиц и современников Салтыкова вкраплены в сатирическое повествование» (5, с. 629).
Т.Г. Петрова
2017.03.030. ЖИРКОВА М.А. «НЕСЕРЬЁЗНЫЕ РАССКАЗЫ» САШИ ЧЁРНОГО: Учеб пособие. — М.: ФЛИНТА: Наука, 2015. -160 с.
Ключевые слова: эмиграция; Саша Чёрный; рассказ; жанровое своеобразие; образ; мотив.
В книге представлен творческий путь Саши Чёрного (Александр Михайлович Гликберг, 1880-1932) в эмиграции. М.А. Жир-кова (Ленингр. гос. ун-т им. А.С. Пушкина) рассматривает единственный сборник прозы писателя «Несерьезные рассказы», вышедший в Париже в 1928 г.: жанровое своеобразие, литературные прообразы, гоголевские мотивы, стилистические и жанровые особенности, детские образы в рассказах.
Творчество Саши Чёрного условно можно разделить на два периода: ранний, преимущественно сатирический — 1914-1918 гг. и эмигрантский — 1920-1932 гг. В 1918 г. он вместе с женой бежит из Пскова в Литву, где более года живет на хуторе недалеко от Вильно. Затем переезжает в Ковно (Каунас), и в 1920 г., получив визу в Германию, покидает родину навсегда. В Германии Саша Чёрный прожил около трех лет, а затем перебрался сначала в Италию (Рим), и с марта 1924 г. во Францию (Париж). Литовские впечатления вошли позднее в новую, третью книгу стихов «Жажда» (1923), опубликованную в Берлине. Там же были написаны стихи для детей, вошедшие в книгу «Детский остров» (1921).
В эмиграции творчество поэта развивается по трем направлениям. Поэзия — переиздание старых сборников с доработкой, появляются и новые стихотворения в традиционном сатирическом ключе, и собственно лирика; создаются крупные формы (поэмы), но поэзия постепенно уходит на второй план. Проза начинает все больше доминировать над поэзией, хотя этот переход от поэзии к прозе произошел еще в 1910-е годы, после ухода из «Сатирикона». Основными темами прозы теперь становятся общие для русских писателей в эмиграции — тема оставленной России, воспоминания о прошлой жизни и эмигрантский быт, неустроенность которого
преодолевается через иронию и юмор. Еще одно направление — поэзия и проза для детей. Дон-Аминадо в своих воспоминаниях писал о Саше Чёрном: «Но сам автор отходил от сатиры все больше и больше. Тянуло его к зеленым лугам, к детям, к простым и вечным сияниям еще не постигших, не прозревших, невинно открытых миру сердец и глаз, ко всему, что он так удачно и без вычуров и изысков назвал «Детским островом»»1. Мир поэзии Саши Чёрного дет-скоцентричен. Детский остров живет жизнью ребенка, тем, что его интересует, что определяет его жизнь, его проблемами, заботами, радостью и увлечениями. «Поэтический и одухотворенный образ ребенка, увлеченного игрой, оказывается в центре детской поэзии Саши Чёрного» (с. 16). Ребенок на детском острове безмерно счастлив, там царят идиллия и гармония.
Единственный сборник прозы А. Чёрного «Несерьезные рассказы» вышел в 1928 г. в Париже без указания издательства. Он состоит из семнадцати рассказов, написанных в 1925-1928 гг. и опубликованных ранее в различных периодических изданиях, в основном в «Иллюстрированной России», газетах «Последние новости» и «Русская газета». В «Последних новостях» публикуются и «Солдатские сказки», которые вышли отдельной книгой в 1933 г. уже после смерти писателя.
Сборник «Несерьезные рассказы» оптимистичен, в самих рассказах происходит преодоление горечи и тоски по оставленной Родине и прошлой жизни. В книге «преобладают мягкость и лиризм, ирония и сочувствие, улыбка и смех, а не сатира и сарказм, знакомые по раннему творчеству писателя» (с. 31). Еще одна важная черта сборника — книге присущ «автобиографический и мемуарный элемент, потому что вложено много личного: собственных переживаний и ощущений; отражены реалии эмигрантской жизни», несмотря на то что книга не является автобиографической (там же).
Действие почти всех рассказов сборника связано с эмиграцией, при этом пространственные границы достаточно конкретны: это Франция (Париж, Тулон, Прованс). Элемент литературной игры, полагает М.А. Жиркова, заложен и в самой их жанровой форме. Название сборника настраивает читателя на восприятие эпических произведений, но читательское ожидание не оправдывается: так,
1 Дон-Аминадо. Поезд на третьем пути. — М.: Вагриус, 2006. — С. 274.
первое произведение, открывающее книгу, — драматическая сценка, а последнее представлено в эпистолярной форме: «Письмо из Берлина». В сборнике встречаются различные жанровые формы: драматическая, мемуарная, эпистолярная, очерк, анекдот, стихотворение в прозе. Рассказы в сборнике подчинены определенной логической последовательности развития основной темы: жизнь русского человека в эмиграции. «Третейский суд», открывающий «Несерьезные рассказы», задает эту тему русского человека в эмиграции, неустройства быта и неудовлетворенностью жизнью, переплетающихся с тоской по оставленной родине, прошлой жизни, которая теперь начинает окрашиваться теплыми красками воспоминаний. Внимание писателя сосредоточено на мелких бытовых подробностях, описаниях условий жизни как в настоящем, так и в прошлом, в России. «Быт, который раньше воспринимался как объект насмешки, а устроенный быт как синоним мещанства, теперь переосмысливается», а воспоминания о прошлой жизни в России расцвечиваются бытовыми подробностями, рассказы «пронизаны звуками, цветом, запахом, переданы вкусовые ощущения» (с. 44).
Большинство рассказов напрямую связаны с эмиграцией, но действие некоторых из них, благодаря воспоминаниям героев об оставленной родине, о доэмигрантской жизни, переносится в Россию. В своих воспоминаниях они преодолевают пространственно-временные границы, оказываясь в далеком и дорогом для них прошлом: рассказы «Московский случай», «Самое страшное», «Экономика», «Сырная пасха». Исключение составляют рассказы «Диспут» и «Замиритель», действие которых происходит во время Первой мировой войны. События этих рассказов «выпадают из пространственно-временного единства сборника в целом», но при этом «соответствуют принципам изображения, заданным названием и реализуемым в других рассказах» (с. 42). М.А. Жиркова замечает, что, разрывая тематическое единство, на новом повороте эмигрантская тема предстает каждый раз в несколько измененном виде.
«Московский случай» — это рассказ о любви, составляющей содержание и смысл человеческой жизни, любви, способной сделать простого обывателя поэтом. В центре рассказа жизнь героя в прошлом, картины его петербургской, провинциальной и московской жизни, история его любви. Настоящее лишь обозначено в по-
следнем эпизоде рассказа. Сжато и скупо упоминает герой о своих мытарствах в эмиграции. Существование там восприниматся лишь как временное жизненное пространство, а ностальгия живет глубоко в человеческом сердце, и душевный покой и гармонию можно обрести, только вернувшись домой — на родину. Все оказывается незначительным, поскольку главное для героя — обретенная судьба. Дом для него там, где рядом с ним его семья. Любовь и гармония человеческих отношений спасают во всех жизненных перипетиях.
М.А. Жиркова обращает внимание на особенности комизма сборника, который связан, «во-первых, с характером людей, настолько сосредоточенных на своих проблемах, воспоминаниях или мечтах, что они даже не замечают комическую сторону происходящего; во-вторых, с ситуациями, в которые попадают герои рассказов Саши Чёрного; в-третьих, с образами детей, забавными в своих рассуждениях и поведении» (с. 46).
Книгу завершает библиография работ, посвященных жизни и творчеству писателя.
Т.Г. Петрова
Зарубежная литература
2017.03.031. КРИНГС М. «НЕВОЗМОЖНО ИЗМЕРИТЬ, НАСКОЛЬКО ВЫСОКО ВВЕРХ УСТРЕМЛЯЛОСЬ ЗДАНИЕ»: «НОВЫЙ ИУДАИЗМ» И АРХИТЕКТУРА В «АМЕРИКЕ» Ф. КАФКИ. KRINGS M. «Man konnte gar nicht bemessen, wie weit das Haus in die Höhe reichte». «Neues Judentum» und Architektur in Kafkas Verschollenem II Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. — Stuttgart: Metzler, 2016. — Jg. 90, H. 2. — S. 271299.
Ключевые слова: немецкая литература ХХ в.; австрийская литература ХХ в.; Франц Кафка; роман «Америка»; иудаизм в литературе; архитектура в литературе.
Марсель Крингс из Университета г. Гейдельберга исследует значение и роль архитектуры в романе Франца Кафки «Америка» и вскрывает непосредственную ее связь с религиозным измерением текста и намерением писателя найти основы «нового иудаизма» —
Автор книги: Саша Черный
Соавторы: Анатолий Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 38 страниц)
Черный Саша. Рассказы для больших
Саша Черный (фото 1930-х гг.)
АХ, ЗАЧЕМ НЕТ ЧЕХОВА НА СВЕТЕ!
ПРОЗА САШИ ЧЕРНОГО
В начале 1911 года Саша Черный неожиданно распрощался с «Сатириконом». Ушел из журнала без всяких объяснений и видимых причин. Естественно, на этот счет строились разные предположения. Одно из них высказано много лет спустя художником-сатириконцем А. А. Радаковым. Дескать, Саша Черный «думал, что он величайший прозаик. Стихи это так, ерунда, между прочим. А я, – продолжает Радаков, – помню, читал его большой рассказ – очень слабо». Кроме раздражения коллеги по сатирическому цеху, осудившего поэта за то, что тот занялся не свойственным ему делом, в этом отзыве обозначилась и позиция самого Саши Черного, видимо отстаивавшего серьезность и важность своего перехода на прозу.
Скорее всего речь шла о рассказе «Люди летом», появившемся на исходе 1910 года в солидном журнале «Современный мир». Контраст между ним и «Сатириконом» и впрямь разителен. На страницах сатирического еженедельника царила атмосфера веселья, импровизации, розыгрыша; в «толстом» журнале, напротив, все было чинно, пристойно и… скучновато. Невольно возникает в памяти убийственная чеховская фраза: «Мороз крепчал…» – своего рода пародийная квинтэссенция бездарной и умозрительной писанины, в изобилии заполнявшей литературно-художественные ежемесячники. Непонятно, что могло привлечь туда Сашу Черного – с его парадоксальным талантом, бунтарским нравом и жаждой непроторенных путей в литературе.
Как что? Именно эти еретические качества и подталкивали поэта к поиску и открытию новых горизонтов творчества. И еще Чехов – ближайший из классиков, почти современник. Разминулись они совсем немного: сообщение о кончине А. П. Чехова появилось в «Волынском вестнике», где только-только дебютировал в печати Саша Черный. Через несколько лет, будучи уже в зените своей сатириконской славы, поэт напишет:
Ты один, тревожно-мудрый Чехов,
С каждым днем нам ближе, чем вчера.
И это были не просто слова к юбилею, дань памяти. Без этого имени в разговоре о Саше Черном – поэте ли, прозаике – не обойтись. Ибо главная тема «Сатир» – нравственная поврежденность души, разлад реальной жизни интеллигенции с ее порывами к справедливости, свету и красоте – была введена в отечественную словесность никем иным, как автором «Трех сестер» и «Хмурых людей». Видимо, и первый беллетристический опыт Саши Черного возник не без влияния Чехова. Явно ощутим способ его писательского мышления, сформулированный, в частности, в тезисе: «Сюжет должен быть нов, а фабула может отсутствовать».
Что касается фабулы, то какая-либо интрига в рассказе Саши Черного, действительно, начисто отсутствует. На протяжении всего повествования ничего существенного не происходит, никаких коллизий не завязывается. Зато сюжет воистину нов. Автор как бы задался целью поставить эксперимент, поместив в замкнутое пространство несколько случайных «попутчиков по даче». Это лаборант, художник, докторша, учительница, курсистка. Впрочем, их функциональная сущность не важна и используется лишь для обозначения действующих лиц.
Минутку! Ведь все это – и ситуация, и набор почти тех же персонажей – было уже в стихотворении «Мухи»:
На дачной скрипучей веранде
Весь вечер царит оживленье.
К глазастой художнице Ванде
Случайно сползлись в воскресенье
Провизор, курсистка, певица,
Писатель, дантист и девица.
Каждый образ – саркастическое, шаржированное воплощение пошлости так называемого образованного общества. Любая реплика, любое действие вызывают у автора лишь негативные эмоции.
Было бы, однако, заблуждением думать, что рассказ «Люди летом» представляет собой многословное, растянутое переложение в прозе данного стихотворения. Вовсе нет. При сопоставлении двух этих произведений становится ясным принципиальное различие между поэтом Сашей Черным и прозаиком. Повествовательный жанр позволял освободиться от фрагментарности, от предвзятости и односторонности в освещении героев и, следовательно, приблизиться к опосредствованному, более объективному и глубокому постижению сущности современников.
Хорошие они или плохие? Сразу и не разберешь. Мешает шелуха политизированности и эстетства, трафаретность отношений и дел, стирающих индивидуальность. Где же выход? В какой-то мере сбросить городские вериги удается во время летнего отдыха, на природе. Исподволь человек сущностный начинает в этой обстановке раскрываться. И это заставляет вернуться к названию рассказа – «Люди летом». Оно кажется неброским, невыразительным. Однако автор неспроста воспользовался обобщенной категорией «люди». И недаром объект удален из привычных условий, рассмотрен в определенном ракурсе – «летом».
Уже само заглавие свидетельствует о философской постановке проблемы, об аналитичности подхода писателя.
«Люди и положения» – так можно в обобщенном виде обозначить содержание рассказа. Пикник на озере, сбор грибов, фотографирование группой и по отдельности, совместные морские купания и другие немудреные развлечения дачников. Обычное летнее времяпровождение. Что связываем этих людей, что между ними общего? Дружба? Но они скорее просто знакомы. Взаимные симпатии и антипатии едва намечены, не переходя в любовные отношения или хотя бы флирт, что могло бы сообщить занимательность сюжету. Но автор, похоже, вовсе не стремится к этому. Он занят рекогносцировкой, фиксацией мимолетных черт бытия: как люди сообща чаевничают, зубрят иностранные фразы, читают банальный дамский роман, к которому в городе и не прикоснулись бы, коротают время, рассказывая анекдоты – это «румяное, навозное творчество казармы и ресторанов», раскладывают пасьянс – так можно до бесконечности. Привычно, знакомо, повседневно…
Однако за кажущимся импрессионизмом повествования (что вижу – о том пишу) кроется строгий отбор, желание разобраться наконец в них, а значит, и в себе как частице интеллигенции. Метод постижения, избранный Сашей Черным, был когда-то сформулирован им самим в строках эпиграммы:
Но расскажи мне: чем, мой друг,
Ты наполняешь свой досуг,
И я тебе открою – кто ты.
И вот в ординарных, каких-то среднестатистических личностях начинает проступать что-то живое, детское, ликующе-мажорное. То, похожие на бандитов, они горланят песню – вернее, нелепые, буйно вырвавшиеся откуда-то изнутри слова. То вприпрыжку, отдуваясь, гоняются за велосипедом, подспудно осознавая: «Это были лучшие часы их жизни. Оба были довольны, страшно довольны, хотя в городе они нередко даже из Мариинского театра возвращались желчные, критикующие, неудовлетворенные».
Но моменты веселья, радости, единения кратки. За ними – периоды отчуждения, тоски, томления духа, самоедства, угрызений совести. Иногда начинают смертельно ненавидеть друг друга, и тогда каждый уединяется в купальную будку: смотреть на море и думать. Правда, на природе «зимние» комплексы смягчены. Летом люди добрее, лучше, что вселяет некоторую надежду, но не дает окончательного ответа, каковы они по своей сути. И в этом Саша Черный следовал заветам Чехова, который требовал от писателя правильной постановки вопроса, но не решения.
Вообще, «Люди летом» – это попытка коллективного портрета, своего рода срез общества, к которому принадлежал сам писатель. Можно сказать, что Саша Черный-прозаик решал, в сущности, ту же задачу, что и поэт, автор книги стихов «Сатиры», где стиховая множественность, объединенная в циклы, призвана отобразить вкупе его взгляд на мир или, конкретнее, – на современную интеллигенцию. Но мозаичность этого портрета, по-видимому, не совсем удовлетворяла художника. Тяга к целостности заставила его обратиться к иным изобразительным средствам. И в этом смысле прозу Саши Черного можно считать прозой поэта. Вовсе не значит, однако, что она требует к себе особого подхода и снисходительности. Как прозаик Саша Черный уже в первом произведении предстал сложившимся мастером, владеющим секретами опосредствованной характеристики персонажей – через прямую речь. Голос автора не является доминирующим: то и дело он передает это право – право рассказа и право в и дения – действующим лицам и даже животным. При этом органично вплетены в художественный текст и «поток сознания», и внутренний диалог – новаторские для того времени приемы.
Обращение к прозе объясняется, вероятно, еще и тем, что Саша Черный с годами стал тяготиться репутацией сатирика. Душа его была не утолена отрицанием, искала утверждающего начала. Им как будто был услышан чеховский совет, высказанный одному из коллег-писателей: «Будьте объективны, взгляните на все оком доброго человека, то есть Вашим собственным оком, – и засядьте писать повесть или пьесу из русской жизни, не критику на русскую жизнь, а радостную песнь Щегла по поводу русской жизни, да и вообще нашей жизни, которая дается только один раз и тратить которую на обличение шмулей, ядовитых жен и комитета, право, нет расчета».
В середине 1913 года в хронике новостей литературного мира промелькнуло сообщение, что Саша Черный «пишет повесть из быта молодой русской интеллигенции». Сейчас трудно сказать, имелся ли действительно такой замысел, который так и не был реализован, или подразумевался рассказ «Мирцль», появившийся в печати годом позднее. Это немного сентиментальная, чуточку грустная, чуточку смешная история влюбленности русского студента, проходящего курс наук в Гейдельберге, и простой немецкой девушки, певички из ресторана. В «Мирцли» весьма силен личный элемент, лирическое, одухотворенное начало, ведущее извечный спор с прозой и скверной жизни, с прагматичным и циничным взглядом на любовь.
Но прежде было еще одно значительное произведение Саши Черного в прозе – «Первое знакомство». Своей тематикой оно сродни тенденции, подмеченной критикой: «За последние годы наша литература уделяет серьезное внимание „полям“. Сергеев-Ценский пишет „Печаль полей“, Горький – „Исповедь“ и „Лето“. Бунин – „Деревню“ – все ищут пути там, в глубине России, среди беспредельных полей, и у читателей повысился интерес к деревне» (Современный мир. Спб., 1910. № 9, с. 170).
Творчество Саши Черного нельзя рассматривать в отрыве от литературной жизни эпохи. И потому уместно будет назвать тел собратьев по перу, в ком он в пору душевной смуты и творческих исканий пытался найти опору. Заметим: среди них нет поэтов. Л. Андреев, А. Куприн, М. Горький, И. Бунин – вот чьи лики, словно образа в доме, благоговейно хранил в углах своего внутреннего мира. С каждым из них у Саши Черного была своя степень близости, свои собеседования.
Меньше всего известно о дружбе его с Леонидом Андреевым – «трагиком по самому своему существу», стихийной, больной совестью России, ненавидевшим «безумия и ужасы войны», дурь и мерзости самовластья. Любая беседа с ним, размышления над глобальными проблемами бытия и российской действительности заряжали «поэта-пессимиста» верой в лучшее, что есть в каждом человеке.
Куприн… «Большой, зрячий и сильный», мятущийся и срывающийся, жадно влюбленный во все живое, чувствующий себя своим среди людской пестроты. По-человечески он был наиболее симпатичен и близок Саше Черному. Недаром взаимная приязнь и приглядывание, проявившиеся еще до революции, переросли потом, на чужбине, в прочные, тесные дружеские отношения до конца дней.
Увлечение личностью Горького, начавшееся в 1912 году с личного знакомства на Капри, к 1917 году заметно поостыло, а впоследствии перешло в открытую конфронтацию.
Бунин в этом ряду стоит особняком. Это, если можно так выразиться, была потаенная любовь и обожание издалека. Лишь однажды, в дни 25-летнего юбилея литературной деятельности Бунина Саша Черный решился послать своему кумиру поздравительный экспромт. В ответ было получено долгожданное фото с надписью:
Спасибо за милый привет,
Талантливый «Черный поэт»!
Примите на память портрет.
В судьбе Саши Черного Бунин сыграл огромную роль. Сам, наверное, того не ведая, Бунин послужил художественным и прежде всего этическим ориентиром в творческом обновлении выходца из «Сатирикона». О какой-либо зависимости, стилистическом копировании не может быть и речи. В правильности избранного пути Сашу Черного укрепляло строгое благородство поведения старшего собрата, ярое неприятие им модернистских выкрутасов, непримиримость и максимализм в защите своих убеждений.
Видимо, не без влияния автора «Деревни» в 1911 году Саша Черный избрал местом своего летнего отдыха деревню Кривцово на Орловщине, где и родился рассказ «Первое знакомство», название которого является своего рода ключом к пониманию авторского замысла. Городской интеллигент едва ли не впервые на четвертом десятке лет знакомится въяве и воочию с народом и страной, где он родился и живет. В пейзажных и бытовых картинах, развертывающихся перед его изумленным взором, происходит узнавание отечества, дотоле таимого где-то в генетическом пространстве души. Звуки, запахи, краски, стадо, бредущее в закатном свете солнца… Овечье блеянье… «Почему же с первого взгляда это стало таким же органически ценным и обычным, как… как стихи Пушкина?»
Вопросы, рой вопросов возникает у «человека в воротничке» (вариант – «в шляпе») при непосредственном общении с деревенскими жителями. Эти, исконно русские люди подчас кажутся ему такими же неведомыми и загадочными, как какие-нибудь туземные племена. С трудом находя общий язык, пытается он что-то им растолковать, завоевать их доверие. Пустое. Чаще всего наталкивается на стену непонимания и враждебности. Его кличут «барин», «ваша милость», но тут же он может услышать пьяную матерную брань, неприкрытые насмешки и снисходительные поучения… Его, образованного, не грех обмануть. Что бросается в глаза в первую очередь – это невежество, жадность, озлобленность, недоверие к прогрессу и идиотизм деревенской жизни. И еще, конечно, бедность и беспомощность. Писатель увидел прекрасную землю и на ней полунищих людей. Увы, такова наша быль…
Но это не вся правда. Другая открывалась герою повествования в беседах с крестьянками. Это многотерпение, сдержанность, достоинство простых женщин. Чудо, как хороши исполняемые ими русские песни. Равно как и расшитые розами платки, огненные ’ полотенца, истинную красоту которых сами творцы и исполнители почти не осознают. Далекий как от обличений, так и от идеализации, автор задается вопросом: какой он, народ? И подлинно: «Отчего там, в селе, так часто – подойдешь к человеку, а он прежде слов тебе улыбнется?»
Впрочем, не только сельчане стали объектом внимания писателя. Сам он, тайный соглядатай, попал под многоокое, настороженное наблюдение мужиков, баб, ребячьей мелюзги. И впрямь ощущение такое, словно «ты голый, живешь в каком-то стеклянном аквариуме… Даже не голый, а больше – точно с тебя кожу содрали». Нет более спасительной «культуры», журнальных направлений, диспутов, а есть дачник, занятый чтением и отдыхом, есть чужеродный элемент, неполноценная в чем-то личность. Тьма и боль притаились и дремлют в душе, заглушенные вдали от города единственной неоспоримой и вечной правдой – радостной синевой неба, вольным ветром за плечами, нежным шумом берез…
Что касается художнических принципов Саши Черного, то они остались прежними – чеховскими. Явленные в первом прозаическом произведении, они были подтверждены во всех последующих рассказах. Так, в «Первом знакомстве» тоже нет конфликта – пружины, сообщающей внутреннее движение повествованию. Что, право, за фабула: приезд в деревню, времяпрепровождение и затем отбытие домой? Сюжет же глубоко нетрадиционен, полемичен, что, однако, воспринималось как неумение, как отсутствие оного. И все же сюжет есть, и он, заметим, тот же, что в «Людях летом», а именно – изучение и анализ. Только объект иной. На сей раз это не интеллигентская компания, а те, кого именуют «низовыми слоями». Одновременно размыкается пространство действия: вместо дачного локуса – мир русской деревни. Автор далек от окончательных выводов. Видя «чужое, безголовое, дикое, чего не понять, а поймешь, все равно не поможешь», он оставляет читателя с раздумьями: «Какая странная жизнь. Да и жизнь ли?»
Параллель между книгой стихов «Сатиры» и рассказом «Люди летом» может быть продолжена. В известной мере «Первое знакомство» можно соотнести со второй книгой стихов Саши Черного «Сатиры и лирика». Продираясь сквозь «бурьян зла», поэт стремился выйти к миру гармонии, естественности и любви. В книге стихов зло и благо автор тематически развел по разделам. В рассказе нет такого деления – дурное и хорошее переплетено.
Надо заметить, что Саша Черный, заканчивая рассказ, не ставит точку: повествование продолжается в других сюжетах, с другими персонажами. Но все они, несмотря на тематическое разнообразие, укладываются в лоно умонастроений второй книги стихов Саши Черного. Таков герой рассказа «Друг» – нахрапистая бездарность, выворачивающая напоказ свои «самодовольные, идиотские недра». В нем нашли воплощение наиболее ненавистные поэту категории зла – хамство, пошлость, глупость. Героиня «Храброй женщины», напротив, – личность неординарная, не желающая мириться с шаблоном, скукой, буржуазным благополучием и деловым рационализмом. Правда, ее нелепая, чисто ребяческая фантазия (прогулка кошки на поводке) вызывает разве что улыбку, но в этом поступке-протесте заключена на редкость дорогая и важная Саше Черному идея. И рассказ «Иероглифы» – не рассказ, собственно, а поток воспоминаний, вызванных перелистыванием старых гимназических тетрадей – протест против образовательной системы, коверкавшей детские души, вдалбливавшей в их стриженые головы бесполезные сведения, которые и взрослым не понятнее иероглифов.
Словом, во всех беллетристических произведениях Саши Черного той поры прослеживается определенная целенаправленность, которая неизвестно во что могла вылиться, если бы…
* * *
…Если бы не война, революция, гражданская усобица – исторический катаклизм, переломивший надвое его судьбу и судьбы многих его соотечественников. Вопросы, которые ставил в своем творчестве Саша Черный, разрешились самым неожиданным и катастрофичным образом – гибелью России. То инобытие, которое было построено на обломках старого мира, его душа не могла понять и принять. На долю изгнанников остались, как сказано у Саши Черного, лишь горестные воспоминания и думы: «…несла наша курица в прошлом золотые яйца, курицу зарезали, яйца разбили, пух по ветру гуляет… А кто ее зарезал, до сих пор на диспутах спорят. Может, интеллигенция, а может, и неграмотные».
Около десяти лет новые рассказы Саши Черного не появлялись в печати. Начинать приходилось с нуля – прежние темы и проблемы сметены революционным самумом, потеряли актуальность. Ибо в корне изменившаяся жизненная ситуация требовала нового писательского подхода. К кому мог обратиться Саша Черный за помощью и советом, как не к своему вечному спутнику и наставнику? «О чем писал бы сейчас Чехов, если бы жил вместе с нами в эмиграции?» – такой вопрос возникает в одном из писем поэта начальной поры изгнания. Но и ранее, в «черные, железные годы русской беды», он тоже не забывал о Чехове. Так, в мемуарах генерала П. Н. Краснова есть рассказ о том, как в 1917 году к нему обратился поэт Саша Черный, предложивший организовать библиотеки и чтения для солдат. На вопрос: «Что читать?» – ответил: «Чехова».
По всей видимости, не без чеховского влияния поэт в середине 1920-х годов вновь возвращается к жанру короткого рассказа. Многие писатели эмиграции абстрагировались от горестной реальности, удалялись в исторические глубины. Саша Черный не из их числа. Как и прежде, он предпочитал «скромно вышивать по невзрачной канве действительности». Но не затем, чтобы упиваться трагедией русского бездорожья. Напротив: все его устремления направлены на то, чтобы помочь соотечественникам, поднять дух – шуткой, комичным случаем, озорным и потешным словом. Ведь поэту давно было ведомо, что «от боли лекарство – смех».
Худо только, что, по его собственному признанию, «в быту нашем эмигрантском веселых историй с воробьиный клюв не наберешь». Однако уже к 1928 году Саша Черный смог их набрать на целую книгу, назвав ее «Несерьезные рассказы» (не перекличка ли это с «Пестрыми рассказами»?). Эпиграфом к ней взята пословица: «Посильна беда со смехом, невмочь беда со слезами». И подлинно: вся она, по словам А. Куприна, «пронизана легкой улыбкой, беззлобным смехом, невинной проказливостью». Это вовсе не юмористика и не сатира. Самое точное определение эмигрантских рассказов Саши Черного – именно несерьезные. Лукавая усмешка умеренно дозирована, и, как замечает Куприн: «…если ухо улавливает изредка чуть ощутимый желчный тон, то что ж поделаешь: жизнь в эмиграции не особенный сахар».
Впрочем, не следует сводить писательскую задачу лишь к одной благородной, но утилитарной цели – забавлять, утешать, щеголять образами и затейливыми словечками. Это лишь верхний, видимый пласт. Очевидно, была еще некая сверхзадача, проистекавшая из новых, необычных условий бытия русского человека. Отныне персонажами Саши Черного, так же как и его читателями, стали апатриды – лица без гражданства, чьи родовые корни остались где-то там, за горами, за долами, в «огромной, несуразной и милой стране, называвшейся Россией».
Невозможно, право, представить всю степень отчаяния и опустошения беженцев из России. В одночасье они лишились всего. Остались без дома, без средств к существованию, без привычной работы, без паспорта и гражданских прав и, главное, – без надежд на будущее. Если поначалу еще и были какие-то иллюзии, то с годами все яснее становилась безысходность, необратимость случившегося. Это уже навсегда, до смертного часа.
Единственное, что осталось, что невозможно отнять, – то неосязаемое, именуемое М. Цветаевой «непреложностью памяти и крови». Прошлое – минувшее – былое… Одно на всех. Но у каждого имелась своя личная горькая услада: «Можно выбрать из прошлого самую счастливую неделю, самый веселый день – и вспоминать минуту за минутой, будто медленно, ложечку за ложечкой фисташковое мороженое ешь».
Саша Черный тоже отыскал в своем элизии памяти такие заветные, милые сердцу истории. К примеру, «Московский случай»… Рассказ о том, как впервые встретился с первопрестольной и сразу влюбился в ее затейливо-безалаберный облик, в румяный, уютный старомосковский обиход. Или эпизоды житомирской юности: любовное свидание в гимназическом кабинете физики, веселая свадьба под пожарной каланчой, рождественские розыгрыши и ряженья… Или забавная история из детства – о приготовишке, заброшенном в сад женской гимназии на «растерзание» девчонкам: «Ужаснешься… и улыбнешься».
Читатели, знакомые с рассказами Саши Черного, написанными в России, вправе подивиться метаморфозе, произошедшей с писателем. Куда девался критический подход? Напрочь исчезло все дурное, гнусное, негативное. Увиденная сквозь дымку времени, из зарубежного далека, воссозданная воображением художника «русская Атлантида» предстает неким потерянным раем. В этой земле обетованной всегда царят мир, лад, любовь, красота. Он зрим, этот мир, домовит, насыщен множеством узнаваемых бытовых подробностей, позволяющих почувствовать вкус, запах, цвет ушедшей жизни. И в то же время в нем присутствует какая-то дымка, миражность, сновиденность. Вот уж воистину: «с какой стороны о России говорить ни начнешь нет конца и края словам, – не нахвалишься, не наплачешься…»
Откуда это? Чем объяснить сей феномен? Сожалением об убежавшем детстве и улетевшей юности? Дистанция времени, безусловно, сообщает духовной памяти избирательность особого рода – положительную, идеализирующую. Тогда, быть может, причина в пространственной удаленности? Издалече оно виднее. Вспомним, однако, что Гоголь, написавший в Риме «Мертвые души», узрел иное – «как грустна наша Россия». Видимо, пространственная и временная удаленность еще не все. Была еще и отъединенность, позднее осознание непоправимости свершившегося, что и дало тот поразительный эффект ретроспекции, который наблюдается в литературе русского зарубежья. Ибо память, закрепленная в слове, это не просто пережитая действительность, но нечто более важное и ценное – действительность, преображенная для бессмертия. Только там открылась им в неизменной повторяемости событий, в повседневном обиходе, в повторяемости слов и движений высшая мудрость миропорядка, складывавшегося веками, величие страны, которой могли гордиться.
Все так. Но жить с постоянно повернутой назад головой трудно и противоестественно. Недаром Ходасевич ставил в упрек писателям старшего поколения, что они замкнулись на прошлом. Такие корифеи отечественной словесности, как Бунин, Куприн, Шмелев, Зайцев, Осоргин, Ремизов, рассматривали миссию писателя в изгнании как миссию посланническую: сохранять и претворять в слове былое. Напрасно, однако, думать, что «те баснословные года» занимают центральное место в зарубежном наследии Саши Черного. Для него это было хотя и важным, но побочным направлением, производным от главного.
А главным – доминантой всего написанного на чужой стороне явилась тема «трудов и дней» эмиграции. Российская история поставила грандиозный и чудовищный эксперимент: изрядная часть россиян была оторвана от родины, рассеяна по свету. Уже не несколько попутчиков по даче, а многочисленное беженское новообразование стало объектом изучения и наблюдения Саши Черного. Какая участь им предназначена и кто они, собственно, такие? Подобные вопросы занимали не одного Сашу Черного.
«Россия, выехавшая за границу» – так, не без вызова, титуловал эмиграцию сатирик Дон-Аминадо. Это мнение опровергалось скептическим и вполне резонным трезвомыслием: «Вот говорят, что все мы цыгане в пиджаках, никакого своеобразия в себе не носим и растворяемся, как капли дождя в море, в окружающей европейской суете». Как разрешить эту дилемму? В конце концов после долгих и мучительных раздумий (чем и объясняется, по-видимому, длительная беллетристическая пауза) Саша Черный склонился к первой мифологеме, найдя свое писательское предназначение в том, чтобы быть бытописателем эмиграции.
«Бытовик»… Словцо это в старые времена произносилось с оттенком некоторого уничижения. Тем более в зарубежье, где оно, как казалось, вообще потеряло смысл, ибо: «В атмосфере эмигрантского безбытничества, среди чужой природы и под звуки чужой речи ему (писателю. – А. И.) никогда не стать достойным наследником великого русского искусства <…> от его ржей всегда будет пахнуть не рожью, а эмигрантской тоской по ней; ржи пахнут Богом и хлебом, а тоска полынью – это запахи разные» (Ф. А. Степун).
Но ведь не во сне – наяву существовало великое множество «песчинок бытия», мыкающих долю в краю чужом и зарубежном, добывающих в поте лица горький хлеб изгнания. Несмотря на ущербность существования, на изломанность человеческих судеб, таких разных и в чем-то сходных, – они, живущие как бы по инерции, достойны были своего выразителя, истолкователя, своего, если угодно, душеприказчика, то есть хранителя русского духа. Именно так можно определить роль Саши Черного-рассказчика в литературе русского зарубежья.
Герои его – это чеховские персонажи (земские врачи, присяжные поверенные, приват-доценты, чиновный люд и пр. и пр.), бежавшие за границу. Они почти неотличимы друг от друга – эти бесчисленные Иваны Кузьмичи, Павлы Петровичи, Василии Созонтовичи, Веры Ильинишны, Прасковьи Львовны, Анны Петровны… Похоже, автор намеренно наделяет их расхожими, незапоминающимися именами, дабы подчеркнуть их обыкновенность, усредненность. Однотонность в обрисовке героев не связана с неумением автора найти экстраординарные характеры и колоритные образы. Ибо Саша Черный опять, уже в новых условиях, пишет коллективный портрет.
Выходцам из России прежде всего пришлось забыть о своих былых мирских званиях и профессиях – агронома, педагога, конторщика… В срочном порядке им приходится осваивать иные специальности, связанные, как правило, с тяжелым, грубым физическим трудом. О роде своих нынешних занятий один из персонажей выразился так: «По эмигрантскому цеху. Что подвернется». По эмигрантской рулетке выпадала работа маляра, строителя, шофера, грузчика, официанта, посудомоя…
Из этой колеи можно выскочить только при условии, «если на фантастическую лошадку поставишь». Вот, наверное, потому герои рассказов Саши Черного так легко обольщаются всевозможными авантюристическими предложениями, сулящими сказочные дивиденды («Млечный путь», «Тихое кабаре»). Увы, все эти фантасмагории лопаются, как мыльные пузыри. Точно так же, словно воздушный замок, тает «испанская легенда» – надежда на бесплатный летний отдых на Майорке. Впрочем, для доморощенных «изобретателей» – завсегдатаев русской ресторации важна не столько реализация замыслов, сколько сам полет фантазии. Ибо: «Кто знает, что у скоропостижного кондитера-эмигранта в душе в вечерний час копошится».
Не стоит, однако, представлять их беспочвенными мечтателями – этакими Маниловыми и Обломовыми, неспособными к созиданию, «коптящими небо». Из рассказов Саши Черного вырастает трагедия простого человека на чужбине. У поэта, писателя, даже если его не печатают, есть возможность самовыражения – его вдохновение подвластно ему одному, ибо оно обращено к Богу и к миру. Человек общественного, гражданского склада сжигает себя на костре политических страстей. Но как быть, чем заполнить вакуум личности сильной, мыслящей, незаурядной, которая лишена всего – привычной среды, профессии, родных и близких людей, прикована к каторжной тачке тупого и рабского труда? Если раньше смыслом и содержанием жизни российского интеллигента было служение на благо народа и отечества, то что дала взамен эмиграция? Барак, осточертевший пейзаж алюминиевых копей где-то в глубине Франции да несколько бедолаг, друзей по несчастью (бывший агроном, бывший офицер и т. п.), превращенных в связку мускулов, в двуногих двигателей тачки. И так – что самое ужасное – день за днем, год за годом, без какого-либо просвета…
Остается загадкой, как они, изгнанники и изгои, прошедшие через земной ад, в большинстве своем не опустились тем не менее на четвереньки, сохранили в своем душевном складе то, что всегда отличало русскую интеллигенцию: чувство собственного достоинства, внутреннюю чистоплотность, терпимость и совестливость, жизнестойкость, добросердечие и готовность прийти на помощь ближнему… Эти качества не выставлены напоказ, а как бы растворены в поступках, лексиконе, бытовом антураже и обиходе. Что это: избирательность писательского подхода? Или в самом деле испытания, общее русское лихо помогло выявить в людях хорошее, главное, что таилось дотоле в душевном подвале, засыпанное трухой будней и забот?