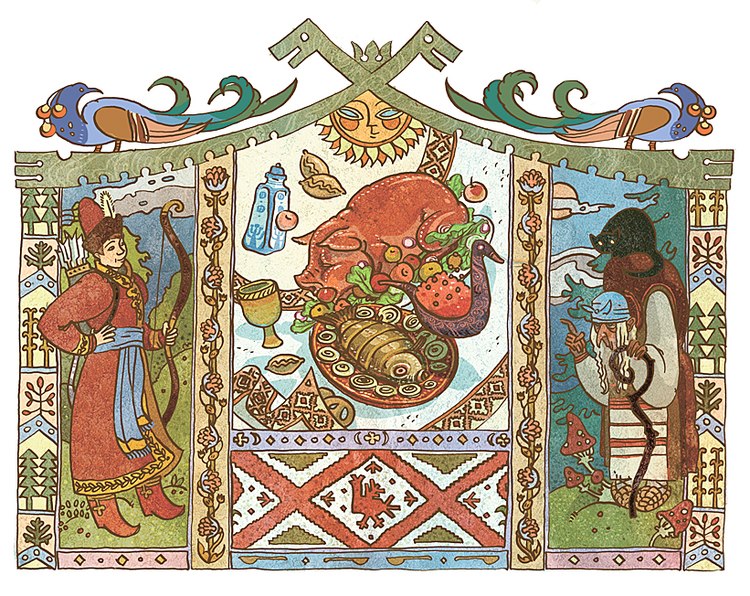I.
Волшебный помощник
1.
Помощники.
Давая
в руки героя волшебное средство, сказка
достигает вершины. С этого момента конец
уже предвидится. Между героем, вышедшим
из дома и бредущим «куда глаза глядят»,
и героем, выходящим от яги, — огромная
разница. Герой теперь твердо идет к
своей цели и знает, что он ее достигнет.
Он даже склонен слегка прихвастнуть.
Для его помощника его желания — «лишь
службишка, не служба». В дальнейшем
253
герой
играет чисто пассивную роль. Все делает
за него его помощник или он действует
при помощи волшебного средства. Помощник
доставляет его в дальние края, похищает
царевну, решает ее задачи, побивает змея
или вражеское воинство, спасает его от
погони. Тем не менее он все же герой.
Помощник есть выражение его силы и
способности.
Список
помощников, имеющихся в репертуаре
русской сказки, довольно велик. Здесь
могут быть рассмотрены только самые
типичные. Рассмотрение помощника
неотделимо от рассмотрения волшебных
предметов. Они действуют совершенно
одинаково. Так, и ковер-самолет, и орел,
и конь, и волк доставляют героя в иное
царство. Поэтому волшебные помощники
и волшебные предметы объединены в одну
главу. Все помощники представляют собой
одну группу персонажей. Мы рассмотрим
сперва отдельных помощников такими,
какими их дает сказка. Попутно могут
быть привлечены некоторые материалы,
объясняющие данного помощника. Каждый
помощник в отдельности, однако, не
объясняет всей категории помощников.
После рассмотрения каждого помощника
в отдельности мы рассмотрим всю категорию
и только тогда получим общее суждение
о помощниках. Но и это суждение еще не
может быть окончательным. Мы должны
изучить все функции помощника, и только
тогда картина будет исчерпана. Эти
функции выделены нами в отдельные главы.
Так, доставка героя в иное царство,
разрешение задач царевны, борьба со
змеем изучаются отдельно. Вопрос сложен
и широк и не может быть решен сразу.
Разрешение его откроется постепенно.
2.
Превращенный герой.
К
сказанному надо еще прибавить, что в
сказке помощник может рассматриваться
как персонифицированная способность
героя. В лесу герой получает или животное
или способность превращаться в животное.
Так, если герой в одном случае садится
на коня и едет, а в другом случае мы
читаем: «Только что Иван, купеческий
сын, надел перстень на руку, как тотчас
оборотился конем и побежал на двор Елены
Прекрасной» (Аф. 209), то для хода действия
эти случаи играют одинаковую роль. Мы
этот факт пока только регистрируем. Но
он уже дает нам некоторое объяснение,
почему Иван при всей своей пассивности
все же герой. Мы достаточно изучили
сказку, чтобы установить, что герой,
превращенный в животное, — древнее
героя, получающего животное. Герой и
его помощник есть функционально одно
лицо. Герой-животное преобразовался в
героя плюс животное.
3.
Орел.
Среди
помощников героя имеется орел или другая
птица.
Функция
птицы всегда только одна — она переносит
героя в иное царство. Эта переправа нас
займет в особой главе. Мы пока органичимся
изучением орла как такового. В сказке
о «Морском царе и Василисе Премудрой»
(219) гe-
254
рой
хочет убить орла, но тот просит выкормить
его. «Возьми меня лучше к себе да
прокорми три года» (Аф. 219). «Не
пожалей меня кормить, и прокорми меня
девять месяцев, и я тебе все уплачу.
Давай мне шесть коров или шесть волов
каждые сутки на пропитанье; хотя тебе
и трудно будет, но я тебе все уплачу»
(К. 6). Орел оказывается чрезвычайно
требовательным и прожорливым, но герой
терпеливо носит ему все, что тот требует.
«Мужик послушался, взял орла в избу
к себе, стал его кормить мясом: то овцу
зарежет, то теленка. В дому мужик не один
жил; семья была большая — стали на него
ворчать, что он весь на орла проживается»
(220).
Мы
видим, что орел здесь выкармливается.
Здесь перед нами вполне историческое
явление. У сибирских народов орлы
выкармливались, и выкармливались с
особой целью. «Его следует кормить
до смерти, — говорит Д. К. Зеленин, — и
затем — хоронить. — Никогда не следует
в этих случаях жаловаться по поводу
расходов, связанных с пропитанием орла:
он заплатит сторицей. Случалось, говорят,
в старину, что орлы являлись к жилищу
людей на зимовку. В таких случаях, бывало,
половину своего скота хозяин скармливал
орлу. Весной, улетая, орел поклонами
благодарил хозяев, и в таких случаях
хозяева быстро и необычайно богатели»
(Зеленин 1936, 183).
Здесь
хозяин делает то же самое, что делает
герой сказки: скармливает орлу весь
скот. Однако случай, сообщаемый Зелениным,
— поздний. Мы знаем, что орла не просто
отпускали, а убивали. По мнению Штернберга,
это убиение означало усылание орла. У
айну орла убивали и перед убиением к
орлу обращались с такой молитвой: «О
драгоценное божество, о ты, божественная
птица, прошу, внемли моим словам Ты не
принадлежишь к этому миру, ибо твой дом
там, где творец и его золотые орлы…
Когда ты придешь к нему (к своему отцу),
скажи: я жил долгое время среди айну,
которые как отец и мать возрастили меня»
и пр. (Штернберг 1936, 119) Это кормление и
убиение орла имеют целью умилостивить
духа — хозяина орлов, позднее — творца.
Смысл молитвы: «Меня содержали хорошо,
помоги людям, которые это сделали».
Акт убиения есть акт усылания.
Что
мы видим в сказке? В сказке герой, правда,
не убивает орла. Он, продержавши его три
года, только хочет убить его. «Взял
охотник нож, отточил на бруске. «Пойду,
— говорит, — зарежу орла; здороветь он
не здоровеет, даром только хлеб ест!»»
(Аф. 221). Но все же он кормит его еще год
или два, а затем отпускает его на волю.
Орел берет его с собой в тридесятое
царство. Они улетают вместе. Момент
улетания в сказке соответствует отсыланию
через смерть в обряде. В обряде орла
кормят, а затем его отсылают к его отцам.
В сказке это отразилось как отпуска-
255
ние
на волю. Орел прилетает не к отцу орлов,
а к своей «старшей сестрице» и
рассказывает ей следующее: «А и вечные
веки бы вам по мне сокрушаться да слезами
горючими обливаться, коли б не сыскался
мне благодетель — вот этот охотник; он
меня три года лечил и кормил, через него
свет божий вижу» (Аф. 221), т. е. он
поступает именно так, как айну требует
этого от своего орла в своей молитве.
Награда, действительно, не заставляет
себя ждать. «»Спасибо тебе, мужичок!
Вот тебе злато и серебро и каменье
самоцветное, бери сколько душе угодно!»
Мужик ничего не берет, только просит
медного ларчика с медными ключиками»
(220).
Этот
случай интересен тем, что он содержит
в себе элементы разложения обряда. Он
показывает, что сказка отражает позднюю
стадию ее, как это мы видим и в других
случаях. Кормление орла показано как
нечто, что герою в тягость, как нечто
ненужное и бессмысленное. «Орел так
много поедал, что всю скотину приел; не
стало у царя ни овцы, ни коровы… Царь
везде занимал скотину и целый год кормил
орла» (219). Или: купец «взял птицу
орла и понес домой. Тотчас убил быка и
налил полный ушат медовой сыты: надолго,
думает, хватит орлу корму; а орел все
зараз приел и выпил» (224). Таким образом,
ненужность и непонятность здесь выражена
довольно ясно. Последующее обогащение
есть чудо.
Сопоставляя
кормление орла в сказке и в культовой
действительности Сибири, мы должны бы
объяснить и эту действительность. Но
мы уже выше указывали на выкармливание
тотемных животных. Кормление орла —
частный случай его.
Все
это дает нам право на следующее заключение:
мотив кормления орла создался на основе
некогда имевшегося обычая. Исторически
кормление есть подготовка к убиению
жертвенного животного, т. е. к отосланию
его к хозяину с целью возбудить
расположение этого хозяина. В сказке
убивание переосмыслено в пощаду, в
отпуск на волю и улетание, а расположение
хозяина — в передачу герою предмета,
дающего ему могущество и богатство.
Выводы
эти получены главным образом на сибирских
материалах. Сибирские материалы по
культу орла интересны еще другим: они
показывают взаимоотношение между
обладателями орла и орлом-помощником.
Между птицей и шаманом существует
теснейшая связь. На языке гиляков орел
носит такое же название, как и шаман,
именно «чам». У тунгусских шаманов
Забайкалья белоголовый орел — хранитель
и покровитель шамана. Изображение его
(из железа) помещается на короне шамана,
на дужках между рогами. У телеутов орел
называется «птица хозяин неба» —
он непременный спутник и помощник
шамана. «Это он во время камланья
сопутствует ему в его странствиях на
небо и в подземный мир, охраняя его от
несчастий в пути, а также отводит по
назначению жертвенных животных различным
божествам». На облачении шамана
фигурируют части орла: кости, перья,
когти. Наконец, шаманский кафтан по
воззрениям сибирских народов является
изображением птицы. Согласно этому у
тунгусов, енисейских остяков и у многих
других кафтан выкраивается наподобие
птицы и обшивается длинной бахромой,
символизирующий крылья и перья этой
птицы (Штернберг 1936, 121). Эти материалы
дополнительно характеризуют едино-сущие
между героем и его помощником.
4.
Крылатый конь.
Мы
переходим теперь к другому помощнику
героя, а именно к коню. Вряд ли есть
необходимость доказывать, что конь,
лошадь, вступает в человеческую культуру
и в человеческое сознание позже, чем
животные леса. Общение человека с лесными
животными теряется в исторической дали,
приручение лошади может быть прослежено.
С появлением коня необходимо проследить
еще одно обстоятельство. Лошадь появилась
не на смену лесным животным, а в совершенно
новых хозяйственных функциях. Можно
сказать, что лошадь появилась на смену
оленю, может быть — собаке, но нельзя
сказать, что лошадь появилась на смену
птице или медведю, что она взяла на себя
их хозяйственную роль, их хозяйственные
функции.
Как
же этот переход отразился в фольклоре?
Мы опять видим, что новая форма хозяйства
не сразу создает эквивалентные ей формы
мышления. Есть период, когда эти новые
формы вступают в конфликт со старым
мышлением. Новая форма хозяйства вводит
новые образы. Эти новые образы создают
новую религию — но не сразу. Происходит
в языке наименование коня птицей, т. е.
перенос старого слова на новый образ.
То же происходит в фольклоре: конь
облекается в птичий образ. Так создается
образ крылатого коня. «Мы знаем теперь,
— говорит Н. Я. Марр, — что «лошадь»
означала в доисторические времена и
«птицу», но «птица» семантически
связана с «небом», и заменить
«лошадь» на земле в человеческом
быту и материальной обстановке до-истории,
конечно, не могла птица» (Марр 1934, 125;
1922, 133).
Замена
птицы лошадью, по-видимому,
азиатско-европейское явление. Египет
получил лошадь поздно, в Америке лошадь
была неизвестна до появления европейцев
(Hermes). Но и там тот же процесс может быть
прослежен, но он прослеживается не на
птице, а на медведе. В американском мифе
медведь-хозяин уносит мальчика под
землю И предлагает ему выбрать себе
медведя, т. е. помощника. Мальчик выбирает
себе черного. «Медведь-хозяин начал
рычать, и вдруг фыркнул и прыгнул на
черного медведя. Он залез под него,
подбросил его, и вместо медведя там
стояла великолепная черная лошадь»
(Dorsey 1904, 139). Этот случай ясно показывает,
как новое животное берет на себя
религиозные функции старого. Лошадь
заменяет медведя в роли помощника,
приобретаемого «под землей» от
хозяина медведей. Но эта лошадь еще
содержит в себе черты медвежьего
происхождения. У нее на шее медвежья
шкура, совершенно так же, как у нашего
Сивки по бокам птичьи крылья. Короче,
происходит ассимиляция одного животного
с другим.
Любопытно,
что появление лошади в Америке создает
совершенно те же обряды и фольклорные
мотивы, что и в Европе. На это указывал
еще Анучин, изучая скифские погребения,
сходные с американскими. Если у умершего
была любимая лошадь, устанавливает
Дорси, родственники убивали эту лошадь
на могиле, думая, что она донесет его в
страну духов, или же срезали несколько
конских волос и клали их в могилу. Волосы
давали такую же власть над конем, какую
они дают в сказке. Эти случаи показывают
закономерность появления одинаковых
обрядовых и фольклорных мотивов в
зависимости от явлений хозяйственной
и социальной жизни. Эти же случаи
объясняют крылатость коня.
5.
Выкармливание коня.
Конь
перенял на себя не только атрибуты
(крылья), но и функции птицы. Подобно
тотемному животному, подобно сказочному
орлу, он, уже не будучи тотемным животным,
выкармливается. Однако это выкармливание
приняло иные формы, оно значительно
ослаблено по сравнению с грандиозным
выкармливанием орла, поедающего весь
скот царя. Выкармливание коня дает ему
волшебную силу, но внешне ассимилируется
с действительностью: «Дай мини три
зари напастись на расе» (Аф. 160) — слабый
отголосок такой же просьбы орла и, как
мы видели выше, благодарных животных
— «корми меня три года». До трех раз
накормил пшеной белояровой, и только
видели, как садилсе — не видели, куда
укатилсе» (Ск. 112).
Выкармливание
коня — частный случай выкармливания
чудесных или волшебных животных. Так,
выкармливаются благодарные животные,
орел, конь, и, наконец, даже змей
выкармливается злой царевной или
сестрой. На тотемическое происхождение
этого мотива уже указывалось. Выкармливание
коня показывает, что дело не просто в
питании животного. Кормление придает
коню волшебную силу. После кормления
«на двенадцати росах» или «пшеной
белояровой» он из «паршивого
жеребенка» превращается в того
огненного и сильного красавца, какой
нужен герою. Это же придает коню волшебную
силу. «Стал Иван водить свою лошадь
каждое утро и каждый вечер в зеленые
луга на пастбище, и вот как прошло 12 зорь
утренних да 12 зорь вечерних — сделалась
его лошадь такая сильная, крепкая да
красивая, что ни вздумать, ни взгадать,
разве в сказке сказать, и такая разумная,
что только Иван на уме помыслит, а она
уже ведает» (аф. 185). Еще резче эти
волшебные качества, вызываемые кормлением,
выражены в другом случае: «Ты в эти
дни корми меня овсом, тогда я спрячу
тебя под копыто» (См. 341). Это превращение
художественно выражено средствами
контрастности: до кормления он паршивый
жеребенок, после кормления — статный
конь. Образ паршивого жеребенка есть
чисто сказочное образование- сказка
любит контрасты: точно так же именно
Иван-дурак оказывается героем, а Чернавка
— царевной. Мы напрасно будем искать
обрядовых аналогий к мотиву, что именно
слабое или заморенное животное
подвергается кормлению культового
характера.
6.
Замогильный конь.
Коню
в области религиозных представлений
посвящено несколько исследований
(Анучин; Negelein 1901а; 19016; 1903; Stengel; Malten 1914;
Radermacher 1916; Howey; Худяков 1933). Эти исследования
на разном материале довольно единообразно
приводят к тому, что в религии конь
некогда представлял собой заупокойное
животное. Нам необходимо установить,
отсюда ли идет и сказочный конь (который
исследователями не привлекается) или
же он создается как-нибудь совершенно
иначе.
Историческое
рассмотрение здесь довольно трудно.
Предшественники коня — другие животные.
Мы напрасно будем искать материал в
глубокой древности. Главный материал
— материал культурных народов.
Уже
выше мы видели, что конь дарится герою
его умершим отцом из-за могилы. Там в
центре внимания стоял дарящий отец,
здесь наше внимание будет обращено на
коня. Каков исторический субстрат этого
мотива? Известно, что коней хоронили
вместе с воинами. «Убивали лошадей и
рабов с тем намерением, чтобы эти
существа, погребенные вместе с умершим,
служили ему в могиле, как служили при
жизни», — так говорит Фюстель де Куланж
(Фюстель де Куланж). Это в точности
соответствует сказочному «служи ему,
как и мне служил» (Аф. 179). Но в чем
состоит служба коня умершему? Конь —
ездовое животное. Поэтому совершенно
прав Негелейн, когда он говорит: «Что
обычай давать при смерти герою с собой
коня есть следствие его функции уносителя,
носителя или путеводителя в лучшую
сторону, — учит аналогия с столь неизбежной
для эскимоса собакой» (Negelein 1901а, 373).
Эскимосы дают в могилу собаку, греки —
лошадь. Но здесь имеется одно противоречие:
в сказке умерший отец со своим конем
никуда не уезжает из могилы, а пребывает
вместе с конем тут же. Интересно, что
так же обстояло с верованиями греков.
Вундт просто ошибается, когда говорит:
«Душа павшего на поле битвы воина
уносится, согласно верованию греков,
римлян и германцев, на быстроногом коне
в Царство душ» (Вундт 111). Возможно,
что в некоторых случаях это и так, но,
как правило, это для античности неверно.
Первоначально,
как мы видели, умерший никуда не удалялся.
С развитием пространственных представлений
ему стали приписывать далекий путь и
дальний полет. Затем, когда с переходом
на оседлое земледелие круг интересов
сосредоточивается на земле, когда
является привязанность к своей земле,
когда появляется культ предков, умершие
мыслятся уже не ушедшими, а живущими
здесь же в доме, у очага, под порогом или
в земле, в могиле. Лошадь же осталась
как атрибут умершего вообще, хотя,
собственно, утеряла свой смысл. Так,
например, как указывает Роде, в Беотии
были найдены надгробные рельефы, на
которых умерший, сидя на коне, или ведя
коня, принимает приношения (Rohde 2413).
Негелейн указывает на то, что вообще на
греческих и даже позже на христианских
могильных плитах имеется конь. «Он
непременный атрибут героса, т. е. в более
позднее время умершего мужчины вообще»
(Negelein 1901a, 378). Роде очень осторожно
высказывает предположение, что конь
здесь «символ умершего, вступающего
в мир духов».
Более
точен Мальтен, считая, что мертвец в
эллинской вере появляется одновременно
и в форме коня, и сидя верхом на коне,
обладая им. Ни тот, ни другой ничего не
говорят о движении на коне. Сравнительное
изучение материала показывает, что
мертвец-животное превратился в мертвеца
плюс животное, и этим объясняется та
двойственность, которой не заметил
Роде, но видит Мальтен, мертвец есть
конь, но он же обладатель коня. В сказке
также есть противоречие, но противоречие
иного характера: отец не летает на коне,
но на коне летает сын. Полет на коне есть
более древнее, доземледельческое
явление, он развился из полета в образе
птицы или на птице. Отец, живущий с конем
в могиле, — явление более позднее,
присоединенное позже; оно отражает
культ предков и могилы предка: отец на
коне уже не летает.
Здесь
можно еще упомянуть, что в некоторых
деталях сказка показывает более
архаические черты, чем греческая религия.
В сказке конь подарен мертвецом, в
греческой мифологии дарителем коня
всегда являются уже боги. Так, Афина
дает Беллерофонту уздечку, при помощи
которой он укрощает Пегаса. Точно так
же иногда поступает отец в сказке: он
или сообщает заклинательную формулу,
или дает волосок коня или его уздечку
(Аф. 182, 184, 170).
Этими
указаниями пока можно ограничиться.
Они показывают историчность мотива
коня, пребывающего при мертвеце в могиле,
они отвечают на вопрос, поставленный в
начале. Конь не только в религиях, но и
в сказке представляется заупокойным
животным.
7.
Отвергнутый и обмененный конь.
В
рассмотренном нами мотиве конь предстал
перед нами действительно как заупокойное
животное, и сказка подтверждает выводы,
к которым приходят исследователи коня
в религии. Это наблюдение подтверждается
рассмотрением мотива отвергнутого или
ложного коня. Лошадь, предлагаемая живым
отцом, не годится, тогда как лошадь,
подаренная из-за могилы, есть богатырское
животное. «Которую лошадь ударит по
крестцу, так и с ног долой упадет; из 500
лошадей не выбрал ни одной по себе
лошади, и сказывает своему отцу, что «я,
батюшка, у тебя не выбрал ни одной лошади;
теперь пойду в чистое поле, в зеленые
луга — не выберу ль по себе лошади в
табунах?»».
Та
лошадь, на которой Иван ездит до своей
отправки, обыкновенная лошадь, — не
годится. Это ему сообщает и яга. Поэтому
герой у яги очень часто меняет коня.
«Она велела ему оставить своего коня
у ней, а на ее двукрылом ехать к ее старшей
сестре» (Аф. 171). У второй сестры этот
конь обменен на четырехкрылого, а у
третьей сестры — на шестикрылого.
Вот
почему не годится отцовский обычный
конь. Он — земное существо, он не крылат.
У входа в иной мир герой получает иного
коня.
8.
Конь в подвале.
Но
какой же конь тогда годится? Яга указывает
на это совершенно точно: «Как нет у
твоего батюшки доброго коня? — Есть
добрый конь, заперт за тремя дверьми,
третьи двери уж копытом пробивает»
(Аф. 175). Не годится конь на конюшне отца.
Годится только тот конь, который взят
из склепа. Правда, сказка никогда не
говорит, что это склеп. Для сказки это
просто подвал или погреб, иногда даже
«казенный погреб». Но детали не
оставляют никакого сомнения, что этот
погреб — могила. «Поди ты в цисто поле,
на нем стоит двенадцать дубоу, под этими
дубами лежит камень-плита. Подыми ты
эту плиту, тут и выскоцит конь прадедка
твоево» (Ск. 112). «Под тем камнем
подвал открылся, в подвале стоят три
коня богатырские, по стенам висит сбруя
ратная» (Аф. 137). «Отвечает старуха:
«Пойдем со мной». Привела его к
горе, указала место: «Скапывай эту
землю». Иван-царевич скопал… вошел
под землю» (Аф. 156). «На этой горе
стоял дуб вершков двадцать толщины, а
под этим дубом стоял склеп. В этом склепе
за дверьми два жеребца стояли» (Он.
зав. 143). Все это слишком явные признаки
могилы. И холм, и камень, и плита, и даже
дерево указывают на то, что этот подвал
просто склеп.
Когда
Иван сходит в этот подвал, то конь иногда
радостно ржет ему навстречу. Иван ломает
двери, конь рвет цепи. Выше мы видели,
что волшебное средство передавалось
по женской линии. Посвящаемый получал
не какое-нибудь средство, а тотемный
знак рода своей жены. Здесь ничего этого
уже нет. Конь передается по мужской
линии. Герой получает определенного
коня «не деда твоего, а прадеда твоего».
Радостное ржание коня показывает, что
явился настоящий, правомочный владелец
коня, явился его наследник. Анализ этого
мотива подтверждает вывод о замогильном
характере сказочного коня и дополняет
картину связи коня с предками его
владельца.
9.
Масть коня.
В
свете этих материалов для нас небезразлична
масть коня. Правда, сказка называет все
существующие масти. Он и сивый, и бурый,
и каурый, и рыжий и т. д. Такое разнообразие
отражает действительность, но вызвано
отчасти и тем, что образ коня в сказке
часто утраивается, и все три коня имеют
разную масть. Если, однако, всмотреться
в это разнообразие несколько ближе, то
можно- заметить преобладание двух
мастей: сивой и рыжей. Он — белый, даже
серебряный, «что ни шерстинка, то
серебринка» (Аф. 138), т. е. ослепительно
белый, «бело-голубой» (См. 298). Из
трех коней — черного, серого и белого
— последним, т. е. самым сильным и
прекрасным, является белый (Яворский
312); черный, рыжий, сивый — Аф. 184). С другой
стороны, из трех коней (серый, вороной,
рыжий — 139) нередко последним назван
рыжий конь. На русских иконах, изображающих
змееборство, конь почти всегда или
совершенно белый или огненно-красный.
В этих случаях красный цвет явно
представляет собой цвет пламени, что
соответствует огненной природе коня.
Белый
же цвет есть цвет потусторонних существ,
что достаточно ясно показал Негелейн
в специальной работе о значении белого
цвета (Negelein 1901д, 79 ff). Белый цвет есть
цвет существ, потерявших телесность.
Поэтому привидения представляются
белыми. Таким является и конь, и не
случайно он иногда назван невидимым:
«В некотором царстве, в некотором
государстве есть зеленые луга, и там
есть кобылица-невидимка, и у ей 12 жеребят»
(См. 184). «А у его подарена царя-Невидима
лошадь-невидимка» (181). В одном случае
он назван «бело-губым» (298). Формула,
«что ни шерстинка, то серебринка»,
также указывает на его белый цвет,
указывает на ослепительность этого
цвета. Отсюда такие выражения, как «не
можно его в глаза видеть, не только что
на нем ездить» (Худ. 36).
Везде,
где конь играет культовую роль, он всегда
белый. «У бурят хозяин царства Уле,
Нагад-Саган-Зорин, рисуется как обладатель
белой лошади с белым копытом» (Зеленин
1936, 218). В якутском мифе змей насмешливо
приглашает героя сесть «на посмертного
коня». Он садится на «чисто белого
коня… имеющего с середины спины, подобно
птице, серебряные крылья» (Худяков
1890, 142). «Совершенно белая лошадь»
вообще часто встречается у якутов (137)
Греки приносили в жертву только белых
лошадей (Stengel 212). В Апокалипсисе смерть
сидит верхом на «бледном коне»
(Malten 1914, 188). В германских народных
представлениях смерть является верхом
на тощей белой кляче (211). Недаром и
Гораций называет смерть «бледная
смерть» («pallida mors»). Подобные
примеры показывают, что масть не
случайное, не безразличное явление, и
если бы при статистических вычислениях
оказалось, что сивая или белая лошадь
не занимает первого места по частоте
встречаемости, то это ничего не доказало
бы: наличие в сказке белого, голубого
коня и наличие его же в представлениях,
связанных с загробным миром, заставляет
видеть именно в этой форме наиболее
архаическую форму коня, а остальные
масти признать реалистическими
деформациями, тем более, что эта форма
коня вяжется с образом коня в целом и
его связью с замогильным миром.
10.
Огненная природа коня.
Наблюдение
над мастью показывает, что конь иногда
представляется рыжим, а на иконах,
изображающих Георгия на коне в борьбе
со змеем, — красным Нет необходимости
повторять здесь детали, касающиеся
огненной природы коня: из ноздрей
сыплются искры, из ушей валит огонь и
дым и т. д. Нам необходимо объяснить это
явление.
Почему
и как образ коня сливается с представлением
об огне? Есть ли материалы, могущие
показать, как эта связь произошла?
Мы
знаем, что основная функция коня —
посредничество между двумя царствами.
Он уносит героя в тридесятое царство.
В верованиях он часто уносит умершего
в страну мертвых.
Точно
таким же посредником был и огонь. В мифах
Америки, Африки, Океании и Сибири герой
без всякой помощи животных, только при
помощи огня отправляется на небо.
Приведем несколько примеров. У якутов:
«Потом выкопал яму в семь печатных
сажень; развел тут огонь, исщепав семь
больших деревьев. Взлетел на верхнее
место белым молодым ястребом» (Худяков
1890, 97). Итак, чтобы подняться на небо,
герой возжигает большой огонь и подымается
на небо. Самое интересное то, что он при
этом превращается в птицу. Это показывает,
что старые зооморфные образы еще не
забыты, что здесь старая традиция
превращения в животное встретилась с
новым фактором — фактором огня. Но не
первичен ли здесь огонь? «Люди… много
позднее стали видеть в сожжении трупов
отправку на небо», — говорит Д. К.
Зеленин (Зеленин 1936, 257). Герой микронезийского
мифа пытается попасть на небо к своему
отцу. Он пытается взлететь, но это ему
не удается. «Но он не отказался от
своего намерения, возжег большой огонь
и при помощи дыма поднялся во второй
раз к небу, где он, наконец, достиг объятий
своего отца» (Frobenius 18986, 116). Впрочем
нет необходимости долго останавливаться
на этом явлении. На нем основано как
сжигание трупов, так и сожжение жертв.
Итак, наряду с животными огонь некогда
представлялся посредником между двумя
мирами. Когда появляется лошадь, роль
огня переносится на лошадь. Примером
этого служит не только сказка. Примером
этого служит религия. Здесь в качестве
исторической ступени к сказке можно
указать на два явления: на соединение
культа огня с культом лошади, классический
пример которого дает Индия, и на ту роль,
которую огонь и лошадь играют в шаманизме.
Классической страной, где издавна
водились кони и откуда они, вероятно,
распространились по всему миру, была
Индия. И действительно, в ведической
религии мы видим наиболее полное развитие
коня-огня в лице бога Агни. Вот как
Ольденберг описывает церемонию возжигания
священного коня: «Старший жрец
приказывает одному из подчиненных
жрецов: «Приведи коня». Конь стоит
около того места, на котором должно
происходить трение огня, так, чтобы он
взирал на процесс трения… Нет никакого
сомнения, что конь есть не что иное, как
воплощение Агни» (Oldenberg 77). Здесь конь
взирает на трение, но в ведических гимнах
он добывается из огнива: «Агни, которого
новорожденным произвели путем трения
две палочки» (Ригведа). Агни не только
по очень многим деталям, но и по существу,
по своей основной функции совпадает с
конем. Он — бог-посредник («вестник»)
между двумя мирами, в огне отводящий
умерших в поднебесье. Религия Вед —
стадиально очень позднее явление.
«Ригведа» — жречески-богословское
произведение, которое, однако, несомненно
косвенно отражает народные представления.
Здесь
нелишне будет указать, что и сказочный
конь, совершенно как ведический огненный
конь Агни, добывается из огнива. Но
Ригведа сохранила древнюю форму огнива
— две палочки, сказка заменяет ее огнивом
новой формации — кремнем и кресалом.
Совпадение
между ведическим Агни и русским сказочным
конем настолько полное, что сопоставление
их могло бы составить предмет особой
работы. Овсянико-Куликовский в своей
работе о культе огня в эпоху Вед собрал
несколько сот эпитетов бога-огня Агни
(Овсянико-Куликовский 1887). И хотя изучение
эпитетов, оторванных от того объекта,
к которому они прилагаются, может
привести к ложным заключениям, но все
же такие эпитеты, как «имеющий светлую
спину», «с пламенеющей пастью»,
«с пламенеющей головой», «знак
которого есть дым», «с золотыми
волосами», «с золотыми зубами»,
«с золотой бородой» и др. в приложении
к богу огню-коню слишком близки к сказке,
чтобы быть случайными. Они основаны на
тех же представлениях, что и сказка.
Мы
здесь не будем разрабатывать эту связь,
это завело бы нас слишком далеко. Нам
достаточно указать, что огненный конь,
посредник между двумя мирами, имеется
в религии скотоводческого народа,
создавшего государственность. Изучение
Агни позволяет объяснить природу коня.
Она получилась из слияния представлений
о коне и об огне как посредниках между
двумя мирами. Из трех основ коня — птицы,
лошади и огня — огонь есть наиболее
поздний элемент, птица — наиболее
древний.
Уже
говорилось о том, что эту роль посредника
между двумя мирами может играть не
только божество (это уже знак поздней
культуры, какой и является культура
ведической религии), но и шаман. Шаман
также действует при помощи огня. Штернберг
описывает камлание, виденное им самим.
«Если бес больного упорно не хочет
уходить, то шаман призывает особого
духа, который обращается в огненный шар
и забирается в брюхо шамана, а оттуда
во все самые отдаленные части его тела,
так что шаман во время сеанса выпускает
огонь изо рта, из носа, из любой части
тела» (Штернберг 1936, 46). Этот случай
показывает, что выпускание огня из рта,
глаз, ушей и т. д. вовсе не есть нечто,
свойственное только сказке.
Такое
же представление, по Нансену, имеется
у эскимосов. «Признаком шаманов
является то, что они выдыхают огонь»
(Nansen 252). Впрочем это обычно делает только
черный шаман. Нансен сопоставляет его
с огнедышащим дьяволом средних веков
и полагает, что представление об
огнедышащем шамане сложилось под
европейским влиянием, тогда как дело
обстоит как раз наоборот. Огнедышащий
дьявол есть последнее отражение
представления об огнедышащем посреднике
между царством живых в мертвых. Такое
же представление имеется у племени
йоруба в Африке. Герой мифа, Шанго,
получает мощное волшебное средство от
своего отца. Он его съедает. Люди
собираются на совет. Все по очереди
говорят. Когда очередь доходит до героя,
«из его рта стал ударять огонь. Все
ужаснулись. Тогда Шанго понял, что он,
как бог, не подчинен никому, топнул ногой
и вознесся» (Frobenius 18986, 235). Мы здесь
имеем прообраз позднейших огненных
вознесений, вплоть до огненной колесницы
пророка Ильи (Holland). Но конь обнаруживает
связь с шаманством не только с этой
стороны, не только как огнедышащее
существо. Шаман часто имеет коня в
качестве помощника или вообще имеет
связь с ним.
Попов
так описывает камлание у якутов (Попов
130). «Шаман входит и с помощью своего
помощника надевает костюм. Ему Дают
пучок белых конских волос, часть из
которых он бросает в огонь — это служит
угощением и располагает к нему духов,
которые очень любят дым жженого волоса».
Нужно прибавить, что шаман сидит на
белой кобыльей шкуре. Однако, что за
странный вкус у духов, что они «любят
запах жженого волоса», и почему это
«служит угощением и располагает к
шаману духов-помощников?» Сказка
показывает совершенно ясно, что сожжение
волос есть магическое средство привлечения
духа, и, любит или не любит он этот запах,
он вынужден будет явиться. Достаточно
«припалить» три волоса, чтобы
вызвать коня. Это и делает шаман.
В
данном случае к нему являются не кони,
а духи, относительно облика которых
ничего не говорится. Но мы знаем, что в
числе помощников шамана имеются и
лошади. «В сказаниях бурят некоторые
умершие шаманы считаются обладателями
белого, пегого или черного коня, на каком
они разъезжают при жизни и на котором
теперь посещают окрестности своего
улуса» (Зеленин 1936, 299). К онгону,
называемому «покровительница
телеутов», минусинский шаман обращается
со словами: «На сине-сивом коне ты
приехал сюда в полдень из гор Кузнецка».
В якутском мифе дьявол действует так:
«Тут дьявол перевернул свой бубен,
сел на него, три раза ударил его своей
палкой, и бубен этот превратился в кобылу
с тремя ногами. Севши на нее, он поехал
прямо на восток» (Худяков 1890, 142).
11.
Конь и звезды.
Здесь
нужно указать еще на одну особенность
облика коня. У него «по бокам часты
звезды, во лбу ясный месяц». Легко
представить себе, что конь, как посредник
между небом и землей, мог быть наделен
признаками неба. В «Ригведе» небо
сравнивается с конем, украшенным
жемчугами: «Подобно темной лошади,
украшенной жемчугами, «pitar» украсили
небо звездами» (Ригведа XI, 8, 11). К этому
месту Людвиг замечает, что конь здесь
взят как символ неба. С этим можно
сопоставить, что Агни иногда тоже
отождествляется с Луной (Риведа II, 2, 2).
«Как бы вестником с неба освещаешь
ты людские роды во все ночи».
Однако
очень возможно, что конь как ночное небо
есть вторичное образование от коня
дневного, от коня солнца. Если в образе
коня-луны есть что-то натянутое,
искусственное (и встречается он редко),
то колесница бога солнца Гелиоса,
колесница Индры или солнечная ладья
бога Ра полны торжества и красоты. Однако
в сказку они не попали. Они умерли вместе
с верой. Только слабые отголоски можно
найти в образах чисто аксессуарного
порядка, вроде, например, той кобылицы,
на которой баба-яга «каждый день
вокруг света облетает» (Аф. 159) или
трех всадников в сказке о Василисе.
Солнце отразилось в сказке не в своей
динамике. Солнце отразилось в сказке
как царство и как дворец, о чем речь еще
впереди. В этой связи интересно отметить
то, что образ дыхания огнем в египетской
религии приписывается именно солнцу,
и что и сказочный конь и с этой стороны,
может быть, отражает солнце. «О ты —
(Ра, бог солнца, или просто солнце), сущий
в своем яйце, сияющий из своего круга,
ты подымаешься на своем горизонте и
сияешь подобно золоту над небом… ты
пускаешь струи огня из своего рта»
(Книга мертвых, XVII).
12.
Конь и вода.
Другая
особенность коня — это его связь с водой.
Эту связь с водой он также разделяет со
своими европейскими и азиатскими
собратьями — с индийским Агни и с
греческим Пегасом. Правда, этот морской
конь несколько необычен в сказке,
встречается сравнительно реже и не
всегда является помощником героя. Он
появляется по ночам и портит сенокос,
съедает и топчет сено, и братья отправляются
его подкарауливать. «Вот в самую
полуночь поднялась погода, всколыхалось
море и выходит из морской глубины чудная
кобылица, подбежала к первому стогу и
принялась пожирать сено» (Аф. 105). Но
и конь-помощник иногда имеет отношение
к воде. Встречный старик говорит герою:
«У твоего батюшки есть тридцать
лошадей — все, как одна; поди домой,
прикажи конюхам напоить их из синя моря;
которая лошадь наперед выдвинется,
забредет в воду по самую шею, и как станет
пить — на синем море начнут волны
подыматься, из берега в берег колыхаться,
— ту и бери!» (157).
По
сравнению с хтонической и замогильной
природой коня его водная природа —
явление вторичное и более позднее.
Мальтен доказал это для Греции, Ольденберг
— для Индии. Подобно сказочному коню,
греческий Пегас имеет некоторое отношение
к воде. Ударом копыта он открывает новый
ключ на Геликоне — ключ Гиппокрены.
Здесь ясна первоначальная хтоническая
природа коня. Беллерофонт ловит его
уздечкой, данной ему Афиной, когда он
пьет из пейренского ключа на Акрокоринфе.
Еще резче эту связь с водой обнаруживают
божественные кони Посейдона, морского
бога. Их он иногда дарит тому, кто
обращается, к нему с благочестивой
молитвой. Такую упряжку он подарил,
например, Пелопсу, который при помощи
этих коней отвоевывает себе невесту у
Эномая, обогнав его на ристалище. Коня
с золотой двусторонней гривой, выходящего
из моря, наблюдают и аргонавты.
По
исследованию Мальтена, Посейдон не
всегда был морским богом — он некогда
был богом суши. Он первоначально —
хтонический бог, «дающий произрастать
благодати в семени и источнике»
(Malten 1914, 179). Уже тогда он был связан с
конем. «Лишь через жителей побережий,
а вернее — благодаря колонизации через
море — властитель пресных вод стал
властителем вод морских» (179). С
превращением его в морского бога и кони
его стали морскими конями (179, 181, 185). И
действительно:
образ
коня, выходящего из воды, не может быть
первичным, он должен был получиться
исторически, и процесс этот для Греции
прослежен. Нечто подобное произошло в
Индии. О божественном коне Агни сообщается,
что он apam napat — дитя вод. Ольденберг
предполагает, что apam napat некогда был
особым водяным существом, которое
слилось с Агни. Он, «имеющий морское
водяное одеяние» (Ригведа, V, 65, 2). «Из
вод ты, чистый, возникаешь» (II, 1), «Ему
способствуют воды в озерах» (III, 1, 3) и
т. д.
13.
Некоторые другие помощники.
Конь
и орел — не единственные помощники
героя. Здесь не может быть речи о том,
чтобы дать полную номенклатуру и систему
сказочных помощников, мы рассмотрим
только наиболее существенные, важные
образы их. Рассмотрев орла и коня как
наиболее типичные примеры помощников-животных,
мы кратко коснемся некоторых антропоморфных
помощников.
Особую
категорию помощников составляют всякого
рода необыкновенные искусники. Часто
это братья, из которых каждый обладает
каким-нибудь одним уменьем. Иногда это
встречные богатыри, совершенно
необыкновенные по своей наружности и
по своим качествам. Количество их очень
велико. По указателю Больте и Поливки
можно установить около сорока названий
таких искусников.
Наиболее
яркой фигурой из этих помощников является
Мороз-Трескун, или Студенец. Изображается
он разно, иногда и не изображается вовсе.
В одной сказке это старик с завязанной
головой. «Что у тебя голова повязана?»
— «Волосы завязаны; как их опущу, так
и сделается мороз» (Худ. 33). Таким же
он представляется и у братьев (Гримм
71). У него шляпа надета на одно ухо. Когда
герой выговаривает ему за это, он говорит:
«Если я надену шляпу прямо, то будет
страшный мороз, и птицы упадут мертвыми
на землю».
Русская
сказка знает и другой, более яркий образ.
«Дальше идет старик старый, старый,
сопливый, сопли, как с крыши висят
замерзсши, с носа висят» (См. 183). Функция
этого «Мороза-Трескуна» всегда
одна: у царевны героям топят жаркую
баню, чтобы извести их. Здесь помогает
Студенец. «Живо вскочил в баню, в угол
дунул, в другой плюнул — вся баня остыла,
а в углах снег лежит» (Аф. 137).
Характер
этой фигуры довольно ясен. Это хозяин
погоды, хозяин зимы и мороза. Подобные
фигуры встречаются, например, в мифах
северных индейцев. «Много лет тому
назад было очень холодно на земле. На
верхнем конце реки был большой ледник,
от которого исходил ледяной холод. Все
животные отправлялись, чтобы убить
человека, который делал холод, но все
замерзали. (Пробует это и койот, но
замерзает, затем отправляется лиса.)
Лиса побежала дальше, и при каждом шаге,
который она проходила, из-под ее ног
ударял огонь. Она вошла в дом (где жил
Мороз) и топнула один раз своей ногой
(повторяется 4 раза). Когда она топнула
четыре раза, весь лед растаял и стало
опять тепло» (Boas 1895, 5).
В
этом случае хозяин мороза, холода
враждебен человеку. Но герою, который
уже вступил в иной мир, он покоряется.
Очень интересно, что в одной русской
сказке (См. 183) Старик совершенно так же,
как благодарные животные, просит: «Иван
Кобылин сын, покорми мене хлебцем, я
тебе худым временем пригожусь».
Совершенно такую же просьбу, как мы
видели выше, произносит орел. Можно
предположить, что здесь отразились
представления, что хозяина стихий можно
себе подчинить и заставить его служить
себе. Герой именно и заставляет их
служить себе. Правда, обычно они просто
встречены случайно и взяты с собой. Но
эта случайность, очевидно, покрыла собой
другие формы покорения хозяина, одной
из которых могла быть умилостивительная
или иная жертва, выраженная здесь словами
«покорми меня».
Другой
фигурой такого же порядка является
фигура усыни. «Идеть путем-дорогою,
пришел к реке широкой в три версты;
на
берегу стоит человек, спер реку ртом,
рыбу ловит усом, на языке варит да кушает»
(Аф. 141). Если попытаться нарисовать себе
фигуру этого усыни, то мы невольно придем
к образу запруды и верши, через которую
пропускается вода. Другими словами,
если Мороз-Трескун есть персонифицированная
сила природы, то здесь мы имеем
персонифицированное орудие. Мы этот
случай пока просто отмечаем. Связь
орудий с помощниками и волшебными
предметами разработана ниже. усыня
иногда помещается сказочником не на
берегу, а в самую воду. Он — хозяин реки
и рыб, божество, дарующее обилие рыб и
удачную ловлю. Собственно в сказке он
роли никакой не играет. Он — эпизодическая
фигура. Иногда он служит в роли помощника,
переправляющего героя через воду в иное
царство. По его усам герой переходит
через воду: «А по его усу, словно по
мосту, пешие идут, конные скачут, обозы
едут» (142). Нужно, однако, упомянуть,
что даже и здесь рыбья натура этого
существа может быть выяснена из сравнений.
В иных случаях герой переходит через
реку по спине огромной рыбы. Такие
существа также встречаются на ступени
веры, например в Северной Америке. В
индейском сказании братья хотят испытать
силу одного из них. Они идут на реку.
«Вечером они расположились и стали
дразнить своего брата и таскать его за
волосы. Но ему до этого не было никакого
дела, он лег и надел свою бобровую шапку.
Тогда река начала подыматься, и его
братья и сестры должны были бежать от
воды на гору, в то время как он спокойно
остался у огня. Хотя кругом все было
покрыто водой, он у своего огня остался
сухим» (Boas 1895, 23).
Интересно,
что в этом случае, совершенно так же,
как и в русской и в немецкой сказке,
движение шапки вызывает стихию. Эта
шапка относится к разряду волшебных
предметов, которые будут рассмотрены
ниже. В этом случае, мы, однако, видим
только стихию, не видим ловли рыб. В
другом индейском сказании мы читаем:
«»Дети, знаете ли вы, где Азан сделал
запруду реки?» — «Нет, где же?» —
«Там-то и там-то». Они пошли туда и
нашли Азана, который запрудил реку и
уже почти вычерпал воду, чтобы выловить
рыб». Они его уничтожают (Unkel 286). Здесь
запруживающее реку существо опять
связано с рыбами. Это существо не всегда
представляется антропоморфным. В другом
индейском сказании над рекой стоит
огромный лось с расставленными ногами
и убивает (глотает) всякого, кто спускается
по реке (Boas 1895, 2).
Братом
усыни обычно выступает Горыня (или
Вертогор или Горыныч). «И гуляет
Горыня-богатырь и горы ногой толкает»
(Аф. 83). Это — дух гор. «Шли, шли, доходят
до богатыря, до Горынеча. Горыныч на
мизинче гору качает» (3В 45). «Видишь,
поставлен я горы ворочать» (Аф. 93). По
свидетельству Штернберга, гиляки
называют членов рода хозяина моря «толь
нивух», т. е. «морской человек»,
хозяина гор — «наль нивух» — «горный
человек». Такой «торный человек»,
или один из «хозяев гор», — и наш
сказочный Горыныч. Роль его неопределенна.
Иногда он спасает героя от потони (93),
иногда играет роль ложного героя,
старшего брата, предающего младшего.
Но даже в тех случаях, когда он играет
роль ложного героя, он подчинен герою.
Сказочный герой — это мощный шаман,
которому подчиняются хозяева погоды,
рек и рыб, гор и лесов. Как и все подобные
искусные помощники, Вертогор встречен
случайно. Но мотив подчинения его сквозит
в афанасьевской сказке No 93. «Подъезжает
к Вертогору; стал его просить, а он в
ответ: «Рад бы принять тебя, Иван-царевич,
да мне самому жить немного. Видишь,
поставлен я горы ворочать; как справлюсь
с этими последними — тут и смерть моя»».
Впоследствии герой добывает щетку,
которая при бросании превращается в
горы, и этим дает Вертогору новую пищу.
Здесь мотив, присущий бегству и погоне
(гребешок и щетка обычно спасают от
погони непосредственно), использован
иначе, перемещен. Это перемещение здесь
очень интересно и показывает, что жизнь
хозяина стихии должна быть поддерживаема
человеком. Без этой поддержки он гибнет.
Так и усыня просит:
«Накорми
меня». За эту поддержку эти хозяева
оказывают содействие человеку после
его смерти, а шаману — при жизни.
Античность
также имеет своих Вертогоров, но уже в
качестве поверженных богов. Они борются
в числе гигантов против Зевса, выворачивая
горы, и ставят их Друг на друга для штурма
неба.
Третьим
братом или богатырем обычно назван
Дубыня, или Вертодуб. «Видит: человек
дубы с корнями вырывает:
«Здравствуй,
Дубыня! Что ты это делаешь?» — «Дубы
вырываю». — «Будь ты мне братом
названным, пойдем со мной'» (Худ. 33).
Этот Дубыня потом побивает вражескую
рать. В одной сказке (Аф. 142) он назван не
Дубыня, а Дугиня — «Дугиня-богатырь,
хоть какое дерево в дугу согнет».
Можно бы думать, что здесь имеется ложная
этимология, однако в греческом мифе мы
имеем именно «сгибателя сосен».
Такого «сгибателя сосен», разбойника
Синиса, который привязывает к соснам
людей и разрывает их, встречает и
наказывает Тесей.
Очевидно,
что если усыня есть «человек рек»,
Горыня — «человек гор», то Дубыня
представляет собой «человека леса».
В этом он сходен с ягой, так же как
помощник Студенец или Мороз-Трескун —
с дарителем Морозкой. Дубыня иногда
даже и выступает не как помощник, а как
даритель. Герой встречает человека,
несущего дрова в лес. «Зачем в лес
дрова несешь?» — «Да это не простые
дрова». — «А какие же?» — «Да
такие: коли разбросить их, так вдруг
целое войско явится» (Аф. 144).
Таким
образом из огромного количества всяческих
искусников четыре типа могут быть
определены как хозяева стихий. Это —
Мороз-Трескун, усыня, Горыня и Дубыня.
Они подчиняются герою в силу совершаемых
им культовых или иных действий, но этот
момент в сказке сохранен лишь в рудиментах
и заменен случайной встречей с этими
помощниками.
Мы
можем обратиться к другой группе
искусников, которые ничего общего с
хозяевами стихий не имеют. К ним относятся
стрелец, скороход, кузнец, зоркий, чуткий,
кормчий, пловец и др.
Сопоставление
материалов показывает, что они представляют
собой персонифицированные способности
проникновения вдаль, ввысь и вглубь. С
ними мы еще встретимся при изучении их
функций в связи с трудными задачами
царевны.
14.
Развитие представлений о помощнике
При
всем разнообразии помощники в сказке
составляют некую группу, объединенную
функциональным единством.
Все,
что здесь говорилось об отдельных видах
помощников, имеет только частное
значение. Мы должны поставить вопрос о
помощниках вообще, как общем явлении
сказочного канона. С передачей герою
помощника мы уже встречались. Помощника
герою часто дарит яга. Исторические
корни яги выяснены. Она связана с
посвящением. В обряд посвящения входила
передача юноше волшебной или магической
власти над животными. Однако исторические
параллели к отдельным видам помощника
не привели нас к обряду посвящения. Они
привели нас к шаманизму, к культу предков,
к загробным представлениям. Когда умер
обряд, фигура помощника не умерла с ним,
а в связи с экономическим и социальным
развитием стала эволюционировать, дойдя
до ангелов-хранителей и святых христианской
церкви. Одним из звеньев этого развития
является и сказка.
В
истории помощников можно в основном
наметить три ступени или три звена.
Первое звено — приобретение помощника
so время обряда посвящения, второе —
приобретение помощника шаманом, третье
— приобретение помощника в загробном
мире мертвецом. Эти три звена не следуют
механически друг за другом. Это —
ориентировочные вехи, указывающие
направление развития. Рассмотрим сперва
вопрос о помощниках в пределах обряда
посвящения.
Вопрос
этот очень мало разработан в этнографии,
хотя он касается самой сути посвящения.
Шурц, специально занимавшийся вопросом
о посвящении, не уделяет этой стороне
дела никакого внимания. Гораздо больше
говорит об этом Вебстер. «Фундаментальной
доктриной была вера в личного
духа-хранителя, в которого путем различных
обрядов фаллического характера члены
общества, как предполагали, превращались»
(Webster 125).
Итак,
во время обряда посвящения юноша
превращался в своего помощника. Даже,
если бы мы знали только это, мы бы уже
были вправе поставить вопрос о связи
сказочного помощника с институтом
посвящения. Это объяснило бы нам как
приобретение его в царстве смерти (ибо
посвящаемый предполагался умершим),
так и связь этого помощника с миром
предков. На эту связь указывалось выше,
особенно при изучении коня и благодарных
животных. Это же объясняет связь помощника
с миром предков. Дух-помощник у некоторых
племен Северной Америки носит название
Маниту. Этот Маниту передается по
наследству. «Когда юноша готовится
встретить духа-помощника, он ожидает
встретить не какого-нибудь одного, а
помощника своего клана» (151). Таким
образом, между посвящаемым и его
помощником имеется предустановленная
связь. В сказке герой прежде всего ищет
коня, притом не какого-нибудь коня, а
коня своего отца, и этот конь уже давно
ждет своего повелителя. Во всех этих
случаях Вебстер называет помощника
безразлично guardian spirit. Но мы знаем, что
этот помощник имеет животную природу.
Частью этого обряда были пляски, при
которых надевали на себя шкуру различных
животных — быков, медведей, лебедей,
волков и др. Головы их служили масками
(183). Это и символизировало превращение
в животное. С другой стороны, способность
эта передавалась предками, старшими —
исполнителями обряда посвящения (61).
Посвященные путем песен и плясок вызывали
помощника (151). Ни песен, ни плясок сказка
не сохранила. Она заменила их заклинательной
формулой. Там, где выработалась
многоступенчатость тайных братств,
переход от низшей к высшей ступени
разрешался только тем, кто обладал таким
помощником. Доступ к этим обществам
зависит от приобретения каждым мальчиком
во время наступления половой зрелости
личного духа-хранителя (Маниту или
индивидуального тотема), такого же,
каким обладает тайный союз, в который
он стремится вступить» (152). У племени
квакиутл эти помощники и связанные с
ними привилегии, добытые каждой
благородной семьей, передаются прямым
потомкам по мужской линии или через
женитьбу на дочери такого мужского
потомка зятю, а через него — его внукам
(150). Все эти указания очень важны. Они,
между прочим, объясняют испытание героя,
который перед вступлением в брак должен
доказать, что у него есть помощник. На
этом, как мы увидим ниже, основан мотив
«трудных задач». Они же ставят в
связь приобретение помощника и вступление
в брак, о чем речь будет при анализе
царевны.
Но
и Вебстер, откуда заимствованы эти
сведения, ничего не говорит о смысле и
значении приобретения помощника. Мы
можем здесь сослаться на легенду,
приведенную у Боаса. «Один человек
пошел однажды в горы, чтобы охотиться
на горных коз. Тут он встретил черного
медведя, который взял его в свой дом.
Он
учил его искусству ловить лососей и
строить лодки. Через два года он вернулся
на свою родину. Когда он пришел, все люди
боялись его, так как он выглядел, как
медведь… он не мог говорить и не хотел
есть ничего вареного. Тогда его натерли
волшебными травами и он стал опять
человеком… Отныне, когда он испытывал
нужду, он всегда уходил к своему другу,
медведю, и он всегда ему помогал. Зимой
он ловил ему свежих лососей, когда никто
другой ловить не мог. Человек этот
построил дом и нарисовал на нем красками
медведя. Его сестра выткала медведя в
покрывало, с которым пляшут. Поэтому
потомки сестры имеют знаком медведя»
(Boas 1895, 293). В этом рассказе ясно и пребывание
два года в доме медведя, и то, что по
возвращении герой теряет речь, и то, что
он хочет есть только сырое. Этот случай
важен тем, что он показывает результаты
пребывания в доме медведя, и тем самым
вскрывает цель и смысл соответствующего
обряда: герой возвращается великим
охотником, имеющим власть над животными.
Этот случай показывает также, почему
животные-помощники столь разнообразны.
Дело вовсе не в том (как полагают некоторые
этнографы), чтобы овладеть сильным
животным. Этот медведь учит строить
лодки и ловить рыбу — занятие, вовсе не
свойственное медведям. Эту функцию
могло бы исполнить любое другое животное.
Животное важно не своей физической
силой, а своей связью, принадлежностью
к царству животных вообще.
Такова
древнейшая форма, древнейший источник
мотива волшебного помощника. О том, что
было до того, как появилось посвящение,
мы можем только гадать, материалов же,
могущих раскрыть эту праформу, нет.
Здесь
нет еще тех разнообразных функций,
которые свойственны помощнику, в
частности нет посредничества между
двумя мирами. Нет здесь также антропоморфных
и невидимых помощников. Способность
превращения в свой тотем или своего
помощника мы должны в свете этих
материалов признать наиболее архаической
формой власти над помощниками. Сказка,
как мы видим, ее сохранила. Охотничьи
цели мы должны признать древнейшим
движущим мотивом, вызвавшим в свет
понятие о помощнике или Маниту или, по
английской терминологии, guardian spirit.
Однако
охотничьих функций сказка почти не
сохранила. Есть некоторые рудименты их
в тех, например, случаях, когда герой,
живя в лесу с злой сестрой, получает от
волка, медведя и льва по детенышу; эти
звери в сказке именуются «охотой»
героя.
Там,
где нет (может быть уже нет) посвящения,
приобретение помощника происходит
индивидуально. Форма приобретения
помощника, однако, сильно напоминает
то, что происходит при обряде: нет только
лица, производящего посвящение. Юноша
один уходит в лес или на гору, молчит,
постится и т. д. Такая форма имеется как
в Америке, так и в Африке. Анкерман,
ссылаясь на Триля, говорит о племени
фнаг следующее: «Праотец каждого рода
(Sippe) имел животное в качестве «elanela».
Это слово Триль переводит как «animal
voue ‘a um homme», т. е. животное, обязанное
человеку помощью» (Ankermann 139). Однако
явление индивидуального приобретения
помощника в целом более позднее явление.
В этих случаях помощника приобретают
уже не все, а большей частью только
избранные, шаманы, которые и считаются
обладателями могущественных духов,
животных-помощников. Как тайные союзы
постепенно замыкаются в касту, показал
Вебстер. Но шаманы большей частью все
же еще не образуют касты. «Каждый
индеец, — говорит Геберлин, имеет
духа-помощника, которого он находит в
юности или позже, иногда и нескольких
— специально для охоты, рыбной ловли,
промыслов, войны и т. д. Помощники против
болезней — духи шаманов. Большинство
этих духов имеет форму животных»
(Haeberlin).
Это
приводит нас к рассмотрению помощников
шамана. То, чего недостает в образе
помощника, добываемого при посвящении,
— посредничества между двумя мирами и
др., — дает нам помощник шамана. Это —
более поздняя ступень. «Сверхъестественная
сила шамана, — говорит Штернберг, —
покоится не в нем самом, а в тех
духах-помощниках, которые находятся в
его распоряжении. Это они изгоняют
болезни, они ведут шамана в самые
отдаленные, недоступные обыкновенному
смертному места, чтобы отыскивать и
выручать душу больного, они помогают
приводить душу умершего в загробный
мир и они внушают ответы на все запросы,
предъявляемые шаману. Без этих духов
шаман бессилен. Шаман, потерявший своих
духов, перестает быть шаманом, иногда
даже умирает» (Штернберг 1936, 141).
Способы, какими шаман приобретает
помощников, различны. Кребер, исследовавший
религию индейцев в Калифорнии, говорит:
«Самый обычный путь приобретения
шаманской силы в Калифорнии — это видеть
сны. Дух, будь ли то дух животного или
местности, солнца или другого предмета
природы, умерший родственник или
совершенно бестелесный дух, навещает
будущего шамана в его снах, и установившаяся
между ними связь есть источник и основа
силы его. Дух становится его духом-хранителем
или «personal», от него он получает
песни и обряды или знание заклинаний,
что дает ему способность вызвать или
отозвать болезнь и делать и выносить
то, чего другие не могут» (Kroeber 1907, IV,
325).
В
Калифорнии у племени шасту полагают,
что земля полна некиих «потенций,
болей», которые обитают преимущественно
в человеческом виде в скалах, озерах,
порогах, на солнце, луне и т. д., или же
они животные, насылающие болезнь, смерть
и всяческое зло. Они же являются
помощниками шаманов (Preuss 1911, 235).
Приобретение помощников происходит
иначе, чем это описывает Кребер. Здесь
помощник «стреляет» в шамана,
который при этом испытывает внезапную
боль (einen zucken den Schmerz). Вспомним, что в
сказке конь лягает героя, отчего он
приобретает силу.
Материалов
по помощнику шамана так много, что нет
необходимости входить в этот материал
подробно. Остановимся только на некоторых
случаях, особенно близких к сказке и
объясняющих ее. Особый интерес представляют
для нас материалы по алтайцам, сообщенные
Анохиным. «Помощь ару кормосов является
необходимой при сношениях с духами неба
и подземного мира, путь к которым
загражден препятствиями. Препятствия
эти подробно описываются в камланиях.
Шаман побеждает все препятствия
исключительно только с помощью ару
кбрмосов. Во время путешествия они
являются живой силой и охраняют шамана
от опасностей, ведут борьбу со злыми
духами, встречающимися в пути. Ару
кормосы невидимо облекают собой шамана:
сидят на его плече, на голове, на руках,
на ногах, в различных направлениях
опоясывают его стан и в призываниях
именуются за это броней или обручем (у
одних шаманов их больше, у других меньше).
Во главе всех духов, составляющих
шаманскую броню, стоит всегда личный
кровный дух-покровитель, от которого
шаман ведет свое преемство» (Анохин
29). Здесь помощник уже утерял свою
животную природу. Он стал невидимым.
Очень характерно название духа «броней».
Настоящая стихия сказочного помощника
— воздух. Таков, например, Шмат-Разум и
другие невидимые помощники героя.
«Шмат-Разум! ты здесь?» — «Здесь,
не бойся, я от тебя не отстану» (Аф.
212). Этот «Невидим» является
посредником между двумя мирами. Он по
воздуху переносит героя в иной мир. Но
наряду с невидимыми помощниками имеются
у алтайцев и зооморфные существа. Одно
из таких существ — Суйла. Он имеет конские
глаза и видит кругом на таком расстоянии,
которое можно проехать в 30 дней. Некоторые
шаманы представляют себе Суйлу в виде
птицы беркута с лошадиными глазами
(Анохин 13). Эта смена происходит не сразу,
переходом являются гибридные существа.
Можно
наблюдать, что охотничья функция
помощников постепенно отходит на задний
план, сменяясь функцией лечения и
функцией посредничества между двумя
мирами. Особое значение начинают
приобретать животные, служащие для
передвижения (отсюда конь), а с ними
ассимилируются средства передвижения,
в особенности лодка. Так, в сказке
искусники оказываются уже в лодке,
составляют команду корабля. В лодке же
плывут и аргонавты весьма сходные с
нашими Симеонами. Эта поездка в иной
мир как в античности, так и в нашей
сказке, уже совсем вытеснила охотничью
основу. Шаман и его помощники постепенно
становятся уже не охотниками, а лекарями,
охотниками за душами. В вавилонском
мифе Нергал, отправляясь в подземный
мир, берет с собой семь помощников,
данных ему отцом. Их имена — молния,
лихорадка, зной и др. Таблички плохо
сохранились, но отсутствие охоты,
отправка в иное царство, персонификация
стихий, связь с шаманизмом-лечением
ясны. В дальнейшем Нергал женится на
Эришкигал, царице подземного царства.
Очевидно, семеро помощников ему при
этом помогают. Таким образом эта наиболее
поздняя стадия наиболее близка к сказке
(Jeremias 22).
Это
приводит нас к рассмотрению посмертного
помощника. Первоначально, когда между
жизнью и смертью еще не делали резкого
отличия, естественно, не могло быть
специфической фигуры посмертного
помощника. Но так как весь комплекс
посвящения теснейшим образом связан с
представлением о смерти, элементы его
перешли в культ мертвых, создав посмертных
помощников, последним ответвлением
которых можно считать представление
об ангелах, т. е. полузооморфных (крылатых)
существах, уносящих душу на небо. Явление
это — позднее, оно дает свой расцвет в
государственном культе мертвых, каковой
в наиболее развитой форме мы имеем в
древнем Египте. Из работ Тураева,
Видемана, Брэстеда и других мы знаем,
что такого рода посмертные помощники
имелись и в Египте. В гробницах были
найдены пластинки с изображением гениев,
как выражается Тураев, «помогавших
покойнику за гробом».
Специальное
рассмотрение этого египтологического
вопроса не может входить в наши задачи.
Наша задача — указать на имеющуюся здесь
связь.
Мы
наметили основные этапы в развитии
помощника. Наиболее древней формой
оказалось представление о превращении
в животное во время посвящения. В
дальнейшем он приобретается индивидуально,
а еще позже — только шаманом. С приобретением
его шаманом он приобретает новые функции
— функции посредничества между двумя
мирами, а охотничья природа помощника
начинает отступать на задний план.
Фигура помощника также начинает меняться.
Животное начинает уступать духу, а среди
животных начинают появляться животные,
связанные с передвижением человека:
орел сливается с конем. Но если набросанная
здесь схема верна, то сказка отразила
все стадии его развития: сказка знает
и превращения, и помощников — зверей, и
птиц, и духов, и группу искусников, связь
которых с охотничьими орудиями все еще
ясна у алтайцев; и коня, и т. д. Вопрос
же, как эта фигура попадает в сказку,
есть вопрос общий о том, как вообще
религиозные представления попадают в
сказку. Об этом мы скажем в последней
главе.
QQQ
II.
Волшебный предмет.
15.
Предмет и помощник
Рассмотрение
волшебного помощника облегчает и
подготовляет рассмотрение волшебного
предмета. Между ними существует теснейшее
родство.
Легко
заметить, что эти предметы представляют
собой лишь частный случай помощника.
Помощники, живые существа и волшебные
предметы, принципиально функционируют
совершенно одинаково. Так, конь переносит
героя за тридевять земель, но то же
достигается при помощи ковра-самолета
или сапог-самоходов. Конь побивает рать,
но и дубина сама бьет врагов и даже берет
их в плен и т. д. Конечно, есть специфические
помощники и специфические предметы,
которые не могут быть взаимозаменяемы.
Но эти отдельные случаи не нарушают
принципа морфологического родства их.
Число волшебных предметов в сказке так
велико, что описательное рассмотрение
их не приведет ни к каким результатам.
Нет, кажется, такого предмета, который
не мог бы фигурировать как предмет
волшебный. Тут различные предметы одежды
(шапка, рубашка, сапоги, пояс) и украшения
(кольцо, шпильки), орудия и оружие (меч,
дубина, клюка, лук, ружье, кнут, палка,
тросточка), всякого рода сумки, мешки,
кошельки, сосуды (бочки), части тела
животных (волосы, перья, зубы, голова,
сердце, яйца), музыкальные инструменты
(свистки, рожки, гусли, скрипка), различные
предметы обихода (огниво, кремень,
полотенца, щетки, ковры, клубочки,
зеркала, книги, карты), напитки (вода,
зелье), плоды и ягоды. Сколько бы мы ни
классифицировали и ни перечисляли их,
этот перечень не дает ключа к их пониманию.
Не
лучше будет, если мы подойдем к предметам
со стороны их функций. Одни и те же
функции приписываются различным
предметам и наоборот. Так, молодцы,
исполняющие приказания героя, могут
являться из рожка (Аф. 186), из сумы (187), из
бочки (197), из ящичка (189), из-под тросточки,
если ею ударить о землю (193), из волшебной
книги (212), из кольца (156, 190, 191). Функции
эти будут нами изучены специально. Так,
функция переноса героя в тридесятое
царство составит предмет особой главы.
Поэтому
мы будем классифицировать волшебные
предметы иначе: мы рассмотрим их не по
группам предметов как таковых, и не по
функциям, а по общности их происхождения,
поскольку это позволяют нам материалы.
16.
Когти, волосы, шкурки, зубы.
Волшебные
предметы не только морфологически
родственны волшебным помощникам. Они
имеют такое же происхождение, как
последние. Так, многие волшебные предметы
представляют собой части тела животного:
шкурки, волоски, зубы и т. д. Мы знаем,
что при посвящении юноши получали власть
над животными и что внешним выражением
этого было то, что им давалась часть
этого животного. Отныне юноша носил ее
с собой в мешочке, или он ее съедал, или,
наконец, эти части втирались в человека.
Таким образом, к этой категории надо
еще отнести мази: они тоже животного
происхождения, как это легко прослеживается
и в сказке.
Чаще,
однако, часть животного дается в руки
и служит средством власти над животным.
Это происходит даже при индивидуальном
приобретении помощника. У индейцев
арапахо для этого уходят на вершину
горы. «Через два-три, максимум семь
дней, мужчине является дух-покровитель,
обычно — маленькое животное в человеческом
облике, которое, однако, убегая, принимает
животный вид» (Preuss 1911, 249). Шкура такого
животного затем носится. Из этих и
подобных случаев мы заключаем, что
древнейшая форма волшебных предметов
— части животных. Смысл такого подарка
в сказке сохранен с полной ясностью:
волоски из хвоста коня дают власть над
конем. То же относится к птицам: «И
вот главная птица встает, дает ему
перышко из головы: «Вот, этот волосок
похрани, спрячь: какая бы беда ни
случилась, так ты только этот волосок
вынь, из руки в руку перемени, — мы тебе
поможем во всем»» (3В 129). Герой
получает щучью косточку, в критический
момент щука прячет его в своем гнезде
или глотает его, герой превращается в
нее (Ж. ст. вариант: он получает воронью
косточку, львиный коготь, рыбью чешуйку
и пр.). Финист Ясный Сокол также дарит
девушке перо из своего крыла: «Махни
им в правую сторону «в миг перед тобой
явится все, что душе угодно» (Аф. 235).
Формула «все, что душе угодно»,
конечно, — поздняя замена других, более
древних и более точных желаний. Эти
желания сосредоточивались вокруг самого
животного, вокруг животного — добычи.
В американских мифах это сквозит
совершенно ясно. «Он увидел человека,
сидящего на высоком берегу. Его ноги
свисали над пропастью. У него было две
круглых трещотки. Он пел и бил трещотками
о землю. Тогда буйволы появлялись толпами
по каждую сторону его, падали на берег
и оказывались убитыми» (Kroeber 1907, I, 75).
Известно, что трещотки обычно делались
в форме животного, чаще всего — птицы.
Таким образом мы и здесь находим то
явление, что вовсе не надо обладать
сильным животным, чтобы иметь власть
над животными. Принципиально ворон
может дать хорошую охоту на буйволов.
Такая вера имеется у многих народов, в
том числе у народов, не знающих обряда
посвящения. Такая вера имеется у
вогульских охотников. Д. К. Зеленин
говорит: «Вогульское поверье гласит:
если иметь при себе мордочку лисицы,
соболя или горностая, то все будет
удаваться» (Зеленин 1929, 56).
Если
наше наблюдение верно, если между
животным помощником (субъектом помощи)
и животным, на которое охотятся (объект
помощи), не обязательно существует
связь, то любое животное и любой предмет
могут служить помощником, Тогда
несоответствие между помощником и его
функцией, неприкрепленность функции к
отдельным животным или предметам,
создающие впечатление фантастики, не
просто прием поэтического творчества,
а также исторически обосновано в
первобытном мышлении. Описывая лекарские
мешки, играющие роль при посвящении,
Фрэзер говорит: «Эта сумка изготовлена
из кожи животного (выдры, кошки, змеи,
медведя, енота, волка, совы, горностая)
и имеет форму, отдаленно напоминающую
форму соответствующего животного. Одна
из таких сумок имеется у каждого члена
общества; он держит в ней нелепой формы
предметы, являющиеся его амулетами или
«чарами»» (Фрэзер 652) Эти талисманы
и амулеты, в основе своей связанные с
животными, и есть прообраз наших
«волшебных даров», среди которых
особый класс представляют всякого рода
мешки, сумки, кошельки, коробочки и т.
д. Из этих сумок и ларчиков появляются
духи-помощники. Это приводит нас к
предметам (не только животного
происхождения), из которых появляются
духи. Но раньше, чем перейти к этим
предметам, надо рассмотреть те предметы,
для которых можно показать их происхождение
из орудий.
17.
Предметы-орудия.
Все,
о чем говорилось до сих пор, показывает
одну знаменательную черту в мышлении
первобытного человека. Главную роль в
охоте играет якобы не орудие: не стрелы,
сети, силки, ловушки. Главное — магическая
сила, умение привлечь животное. Если
животное убивалось, то это происходило
не потому, что стрелок был ловок или
стрела была хороша; это происходило
оттого, что охотник знал заклинание,
подводящее зверя под его стрелу, потому
что он имел над ним магическую власть
в виде мешочка с волосками и т. д. Функция
орудия испытывается пока как нечто
вторичное. Энгельс говорит: «…различные
ложные представления о природе, о
существе самого человека, о духах,
волшебных силах и т. д. имеют по большей
части экономическую основу лишь в
отрицательном смысле; низкое экономическое
развитие предысторического периода
имеет в качестве дополнения, а порой в
качестве условия и даже в качестве
причины ложные представления о природе»
(Маркс, Энгельс XXVII, 419). Частный случай
такого неправильного представления о
природе мы имеем здесь. По мере того,
как совершенствуются орудия, можно
наблюдать следующее явление: магическая
сила, приписываемая сперва животному-помощнику
через какую-нибудь часть его, переносится
теперь на предмет. Человек в меньшей
степени замечает свое усилие и в большей
— работу орудия. Так получается концепция,
что орудие работает не в силу прилагаемых
усилий (чем совершеннее орудие, тем
меньше усилия), а в силу присущих ему
волшебных свойств. Получается представление
об орудии, работающем без человека, за
человека. Орудие теперь обожествляется.
Обожествленное орудие наряду с волшебным
волосами и пр. есть второй, более поздний,
субстрат в истории волшебных предметов.
Функции орудия являются причиной его
обожествления. Очень наивно, но вместе
с тем совершенно правильно об этом
говорится в северорусской рукописи XVI
века «Сад спасения», посвященной
обращению в христианство лопарей. «Аще
иногда камнем зверя убиет — камень
почитает, и аще палицею поразит ловимое
— палицу боготворит» (Харузин 1890,
137). Это чисто охотничья вера ‘держится
еще при примитивном земледелии: некоторые
индейцы «молятся своим палкам, которыми
они копают коренья» (Штернберг 1936,
268). Представление, что орудие действует
не в силу прилагаемого труда, а
исключительно в силу присущих ему особых
способностей, как указано, приводит к
представлению об орудиях, действующих
без человека. Такие орудия имеются в
охотничьих мифах и дошли до нас в сказке.
В мифе индейцев Таулипанг герой только
всаживает свой нож в куст — и нож сам
начинает срезать деревья. Он ударяет
топором по дереву — топор сам начинает
рубить его (Koch-Grilnberg 125). Стрела, пущенная
наугад в воздух, сама поражает птиц и
т. д. (92).
В
сказке топор сам вырубает корабль (Аф.
212) или рубит дрова (165), ведра сами приносят
воду. Интересно, что древняя связь с
животным и здесь еще не утеряна. Это
делается по щучьему веленью. Но эта
связь в сказке не обязательна. Дубинка
сама бьет врагов и забирает их в плен,
при помощи помела и клюки «хоть какую
угодно силу победить можно» (185) и т.
д. Здесь связь уже утеряна.
18.
Предметы, вызывающие духов.
Приведенные
материалы приблизят нас к пониманию
предметов, при помощи которых можно
вызвать духов. Такие предметы могут
быть как животного состава (волоски
коня), так и орудия (дубинка) и целый ряд
других предметов (кольцо).
Вышеприведенные
случаи показывают, как некогда понимали
предметы, вещи и в особенности — орудия.
В них живет сила. Но сила есть абстрактное
понятие. Для выражения понятия силы ни
в языке, ни в мышлении нет средств. Тем
не менее процесс абстрагирования все
же происходит, но это абстрагированное
понятие инкорпорируется, или, точнее
выражаясь, представляется живым
существом. Это видно по волоскам,
вызывающим коня. Сила присуща всему
животному и всем частям его. В волосках
есть та же сила, что и во всем животном,
т. е. в волосе есть конь, так же как он
есть в уздечке, так же как в кости — все
животное. Представление силы невидимый.
существом есть дальнейший шаг на пути
к созданию понятия силы, т. е. к потере
образа и к замене его понятием. Так
создается концепция колец и других
предметов, из которых можно вызвать
духа. Здесь мы видим уже более высокую
ступень, чем поклонение орудию. Сила
откреплена от предмета и вновь прикреплена
уже к любому предмету, внешне не
представляющему никаких признаков этой
силы. Это и есть «волшебный предмет».
Однако
мы до сих пор говорили о подобных
предметах, как будто бы они были не
достоянием сказки, а достоянием практики.
Действительно ли такие предметы
существовали в обиходной практике?
Такие предметы действительно существовали
и употреблялись, и мы считаем это явление
достаточно известным, чтобы на нем не
останавливаться. Это — так называемые
фетиши, амулеты, талисманы и т. д. В
сравнительной этнографии вопрос этот
все еще ждет своего исследователя. Формы
и способ употребления этих предметов
иногда в точности совпадают с той
картиной, которую дает сказка. Укажем
хотя бы на племя, которое знает «кольца,
которые обладают свойством ставить
носителя их в связь с некоторыми духами»
(Frobenius 18986, 326). Таким образом и здесь
сказка содержит отголоски прошлого.
19.
Огниво.
Среди
предметов, способных вызвать помощника,
особое место занимает огниво, вызывающее
главным образом коня. В сказке это обычно
кремень и кресало, иногда в соединения
с волосками. Волоски нужно зажечь, чтобы
вызвать коня. Что огниво почти стабильно
(но не исключительно) связанно именно
с конем, объясняется его огненной
природой.
В
огниве волшебные силы, свойственные
вещам, сказываются особенно ярко,
особенно сильно. Кремень и кресало
очевидно заменили более древние формы
огнива, когда огонь добывался путем
трения. Мы уже видели, как путем трения
двух палочек вызывается Агни. Поэтому
огниво вообще есть волшебный предмет,
служащий для вызова духов, а не только
коня. Так, в белорусской сказке герой в
лесной избушке находит кисет, в котором
нет табаку, но есть огниво «кремешок
и мысатик». «Дай, я попробую сикануть!
Это подорожному человеку сгодится.
Сиканул он мысатиком по кремешку —
выскакивают 12 молодцов. «Что тебе от
нас нужно?»» (Добровольский 557) В
немецкой сказке (Гримм, 116) нужно закурить
трубку, чтобы вызвать духа. Это объясняет
нам и лампу Алладина, и может быть и то,
что и волшебное колечко иногда нужно
потереть, чтобы явился дух-помощник.
20.
Палочка.
К
совершенно иным представлениям восходит
палочка, прутик или тросточка. Предметы,
о которых шла речь до сих пор, идут или
от животных, или от орудий. Палочка
создалась в результате общения человека
с землей и растениями. Сказка не сохранила
только одного обстоятельства: прутик
срезается с живого дерева, и тогда он
может оказаться волшебным, перенося
чудесное свойство плодородия, обилия
и жизни на того, с кем он соприкасается.
По свидетельству Маннгардта, люди,
животные, растения в различные времена
года ударяются или стегаются зеленой
веткой (resp. палочкой), чтобы стать
здоровыми и сильными (Маннгардт). Таких
случаев им приводится очень много, и
они ясно показывают, что здесь на
ударяемого переносится жизненная сила
растения. То же самое приписывается
корням и травам- В сказке «Притворная
болезнь» (Аф. 207) убитый царевич
оживляется корешком, подарком старика.
«Они взяли корешок, нашли могилу
Ивана-царевича, разрыли, вынули его, тем
корешком вытерли и три раза перевернулись
через него — Иван-царевич встал». Сила
корешка переходит на человека. В другой
сказке змея оживляет другую, приложив
к ней зеленый листок (206, вар.) (об этом
подробнее в главе о змее). Отсюда понятно,
почему и «плетка-живулька» оживляет
мертвою (Онч. 3).
21.
Предметы, дающие вечное изобилие.
Ко
всему сказанному надо прибавить, что
не каждый, не всякий предмет каждого
рода может быть волшебным, а только
добытый известным образом. При
существовании обряда посвящения таким
был предмет, полученный от старших. В
сказке таким является предмет, данный
мертвым отцом, ягой, благодарным
похороненным мертвецом, животными-хозяевами
и т. д. Короче говоря, волшебным является
предмет, взятый «оттуда». «Оттуда»
— это для более ранней стадии означает
«из леса» в широком смысле этого
слова, а позже — предмет, принесенный
из иного мира, а по сказочному — из
тридесятого царства. Не всякая вода
оживляет мертвого. Но вода, принесенная
птицей из тридесятого царства, оживляет
мертвеца. Отсюда видно, что есть группа
предметов, волшебная сила которых
основана на том, что они принесены из
царства мертвых. Сюда относится вода,
возвращающая жизнь или зрение, яблоки,
дающие молодость, скатерти, дающие
вечное питание и изобилие и т. д. Мы пока
только регистрируем этот факт. Объяснен
он может быть только тогда, когда будет
рассмотрено тридесятое царство и его
свойства (см. гл. VIII).
22.
Живая и мертвая, слабая и сидльная вода..
Среди
этих предметов особого внимания
заслуживает живая и мертвая вода и
разновидность ее — сильная и слабая
вода. Живая и мертвая вода — не
противоположны друг другу. Они друг
друга дополняют. «Спрыснул Ивана-царевича
мертвою водою — его тело срослося,
спрыснул живою водою — Иван-царевич
встал» (Аф. 168). Такова каноническая
формула применения этой воды.
Здесь
возникают два вопроса: первый — откуда
эта вода берется? и второй — почему эта
вода сдваивается? Почему нельзя просто
спрыснуть мертвеца живой водой, как
это, впрочем, в некоторых редких случаях
и делается?
Чтобы
ответить на этот вопрос, мы рассмотрим
некоторые материалы, касающиеся веры
в загробную жизнь греков. Античные
представления, связывавшиеся у древних
греков с верой в загробную жизнь,
соединялись, по-видимому, нередко с
представлением о двух видах воды
подземного царства, на что определенно
указывают, например, южноиталийские
таблички. Так петелийская золотая
табличка (Inscriptiones Graecae 158; Dieterich 1893, 86),
вкладываемая в гроб покойнику, говорит
душе скончавшегося, что в доме Аида она
увидит два различных источника:
один
по левую, другой по правую руку. У первого
растет белый кипарис, но не к этому
источнику должна она приближаться.
Таблички велят душе обернуться направо,
туда, где из пруда Мнемосины течет
освежающая вода, около которой стоят
ее стражи. К ним должна обратиться душа
и сказать: «Я изнемогаю от жажды! Дайте
напиться мне!»
Присмотримся
внимательнее к этому тексту. Говорит и
он о двух водах. Одна из них не охраняется
и не представляет никакого блага для
мертвеца; другая, наоборот, охраняется
очень тщательно, и раньше, чем дать этой
воды, мертвеца выспрашивают. Какая же
это вода? В тексте она не названа ни
живой, ни мертвой. Но она — благо для
умершего, вода для мертвецов или, иначе
говоря, вода «мертвая». Можно
предположить, что эта вода успокаивает
умершего, т. е. дает ему окончательную
смерть или право на пребывание в области
Аида.
Но
для чего тогда служит другая вода,
стоящая налево и никем не охраняемая?
Из данного текста это не видно. По
некоторым параллелям можно предположить,
что это — «вода жизни», вода для
мертвецов, не входящих в Аид, а
возвращающихся из него.
До
входа в Аид она не имеет никакого
действия, поэтому она и не охраняется.
Это явствует из вавилонского катабазиса
богини Иштар. Как говорит Иеремиас, «она
отпускается обратно после того как
привратник вынужденным образом
вспрыскивает ее водой жизни» (Jeremias
32). Если высказанные здесь предположения
верны, то это объясняет, почему героя
сперва опрыскивают мертвой водой, а
потом живой. Мертвая вода его как бы
добивает, превращает его в окончательного
мертвеца. Это своего рода погребальный
обряд, соответствующий обсыпанью землей.
Только теперь он — настоящий умерший,
а не существо, витающее между двумя
мирами, могущее возвратиться вампиром.
Только теперь, после окропления мертвой
водой эта живая вода будет действовать.
Если
предположения, высказанные здесь, верны,
то они бросают некоторый свет на «сильную»
и «слабую» воду. Эти воды стоят по
правую и левую руку пришельца. Они
имеются или в погребе у яги, или у змея.
Как
яга, так и змей являются охранителями
входа в иное царство. Змей охраняет реку
и мост, ведущие в тридесятое государство.
«Сильная стоит на правой руке моста,
а слабая — на левой» (Аф. 137, вар.). Перед
боем эти воды подмениваются. Герой пьет
«сильную» воду, убивает змея и
попадает в иное царство.
Аналогия
с приведенным греческим материалом
достаточно полна. Но все же она не
абсолютна. На вопрос, какую же воду пьет
герой — живую (т. е. для живых) или мертвую
(т. е. для мертвых), нельзя дать точного
ответа. Здесь точность и первоначальный
смысл уже утеряны, стерты. На этот вопрос
так же нельзя ответить, как на вопрос
— представляет ли собой герой мертвеца
или живое существо. Он — живое существо,
вторгающееся в царство умерших как
дерзкий нарушитель и похититель.
Нарушение установленного порядка мы
имеем и здесь. Герой пьет не ту воду,
которую ему как мертвецу было бы положено,
и этим приобретает силу, похищает ее,
так же, как он похищает молодильные
яблоки и другие диковинки.
Таким
образом, я предполагаю, что «живая и
мертвая вода» и «слабая и сильная
вода» есть одно и то же. Ворон, улетающий
с двумя пузырьками, приносит именно эту
воду. Мертвец, желающий попасть в иной
мир, пользуется одной водой. Живой,
желающий попасть туда, пользуется также
только одной. Человек, ступивший на путь
смерти и желающий вернуться к жизни;
пользуется обоими видами воды.
Эти
предположения должны остаться гипотезой
до нахождения других более точных
материалов. Но в свете этих предположений
мы можем утверждать, что Иштар раньше
чем попасть в иной мир, пьет одну воду
«мертвую», и что здесь пропуск.
Возвращаясь, она пьет другую. Необходимо
только еще прибавить, что эту сдвоенную
воду необходимо отличать от «целющей
и живущей» воды, исцеляющей слепоту
и пр., также добываемой на том свете. Об
этой воде речь будет при рассмотрении
тридесятого царства.
23.
Куколки.
Итак,
рассмотрение некоторых волшебных
предметов опять приводит нас к той
области, к которой приводит рассмотрение
многих других элементов: к царству
мертвых.
К
этой же сфере приводит рассмотрение
еще одного предмета, который стоит на
границе волшебных помощников и волшебных
предметов, а именно — куколок.
Такая
куколка фигурирует в сказке «Василиса
Прекрасная» (Аф. 104). Здесь умирает
мать: «Умирая, купчиха призвала к себе
дочку, вынула из-под одеяла куклу, отдала
ей и сказала: «Я умираю и вместе с
родительским благословением оставляю
тебе вот эту куклу; береги ее всегда при
себе и никому не показывай, а когда
приключится тебе какое горе, дай ей
поесть и спроси у нее совета»».
Азадовский, Андреев и Соколов, издававшие
Афанасьевский сборник, склонны считать
этот мотив не фольклорным, так как он в
фольклоре не имеет аналогий. Но, во-первых,
эти аналогии есть: в сказке «Грязнавка»
(См. 214) имеются куколки, к которым
обращаются с той же формулой, что и у
Афанасьева: «Вы, кукалки, кушайтя, мое
горе слушайтя». В северной сказке: «У
меня в сундуке есть цетыре куколки, как
че надо, они тебе помогут», — говорит
мать перед смертью своей дочери (Сев.
70). Попутно обращаем внимание на то, что
куклу эту надо кормить. Во-вторых, куколки
широко фигурируют в верованиях самых
различных народов, причем аналогия со
сказкой довольно точна.
Чтобы
лучше понять этот мотив, приведем еще
один случай из сказки. В сказке «Князь
Данила-Говорило» (Аф. 114) преследуемая
девушка постепенно погружается в землю
(т. е. уходит в преисподнюю) и оставляет
вместо себя четырех куколок, которые
отвечают преследователю за нее ее
голосом. В этом случае куколка служит
заместителем ушедшего под землю.
Именно
такую роль куколка играла в верованиях
очень многих народов. «Известно, что
остяки, гольды, гиляки, орочи, китайцы,
а в Европе — мари, чуваши и многие другие
народы делали в память умершего члена
семьи «деревянного болвана» или
куклу, которые считались вместилищем
для души покойного. Изображение это
кормили всем тем, что ели сами, и вообще
ухаживали за ним, как за живым» (Зеленин
1936, 137). Эта вера — отнюдь не специфическая
особенность Сибири или Европы. В Африке
у Eime, когда умирает жена и муж женится
вторично, он держит в своей хижине куклу,
«которая представляет эту жену в
потустороннем мире. Ей оказываются
всякие почести, чтобы жена на том свете
не ревновала к жене на этом свете»
(Meinhof 63). В бывшей Нидерландской Новой
Гвинее после смерти вырезают фигурку,
при помощи которой пророчествуют. Фрэзер
подробно описывает, как в куклу заманивают
душу больного (Frazer 1911, I, 53-54). Содержа
душу больного, кукла могла содержать
или представлять душу умершего вообще.
Родственники делают небольшую куклу,
за которой ухаживают; в этой кукле
инкарнируется покойник. Куклу кормят
за столом, укладывают спать и т. д.
(Харузин 1905, 234).
В
Египте это представление отразилось в
заупокойном культе. Ю. П. Францов отметил
это явление в своей работе о древнеегипетских
сказках о верховных жрецах. «В
древнеегипетской магии употребление
фигурок с магическими целями было широко
известно. С тем оттенком, с каким передано
употребление фигурок в нашей сказке, в
качестве фигурки-помощника, представление
получило распространение в заупокойном
культе в виде фигурок-помощников «ушебти»
или «шауабти»» (Францов 1935,
171-172). И хотя фигурки, о которых идет
речь, имеют животный вид, здесь связь
все же несомненна, так как человек-предок
пришел на смену животному-предку. Как
указывает Видеман, фигурки «ушебти»
имели вид статуэток. Их клали в могилу
умершего, они назывались «ответами»
и должны были помогать» в загробном
мире (Wiedemann 26).
Все
эти материалы показывают, к каким
представлениям и обычаям восходит эта
куколка. Она представляет собой умершего,
ее нужно кормить, и тогда умерший,
инкарнированный в этой куколке, будет
оказывать помощь.
24.
Заключение.
Приведенные
здесь материалы показывают, что волшебные
предметы по своему содержанию имеют
различное происхождение.
Основные
группы намечаются: это — предметы
животного происхождения, растительного
происхождения, предметы, в основе которых
лежат орудия, предметы многообразного
состава, которым приписываются или
самостоятельные или персонифицированные
силы, и, наконец, предметы, связанные с
культом мертвых.
Это
— лишь предварительная наметка. При
более подробном анализе могут быть
найдены еще новые группы, не рассмотренные
здесь предметы смогут быть отнесены к
намеченным здесь группам.
Такова
картина предметов со стороны их состава.
Как историческая категория в целом они
возводятся к тем же корням, к которым
возводится помощник, составляя лишь
разновидность его.
Весь
ход сказки, то обстоятельство, что
волшебные предметы подарены ягой (или
ее эквивалентами), царями зверей, найдены
в лесу и т. д., убеждают в стройности и
цельности сказки, в ее исторической
ценности и осмысленности.
Яга
и ее дары представляют собой две стороны
одного целого, и сказка эту связь
сохранила очень полно.
QQQ
Полезные штуковины, диковинные вещицы и хитроумные гаджеты – мода не только двадцать первого века. Волшебная сказка располагает не меньшим ассортиментом спасительных приспособлений.
Многие помнят огниво по одноименной сказке Андерсена, в которой ударом по кремню можно было вызвать трех огромных псов, готовых выполнять всяческие поручения. Огниво часто встречается и в русских сказках. Только в них оно обычно вызывает не псов, а коня: здесь, похоже, соединяются мифологические мотивы горящей искры и коня-огня. Как правило, огниво представляет собой кремень и кресало, иногда в связке волосков. Чтобы вызвать помощника-коня, эти волоски нужно зажечь. Как указывают фольклористы, огниво – самый заряженный волшебными свойствами предмет, с его помощью можно вызывать и духов. В старой сказке герой в лесной избушке находит кисет, в котором нет табаку, но есть огниво: «кремешок и мысатик». Ударил он мысатиком по кремешку – тут же выскочили двенадцать молодцев, готовых исполнить его просьбу.
Роль универсального навигатора в сказках играет клубочек ниток. Он лучше компаса ориентируется в географии волшебных царств и никогда не сбивается с пути (правда, иногда может катиться к цели много лет). Но достать его нелегко. Гаджет можно получить, например, от Бабы-Яги за хорошее поведение и уважение старших, словом, пройдя какое-то испытание. Это удается Ивану Царевичу, и вот он уже спешит за неустанным клубком к Василисе Премудрой.
В сказках мы встречаем множество диких животных, которые за небольшую любезность готовы прийти на помощь. Но как воспользоваться услугами тех бестий, которым ничего от тебя не нужно? Чтобы получить власть над ними, требуется какая-то их часть: воронья косточка, львиный коготь, рыбья чешуйка. Например, волоски их хвоста коня дают власть над конем. Этот же принцип применим и к птицам. В сказке птица дает герою перышко из головы со словами: «Этот волосок похрани, спрячь: какая бы беда ни случилась, так ты только этот волосок вынь, из руки в руку перемени, — мы тебе поможем во всем». В сказке про Финиста Ясного Сокола пернатый друг дарит девушке перо из своего крыла. Взмахни им и появится все, что душе угодно. Иногда чудо-перышко желанно само по себе – особенно, если оно из хвоста жар-птицы. Такое перо «чудно и светло». Если принести его в темную горницу, оно осветит покои не хуже сотен свечей.
В сказках поход в тридесятое царство за царевной превращается в многотрудный и утомительный квест. Чтобы не растерять сил, герою надо время от времени подкрепляться. Роскошные яства всегда готова сотворить из ничего скатерть-самобранка, работающая по принципу «все включено». После окончания трапезы объедки и грязную посуду можно аккуратно сложить в скатерть и идти дальше. Иногда волшебную скатерть называли также «хлебосолкой». Некоторые фольклористы связывали скатерть-самобранку с царством мертвых, местом, где никогда не прекращается еда, бесконечным источником съестного изобилия. Даже если принести такой источник еды из того царства, то и на земле он никогда не иссякнет. Так что скатерть-самобранка – заветная мечта всех феноменальных лентяев и обжор.
В автономном режиме работают и гусли-самогуды: сами заводятся, сами играют, сами пляшут, сами песни поют. Правда, в некоторых сказках прикасаться к струнам все же приходится. Если дернуть за одну струну – синее море станет, за другую – корабли поплывут, за третью – будут корабли из пушек палить. Особенности звучания диковинного инструмента известны плохо, некоторые сказки дают повод полагать, что оно было не очень мелодичным. Так, в одной сказке дурак заложил свои уши цветком, пришел к королю и заставил играть гусли-самогуды. Только заиграли гусли, как и сам король, и его бояре, и стража придворная — все заснули; дурак снял со стены булатный меч и убил короля.
Еще один полезный гаджет – волшебное зеркальце. Через него в режиме on-line можно наблюдать, что происходит в отдаленных и не очень царствах. Вариацией зеркальца служит тарелочка с яблочком. Как только яблочко закрутится по ободку, поверхность тарелки обращается в экран с изображением, например, суженого. Волшебным зеркальцем могут пользоваться не только женщины: в сказке «Королевич и его дядька» дочь лешего за спасение отца дарит зеркальце королевичу, напутствуя: «Что захочешь, все в нем увидишь».
Найти и вызволить царевну из лап злокозненного змея – полдела, надо еще благополучно добраться к себе домой. От погони змея, царя-медведя или Бабы-Яги может спасти волшебный гребешок или полотенце. Достаточно бросить их позади себя, как из гребешка возникнет непроходимый лес, а из полотенца – полноводная река. Достать гребешок можно у той же Бабы-Яги, а если герои располагают конем, то в ответственный момент погони гребешок можно вытащить из уха коня.
Максим Казаков
По мнению Е. М. Мелетинского, происхождение сказки из мифов не вызывает сомнений, что касается волшебной сказки, то ее происхождение связывают с мифологическими мотивами, сопряженными с ритуалами посвятительного типа. Как отмечает В. Я. Пропп, «волшебная сказка обязана посвятительным ритуалам рядом важнейших символов, мотивов, сюжетов и отчасти своей общей структурой». Помимо ритуальных источников на жанровую форму волшебной сказки и на своеобразие сказочной фантастики оказали влияние первобытные фетишистские, тотемические, магические представления. Е. М. Мелетинский вычленяет следующие ступеньки трансформации мифа в сказку:
десакрализация;
ослабление строгой веры в истинность мифических событий;
развитие сознательной выдумки;
потеря этнографической конкретности;
замена мифологических героев обыкновенными людьми, мифологического времени сказочно-неопределенным;
ослабление или потеря этиологизма;
перенесение внимания с коллективных судеб на
индивидуальные, с космических событий на социальные.
Появление в волшебной сказке предметов, наделенных волшебными свойствами исторически связано с первобытными верованиями, скорее всего, с фетишизмом. Фетишизм — религиозное поклонение материальным предметам — фетишам, которым приписываются сверхъестественные свойства.
При неудачах и бедах древние люди пытались обращаться к иным силам. Не имея возможности добиться этого естественным путем, люди начинают возлагать надежды на помощь сверхъестественных сил. При определенных обстоятельствах любая вещь могла показаться первобытному человеку обладающей, кроме обычных свойств, еще и сверхъестественными свойствами.
Наделение сверхъестественными свойствами обычной вещи чаще всего было связано с простой случайностью. Например, отправляясь на охоту, первобытный человек встречал на своем пути какой-либо бросающийся в глаза предмет, предположим камень. Если после этого охота была удачной, он приписывал удачу помощи данного камня, который с того времени становился для него фетишем.
В дальнейшем всякий раз перед охотой человек поклонялся этому камню, задабривал его. Вера в чудодейственные свойства этого камня укреплялась еще больше, если после очередного поклонения ему вновь следовала удача.
Отголоски фетишизма сохранялись во всех современных религиях и в обыденном сознании религиозных и суеверных людей. Так, одним из составных элементов христианской религии является вера в «чудодейственную» силу различных «священных» предметов — «чудотворных» икон, мощей, крестов и других предметов культа.
Как отмечает Е. М. Мелетинский, сказочный герой не имеет тех магических сил, которыми по определению наделен мифологический герой, эти силы приобретаются героем в результате приобретения волшебных предметов. Среди предметов, наделенных волшебными свойствами следует отметить такие, как:
|
Тип предмета по функции |
Название волшебного предмета |
|
Предметы, говорящие правду и показывающие, что делается на белом свете |
золотое блюдечко и наливное яблочко. волшебная книга |
|
Предметы, способные за малое время перенести героя через большое пространство |
Ковер-самолет, сапоги-скороходы |
|
Предметы, возвращающие здоровье, молодость, оживляющие мертвых. |
Живая и мертвая вода, молодильные яблочки |
Волшебные предметы действуют в сказке совершенно как живые существа и с этой точки зрения условно могут быть названы «персонажами». Так, меч-самосек сам рубит змея, клубочек катится и указывает путь и т. п..
Нет такого предмета, который при известных обстоятельствах не смог бы играть роль волшебного. Тут и орудия (дубины, топоры, палочки), и разное оружие (мечи, ружья, стрелы), и средства передвижения (лодочки, коляски), и музыкальные инструменты (дудочки, скрипки), и одежда (рубашки, шапки, сапоги, пояса), и украшения (колечки), и предметы домашнего обихода (огниво, веник, ковер, скатерть) и т. д.
Эта особенность сказки, а именно функционирование предмета как живого существа, наряду с другими ее особенностями, определяет собой характер ее фантастичности.
Ко всему сказанному надо прибавить, что не каждый, не всякий предмет каждого рода может быть волшебным, а только добытый известным образом. Передача волшебного средства могла происходить при решении поставленной перед героем задачи, просьбы, или схватки с героем — антагонистом. При существовании обряда посвящения таким был предмет, полученный от старших. В сказке таким является предмет, данный мертвым отцом, ягой, благодарным похороненным мертвецом, животными-хозяевами и т. д. Короче говоря, волшебным является предмет, взятый «оттуда». «Оттуда» — это для более ранней стадии означает «из леса» в широком смысле этого слова, а позже — предмет, принесенный из иного мира, а по сказочному — из тридесятого царства.
Из природных объектов, встречающихся в астраханской сказке, волшебным является дуб и облако. В сказке «Казань» дуб — это дерево — дом, в котором живут разбойники. Дверь в дом открывается с помощью волшебного заклинания. Внутри дуба-дома много комнат и «всякого добра навалом».
В этой же сказке обычное облако становится средством, на котором спускается святая, решившая помочь герою «Тут с неба спустилась к нему святая на облаке и говорит…» [1] Изображение облака как средства передвижения не случайно. Быстронесущее облако представлялось народу и ковром-самолетом, и птицею, и окрыленным конем и летающим кораблем. Представление облака и тучи кораблем возникло одновременно с представлением неба — морем [2].
Из одежды, встречаемой в астраханской сказке волшебными свойствами обладают шапка, платок, волшебный костюм. Как волшебное средство, с помощью которого превращенная в быка девица вновь превращается в человека, шапка выступает в сказке «Шел солдат со службы»:
«Подойдешь к быку, который будет пить воду из озера^снимешь с себя шапку, размахнешься и кричи: «Хватит, а то лопнешь!» И сильно по боку ударишь быка, чтобы бык лопнул… Ваня сделался человеком, ударил быка шапкой по боку. Бык лопнул и превратился в Аленушку».
В сказке «Шел солдат со службы» платок дочери Морского рака выполняет функцию волшебного средства. Из него появляются волшебные помощники, которые помогают герою выполнить трудную задачу: «…Махнула платком один раз, махнула другой — и вмиг появилось много- много работников, которые вспахали за одну ночь поле и посадили деревья».
В другой сказке «Иван и богатая вдова» из платочка появляется огромное пламя, которое помогло спастись героям от погони чародея: «…Но через некоторое время слышат, что их настигает чародей. Тогда мальчик говорит: «А мне дедушка подарил платочек». В этой же сказке из расчески, брошенной героями, вырастает сплошной лес.
В сказке «Алпамыс» противники героя одеты в волшебные костюмы, от которых отскакивают копья и стрелы. Вождя можно было убить, разрубив его пояс. Герой узнает секрет костюма и убивает врагов.
Предметом, наделенным волшебными свойствами, является клубок ниток. В сказке «Шел солдат со службы» герою подарен волшебный клубок, указывающий дорогу. Эту же функцию клубок выполняет в сказке «Про падчерицу». Следует отметить, что волшебный клубок, указывающий дорогу — это классическое волшебное средство.
Одним из волшебных предметов является живая и мертвая вода. Многие из русских народных сказок начинаются с одинакового зачина: «На море — океане, на острове Буяне.»… В сказках вода встречается в различных образах: реки, моря, дождя, воды живой и мёртвой. В сказках у воды важная роль: она то представляет собой грозную стихию, а то, наоборот, помогает героям произведения. Мы понаблюдали за ролью воды в нескольких народных и авторских сказках.
Так, в народной сказке «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» вода наказывает героя: «Не послушался Иванушка и напился из козьего копытца. Напился и стал козлёночком». [3]
В другой не менее известной сказке, «Гуси-лебеди», девочке помогает молочная река [3]:
«— Речка-матушка, спрячь меня!
— Выпей моего молочка!
Нечего делать, выпила. Речка ее посадила под бережок, гуси пролетели». [4]
Из «Сказки о волшебной водице» узнаём, что вода может мирить ещё не воскрешает его, только окропление живой водой возвращает ему людей: «И с тех пор перестали они ссориться и стали жить, как в молодые годы. А всё потому, что как только старик начнёт кричать, старуха сейчас за волшебную водицу. Вот сила — то в ней какая!»
Именно в народных сказках впервые встретили мы воду живую и мёртвую, поэтому необходимо хотя бы кратко остановиться на этих понятиях. «Живая вода (сильная или богатырская) в народных сказках всех индоевропейских народов является символом весеннего дождя, который воскрешает землю от зимнего сна. Она возвращает мёртвым жизнь и слепым зрение. Различие мёртвой и живой воды является только в славянских сказках и не повторяется нигде. Мёртвая вода называется иногда целительной: она заживляет нанесённые раны, сращивает рассечённые части мёртвого тела, но жизнь.
По Афанасьеву, мёртвая вода — это первый весенний дождь, сгоняющий с полей льды и снега и как бы стягивающий рассечённые части матушки-земли, а следующие за ним дожди дают ей зелень и цветы». [3]
В сказке «Иван-царевич и Серый волк» вода помогает воскресить главного героя: «Серый волк спрыснул мертвой водой раны Ивану—царевичу, раны зажили; спрыснул его живой водой — Иван-царевич ожил». [5]Не всякая вода оживляет мертвого. Но вода, принесенная птицей из тридесятого царства, оживляет мертвеца. Отсюда видно, что есть группа предметов, волшебная сила которых основана на том, что они принесены из царства мертвых. Сюда относится вода, возвращающая жизнь или зрение, яблоки, дающие молодость, скатерти, дающие вечное питание и изобилие и т. д. Мы пока только регистрируем этот факт.
Среди этих предметов особого внимания заслуживает живая и мертвая вода и разновидность ее — сильная и слабая вода. Живая и мертвая вода — не противоположны друг другу. Они друг друга дополняют. «Спрыснул Ивана- царевича мертвою водою — его тело срослося, спрыснул живою водою — Иван- царевич встал». Такова каноническая формула применения этой воды.
Литература:
- Кизань // Народные сказки Нижней волги. — Астрахань, 1999. — С. 68.
- Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. — М., 2000. — С. 158
- Сестрица Аленушка и братец Иванушка // Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах изд. подгот. Л. Г. Бараг и Н. В. Новиков. — М., 1984. — Т.1, С.185
- Гуси-лебеди // Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах / изд. подгот. Л. Г. Бараг и Н. В. Новиков. — М., 1984. — Т.1, С. 149
- Иван-царевич и серый волк // Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах / изд. подгот. Л. Г. Бараг и Н. В. Новиков. — М., 1984. — Т.1, С. 323
Основные термины (генерируются автоматически): мертвая вода, сказка, предмет, живая вода, волшебное средство, вод, волшебная сказка, герой, свойство, астраханская сказка.