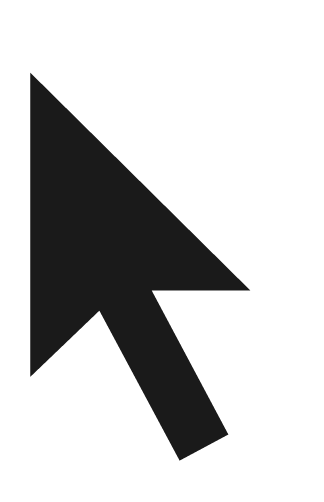На деле это не так — недавние социологические исследования показывают, что вокруг нас все еще полно людей, которые считают шлепок и подзатыльник валидными воспитательными инструментами. Кажется, проблема физических наказаний затронула почти каждого — она передается от поколения к поколению как негласная традиция жестокости под видом заботы и благонамеренности.
Коснулась она и многих сотрудников нашей редакции — мы решили поделиться своим опытом с вами и рассказать о том, как случаи насилия повлияли на нашу жизнь.

С другими детьми я играл редко, но вот как-то раз летом выдался такой день — меня случайно взяли в компанию ребят постарше, и я был жутко рад и даже горд. Сперва мы играли во дворе, но потом пошли гулять и добрались аж до заброшенной автостанции на краю деревни. Стемнело, а домой я не вернулся, мама отправилась меня искать прямо с ремнем в руках — и нашла. Побила и перед ребятами, и дома.
Сейчас у нас нормальные (насколько это возможно) отношения, я ее простил. Самое главное — она вышла на работу, это решило многие проблемы.
Андрей Бородкин, редактор
Интересное по теме
Насилие над детьми в фактах и цифрах

Первый раз, когда меня ударил папа, мне было, наверное, три года. У нас был видеомагнитофон, и я смотрела «Мишек Гамми». Мультфильм кончился, но я попросила поставить мне его еще раз. Возможно, я попросила недостаточно вежливо, не знаю.
Но мой папа схватил меня, поволок в соседнюю комнату и отшлепал — своим солдатским ремнем. Это было очень страшно.
Но больше всего меня травмировало то, что в этот момент дома были и мама, и бабушка, и даже, кажется, дедушка — но никто из них за меня не вступился.
Второй раз я получила через некоторое время после первого — это было в спортшколе, я занималась спортивной гимнастикой. Меня били все тренеры, с которыми я занималась. Когда я говорила об этом родителям, они никогда не занимали мою сторону: мне говорили, что иначе невозможно воспитать спортсменку и закалить мой характер. Даже когда я решила уйти из школы, меня — мне было лет восемь — уговорили вернуться, подкупив новым соревновательным купальником. И это сделали мои родители, не тренер.
Этот материал — часть спецпроекта #ХватитБитьДетей
Читайте больше на странице проекта
Потом я снова получила от папы — уже не по попе, а по голове — подзатыльник мне был отвешен на пороге дома друзей семьи, от которых мы как раз уходили. Я уже не помню, что я сделала не так, но помню глубочайшее чувство обиды, несправедливости и покинутости — за меня опять никто не вступился.
После этого был какой-то довольно длительный период «ремиссии» — и в последний раз я столкнулась с насилием в семье, когда мне было 14 лет. Я тогда работала в детской городской газете, была жуткая зима, и мы узнали, что один из наших взрослых редакторов умер — покончил с собой, повесившись в гараже. Мы были просто наглухо шокированы, и решили собраться у кого-нибудь, попить чаю и поговорить.
Я ушла, но поскольку у меня не было телефона, не смогла связаться с семьей. Вернулась я не очень-то и поздно, но поскольку меня уже все потеряли и бросились искать, встретили меня паникой — и подзатыльником. Его мне отвесил мой дед.
И этот эпизод лишний раз доказывает, насколько важно взрослым уметь проживать свои эмоции, управлять ими и быть устойчивыми в проявлении гнева. Именно поэтому мы занимаемся тем, что бесперебойно рассказываем родителям, что бить детей неприемлемо — это демонстрирует вовсе не вашу власть и авторитет, а показывает ребенку, насколько вы беспомощны при встрече со своими чувствами.
Лена Аверьянова, главный редактор

Но я помню, что однажды я не хотела идти на улицу и надевать колготки, и мама меня этими колготками треснула по попе, было больно. Я уверена, что это был единичный случай, наверное, мама была в тот момент не в ресурсе, и я помню, что она потом извинилась. И какой бы неприятной для меня ни была эта история (я точно помню, что была в шоке и чувствовала в этот момент себя униженной), я, конечно, не держу на нее зла.
Но я думаю: если во мне эта ситуация оставила такую сильную зарубку, что применение телесных наказаний делает с детьми, которые живут в семьях, где их бьют на системном уровне?
Анонимный автор

Чаще всего, когда наказание начиналось так, в исполнение оно не приводилось. Или шлепки были (не верю, что это пишу) чисто символическими. А иногда вполне себе полноценными.
Не так давно, кстати, я узнала, что в семье у двоюродных сестер (дочек папиного родного брата) была такая же «фишечка». Так что это что-то из детства отца и его брата. С радостью прерву эту веселую семейную традицию.
Анонимный автор
Интересное по теме
От быстрого эффекта к пожизненной травме: наказания детей в цифрах и фактах

Я не очень понимала, что происходит и почему, и плакала, бабушка решила, что у меня истерика и, чтобы успокоить, схватила и стала окунать под холодную воду. Казалось, что она меня топит.
Я знаю, что в семье моей мамы была странная традиция воспитания девочек: сильно бить проводом или веревкой, кричать за проступки или за мнимые проступки, угрожать.
Я понимаю, что мои родственники, может быть, не умели по-другому себя вести и справляться с собственным раздражением и воспитанием детей, они думали, что так правильно, но мне очень жаль, что со мной так жестоко поступали мои близкие взрослые люди. Я люблю своих бабушку и дедушку, но эта любовь смешана с глубоким разочарованием: «Ну как же вы могли так оплошать, вы же вообще-то хорошие люди».
Несколько лет назад бабушка вдруг попросила у меня прощения за эту историю и множество других подобных, я не держу на нее зла, но это было очень важно для меня — что она помнит, не отрицает, не преуменьшает и больше не считает, что так нужно себя вести.
Марьяна, выпускающий редактор

Возможно, она пугалась, как и я теперь пугаюсь людей. Может, она боялась, что на нее все смотрят, что ребенок орет, что она плохо справляется. А может ее просто бесконтрольно бесило мое поведение.
Этот стресс делал свое дело, ударял ей в голову и срабатывали механизмы, которые, к сожалению, она не могла контролировать. И если я не успокаивалась, она говорила что-то вроде «замолчи» и, держа меня за руку, впивалась своими длинными ногтями в мою маленькую ручку.
Я запомнила, что людям нельзя доставлять проблемы. Что нужно молчать и скрывать свои эмоции.
Не знаю, связано ли это с эпизодом, описанным выше, или другими, которые точно случались, но я их не особо помню (говорю так уверенно, потому что мне рассказывали про случай, когда я не слушалась и меня N ставила под холодную воду в ванной за это). Или связано ли это с в целом условно трудной ситуацией в семье, с моделью ли воспитания, с отсутствием каких-то теплых семейных отношений. Но в итоге, я стала сама «ругать» себя.
Если я делала что-то не так, мне казалось, что я расстраиваю и подвожу людей вокруг, а это достойно наказания, достойно того укола ногтями. И в итоге человеком, который приносил в мою жизнь физическое насилие, стала я сама. Мне казалось, что я не достойна ничего, я самый ужасный человек на Земле, причина всех бед, конфликтов, проблем.
Я до сих пор учусь адекватно воспринимать себя, защищаться, отделять реальное от «додуманного», адекватное от неадекватного. Я пытаюсь научиться счастливо и здорово жить с той болью, которую причинили мне близкие и я сама.
Ася, дизайнер

Существовали только подзатыльники.
Их мне отвешивали родители и старшая сестра, с которой у меня большая разница в возрасте. Чаще всего за какую-то сказанную глупость, «туалетную шутку» за столом. Почти всегда это было не больно, а над шуткой взрослые могли и посмеяться.
Но были и больные, когда было что-то серьезное. Тогда я думала, что это такое пустяковое наказание, ведь есть условный Вася, которого родители наказывают ремнем — мне таким только угрожали.
Подзатыльники закончились, наверное, лет в 11–12. Но один раз в 15 лет я что-то сказала своему отцу, за что он отлупил меня тапком на глазах у подруги, и мне было очень стыдно, что она об этом может рассказать в школе. Папа тогда, конечно, извинился, но не сразу.
С другими детьми мы об этом не очень разговаривали, а если и заходила речь о наказаниях — почти никто не признавался.
Мне казалось, что раз никого другого не наказывают — значит, я просто феерически гадкий и вредный ребенок, который доводит своих несчастных родителей.
Последствия такого «воспитания» не очень приятные. Во-первых, я это все помню и иногда припоминаю семье, во-вторых, мне ужасно неприятны прикосновения к голове, ненавижу когда меня кто-то хочет погладить, будь то муж или бабушка. В парикмахерской вообще испытываю стресс.
Иногда вздрагиваю, когда кто-то рядом со мной просто поднимает руку — боковым зрением мне кажется, что мне хотят влепить затрещину.
Сейчас я сама мама, и моей дочери почти пять лет. Конечно, она иногда меня страшно бесит, но я никогда не подниму руку на ребенка.
Лиза, дизайнер

Сверстники только смеялись, потому что привыкли к такому отношению, а я до смерти боялась, и поэтому была хорошей девочкой. Однажды я все таки провинилась — разговаривала во время тихого часа.
Может быть, поэтому я часто не решаюсь лишний раз что-то кому-то сказать? Не знаю, но сухое, накрахмаленное полотенце на губах помню до сих пор.
Ира Зезюлина, колумнистка
Этот материал — часть спецпроекта #ХватитБитьДетей
Читайте больше на странице проекта
«Вот, посмотрите, на лбу шрам от пряжки. Отец выпивал, как многие советские врачи. От двойки в дневнике пришел в ярость, схватил ремень и как саблей рубанул им сверху вниз. Попал пряжкой по лбу. Когда мама увидела кровь, она сказала отцу: “Что ты делаешь?” И всё». Анонимная и честная исповедь мужчины, которого бил в детстве отец. Своих детей он стал воспитывать иначе.
«Неси ремень»
— Я рос в классической интеллигентной семье, где мама — учитель, папа — врач. Жили как все, от зарплаты до зарплаты, принимали гостей, на море не ездили. У отца было несколько братьев, и все праздники мы справляли вместе то у нас дома, то у них. Классическая советская семья, как в кино.
Били меня с ранних лет. Ремнем, электрическим проводом от чайника, помните, были такие чайники серебристого цвета? Отец карал меня классическим иезуитским садистским способом, говорил: «Неси ремень, мы тебя сейчас будем наказывать». И я должен был сам принести орудие наказания. Нес ремень или электрический провод, чувствуя при этом бессилие, беспомощность, унижение, несправедливость.
Один раз я украл в детском саду пистолетик. Мальчик принес поиграть красивый пистолетик, и я его стащил. У меня никогда игрушек не было, я играл мамиными бигудями. За тот сворованный пистолетик меня отлупили.
Еще такой был случай: во дворе пацаны ремонтировали велосипед. Я принес из дома несколько отцовских инструментов. Но по рассеянности забыл их на улице.
Отец пришел в бешенство, сначала отправил во двор и заставил до темноты инструменты искать. Потом отлупил.
Другая история: отец много курил, в доме всегда стояла пепельница, полная окурков. Мне было лет шесть-семь, я от нечего делать стал у бычков отрывать табак от фильтра и все окурки распотрошил. У отца кончились сигареты, но он был уверен, что у него есть окурки. А окурков уже не было. И за это меня избили.
Иногда меня наказывали и без повода. Отец просто срывал на мне раздражение, усталость, злость. Мне кажется, я раздражал его одним фактом своего существования.
Помню, у выпившего отца случился приступ педагогики, и он захотел проверить мой дневник. У меня стояла хорошая оценка по литературе, ее поставила мама. Я учился в ее школе и в ее классе. Отец взял дневник, раскрыл его, а рядом с подписью учителя была подтертость, будто шоркнули чем-то грязным. Отец стал меня обвинять в том, что я подделал эту оценку сам: «У учителя грязные руки, что ли? Почему там грязно?» А я переученный левша, и почерк у меня был чудовищный. Он знал, что я своим корявым почерком не распишусь так уверенно. И неужели он не знал почерк своей жены?
Отец до вечера держал меня в страхе: «Ждем маму, послушаем, что она скажет. Если ты подделал оценку, я тебя отлуплю».
Но ведь отец знал, что эти претензии беспочвенные и необоснованные. Зачем он несколько часов продержал меня в нечеловеческом напряжении, понимая, что я ни в чем не виноват?
Когда в старших классах он в очередной раз ударил рукой по лицу, я ушел из дома в кедах в октябре. Два-три дня ночевал в подвале, а потом пошел к бабушке, где прожил две недели. Отказывался общаться с отцом. Он впервые в жизни написал мне записку: «Возвращайся домой, мы оба были не правы». И после этого уже меня не трогал.
«На тебе денег, иди сам поешь»
Мать ни разу за меня не заступилась. При этом я считался ее сыном. Была странная тенденция: разделение на отцовского ребенка и материнского. Младший брат считался ребенком отца, а я — ребенком матери. Я разбивал случайно тарелку, и отец орал матери: «Иди сюда, твой сын разбил тарелку». Если младший хулиганил, мама призывала отца: «Разбирайся со своим сыном». Мне это непонятно до сих пор: это была игра или они оба все же разделили детей?
Мать уверена: я всегда был с ней. Но это была формальная близость, не настоящая. Я учился в той школе, где мама преподавала, но у нее никогда не было для меня времени. Когда я после уроков приходил к ней, просил пообедать со мной в школьной столовой, слышал в ответ обычно: «На тебе денег, иди сам поешь». Меня это ужасно обижало и задевало.
Я ведь хотел с ней поесть, посидеть, пообщаться. Да, она была занята. Но как же дети-то? И зачем тогда дети?
С ранних лет я был уверен, что отец не любит меня. В отличие от младшего брата. Очень уж большая была разница в отношении к нам. Младшего брата никогда и ни за что не наказывали и тем более не били. Хотя он был хулиганистым и драчливым. Но отец его любил, брат чувствовал себя под защитой доминантного самца и творил, что хотел.
Показательный случай: брат в семь лет начал курить и однажды, выходя из-за угла с сигаретой в зубах, наткнулся на отца, возвращающегося с работы. Ему было семь лет, его застали на месте преступления, но ему за это ничего не было. В начальных классах он украл из магазина рядом со школой сумку и куртку. Все, что ему сказали: «Ты что, хочешь вырасти вором?»
И за его здоровье и безопасность беспокоились больше. Как-то я порезал палец, хорошо проведя ножом по суставу. Отец наложил мне пластырь, но не проявил никакого сочувствия. Через какое-то время мы поехали в гости к отцовскому брату. Играли с двоюродными за домом, и младший брат наступил на лист стекла. Край поднялся, рубанул его по предплечью и рассек кожу. Это был глубокий порез, но не было никакой опасности для жизни, ни артерии, ни вены не были задеты. Поднялась чудовищная паника, все поехали в больницу. Зашивали рану. Меня поразило, что отец стоял и, уткнувшись лбом в дверь, рыдал. Тогда я осознал, насколько для него важен младший ребенок и насколько он равнодушен к старшему. Тогда я понял свою «ценность» в семье.
«Родители детей завели, а что с ними делать, не знали»
Родители нами совсем не занимались. Мы с братом не были социально заброшенными — все вместе обедали, ходили в гости. Но у нас в семье дети были предоставлены сами себе. Со мной никто ни во что не играл, мне не читали сказки. Читать я научился сам в пять лет, записался в библиотеку и всю школу много читал.
Дома было холодно, не физически, а эмоционально. Нельзя было подойти и обнять маму. Не то что это запрещалось или меня бы отшвырнули в ответ — такой модели поведения не было вообще.
Работа была самым главным в их жизни. Мама задерживалась в школе допоздна, потом приходила и проверяла домашнюю работу. Привычная картина детства: ты засыпаешь, а мама сидит и проверяет тетради. Отец постоянно был на дежурствах. Они много говорили о работе. И в этой их жизни не оставалось места для детей, мы росли на улице.
Во внешнем мире нам от родителей тоже не было защиты. Как-то мы играли во дворе в футбол, мой друг поранил руку, побежал домой, прибежала его бабушка скандалить, что мы изувечили ее внука. Для меня это было непонятно и дико. Если бы я поранил руку, меня бы в лучшем случае отругали.
Я никогда не чувствовал любви, заботы и защиты от родителей. Они были сами по себе, жили своей отдельной жизнью. Кормили, наказывали, укладывали спать, но никогда не вдавались в особенности моей жизни. Когда я что-то рассказывал, старались отделаться, было видно, что им это все неинтересно.
Мои родители детей завели, а что делать с ними, не знали. Так мне это видится.
Отец умер, когда я окончил школу. Я так и не нашел с ним взаимопонимания. Пытался говорить с ним о музыке, спрашивал про работу, но он всегда от меня отмахивался с раздражением. И это для меня до сих пор болезненная, незаконченная история.
У меня нет на него обиды, есть непонимание и вопросы. Почему он так ко мне относился. Почему я ему был так неинтересен? Почему он меня не любил?
«Если родители поднимают на тебя руку, чего можно ждать от других?»
Такое детство формирует зыбкое ощущение себя в мире — ты словно на сквозняке живешь. Нет базовой безопасности, нет тепла.
Я не лез на рожон, старался избегать скандалов. Я дрался, конечно, в школе. Но когда нужно было отстоять свое мнение в конфликтной ситуации, предпочитал пасовать. У меня не было уверенности в себе, пока я, уже взрослый, не научился ее генерировать в себе сам.
И я долго был уверен, что меня не за что любить.
Что, конечно, влияло на мои отношения с девушками. Я к ним относился агрессивно, считая, что они надо мной только посмеются, таким дурацким образом профилактировал возможные отказы.
Мне вообще с людьми было сложно. Был такой случай: я оказался в одной компании с человеком, которого очень уважал, он мне был очень интересен, хотелось с ним общаться, но не получалось. Много лет спустя мы подружились и он рассказал о своем впечатлении от меня. По его словам, я напоминал агрессивного ежа. А я этого даже не замечал. Я просто был уверен, что мир настроен ко мне враждебно. Если твоя семья, твои родители настроены к тебе враждебно и поднимают на тебя руку, чего можно ждать от других?
«Я понимал ужас ребенка, которого бьет огромный мужик»
В первый раз я сам стал отцом рано. Но ребенок был непланированный и нежеланный. Когда он родился, то был мне совершенно неинтересен.
Но в годик сын сильно заболел, с опасностью для жизни. И я остался с ним в больнице на ночь. Он не спал в кроватке, плакал. И я всю ночь носил ребенка на руках, только так он успокаивался. Тогда я принял свою ответственность за него и за родительство в целом.
Я сравнивал себя со своим отцом, анализировал свое детство и его последствия и сознательно отошел от родительской модели воспитания. В отличие от своего отца, я понимал ужас ребенка, которого бьет огромный мужик. И не просто мужик, а самый близкий человек. Мне было бы стыдно ударить своего ребенка, потому что я помнил себя маленьким и битым.
Второй ребенок родился во втором браке. Он был желанным, осознанным. И, конечно, с ним все было по-другому. И даже иногда стыдно было перед первенцем, потому что понимаешь разницу между желанным и нежеланным ребенком.
Для младшего дикой была сама мысль, что его могут ударить. Как-то мы отдыхали за границей, он потерялся в огромном молле. Мы с женой перепугались, чужая страна, бегаем, ищем его. А он спрятался за вешалку среди одежды. И вышел оттуда с шаловливой физиономией. Я от испуга за него и переживаний боднул его головой в грудь. Не сильно, а угрожающе. Он даже не испугался, а удивился: «Что мне папа хотел показать? Это игра новая, что ли?»
С обоими детьми мне легко обняться, но до сих пор трудно обнять маму. У меня не только нет этой потребности, мне не приходит это в голову.
Каждый из детей детство провел у меня на шее, они не боялись вскарабкаться ко мне на колени или попросить помощи.
Я никогда себе не говорил и не клялся: «Я не буду бить своих детей». Но мне до сих пор непонятен сам образ мыслей человека, который бьет своего ребенка и делает побои сознательным приемом воспитания. У меня в этом отношении формальная логика — если ты ребенка бьешь, значит, ты его просто не любишь. Каким нужно быть лицемером, чтобы оправдывать себя словами «я делаю это ради его же блага»? А что это за благо? У него же формируется вечный комплекс вины, неуверенность в себе, он живет в страхе. Неужели есть люди, которые могут это не осознавать? А главное — это лишает ребенка ощущения базовой безопасности. И храбрости тоже. Я знал в детстве, что за мной никто не стоит. Ты подерешься на улице, придешь домой, и тебе дома добавят. Какая тут может быть храбрость?
Любой человек в жизни идет двумя путями: либо принимает семейный родительский сценарий, либо отрицает его и ищет свой путь. Я выбрал отрицание. Потому что побои — это навсегда. Мне больше сорока, но я до сих пор помню занесенный над головой кулак или ремень. И ни за что не пожелаю испытать такое ни своим, ни чужим детям.
Фото: freepik.com, shutterstock.com
Поскольку вы здесь…
У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.
Сейчас ваша помощь нужна как никогда.
«Если бы мы не знали ,где висит ремень,не знаю,кто бы из нас получился…» — рассказ многодетного отца В.Аслаповского
07.04.2016
Сейчас самая актуальная и болезненная тема – это тема насилия в семье. Эти агенты ювенальной юстиции нам прямо гвоздями в голову вколачивают, что не должно быть никаких форм родительского насилия. А получается, что любая нормальная строгость в воспитании необходима. И все это принимается за насилие.
Я стараюсь воспитывать детей так же, как и меня воспитывали.
Нас в семье было трое парней-хулиганов. На самом деле, если бы мы не знали, где висит ремень, трудно предположить, что бы из нас получилось в дальнейшем.
Точно так же и мои дети: они знают, где ремень находится и за что может влететь.
С самого что ни на есть сызмальства.
Естественно, я рассчитываю силу применения всех этих средств, но и мне самому тоже всегда очень больно наказывать, и то в случае крайней необходимости, Но такие меры как шлепнуть я считаю просто необходимыми.Наблюдаешь иногда за сверстниками своих детей, и понимаешь , что у них нет никакого воспитания — ни физического, ни нефизического.
стоит вопрос «невоспитания» вообще.
Однажды я пришел в садик забирать дочь…У меня две дочери и трое мальчишек, самой старшей двадцать, она уже родила мне внука.А самая младшая Анечка — ей сейчас уже семь.
Пока ее одевал, рядом ребенок из ее группы капризничал :одеваться не хочет, маму не подпускает. Воспитательница подходит, пробует как-то уговорить, ребенок говорит: «Уйди, дура!» и начинает в нее плевать.Совершенно неуправляемый ребенок, а мама стоит смотрит, не знает, что сделать. Воспитатель тоже стоит при маме не знает, что делать. Такая вот ситуация.
В итоге получается, что ребенок понимает — так вести себя можно, за это ничего не будет.
Такая модель поведения закрепляется.Как быть в данной ситуации той же маме, той же воспитательнице? Воспитательница, предположим, не имеет права шлепать.
Но мама просто обязана это сделать, если так.А мама не шлепает. Ребенок не знает, что такое «нельзя».Все, что взбрело, то и можно.
Когда я был еще молодым , я слышал от своей матери «Запомни, первое слово, которое должен услышать ребенок, не умеющий говорить, грудной – это слово «нельзя».
По поводу применения ремня , наверное, самый яркий случай – это с Майей, моей старшей дочерью.Она была в шестом классе.
Это сейчас она уже замужняя дама,сама воспитывает.А тогда она была в шестом классе, значит, ей было двенадцать лет.Училась в православной гимназии.
И была лучшей ученицей в классе. Я считаю, что она была воспитана, и мне не приходилось на нее особо воздействовать.
И вот к ним в класс пришла девочка из трудной семьи, причем они-то все учились сначала, с первого класса, а тут в шестом классе приходит девочка.
У них было по восемь уроков, и была большая перемена, час или полтора.Как обеденный перерыв. Еще очень важный момент: все в классе эту девочку как-то не приняли, то есть отвернулись и старались с ней не общаться, потому что она могла в шестом классе и матом ругнуться.А для православной гимназии это все-таки экзотика.
Все остальные дети были достаточно воспитаны в хороших традициях. А тут такой ребенок в классе, и он как-то не прижился. А Майя, это мне уже потом учительница рассказала, наоборот, начала с ней общаться.
Может, из сочувствия как раз, потому что никто не хотел.
Раньше такое было повсеместно, что рядом со школой стоял ларек, в котором продают пиво.
И вот они на большой перемене пошли и купили джина с тоником, а Майя еще худенькая такая, и ей этой баночки хватило, чтобы захмелеть. И они с этой новой девочкой приходят на урок с песнями,явно выражая признаки неадекватности.И мне учительница сразу звонит, я сам в шоке, я не знаю, что делать ,до этого никогда подобного не случалось в семье.
А буквально год или два назад один из наших дальних родственников буквально у меня на глазах умер от наркомании. Там была безнадежная ситуация, хотя много средств и усилий было потрачено на то, чтобы его как-то вытащить. Но не получилось: умер от передозировки. И тут у меня перед глазами эта картина стоит, и с Майей такая история… Я был очень сильно напуган, потому что не знал, что делать.
Приходит Майя из школы, я ее завожу в комнату, она уже , видимо, была в курсе, что учительница позвонила и все мне рассказала. Я не знал, как начать разговор, что сказать…
Никакого педагогического плана в голове не было, только смятение.
Беру ремень, и честно Вам скажу, я, не ослаблял руку для того, чтобы она хорошо прочувствовала это, несколько раз всыпал.
По худой заднице. Но, слава Богу, она была в таких шерстяных штанишках, дело зимой было, и это смягчило шлепки.
Она стиснула зубы, но даже не расплакалась.Да, слезы бегут, но она молча все это выдержала. После этого я ей говорю: «Майя, ты знаешь за что?» Она говорит: «Наверное, учительница позвонила».«Ты знаешь, когда мне позвонила учительница и рассказала всю твою историю, я очень порадовался за тебя». И тут вдруг повисает в воздухе знак вопроса, она раскрыла глаза, смотрит на меня: «Что значит порадовался???»
Я говорю: «Она мне рассказала про эту вашу сложную девочку. Ты молодец, что протянула ей руку. Я был очень рад за тебя, ты была единственная в классе, кто решил ее поддержать, и это очень правильно. Какого бы она воспитания ни была, но если класс бойкотирует отношения, и ты протягиваешь руку – это очень хорошо. Но наказал я тебя за то, что это не ты ее за собой потянула вверх, а она тебя за собой вниз. Ты стала не ведущей, а ведомой. Сегодня тебя угостили этой баночкой с джином-тоником, а завтра будут наркотики и т. д. Для того, чтобы человек был силен и мог противостоять таким искушениям, падениям или каким-то соблазнам, нужно очень четко понимать, что даже при благом намерении поддержать девочку не должно быть такого опущения до ее уровня. Если уж ты взялась за поддержку, нужно ее тащить до себя».
Именно в этот момент Майя, которая ,видимо, до этого что-то держала в себе, начала рыдать и целовать меня. Она очень глубоко это поняла. И я, благодарил Бога , что мне удалось как-то решить эту проблему, что ребенок понял и благодарен, что получил наказание и урок на всю жизнь. И она поняла, как она была неправа, и что нужно делать и как поступать в таких ситуациях. Это было искренне до глубины души.
Это, конечно, и есть настоящее высокое воспитание, когда наказывая ребенка, даже причиняя ему физическую боль, что в данном случае, я думаю, было совершенно правильно сделано, ты возвышаешь его душу. Не нужно иметь педагогического таланта, подсказывает образ жизни, как я понимаю, славянский. Меня воспитывали точно так же, меня лупили как сидорову козу, и я за это благодарен, считаю себя воспитанным человеком .И ремень сыграл в этом не последнюю роль.Может быть, даже и основную.
Владимир Аслаповский
Количество комментариев к элементу: 1
Рассказ про ремень.
5 апреля 2018 09:02
Правда ли, что всыпать ремня — самый доходчивый способ коммуникации для детей? Сему ждали. И дождались. Когда уже потеряли надежду. Девять лет ожидания — и вдруг беременность! Сема был закормлен любовью родителей. Даже слегка перекормлен. Забалован. Мама Семы — Лиля — детдомовская девочка. Видела много жесткости и мало любви. Лиля любила Семочку за себя и за него. Папа Гриша — ребенок из многодетной семьи. Гришу очень любили, но рос он как перекати-поле, потому что родители отчаянно зарабатывали на жизнь многодетной семьи. Гриша с братьями рос практически во дворе. Двор научил Гришу многому, показал его место в социуме. Не вожак, но и не прислуга. Крепкий, уверенный, себе-на-уме. Гришины родители ждали Семочку не менее страстно. Еще бы! Первый внук! Они плакали под окнами роддома над синим кульком в окне, который Лиля показывала со второго этажа. Сейчас Семе уже пять. Пол шестого. Сема получился толковым, но избалованным ребенком. А как иначе при такой концентрации любви на одного малыша? Эти выходные Семочка провел у бабушки и дедушки. Лиля и Гриша ездили на дачу отмывать дом к летнему сезону Семочку привез домой брат Гриши, в воскресенье. Сдал племянника с шутками и прибаутками. Сёма был веселый, обычный, рот перемазан шоколадом. Вечером Лиля раздела сына для купания и заметила… На попе две красные полосы. Следы от ремня. У Лили похолодели руки. — Семен… — Лилю не слушался язык. — Да, мам. — Что случилось у дедушки и бабушки? — А что случилось? — не понял Сема. — Тебя били? — А да. Я баловался, прыгал со спинки дивана. Деда сказал раз. Два. Потом диван сломался. Чуть не придавил Мурзика. И на третий раз деда меня бил. В субботу. Лиля заплакала. Прямо со всем отчаянием, на какое была способна. Сема тоже. Посмотрел на маму и заплакал. От жалости к себе. — Почему ты мне сразу не рассказал? — Я забыл. Лиля поняла, что Сема, в силу возраста, не придал этому событию особого значения. Ему было обидно больше, чем больно. А Лиле было больно. Очень больно. Болело сердце. Кололо. Лиля выскочила в кухню, где Гриша доедал ужин. — Сема больше не поедет к твоим родителям, — отрезала она. — На этой неделе? — Вообще. Никогда. — Почему? — Гриша поперхнулся. — Твой отец избил моего сына. — Избил? — Дал ремня. — А за что? — В каком смысле «за что»? Какая разница «за что»? Это так важно? За что? Гриша, он его бил!!! Ремнем! — Лиля сорвалась на крик, почти истерику. — Лиля, меня все детство лупили как сидорову козу и ничего. Не умер. Я тебе больше скажу: я даже рад этому. И благодарен отцу. Нас всех лупили. Мы поколение поротых ***, но это не смертельно! — То есть ты за насилие в семье? Я правильно понимаю? — уточнила Лиля стальным голосом. — Я за то, чтобы ты не делала из этого трагедию. Чуть меньше мхата. Я позвоню отцу, все выясню, скажу, чтобы больше Семку не наказывал. Объясню, что мы против. Успокойся. — Так мы против или это не смертельно? — Лиля не могла успокоиться. — Ремень — самый доходчивый способ коммуникации, Лиля. Самый быстрый и эффективный. Именно ремень объяснил мне опасность для моего здоровья курения за гаражами, драки в школе, воровства яблок с чужих огородов. Именно ремнем мне объяснили, что нельзя жечь костры на торфяных болотах. — А словами??? Словами до тебя не дошло бы??? Или никто не пробовал? — Словами объясняют и все остальное. Например, что нельзя есть конфету до супа. Но если я съем, никто не умрет. А если подожгу торф, буду курить и воровать — это преступление. Поэтому ремень — он как восклицательный знак. Не просто «нельзя». А НЕЛЬЗЯ!!! — К черту такие знаки препинания! — Лиля, в наше время не было ювенальной юстиции, и когда меня пороли, я не думал о мести отцу. Я думал о том, что больше не буду делать то, за что меня наказывают. Воспитание отца — это час перед сном. Он пришел с работы, поужинал, выпорол за проступки, и тут же пришел целовать перед сном. Знаешь, я обожал отца. Боготворил. Любил больше мамы, которая была добрая и заступалась. — Гриша, ты слышишь себя? Ты говоришь, что бить детей — это норма. Говоришь это, просто другими словами. — Это сейчас каждый сам себе психолог. Псехолог-пидагог. И все расскажут тебе в журнале «Щисливые радители» о том, какую психическую травму наносит ребенку удар по попе. А я, как носитель этой попы, официально заявляю: никакой. Никакой, Лиль, травмы. Даже наоборот. Чем дольше синяки болят, тем дольше помнятся уроки. Поэтому сбавь обороты. Сема поедет к любимому дедушке и бабушке. После того, как я с ними переговорю. Лиля сидела сгорбившись, смотрела в одну точку. — Я поняла. Ты не против насилия в семье. — Я против насилия. Но есть исключения. — То есть если случатся исключения, то ты ударишь Сему. — Именно так. Я и тебя ударю. Если случатся исключения. На кухне повисла тяжелое молчание. Его можно было резать на порции, такое тугое и осязаемое оно было. — Какие исключения? — тихо спросила Лиля. — Разные. Если застану тебя с любовником, например. Или приду домой, а ты, ну не знаю, пьяная спишь, а ребенок брошен. Понятный пример? И Сема огребет. Если, например, будет шастать на железнодорожную станцию один и без спроса, если однажды придет домой с расширенными зрачками, если… не знаю… убьет животное… — Какое животное? — Любое животное, Лиля. Помнишь, как он в два года наступил сандаликом на ящерицу? И убил. Играл в неё и убил потом. Он был маленький совсем. Не понимал ничего. А если он в восемь лет сделает также, я его отхожу ремнем. — Гриша, нельзя бить детей. Женщин. Нельзя, понимаешь? — Кто это сказал? Кто? Что за эксперт? Ремень — самый доступный и короткий способ коммуникации. Нас пороли, всех, понимаешь? И никто от этого не умер, а выросли и стали хорошими людьми. И это аргумент. А общество, загнанное в тиски выдуманными гротескными правилами, когда ребенок может подать в суд на родителей, это нонсенс. Просыпайся, Лиля, мы в России. До Финляндии далеко. Лиля молчала. Гриша придвинул к себе тарелку с ужином. — Надеюсь, ты поняла меня правильно. — Надейся. Лиля молча вышла с кухни, пошла в комнату к Семе. Он мирно играл в конструктор. У Семы были разные игрушки, даже куклы, а солдатиков не было. Лиля ненавидела насилие, и не хотела видеть его даже в игрушках. Солдатик — это воин. Воин — это драка. Драка это боль и насилие. Гриша хочет сказать, что иногда драка — это защита. Лиля хочет сказать, что в цивилизованном обществе достаточно словесных баталий. Это две полярные точки зрения, не совместимые в рамках одной семьи. — Мы пойдем купаться? — спросил Сема. — Вода уже остыла, сейчас я горячей подбавлю… — Мам, а когда первое число? — Первое число? Хм… Ну, сегодня двадцать третье… Через неделю первое. А что? — Деда сказал, что если я буду один ходить на балкон, где открыто окно, то он опять всыпет мне по первое число… Лиля тяжело вздохнула. — Деда больше никогда тебе не всыпет. Никогда не ударит. Если это произойдет — обещай! — ты сразу расскажешь мне. Сразу! Лиля подошла к сыну, присела, строго посмотрела ему в глаза: — Сема, никогда! Слышишь? Никогда не ходи один на балкон, где открыто окно. Это опасно! Можно упасть вниз. И умереть навсегда. Ты понял? — Я понял, мама. — Что ты понял? — Что нельзя ходить на балкон. — Правильно! — Лиля улыбнулась, довольная, что смогла донести до сына важный урок. — А почему нельзя? — Потому что деда всыпет мне ремня…
Смотрите далее: сказка про попу и ремешок
Комментарии
Узнавай и участвуй
Клубы на Бэби.ру — это кладезь полезной информации