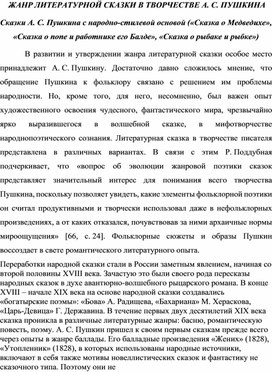Обновлено: 10.01.2023
Даже при упрощенном подходе к рассмотрению сказок Пушкина возникает вопрос: почему писатель систематически обращается к этому жанру не в ранний период творчества, когда им была написана сказочная поэма «Руслан и Людмила» (1817 — 1820), а в более зрелые годы? Ведь только разобравшись, чем жил Пушкин в это время, какие вопросы он ставил перед собой, как их решал, можно сделать вывод, почему происходит обращение к жанру сказки.
Оценить 1377 0
Место сказок А.С. Пушкина в контексте творчества 1830-х годов
Даже при упрощенном подходе к рассмотрению сказок Пушкина возникает вопрос: почему писатель систематически обращается к этому жанру не в ранний период творчества, когда им была написана сказочная поэма «Руслан и Людмила» (1817 — 1820), а в более зрелые годы? Ведь только разобравшись, чем жил Пушкин в это время, какие вопросы он ставил перед собой, как их решал, можно сделать вывод, почему происходит обращение к жанру сказки.
В пушкиноведении стало традицией изучать поздние произведения поэта в рамках определенного цикла. По-видимому, основанием для этого стало то, что Пушкин в 30-е годы объединял свои произведения в группы. Так, драматические опыты 1830 года: «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», «Каменный гость» и «Пир во время чумы» — составляют внутренне организованный цикл. То же можно сказать о «Повестях Белкина». Если эти произведения рассматривать под подобным углом зрения, можно увидеть, что своеобразным поводом для их объединения является не формальная принадлежность к определенному жанру, а более существенные и глубокие основания — идейные, тематические, художественные. То же можно сказать и о сказках. Но, конечно, нельзя отрицать, что каждая из них как индивидуальное художественное произведение оригинальна и самобытна. Идейное содержание и поэтическая форма их, в первую очередь, обусловлены временем создания, обстоятельствами, вызвавшими желание написать именно сказку, и главное — окружением, теми произведениями, которые писались в то же время.
Период творчества 1830-х годов открывается Болдинской осенью, когда поэтом создаются такие шедевры, как «Маленькие трагедии» и «Повести Белкина». Целому ряду стремительно созданных в Болдине произведений предшествовала долгая, упорная работа мысли.
В произведениях, созданных Болдинской осенью 1830 года, велико многообразие охватываемых сфер жизни, явлений и событий. Многообразию содержания соответствует исключительное многообразие форм и средств их художественного воплощения. Пушкин разрабатывает самые различные жанры: роман, повесть, поэму, трагедию. Именно к этому году относится и разработка такого жанра, как сказка.
Пушкинские сказки имели очень странную судьбу. Они были холодно встречены современниками и не нашли справедливой оценки в критике XIX века. «Библиотека для чтения», на страницах которой появились сказки, отозвалась о них пренебрежительно, как об игрушке, позволенной великому таланту в промежутках его славы. Гоголь, первоначально восхитившийся пушкинскими сказками и увидевший в них русскую поэзию, впоследствии отказал им в значительности. Полевой, Боратынский, Белинский причисляли сказки к самым слабым созданиям поэта.
Но Пушкин обратился к сказочному жанру не случайно. В 30-е годы он сознательно дистанцируется от своих героев, даже от Евгения Онегина. Драматический род позволяет ему не участвовать в изображаемых событиях даже в роли повествователя. «Повести Белкина» имеют целый ряд посредников между автором и читателями. Даже «Медный всадник», несмотря на лиро-эпическую природу, делится на две части: лирическое вступление и эпическую, демонстративно бесстрастную основную часть.
Пушкин тяготеет к рассказу «чужой истории». В этом смысле сказки как жанровая форма чрезвычайно удобны. Сказка — это концентрация народной мудрости, этики и эстетики, отражение коллективного многовекового опыта. Пушкин создает свою, особую, сказку: она позволяет поэту, с одной стороны, говорить о вечных нравственных ценностях и, с другой, сохранять независимую повествовательную позицию.
В пушкинских произведениях 30-х годов нет тем, оторванных одна от другой. Они связаны между собой настолько, что нередко тема, разработанная в одном произведении, бывает продолжена или расширена в другом. Между произведениями 30-х годов существует глубокая внутренняя связь. «Повести Белкина» Пушкин в письме Плетневу (около 15 августа 1831 г.) называет сказками: «Посылаю тебе сказки моего друга Ивана Петровича Белкина» 1 . Действительно, несмотря на некоторую анекдотичность «Повестей», в них четко проведена граница между добром и злом на самом бытовом уровне, что делает их близкими сказке. В «Повестях Белкина» романное и притчевое начало связаны с вечными темами: смена поколений, любовь и ненависть, добро и зло. Этому циклу присуща незамутненная ясность нравственных критериев. В них царит идиллическая атмосфера, звучат темы дома, семьи, повседневного общения близких людей. Для Пушкина ценны прежде всего реализованные в мирной стабильности человеческие связи, построенные на любви и согласии.
В «Маленьких трагедиях», напротив, герои поставлены в исключительные обстоятельства, их отделяет от смерти один шаг. Если в «Повестях» жизнь течет размеренно и спокойно, то здесь почти осязаемо чувствуется острота и быстрота, с которой жизнь уступает права смерти, трагическое становится смешным, высокое — низким, торжество сменяется падением. Страсти героев проверяются на их гуманистическую прочность, в основе которой лежат пушкинские представления о чести, совести, нравственности, достоинстве человека.
С конца 20-х годов в поэте непрерывно идет созревание и углубление духовной умудренности и вместе с этим процессом нарастание религиозного сознания. Это уже не Пушкин начала 20-х годов. Об этом одинаково свидетельствуют и поэтические творения, и прозаические произведения, и биографические и критические записки. Творчество Пушкина всегда было богато гуманизмом, но в 30-е годы подобные темы звучат особенно полно в его «Маленьких трагедиях», «Повестях Белкина» и сказках. Чрезвычайно богатая тема пушкинского творчества — духовное преображение личности.
Современники, не принявшие «Повестей Белкина» и сказок, не увидели главного: чуть ли не прямого соотнесения с темами и идеями, создаваемыми «рядом». Те же вечные вопросы, которые поднимаются в «Маленьких трагедиях», «Медном всаднике» — о целях человеческого существования, о достоинстве, о зависимости людских судеб от времени и внешних обстоятелств, о способности преодолевать эти обстоятельства — поднимаются и в сказках. Действительно, в 30-е годы, как никогда, Пушкина волнуют проблемы нравственности. Не об этом ли пишет А.Ахматова: «ни в одном из созданий мировой поэзии грозные вопросы морали не поставлены так резко и сложно, как в «Маленьких трагедиях» 2 . Другие исследователи поддерживают эту точку зрения: «Грозные вопросы морали» предстают в «Повестях Белкина» в первозданной чистоте» 3 .
Все эти вопросы звучат и в сказках, но звучат особенно, по-своему, потому что это все-таки сказки. Жанр сказки является, по существу, универсальным для прямого, открытого выражения моральных оценок. Каждому с детства известно, что «сказка ложь, да в ней намек». И этот «намек», мораль — как угодно можно назвать — не требует объяснений. Сказка сама — мораль, не случайно басня вышла из сказки. Сказка обо все говорит прямо, без полутонов и разбирательства сложной душевной организации героев. Если старик сказал «ласковое слово», то он добрый, если старуха «вздурилась» от жадности, то она алчная, если мачеха хочет погубить царевну, то она злая, и царь, если не держит своего слова, плохой царь. Добро есть добро. Зло есть зло. И каждому известно, что в сказках добро всегда побеждает.
Что же объединяет все сказки Пушкина, кроме жанровой формы и фольклорного влияния? На наш взгляд, центральный вопрос для поэта — это вопрос о нравственном падении, преступлении и неизбежном за ним наказании. Это как раз та тема, которая делает сказки Пушкина, которые мы рассматриваем и те, которые остались вне поля зрения («Сказка о попе и работнике его Балде», незавершенная «Сказка о медведихе»), единым пространством смысла. Это же объединяет сказки с другими произведениями Пушкина 30-х годов.
Во многих произведениях Пушкин разрабатывает тему преступления и наказания. Эта тема звучит в «Маленьких трагедиях», в «Медном всаднике», «Русалке», «Анджело». Есть она и в сказках, но решается по-разному: мачеха умирает «своей» смертью (в полном смысле «своей», такой, какую она заслуживает и какая более всего соответствует логике ее сказочного характера), старуха возвращается к своему прежнему нищенскому существованию, царь Дадон убит золотым петушком. И только в одной сказке виновные не наказываются, а прощаются — в «Сказке о царе Салтане». Это свидетельствует о том, что в пушкинском творчестве эта тема получает всестороннее освещение. Мы видим нарастание и развитие пушкинских представлений о преступлении и наказании.
Важно отметить, что в двух сказках есть специальные персонажи, которым отводится роль суда и наказания: золотая рыбка и золотой петушок. Примечательно, что эти два карающих персонажа маркированны золотым цветом. Существует несколько версий происхождения эпитета «золотой» в этих сказках. Одни исследователи полагают, что он связан с фольклорной традицией, где все лучшее — золотое, и перешел в сказки Пушкина от Арины Радионовны. Другие связывают его с незыблемым постоянством тех ценностей, которые воплощает золотой цвет.
Думается, разгадка лежит в символике золотого цвета, сложившейся в культуре. В архаических религиозных представлениях и позже в византийской и русской иконографии золотой цвет — это цвет божественный, цвет трансцендентных сфер (мы еще вернемся к этому вопросу в соответствующих разделах работы). Вспомним, что рыбка наказала старуху не просто за жадность, а за непомерные амбиции: в черновиках сказки старуха хочет стать римским папой или богом, а в окончательном варианте — подняться выше рыбки — дарителя и помощника.
В плане рассмотрения темы возмездия интересно сопоставить первую и последнюю сказки — о попе и работнике его Балде (1830) и о золотом петушке (1834). Композиция обеих сказок однотипна. Она соответствует распространенному типу сюжета: договор, заключенный между двумя неравноправными сторонами (поп и работник, царь и волшебник), и стремление одной из сторон к невыполнению невыгодной для себя части договора (поп хочет оставить Балду, а точнее — себя, без расплаты; царь Дадон не хочет «просьбу первую» дарителя «исполнить как свою» — отдать красавицу). Но если в первой сказке наказание не является изначально жестоким, а становится таковым из-за невыполнения договора, то в последней царь прямо карается смертью. Возможно, это объясняется тем, что в первой сказке тема преступления и наказания решается на бытовом уровне и конфликт имеет больше социальный смысл, тогда как в последней эта проблема решается уже на метафизическом уровне. Здесь в качестве орудия наказания выступает не человек (волшебник), а сверхличная сила — золотой петушок.
Таким образом, можно сделать вывод, что сказки Пушкина органически «вписываются» в контекст творчества 30-х годов именно благодаря поднятым в них нравственным проблемам — «жгучим вопросам морали».
1 Пушкин А.С. Собр. соч.: в 10 т. Т. 10. Письма 1831 — 1837 гг. М., 1981. С. 212
2 Ахматова А.А. О Пушкине. Статьи и заметки. С. 26.
3 Хализев В.Е., Шешунова С.В. Цикл А.С. Пушкина «Повести Белкина». М., 1989. С. 32.
Пушкин в детстве любил слушать сказки, искусно повествуемые ему няней, Ариной Родионовной. Но у него не исчезает интерес к сказкам и в ту пору, когда Александр Сергеевич становится взрослым человеком. Народная стихия притягивала и манила всегда поэта, так как для него фольклор был не просто собранием высокохудожественных эстетических ценностей, а представлял народную этику, философию, мораль и нравственность.
Прикрепленные файлы: 1 файл
Эстетические мотивы обращения Пушкина к жанру художественной сказки.docx
Эстетические мотивы обращения Пушкина к жанру художественной сказки
Первый фольклорный опыт не принёс поэту удовлетворения, и Пушкин начал поиск новых путей освоения народного поэтического творчества, стремясь к постижению не только его яркой образности, но и раскрытию его глубинной сути, называемой правдой народною.
Пушкин в ноябре 1824 года из Михайловского пишет брату Льву Сергеевичу: «Знаешь ли мои занятия? До обеда пишу записки, обедаю поздно: после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки — и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки? Каждая есть поэма!» Пушкин А.С. Полное собрание сочинение.- М.: Прогресс, 2010.- Т. 6. -С. 98.
Но интерес к сказке именно как к литературному жанру у Пушкина появился лишь в конце его поэтической деятельности, а именно в тридцатые годы. Обращение известного всей России поэта, который обладал энциклопедическими знаниями, являлся выпускником лучшего учебного заведения России, Царскосельского лицея, было неслучайным, так как Пушкин ставил довольно серьёзно вопрос о простонародных сказках.
Таковы были эстетические мотивы, толкнувшие Пушкина обратиться к жанру художественной сказки.
Великий поэт в Михайловском сам начинает учиться сочинять сказки и песни в народном вкусе.
И вот из — под пера Пушкина в начале 30 — ых годов выходят чудесные сказки. В 1831 году была написана им «Сказка о царе Салтане», ставшая результатом своеобразного поэтического состязания между В.А. Жуковским и А.С. Пушкиным, которые решили написать в народном духе по сказке. В том же году появляется «Сказка о попе и о работнике его Балде», при жизни автора так и не увидевшая свет. В 1833 году в Болдино написаны «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», а годом позже, в 1834 году, «Сказка о золотом петушке» Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин.- СПб.: Просвещение, 2010.- С. 77..
Цикл этих сказок в творчестве великого Пушкина занимает особое и исключительное место, так как с ним связываются представления о значительном и важном переломе в его творчестве.
Пушкинские сказки возникли как апофеоз народного духа и закономерно предшествовали изображению народного действия. Вместе с тем в их возникновении — и в последовательности их появления — отразились судьба и жизнь Пушкина.
Сказки А.С.Пушкина появились в период наивысшего расцвета его творчества. Они не предназначались для детей, но сразу вошли в детское чтение.
Живя в Михайловском, Пушкин близко познакомился с простым народом, с крестьянами. Там он с глубоким сочувствием и интересом изучал народные нравы, обычаи и поверья. (4; 5-7)
Пушкин в Михайловском начал учиться сам сочинять по — народному песни, сказки и, в конце концов, овладел этим умением. ( 6; 230 )
У Пушкина сказочные персонажи психологически и художественно совершенны; в процессе работы над сказкой он постоянно оттачивал ее стих, приближая его к народному, заостряя сатиру.
Долго царь был неутешен,
Но как быть? И он был грешен;
Год прошел как сон пустой,
Царь женился на другой.
Сказки Пушкина отличаются богатством творческой фантазии. В них гармонично уживаются реалистические картины быта и нрава различных сословий русского общества с чудесами волшебного мира, возникшего под пером поэта. Таков целый город на острове Буяне – столица князя Гвидона:
…Город новый златоглавый…
…Стены с частыми зубцами,
И за белыми стенами
Блещут маковки церквей
И святых монастырей
…В колымагах золотых
Пышный двор встречает их…
Поэтически совершенны такие персонажи, как царевна Лебедь, Золотая рыбка, Золотой петушок, тридцать три богатыря. Белка – чудесница.
Для сказок Пушкина характерны чудесные превращения: старухи- крестьянки в царицу; лебедя – в прекрасную девушку; князя Гвидона – в комара, шмеля, муху. Волшебные превращения не только увлекательны, они помогают раскрыть гуманистические идеи сказок. Превращение старухи снова из царицы в крестьянку связано с наказанием за ее самодурство и алчность. Превращение лебедя в прекрасную девушку выражает победу любви над волшебными чарами.
Великолепные сказки А.С.Пушкина всего ближе и приятнее с самого детства; прочитав их несколько раз, знаешь их на память Имя Пушкина, черты его лица входят в наше сознание в самом раннем детстве. Как известно, далеко не все современники поэта оценили его сказки по достоинству. Были люди, которые жалели, что А.С.Пушкин спускается с высот своих поэм в область простонародной сказки.
Слушая сказки Пушкина, мы с малых лет учимся ценить чистое, простое слово. В сказках Пушкин реже пользуется поэтическими фигурами, чем в поэмах. Он создает живой, зримый образ, почти не прибегая к изысканным сравнениям и метафорам. Один и тот же стихотворный размер передает у него и полет шмеля или комара, и пушечную пальбу, и раскаты грома. Воспитывать это чуткое внимание надо с малых лет. Дети почувствуют прелесть пушкинских сказок и в том случае, если будут читать их сами. Но еще больше оценят они стихи, если услышат их в хорошем чтении. Ритм в его строчках – лучший толкователь содержания и верный ключ к характеристике действующих лиц сказки.
С Болдинской осени 30-го года Александр Сергеевич почти каждый год пишет по сказке. Он создает государство в государстве, страну величавой простоты и детской ясности, страну, где добро беспримесно отмежевано от зла и всегда торжествует,- обетованную землю, русскую Утопию древних поверий и легенд – остров Буян. В этой стране свои цари и свои законы природы. Ее небо ясно и безгневно; под ним есть место всем. Ее море – грозная, но разумная стихия. Ее суша – и ее главная твердыня – семья.
Сказки Пушкина пробуждают симпатии и антипатии читателей, формирует активное отношение к героям. Они помогают решать задачи эстетического и нравственного воспитания детей.
Художественный мир пушкинских сказок целостен и нерушим, благодаря высоким ценностям, положенным в его основу. Мы осмысляем его – а он остается неразъято прекрасным и вечным. Расстилаются просторы земли, пахнет лесом и морем, и видно далеко во все концы света, и на одном крае вечно сидит царь Салтан в своем золотом венце и грустит, а на другом – Гвидон в княжьей шапке, и тоже грустит; и где то Балда с попом объегоривают друг друга, а царевна, подбираясь, поднимается на крыльцо, и Елисей все скачет и скачет по горам и долам, и вопрошает Солнце и Месяц, и Ветер. В тесном ущелье, в вечной тишине, лежат на кровавой мураве два брата, и бродят вокруг них одинокие кони. А к морю и от моря вечно ходит старый рыбак – ходит и ходит, туда-сюда, туда-сюда…
Сказки А. С. Пушкина указали детской литературе новый путь. Они дали классические образцы детской литературы, вскрыли пустоту и надуманность моралистических книжек многих детских писателей.
Любовь Пушкина к русскому фольклору явилась следствием глубокой потребности поэта в познании души народа.
Поэт понимал, что крестьянская культура – основа национального бытия. Именно крестьянство хранит образ русской веры, мудрость, отражённую в пословицах и поговорках, поэзию, заключённую в сказках.
Сказки были для Пушкина богатым источником народно-поэтической образности, формой и способом переосмысления важнейших вопросов жизни.
Между тем, для поэта русские народные сказки стали находкой. Известно 12 текстов, собственноручно записанных Пушкиным со слов Арины Родионовны и других крестьян.
Часть зафиксированных им сюжетов нашла воплощение в сказках, созданных в 1830-1834 годах:
Время работы Пушкина над самыми знаменитыми из его сказок совпало с расцветом интереса к этому фольклорному жанру в русских образованных кругах.
А в 30-е годы 19 века осмысление народного творчества уже вершилось полным ходом.
В отличие от большинства современников, Пушкин старался максимально точно сохранить фольклорный сюжет, осовременивая его звучание за счёт психологической прорисовки деталей.
Он понимал, что каждая строка первоисточника – свидетельство общеславянского прошлого – являет собой осколок древнего знания.
А кот учёный и грызущая орешки белочка – волшебные охранники священных границ между этим и тем миром. Они охраняют вход на небо, в Иное царство, отсюда их причастность к Слову (кот) и постижению тайн мироздания (разгрызание золотых (!) орешков).
Пушкин был подобен опытному реставратору, бережно и трепетно восстанавливающему первообраз, запечатлённый на древней иконе.
Читать сказки Пушкина нужно внимательно. В них несколько слоёв смысла. Поэт относился к сказке чрезвычайно серьёзно, на собственном опыте зная величайшую воспитательную и эстетическую силу выношенного в душе и памяти народа сказочного слова.
Медведиха выходит на гулянье со своими детьми как счастливая хозяйка семейства. Это своего рода воплощение народного идеала. Однако в сказке он нарушен. С народным представлением о горе связана аллегоричность образа медведя черно-бурого, который запечалился, голову повесил, голосом завыл. Таким образом, в произведении возникают и соединяются две тональности, два эмоциональных полюса, которые создают идейно-художественную целостность. Соединение идиллической и драматической тональности свидетельствует о том, что Пушкин ориентируется на лирический, песенный стиль и на стиль похоронных причитаний. Подобно народному рассказчику, который хранит в памяти народную кайму и стилевые жанровые свойства, поэт воплощает сюжет в заранее заготовленные сказочные обороты и формулы. В тексте сказки несложно выявить выражения, буквально совпадающие с текстами фольклорных произведений.
Пушкин мастерски использует в сказке народные причитания, которым предшествует синтаксический параллелизм в конструкции положительного и отрицательного сравнения: не звоны пошли по городу – пошли вести по всему свету:
Ах ты, свет моя медведиха,
На кого меня покинула,
Уж как мне с тобой, моей боярыней,
Веселой игры не игрывати,
Милых детушек не родити,
Медвежатушек не качати,
Не качати, не баюкати [74, с. 311].
Таким образом, можно говорить о новой тенденции в развитии сказочного жанра в творчестве Пушкина, когда он, пытаясь оторваться от конкретного народного сюжета, совмещает элементы разных фольклорных жанров.
Толоконный лоб [76, с. 305].
· хозяин и батрак (наем за три щелчка);
· состязание в беге;
· кто дальше забросит дубину;
· кто раскусит камень;
· игра в карты с чертом и др.
Все мотивы связаны между собой образом работника. Создавая сказку, Пушкин отбрасывает лишние, на его взгляд, мотивы и пишет свой вариант сказки, в которой акцент перенесен на социальный конфликт. Его сказка состоит из таких мотивов:
· поп и Балда заключают договор;
· Балда выполняет все условия, но поп поручает работнику невыполнимые задания;
· попу приходится подчиниться условиям договора.
Ест за четверых,
Работает за семерых [76, с. 305].
Попадья Балдой не нахвалится,
Поповна о Балде лишь и печалится [76, с. 305].
Бесенок по берегу морскому,
А зайка в лесок да додому [76, с. 307].
Авторский план сказки образуется благодаря широкому использованию поэтом выражений афористического характера: идет, сам не зная куда; почесывать лоб; понадеялся на русский авось; не будет … накладно; щелк щелчку рознь; ест за четверых, работает за семерых. Автор-повествователь выступает как народный рассказчик, блестяще знающий народный язык. Отсюда – широкое употребление просторечных слов и выражений: проворье, бедство, двух зайков, до дому, меньшой и т.п. Колорит народного рассказа воссоздается поэтом с помощью форм народного синтаксиса и ритмико-интонационного строя устно-разговорной речи. Так, в речи рассказчика используются преимущественно простые предложения (Жил-был поп, // Толоконный лоб), нередко используется инверсия (Пошел поп по базару). Предложения часто начинаются союзами а, вот (А Балда приговаривал с укоризной), при описании действий персонажей опускаются глаголы (Испугался бесенок, да к деду). Приведенные примеры характерны для бытового народного языка.
Живет Балда в поповском доме,
Спит себе на соломе.
Ест за четверых
Работает за семерых [76, с. 308].
Такая описательность – характерная особенность чисто литературного жанра. Финальная сцена сказки также проникнута психологизмом:
Идет Балда, покрякивает,
А поп, завидя Балду, вскакивает,
За попадью прячется,
Со страху корячится [76, с. 309].
Внутреннее состояние персонажа передается изображением целого ряда действий. Но Пушкин значительно изменяет сам характер изображаемого действия, о чем детально писал В. Непомнящий [65].
1. Экспозиция. Старик выловил золотую рыбку. Она просит отпустить ее в море за выполнение любого желания.
2. Старуха велит обратиться к рыбке с просьбой сделать ее дворянкой, царицей, владычицей морскою. Рыбка выполняет все желания, кроме последнего [20, с. 114].
В своей сказке Пушкин отказывается от литературных способов изображения персонажей: образы-типы старика и старухи свойственны бытовой сказке. Кроме того, для народного творчества характерны так называемые кумулятивные сказки, о которых уже упоминалось, когда события связываются между собой причинно-следственными связями. Кумулятивная структура сказки о рыбаке и рыбке помогает глубже раскрыть характер жадной старухи. Если в волшебной сказке превращения чаще всего связаны с приобретением героями определенных положительных качеств, то превращения старухи в пушкинском произведении происходят вопреки законам чудесной сказки. Изображение старухи дается в стиле лубочных картинок.
Читайте также:
- Виды заявок и действия по ним в гостинице кратко
- Публицистика льва толстого кратко
- Национальный тип культуры кратко
- Конституция это кратко и понятно для детей
- Сундучный промысел на урале кратко
Зачем Пушкин обращается к народным сказкам
Любовь Пушкина к русскому фольклору явилась следствием глубокой потребности поэта в познании души народа.
Поэт понимал, что крестьянская культура – основа национального бытия. Именно крестьянство хранит образ русской веры, мудрость, отражённую в пословицах и поговорках, поэзию, заключённую в сказках.
Сказки были для Пушкина богатым источником народно-поэтической образности, формой и способом переосмысления важнейших вопросов жизни.
В письме к брату Льву поэт писал из Болдино: «Вечером слушаю сказки – и тем вознаграждаю недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!».
«Недостатки проклятого своего воспитания» — отсутствие в жизни Пушкина и многих других молодых дворян его времени погружённости в национальную культуру, невостребованность, «немодность» этой темы в просвещённом обществе.
Между тем, для поэта русские народные сказки стали находкой. Известно 12 текстов, собственноручно записанных Пушкиным со слов Арины Родионовны и других крестьян.
Часть зафиксированных им сюжетов нашла воплощение в сказках, созданных в 1830-1834 годах:
- «Сказке о попе и о работнике его Балде»;
- «Сказке о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»;
- «Сказке о рыбаке и рыбке»;
- «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях»;
- «Сказке о Золотом петушке».
Время работы Пушкина над самыми знаменитыми из его сказок совпало с расцветом интереса к этому фольклорному жанру в русских образованных кругах.
В 1820 году, когда Пушкиным создавалась поэма «Руслан и Людмила», фольклорный материал входил в литературу как экзотика.
А в 30-е годы 19 века осмысление народного творчества уже вершилось полным ходом.
Между Пушкиным и Жуковским состоялся творческий поединок, в результате которого последний создал «Спящую красавицу» и «Сказку о Берендее».
Годом позже Н. В. Гоголь выпустил сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки».
В. И. Даль подготовил издание литературно обработанных русских народных сказок. П. Ершов представил на суд публики сказку «Конёк-горбунок».
В отличие от большинства современников, Пушкин старался максимально точно сохранить фольклорный сюжет, осовременивая его звучание за счёт психологической прорисовки деталей.
Он понимал, что каждая строка первоисточника – свидетельство общеславянского прошлого – являет собой осколок древнего знания.
Например, лукоморский «дуб зелёный» или «ель перед дворцом» на острове Буяне – это образы Мирового Древа, которое в народной традиции представляет собой центр мира, пуп земли.
А кот учёный и грызущая орешки белочка – волшебные охранники священных границ между этим и тем миром. Они охраняют вход на небо, в Иное царство, отсюда их причастность к Слову (кот) и постижению тайн мироздания (разгрызание золотых (!) орешков).
Пушкин был подобен опытному реставратору, бережно и трепетно восстанавливающему первообраз, запечатлённый на древней иконе.
Читать сказки Пушкина нужно внимательно. В них несколько слоёв смысла. Поэт относился к сказке чрезвычайно серьёзно, на собственном опыте зная величайшую воспитательную и эстетическую силу выношенного в душе и памяти народа сказочного слова.
05.09.2013
учитель русского языка и литературы
Даже при упрощенном подходе к рассмотрению сказок Пушкина возникает вопрос: почему писатель систематически обращается к этому жанру не в ранний период творчества, когда им была написана сказочная поэма «Руслан и Людмила» (1817 — 1820), а в более зрелые годы? Ведь только разобравшись, чем жил Пушкин в это время, какие вопросы он ставил перед собой, как их решал, можно сделать вывод, почему происходит обращение к жанру сказки…
Оценить
1509
Содержимое разработки
Место сказок А.С. Пушкина в контексте творчества 1830-х годов
Даже при упрощенном подходе к рассмотрению сказок Пушкина возникает вопрос: почему писатель систематически обращается к этому жанру не в ранний период творчества, когда им была написана сказочная поэма «Руслан и Людмила» (1817 — 1820), а в более зрелые годы? Ведь только разобравшись, чем жил Пушкин в это время, какие вопросы он ставил перед собой, как их решал, можно сделать вывод, почему происходит обращение к жанру сказки.
В пушкиноведении стало традицией изучать поздние произведения поэта в рамках определенного цикла. По-видимому, основанием для этого стало то, что Пушкин в 30-е годы объединял свои произведения в группы. Так, драматические опыты 1830 года: «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», «Каменный гость» и «Пир во время чумы» — составляют внутренне организованный цикл. То же можно сказать о «Повестях Белкина». Если эти произведения рассматривать под подобным углом зрения, можно увидеть, что своеобразным поводом для их объединения является не формальная принадлежность к определенному жанру, а более существенные и глубокие основания — идейные, тематические, художественные. То же можно сказать и о сказках. Но, конечно, нельзя отрицать, что каждая из них как индивидуальное художественное произведение оригинальна и самобытна. Идейное содержание и поэтическая форма их, в первую очередь, обусловлены временем создания, обстоятельствами, вызвавшими желание написать именно сказку, и главное — окружением, теми произведениями, которые писались в то же время.
Период творчества 1830-х годов открывается Болдинской осенью, когда поэтом создаются такие шедевры, как «Маленькие трагедии» и «Повести Белкина». Целому ряду стремительно созданных в Болдине произведений предшествовала долгая, упорная работа мысли.
В произведениях, созданных Болдинской осенью 1830 года, велико многообразие охватываемых сфер жизни, явлений и событий. Многообразию содержания соответствует исключительное многообразие форм и средств их художественного воплощения. Пушкин разрабатывает самые различные жанры: роман, повесть, поэму, трагедию. Именно к этому году относится и разработка такого жанра, как сказка.
Пушкинские сказки имели очень странную судьбу. Они были холодно встречены современниками и не нашли справедливой оценки в критикеXIX века. «Библиотека для чтения», на страницах которой появились сказки, отозвалась о них пренебрежительно, как об игрушке, позволенной великому таланту в промежутках его славы. Гоголь, первоначально восхитившийся пушкинскими сказками и увидевший в них русскую поэзию, впоследствии отказал им в значительности. Полевой, Боратынский, Белинский причисляли сказки к самым слабым созданиям поэта.
Но Пушкин обратился к сказочному жанру не случайно. В 30-е годы он сознательно дистанцируется от своих героев, даже от Евгения Онегина. Драматический род позволяет ему не участвовать в изображаемых событиях даже в роли повествователя. «Повести Белкина» имеют целый ряд посредников между автором и читателями. Даже «Медный всадник», несмотря на лиро-эпическую природу, делится на две части: лирическое вступление и эпическую, демонстративно бесстрастную основную часть.
Пушкин тяготеет к рассказу «чужой истории». В этом смысле сказки как жанровая форма чрезвычайно удобны. Сказка — это концентрация народной мудрости, этики и эстетики, отражение коллективного многовекового опыта. Пушкин создает свою, особую, сказку: она позволяет поэту, с одной стороны, говорить о вечных нравственных ценностях и, с другой, сохранять независимую повествовательную позицию.
В пушкинских произведениях 30-х годов нет тем, оторванных одна от другой. Они связаны между собой настолько, что нередко тема, разработанная в одном произведении, бывает продолжена или расширена в другом. Между произведениями 30-х годов существует глубокая внутренняя связь. «Повести Белкина» Пушкин в письме Плетневу (около 15 августа 1831 г.) называет сказками: «Посылаю тебе сказки моего друга Ивана Петровича Белкина»1. Действительно, несмотря на некоторую анекдотичность «Повестей», в них четко проведена граница между добром и злом на самом бытовом уровне, что делает их близкими сказке. В «Повестях Белкина» романное и притчевое начало связаны с вечными темами: смена поколений, любовь и ненависть, добро и зло. Этому циклу присуща незамутненная ясность нравственных критериев. В них царит идиллическая атмосфера, звучат темы дома, семьи, повседневного общения близких людей. Для Пушкина ценны прежде всего реализованные в мирной стабильности человеческие связи, построенные на любви и согласии.
В «Маленьких трагедиях», напротив, герои поставлены в исключительные обстоятельства, их отделяет от смерти один шаг. Если в «Повестях» жизнь течет размеренно и спокойно, то здесь почти осязаемо чувствуется острота и быстрота, с которой жизнь уступает права смерти, трагическое становится смешным, высокое — низким, торжество сменяется падением. Страсти героев проверяются на их гуманистическую прочность, в основе которой лежат пушкинские представления о чести, совести, нравственности, достоинстве человека.
С конца 20-х годов в поэте непрерывно идет созревание и углубление духовной умудренности и вместе с этим процессом нарастание религиозного сознания. Это уже не Пушкин начала 20-х годов. Об этом одинаково свидетельствуют и поэтические творения, и прозаические произведения, и биографические и критические записки. Творчество Пушкина всегда было богато гуманизмом, но в 30-е годы подобные темы звучат особенно полно в его «Маленьких трагедиях», «Повестях Белкина» и сказках. Чрезвычайно богатая тема пушкинского творчества — духовное преображение личности.
Современники, не принявшие «Повестей Белкина» и сказок, не увидели главного: чуть ли не прямого соотнесения с темами и идеями, создаваемыми «рядом». Те же вечные вопросы, которые поднимаются в «Маленьких трагедиях», «Медном всаднике» — о целях человеческого существования, о достоинстве, о зависимости людских судеб от времени и внешних обстоятелств, о способности преодолевать эти обстоятельства — поднимаются и в сказках. Действительно, в 30-е годы, как никогда, Пушкина волнуют проблемы нравственности. Не об этом ли пишет А.Ахматова: «ни в одном из созданий мировой поэзии грозные вопросы морали не поставлены так резко и сложно, как в «Маленьких трагедиях»2. Другие исследователи поддерживают эту точку зрения: «Грозные вопросы морали» предстают в «Повестях Белкина» в первозданной чистоте»3.
Все эти вопросы звучат и в сказках, но звучат особенно, по-своему, потому что это все-таки сказки. Жанр сказки является, по существу, универсальным для прямого, открытого выражения моральных оценок. Каждому с детства известно, что «сказка ложь, да в ней намек». И этот «намек», мораль — как угодно можно назвать — не требует объяснений. Сказка сама — мораль, не случайно басня вышла из сказки. Сказка обо все говорит прямо, без полутонов и разбирательства сложной душевной организации героев. Если старик сказал «ласковое слово», то он добрый, если старуха «вздурилась» от жадности, то она алчная, если мачеха хочет погубить царевну, то она злая, и царь, если не держит своего слова, плохой царь. Добро есть добро. Зло есть зло. И каждому известно, что в сказках добро всегда побеждает.
Что же объединяет все сказки Пушкина, кроме жанровой формы и фольклорного влияния? На наш взгляд, центральный вопрос для поэта — это вопрос о нравственном падении, преступлении и неизбежном за ним наказании. Это как раз та тема, которая делает сказки Пушкина, которые мы рассматриваем и те, которые остались вне поля зрения («Сказка о попе и работнике его Балде», незавершенная «Сказка о медведихе»), единым пространством смысла. Это же объединяет сказки с другими произведениями Пушкина 30-х годов.
Во многих произведениях Пушкин разрабатывает тему преступления и наказания. Эта тема звучит в «Маленьких трагедиях», в «Медном всаднике», «Русалке», «Анджело». Есть она и в сказках, но решается по-разному: мачеха умирает «своей» смертью (в полном смысле «своей», такой, какую она заслуживает и какая более всего соответствует логике ее сказочного характера), старуха возвращается к своему прежнему нищенскому существованию, царь Дадон убит золотым петушком. И только в одной сказке виновные не наказываются, а прощаются — в «Сказке о царе Салтане». Это свидетельствует о том, что в пушкинском творчестве эта тема получает всестороннее освещение. Мы видим нарастание и развитие пушкинских представлений о преступлении и наказании.
Важно отметить, что в двух сказках есть специальные персонажи, которым отводится роль суда и наказания: золотая рыбка и золотой петушок. Примечательно, что эти два карающих персонажа маркированны золотым цветом. Существует несколько версий происхождения эпитета «золотой» в этих сказках. Одни исследователи полагают, что он связан с фольклорной традицией, где все лучшее — золотое, и перешел в сказки Пушкина от Арины Радионовны. Другие связывают его с незыблемым постоянством тех ценностей, которые воплощает золотой цвет.
Думается, разгадка лежит в символике золотого цвета, сложившейся в культуре. В архаических религиозных представлениях и позже в византийской и русской иконографии золотой цвет — это цвет божественный, цвет трансцендентных сфер (мы еще вернемся к этому вопросу в соответствующих разделах работы). Вспомним, что рыбка наказала старуху не просто за жадность, а за непомерные амбиции: в черновиках сказки старуха хочет стать римским папой или богом, а в окончательном варианте — подняться выше рыбки — дарителя и помощника.
В плане рассмотрения темы возмездия интересно сопоставить первую и последнюю сказки — о попе и работнике его Балде (1830) и о золотом петушке (1834). Композиция обеих сказок однотипна. Она соответствует распространенному типу сюжета: договор, заключенный между двумя неравноправными сторонами (поп и работник, царь и волшебник), и стремление одной из сторон к невыполнению невыгодной для себя части договора (поп хочет оставить Балду, а точнее — себя, без расплаты; царь Дадон не хочет «просьбу первую» дарителя «исполнить как свою» — отдать красавицу). Но если в первой сказке наказание не является изначально жестоким, а становится таковым из-за невыполнения договора, то в последней царь прямо карается смертью. Возможно, это объясняется тем, что в первой сказке тема преступления и наказания решается на бытовом уровне и конфликт имеет больше социальный смысл, тогда как в последней эта проблема решается уже на метафизическом уровне. Здесь в качестве орудия наказания выступает не человек (волшебник), а сверхличная сила — золотой петушок.
Таким образом, можно сделать вывод, что сказки Пушкина органически «вписываются» в контекст творчества 30-х годов именно благодаря поднятым в них нравственным проблемам — «жгучим вопросам морали».
1 Пушкин А.С. Собр. соч.: в 10 т. Т. 10. Письма 1831 — 1837 гг. М., 1981. С. 212
2 Ахматова А.А. О Пушкине. Статьи и заметки. С. 26.
3 Хализев В.Е., Шешунова С.В. Цикл А.С. Пушкина «Повести Белкина». М., 1989. С. 32.

«Свидетельство участника экспертной комиссии»
Оставляйте комментарии к работам коллег и получите документ
БЕСПЛАТНО!
Жанр литературной сказки в творчестве А. С. Пушкина
Сказки
А. С. Пушкина с народно-стилевой основой («Сказка о Медведихе», «Сказка о попе
и работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке»)
В развитии и утверждении
жанра литературной сказки особое место принадлежит А. С. Пушкину.
Достаточно давно сложилось мнение, что обращение Пушкина к фольклору связано с
решением им проблемы народности. Но, кроме того, для него, несомненно, был
важен опыт художественного освоения чудесного, фантастического мира,
чрезвычайно ярко выразившегося в волшебной сказке, в мифотворчестве
народнопоэтического сознания. Литературная сказка в творчестве писателя
представлена в различных вариантах. В связи с этим Р. Поддубная
подчеркивает, что «вопрос об эволюции жанровой поэтики сказок представляет
значительный интерес для понимания всего творчества Пушкина, поскольку
позволяет увидеть, какие элементы фольклорной поэтики он считал продуктивными и
творчески использовал даже в нефольклорных произведениях, а от каких отказался,
почувствовав за ними архаичные нормы мироощущения» [66, с. 24].
Фольклорные сюжеты и образы Пушкин воссоздает в свете романтического
литературного опыта.
Переработки народной
сказки стали в России заметным явлением, начиная со второй половины XVIII века.
Зачастую это были своего рода пересказы народных сказок в духе
авантюрно-волшебного рыцарского романа. В конце XVIII – начале XIX века на
основе народной сказки создавались «богатырские поэмы»: «Бова» А. Радищева,
«Бахариана» М. Хераскова, «Царь-Девица» Г. Державина. В течение
первых двух десятилетий XIX века сказка проникла в различные литературные
жанры: басню, романтическую повесть, поэму. А. С. Пушкин пришел к
своим первым сказкам прежде всего через опыты в жанре баллады. Его балладные
произведения «Жених» (1828), «Утопленник» (1828), в которых использованы
народные источники, включают в себя также мотивы новеллистических сказок и
фантастику не сказочного типа. Поэтому они не могут быть отнесены к жанру
литературной сказки, а, следовательно, остаются за пределами нашего
исследования. Но именно балладу «Жених» можно считать промежуточным звеном на
пути Пушкина к литературной сказке, поскольку ей присущи некоторые элементы
композиции и образной системы народной сказки.
В период с 1831 по 1834
годы Пушкиным был создан знаменитый сказочный цикл, в который вошли «Сказка о
царе Салтане», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о мертвой царевне
и о семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке». К
ним примыкает и «Сказка о Медведихе», менее известная, чем остальные и
основанная не на сказочном, а на былинном и песенном фольклоре.
Обращаясь к различным
видам фольклора, в болдинскую осень 1830 года Пушкин создает произведение сказочного
характера «Как весенней теплою порою…», которое стали называть «Сказкой о
Медведихе», и «Сказку о попе и работнике его Балде». Исследователи
подчеркивают, что в «Сказке о медведихе» соединены и переосмыслены элементы
народной сказки, баллады, плача, песни. Работая в жанре баллады, поэт скоро
понял, что этот жанр несовместим с поэтической природой волшебной сказки. Сюжет
народной сказки начинает развиваться с конфликта и завершается полным его
разрешением. Это придает «замкнутость» сюжету сказки и «позволяет
абстрагировать содержание сказки в пространстве и во времени» [34, с. 44].
Сказочное пространство – это, чаще всего, некоторое царство, куда силою
воображения переносится слушатель.
По наблюдениям
Д. Лихачева, сказочное время «не выходит за пределы сказки. Оно целиком
замкнуто в сюжете. Его как бы нет до начала сказки и нет по ее окончании. Оно
не определено в общем потоке исторического времени» [45, с. 226].
Сюжет «Сказки о Медведихе» не имеет аналогов в фольклорных
источниках, что позволяет считать автором сюжета самого Пушкина. Исследователи
отмечают некоторую неясность замысла сказки, так как отсутствует единство между
первой и второй частями произведения [14, с. 533]. Острый драматизм
сближает «Сказку о Медведихе» с балладой. Однако ее герои обрисованы в
традициях сказочного анималистического эпоса. В ней повествуется о том, как
ранним утром в лесу гуляет медведица с тремя медвежатами. Мужик с рогатиной встречает
их, убивает медведицу и приносит жене в подарок медвежью шубу «в пятьдесят
рублев» да трех медвежат в мешке «по пяти рублев». Медведь узнает об
этом. Свое горе он выражает в причитании. К медведю-боярину собираются звери со
всего леса: «и большие, и меньшие».
В русских народных
сказках часто встречаются животные, восходящие к тотемам: рыба-прародительница,
конь, корова, птицы. Одним из наиболее распространенных, как указывает
В. Аникин, является медведь [5, с. 93]. «Медведь» –
наименование-табу, возникшее вследствие запрета произносить имя обожествленного
зверя. Ряжение в медведя и магические действия с вывернутым тулупом проходят
сквозь все славянские обряды. Пушкин употребляет не нейтральное слово медведица,
а именно медведиха, то есть жена медведя.
Медведиха выходит на
гулянье со своими детьми как счастливая хозяйка семейства. Это своего рода
воплощение народного идеала. Однако в сказке он нарушен. С народным
представлением о горе связана аллегоричность образа медведя черно-бурого,
который запечалился, голову повесил, голосом завыл. Таким образом, в
произведении возникают и соединяются две тональности, два эмоциональных полюса,
которые создают идейно-художественную целостность. Соединение идиллической и
драматической тональности свидетельствует о том, что Пушкин ориентируется на
лирический, песенный стиль и на стиль похоронных причитаний. Подобно народному
рассказчику, который хранит в памяти народную кайму и стилевые жанровые
свойства, поэт воплощает сюжет в заранее заготовленные сказочные обороты и формулы.
В тексте сказки несложно выявить выражения, буквально совпадающие с текстами
фольклорных произведений.
Пушкин мастерски
использует в сказке народные причитания, которым предшествует синтаксический
параллелизм в конструкции положительного и отрицательного сравнения: не звоны
пошли по городу – пошли вести по всему свету:
Ах
ты, свет моя медведиха,
На
кого меня покинула,
Вдовца
печального,
Вдовца
горемычного?
Уж
как мне с тобой, моей боярыней,
Веселой
игры не игрывати,
Милых
детушек не родити,
Медвежатушек
не качати,
Не
качати, не баюкати [74, с. 311].
Д. Благой отмечал,
что «Пушкин любил ходить на кладбище, когда там голосили над могилами бабы и
прислушиваться к бабьему причитанию, сидя на какой-нибудь могиле» [14,
с. 369]. Такого рода впечатления, вероятно, и нашли отражение в сказке.
Концовка «Сказки о
Медведихе» подсказана Пушкину шуточной песней из сборника Д. Чулкова «За
морем синичка не пышно жила», о чем неоднократно упоминалось в
исследовательской литературе. Однако внимательное изучение последних строк
произведения позволяет соотнести сказку с кумулятивными детскими сказками,
особенность которых заключается в использовании прозвищ, в названиях, в
характеристиках, которыми наделяются в сказке животные. Весь художественный
смысл такого приема – дать по возможности более меткое обозначение, ярко
изобразить предмет, в одном-двух словах подчеркнуть его характерную сущность. В
кумулятивных сказках название предмета играет главенствующую роль. Пушкин дает
точные характеристики персонажам, но внимание читателя концентрируется не на
предмете, а на его характеристиках: волк – зубы закусливые, глаза
завистливые; бобр – жирный хвост; зайка беленький. Углубляет
такие характеристики меткие социальные обозначения персонажей: медведь-боярин;
волк-дворянин; бобр-торговый гость; ласочка-дворяночка; белочка-княгинечна;
лисица-подьячиха; горностаюшка-скоморох; байбак-игумен; зайка-смерд;
целовальник-еж. В оценке персонажей чувствуется влияние скомороших песен,
которое проявляется именно в социальных обозначениях. Детская кумулятивная
сказка как бы сужается автором в перечень. Персонажи выстраиваются иерархически
по своей социальной значимости. Ступенчатое сужение концовки сказки, по
замечанию Т. Зуевой, является «веским аргументом в пользу художественной
законченности произведения» [34, с. 50].
Таким образом, можно
говорить о новой тенденции в развитии сказочного жанра в творчестве Пушкина,
когда он, пытаясь оторваться от конкретного народного сюжета, совмещает
элементы разных фольклорных жанров.
Собственно цикл сказок
Пушкина начался с социально-бытовой «Сказки о попе и работнике его Балде»
(1830). Известна точка зрения, рассматривающая зарубежный фольклор как источник
пушкинских сказок (В. Сиповский, М. Азадовский). Однако большинство
исследователей источниками сказок Пушкина считают русские народные сказки.
Несмотря на большое значение зарубежного фольклора, в пушкинских сказках
основополагающее значение все же имеет национальный фольклор. Так,
И. Лупанова в своем исследовании замечает, что «основным источником
пушкинских сказок должны быть по праву признаны те произведения, идейный
замысел и образы которых оказали решающее влияние как на постановку поэтом
определенной художественной задачи, так и на ее творческое воплощение. А такие
произведения мы находим именно в русском фольклоре» [54, с. 153].
Поздней осенью 1824 года
Пушкин записал: «Поп поехал искать работника. Навстречу ему Балда. Соглашается
Балда идти к нему в работники, платы требует только три щелчка в лоб попу. Поп
радехонек, попадья говорит: «Каков будет щелк». Балда дюж и работящ. Но срок
уже близко. Поп начинает беспокоиться. Балда обводит вокруг пальца бесов. Затем
– Балда у царя. Дочь одержима бесом. Балда под страхом виселицы берется
вылечить царевну. После приключений бес пойман и высечен» [73, с. 410].
Так зафиксировано в Михайловском. В Болдино 1830 года поэт то же записывает
стихами:
Жил-был
поп,
Толоконный
лоб [76, с. 305].
Исследователи обычно
подчеркивали органичность воплощения принципа народности в этой сказке. Так, Д. Благой отмечал, что «в первой сказке
поэта народность содержания и формы приходят едва ли не в максимально возможное
для сказки в стихах гармоническое соответствие» [14, c. 29]. Т. Зуева
полагает, что сюжет «Сказки о попе…» мог быть записан Пушкиным в Псковской
губернии. Однако «конспективная запись народного источника представляет собой
контаминированный сюжет, объединяющий несколько повествовательных мотивов» [34,
с. 52]. Среди этих мотивов можно выделить главные:
·
хозяин и батрак (наем за три
щелчка);
·
работник вьет веревки, чтобы «море
морщить, да чертей корчить»;
·
соревнование, «кто лощадь
понесет»;
·
состязание в беге;
·
кто дальше забросит дубину;
·
кто раскусит камень;
·
игра в карты с
чертом и др.
Все мотивы связаны между
собой образом работника. Создавая сказку, Пушкин отбрасывает лишние, на его
взгляд, мотивы и пишет свой вариант сказки, в которой акцент перенесен на
социальный конфликт. Его сказка состоит из таких мотивов:
·
поп и Балда
заключают договор;
·
Балда выполняет
все условия, но поп поручает работнику невыполнимые задания;
·
попу приходится
подчиниться условиям договора.
В центре повествования
оказались неимоверные проделки сметливого работника. Просторечное слово «балда»
имеет несколько значений. В. Даль в «Толковом словаре живого
великорусского языка» выделяет такие значения его: дылда, болван, балбес;
долговязый и неуклюжий дурень; большой молот, кувалда; кулак
от 8 до 15 фунтов [28, с. 663]. В характере работника соединились все
эти значения. Он с виду глуп, но на самом деле обладает сметливостью и наделен
недюжинной силой. Балда – шут, плут, но его скрытый ум противопоставляется
окружающей его глупости, что позволяет говорить о фольклорной природе образа.
Однако, в отличие от
фольклорного героя, пушкинский герой совершает поступки, психологически
мотивированные. Разгадав намерения попа (посмотреть кой-какого товару),
он и предлагает себя в качестве товара. Поп соглашается взять его, замышляя
извлечь для себя пользу. «Фольклорно-сказочная логика заменяется у Пушкина
логикой характеров, которые начинают объяснять поведение героев, то есть
определяют сюжет», – пишет по этому поводу Т. Зуева [34, с. 55].
Обычно исследователи связывают пушкинскую сказку с антипоповскими сказками, а
самого попа делают объектами социальной сатиры [54, с. 159-160]. Но в
сказке нет никакой социально-разоблачительной критики попа. Как утверждает
М. Шустов, пушкинский поп толоконный лоб не из антипоповских народных
сказок, а из сказки-небылицы, «в которой все не по-нашему: стоит церковь из
пирогов складена, оладьями повешена, блином накрыта» и «выскочил поп,
толоконный лоб – я его и съел» [86, с. 50]. Поэтому поп – сказочный
персонаж, позволяющий глубже проникнуть в специфику характера главного
персонажа Балды, на котором держится основной смысл сказки. Поп и Балда
противопоставлены в произведении, как противопоставлено сказочное и реальное. В
результате этого в сказке возникает много алогизмов. Так, нелепое задание попа
не вызывает ни тени удивления у работника, который выполняет его и завершает
дело щелчками. Поэтому можно утверждать, что на первом плане в сказке Пушкина
не взаимоотношения хозяина и батрака, а более глубокий смысл, заключающийся в
неизбежности наказании того, кто не сдерживает своих обещаний.
От сказочного народного
стиля в пушкинском произведении сохраняется традиционный сказочный зачин (жил-был),
некоторые фольклорные формулы (ср.: в народной сказке: скоро сказка
сказывается, да не скоро дело делается; у Пушкина: время идет, срок уж
близенько), концовка, в роли которой выступает последняя фраза: не
гонялся бы ты поп за дешевизной. Заключительная фраза стала функционировать
в языке как пословица. Акцент на моральном аспекте сближает сказку с басенным
творчеством и со стихотворными сказками-новеллами конца XVIII – начала XIX вв.,
в основе которых лежала бытовая история или анекдот. С фольклорными
произведениями сказку роднит прежде всего особенность ее стиха. Он связан с
формами так называемого «балагурного» стиля: с народным театром, раешником,
лубочными картинками. Такой стиль проявляет себя в малых жанрах устного
народного творчества: пословицах, поговорках, прибаутках, загадках,
скороговорках. Своеобразны и рифмы в сказке. Они, по большей части, неточные,
но часто втречающиеся в фольклоре: поп – лоб, по лбу – полбу,
ладно – накладно, морщить – корчить и т.п. Отсутствие
стихотворного размера не разрушает единства стихов, которые рифма соединяет в
двустишия, подкрепленные параллелизмом стихов:
Ест
за четверых,
Работает
за семерых [76, с. 305].
Попадья
Балдой не нахвалится,
Поповна
о Балде лишь и печалится [76, с. 305].
Бесенок
по берегу морскому,
А
зайка в лесок да додому [76, с. 307].
Авторский план сказки
образуется благодаря широкому использованию поэтом выражений афористического
характера: идет, сам не зная куда; почесывать лоб; понадеялся на русский
авось; не будет … накладно; щелк щелчку рознь; ест за четверых, работает за
семерых. Автор-повествователь выступает как народный рассказчик, блестяще
знающий народный язык. Отсюда – широкое употребление просторечных слов и
выражений: проворье, бедство, двух зайков, до дому, меньшой и т.п.
Колорит народного рассказа воссоздается поэтом с помощью форм народного
синтаксиса и ритмико-интонационного строя устно-разговорной речи. Так, в речи
рассказчика используются преимущественно простые предложения (Жил-был поп,
// Толоконный лоб), нередко используется инверсия (Пошел поп по базару).
Предложения часто начинаются союзами а, вот (А Балда приговаривал с
укоризной), при описании действий персонажей опускаются глаголы (Испугался
бесенок, да к деду). Приведенные примеры характерны для бытового народного
языка.
Сюжет в пушкинской сказке
движется, как и в народной сказке. Но динамика его значительно усиливается.
Пушкин не просто рассказывает, а воспроизводит картины сказочных событий в
настоящем времени. «Повествование в сказке отмечается замечательной
живописностью, картинностью выражений» – писал Д. Благой [14, с. 535]. Местом действия Пушкин избирает привычную для
русского крестьянина обстановку – базар, достигая внешней реалистичности.
Одновременно грань между реальным и сказочным миром стирается в результате
условности, заключающейся в том, что невозможное с точки зрения здравого смысла
преподносится рассказчиком с интонациями достоверности. Исследователи увидели в
сказке Пушкина некоторые отступления от сказочного канона, проявляющиеся в
психологической мотивировке завязки (поп, поколебавшись, все-таки согласился на
условия Балды) [65, с. 130]. Вместо краткой характеристики работника,
часто приводимой в народной сказке, Пушкин дает красочное описание жизни Балды:
Живет Балда в поповском
доме,
Спит себе на соломе.
Ест за четверых
Работает
за семерых [76,
с. 308].
Такая описательность –
характерная особенность чисто литературного жанра. Финальная сцена сказки также
проникнута психологизмом:
Идет Балда, покрякивает,
А поп, завидя Балду,
вскакивает,
За попадью прячется,
Со страху корячится [76, с. 309].
Внутреннее состояние
персонажа передается изображением целого ряда действий. Но Пушкин значительно
изменяет сам характер изображаемого действия, о чем детально писал
В. Непомнящий [65].
Таким образом, используя
народный сюжет, Пушкин предложил не сатирическую сказку, а, скорее,
своеобразную притчу о противоречивости русского характера, в котором уживаются
нравоучение и идеал. Предложенная в «Сказке о попе и работнике его Балде»
форма, больше не повторилась в его творчестве. Но примечательно то, что такой художественный
опыт обогатил все последующие сказки поэта. Фольклорные приемы тесно
переплелись в сказке с чисто литературными, иногда даже срослись, но при этом
сугубо авторские приемы не разрушали канонов народной сказки.
Продолжая развивать свое
творчество в избранном направлении, Пушкин создает «Сказку о рыбаке и рыбке»
(1833), которая в значительной степени продолжала тему «Сказки о попе и
работнике его Балде». Исследователи полагают, что источником послужила «Сказка
о рыбаке и его жене» из сборника братьев Гримм. Своеобразным итогом изучения
сказки фольклористами можно признать заключение И. Лупановой:
«Внимательное изучение «Сказки о рыбаке и рыбке» свидетельствует о том, что, в
отличие от гриммовской сказки, смысл которой исключительно в морали: «будь
доволен тем, что имеешь», – смысл пушкинской сказки гораздо более широк, и, в
частности, он заключается в воспроизведении русской народной сатиры на барство,
на несправедливое социальное устройство» [54, с. 167].
Акцентируя внимание на характере сатиры автора, исследовательница отмечает ее
общность с сатирическими народными сказками.
Вопрос о фольклорных
источниках сказки о рыбаке и рыбке был обстоятельно рассмотрен
М. Азадовским. Используя пушкинские черновики и сопоставив сказку братьев
Гримм и текст «Сказки о рыбаке и рыбке», ученый пришел к выводу о несомненном
знании и использовании поэтом мотивов немецкой сказки. Однако из деталей
пушкинской сказки в тексте Гриммов отсутствует мотив корыта (первое требование
у Гриммов – новый дом), по-разному именуются рыбки: у Пушкина – золотая, у
Гримов – камбала; причем у Пушкина опущено указание, что рыбка – заколдованный
принц. Наконец, у Пушкина значительно усилен мотив покорности мужа. В сказке
Гримм старик – только покорный муж, не смеющий ослушаться приказов жены и
пользующийся вместе с нею дарами чудесной рыбки; у Пушкина старик совершенно
отделяется от старухи. Г. Макогоненко подчеркивает, что «следование
образцу было откровенным; при этом, чем больше было совпадений, тем отчетливее
выступала оригинальность пушкинской сказки» [57, с. 31]. Сказка братьев
Гримм – это зафиксированная народная сказка-притча о жадности. Жена рыбака
требует выполнения с помощью чудесной камбалы ее желаний. Сначала она хочет
новый дом, затем замок, потом пожелала стать императрицей, папой римским и,
наконец, Богом. Последнее желание старухи не исполняется. Рыбак и его жена
возвращаются в старую хижину. Пушкин, отталкиваясь от гриммовского сюжета,
большое внимание уделил русской сказочной традиции, в частности, сюжету «жадная
старуха». Поэт отказался от побочных линий немецкой сказки и все внимание
сосредоточил на одной – старик и старуха, детально разрабатывая крестьянскую
тему. Рыбак и его жена – бедные люди. Они живут в своей землянке «тридцать лет и
три года». Желания старухи социально обусловлены: она не хочет быть «черною
крестьянкою» – хочет быть дворянкой, царицей, владычицей морскою.
В качестве основного
признака стиля в «Сказке о рыбаке и рыбке» В. Виноградов выделяет прием
варьирования. Сказка состоит из экспозиции и одного повторяющегося мотива.
1. Экспозиция. Старик
выловил золотую рыбку. Она просит отпустить ее в море за выполнение любого
желания.
2. Старуха велит
обратиться к рыбке с просьбой сделать ее дворянкой, царицей, владычицей морскою.
Рыбка выполняет все желания, кроме последнего [20, с. 114].
В своей сказке Пушкин
отказывается от литературных способов изображения персонажей: образы-типы
старика и старухи свойственны бытовой сказке. Кроме того, для народного
творчества характерны так называемые кумулятивные сказки, о которых уже
упоминалось, когда события связываются между собой причинно-следственными
связями. Кумулятивная структура сказки о рыбаке и рыбке помогает глубже
раскрыть характер жадной старухи. Если в волшебной сказке превращения чаще
всего связаны с приобретением героями определенных положительных качеств, то
превращения старухи в пушкинском произведении происходят вопреки законам
чудесной сказки. Изображение старухи дается в стиле лубочных картинок.
1)
Жил старик со своею старухой
У
самого синего моря…
Старик
ловил неводом рыбу,
Старуха
пряла свою пряжу [77, с. 338].
2) Перед ним изба со светелкой,
С кирпичною, беленою трубою,
С дубовыми, тесовыми вороты,
Старуха сидит под окошком
[77, с. 340].
3) Что ж он видит? Высокий терем.
На крыльце сидит его старуха
В дорогой собольей душегрейке[ 77 , с. 340].
4) …перед ним царские палаты.
В палатах видит свою старуху.
За столом сидит она царицей,
Служат ей бояре да дворяне [77, с. 342].
5) Глядь: опять перед ним землянка,
На пороге сидит его старуха,
А перед нею разбитое корыто [77, с. 343].
Накопление эпизодов
происходит по принципу нарастания. Бесконечная жадность старухи соответствует
бесконечной возможности развития сюжета кумулятивной сказки.
В сказке братьев Гримм
противопоставление жене мужа проявляется слабо. Хотя рыбак и противится жене,
но выполняет ее капризы, и сам потом пользуется добытыми благами. Вот как об
этом сказано у братьев Гримм: «Вошел он в избу, а в избе чистые сени и нарядная
комната, и стоят в ней новые постели, а дальше чулан и столовая; всюду полки, а
на них самая лучшая утварь, и оловянная, и медная – все, что надо. А позади
избы маленький дворик, и ходят там утки и куры; а дальше – небольшой садик и
огород с разной зеленью и овощами.
– Видишь, – говорит жена,
– разве это не хорошо?
– Да, – ответил рыбак, –
заживем мы теперь припеваючи, будем довольны и сыты» [25, с. 129].
У Пушкина все иначе.
Антитеза «старик-старуха» постепенно углубляется. Старуха-крестьянка изображена
как сварливая, вечно чем-то недовольная баба, ругающая безропотного мужа:
Старика
старуха забранила:
«Дурачина
ты, простофиля!» [77, с. 339].
С переменой социального положения
изменяется и поведение старухи. Став дворянкой, она проявляет жестокость по
отношению к слугам, мужа «на конюшне служить послала». А изъявив желание быть
царицей и встретив сопротивление старика,
Осердилася
пуще старуха,
По
щеке ударила мужа:
«Как
ты смеешь, мужик, спорить со мною»,
Со
мною, дворянкой столбовою?..» [77 , с. 341].
Сюжет сказки развивается
несколько необычно для фольклора. В центре народной сказки – герой, который
добивается успеха благодаря своим положительным качествам. Вместе с тем
народная сказка сложна по своей структуре. Если на одном полюсе действуют
старик со старухой, а на другом – золотая рыбка, то перед нами волшебная
сказка. Если в центре конфликт между стариком и старухой, тогда это бытовая
сказка. В центре пушкинского повествования – антигерой в необычных условиях:
для достижения желаний старухи нет преград. Но и ее желаниям нет предела. В
пушкинской сказке противопоставление муж – жена углубляется. Уже в
начале сказки автор подчеркивает патриархальную подчиненность старухи мужу:
Жил старик со своею
старухой… [77, с. 338].
Каждый занимается испокон установленным делом:
Старик ловил неводом
рыбу,
Старуха пряла свою пряжу
[77, с. 338].
С появлением золотой
рыбки начинается их противостояние. Бытовая ссора, характерная для многих
фольклорных сказок, перерастает в социальный конфликт: как только старуха
поднялась вверх по иерархической лестнице, она начинает обращаться со своим
мужем, как с подчиненным, холопом. Но старик продолжает видеть в своей
социально растущей старухе свою жену. Это подтверждается текстом сказки:
–
Разбранила меня моя старуха;
– Еще
пуще старуха бранится;
–
Пуще прежнего старуха взбранилась;
–
Опять моя старуха бунтует;
– Что
мне делать с проклятою бабой?
Однако вскоре старик
подчиняется новым условиям и ведет себя с женою как холоп.
Развитие действия в
сказке связано с образом золотой рыбки – чудесного помощника,
встречающегося во многих сказках. Согласно фольклорной традиции чудесный
помощник вознаграждает героя, отрицательный персонаж наказывается.
В сказке Пушкина золотая
рыбка вынуждена исполнять прихоти старухи, потому что с просьбой обращается
старик, которому рыбка не может отказать. Желание помочь старику заставляет ее
выполнять требования старухи. «Реакция рыбака на требования старухи отделяет
его мораль от безнравственного поведения дворянки и царицы и сближает его
самого с золотой рыбкой, которая разделяет его возмущения», – замечает Г. Макогоненко [58, с. 136]. Изображение негодования и нарастания гнева
чудесного помощника передается через картины изменяющегося моря. Море в сказке
– «это образ-символ, вобравший в себя опыт романтизма и личный пушкинский
поэтический опыт» [58, с. 136]. Исследователь выделяет три символических
значения образа моря:
1)
объективная
реальность, часть могучей природы, «обыкновенное синее море»;
2)
«персонаж
волшебной сказки, сопутствующий добру и ненавидящий зло, насилие, хамство»;
3)
«извечная
свободная стихия», которую нельзя подчинить чьей-то воле [58, с. 140-141].
Поучительность, дидактизм
сказки определяется философской метафоричностью сюжета, помещенного в реальную
бытовую картину. Концовка в точности повторяет зачин:
Они жили в ветхой
землянке
Ровно тридцать лет и три
года [77, с. 338].
Глядь: опять перед ним
землянка,
На пороге сидит его
старуха [77, с. 343].
«Сказка о рыбаке и рыбке»
обладает скрытой иронией: в ней пародируется волшебно-сказочное личное
благополучие героя, обязательная его «царственность» в устной сказке. Поэтому
эту сказку Пушкина иногда называют «ложно-волшебной».
Идею сказки точно
выражает художественная деталь – разбитое корыто: человек, который желает
невозможного, непременно остается ни с чем, у разбитого корыта. В сказке
столкнулись две неравные силы – море-океан и старуха, пожелавшая стать
«владычицей морскою». «Но нет в мире такой силы и власти, которые бы покорили
Окиян-море. Оттого описание его поведения закономерно осуществлено по законам
стилистики романтизма, где море изображалось мятежным потоком, который
обрушивается на «гибельный оплот самовластья», – замечает Г. Макогоненко
[58, с. 141]:
Видит, на море черная
буря:
Так и вздулись сердитые
волны,
Так и ходят, так воем и
воют [77, с. 342].
В пушкинской сказке в
общей художественной идее слились структура и стилевая система. Кумулятивная
композиция сказки в тесной связи с повторениями фольклорного характера дали
возможность поэту в полной мере использовать возможности вольного стиха как
повествовательной единицы. Ритм сказки, соединенный с вечным ритмом моря,
приобретает философское звучание. Сказка предупреждает о реальной возможности человеческого
разъединения. В голосе автора слышны интонации сожаления по поводу возможности
оказаться у разбитого корыта.
Таким образом, сказки
Пушкина с народно-стилевой основой обнаружили свою близость с басенной
литературной традицией, которая проявляется, прежде всего, в наличии морали.
Басенные сентенции пушкинских произведений стали функционировать в языке как
пословицы. Однако существование авторского плана свидетельствует о сближении
этих сказок с романтической поэмой.
Коллоквиум
Поэмы и сказки,
драматические произведения А.С.Пушкина
-
Сказки
А) Причины обращения
писателя к жанру сказки: политические,
общекультурные, личные и т. д.
В) Основная идея
каждой сказки А.С.Пушкина: Сказка о
мертвой царевне и о семи богатырях,
Сказка о рыбаке и рыбке, Сказка о золотом
петушке, Сказка о царе Салтане, Сказка
о попе и о работнике его Балде, Сказка
о медведихе.
-
«Руслан и Людмила»
А) История создания
Б) Основные герои,
поэтические особенности.
В) Тема преданности
и верности.
Г) Прославление
героического русского духа.
-
Южные поэмы:
«Кавказский пленник», «Бахчисарайский
фонтан», «Цыганы».
А) «Кавказский
пленник».
1)
История
написания.
2) Докажите, что
Пленник соответствует традиционному
типу романтического героя (Пленник в
его отношениях к цивилизации и миру
природы, портрет и тип поведения героя,
любовь в жизни Пленника, сцена грозы в
горах).
3) Опишите образ
черкешенки (момент появления в поэме,
монологи героини, особенности ее речи,
новые черты в сцене освобождения
пленника, своеобразие «ухода» героини
из поэмы). Для чего она вводится в поэму?
4) Посмотрите как
даны в поэме род занятий, быт и нравы
черкесов.
Б) «Бахчисарайский
фонтан».
-
История
создания. -
Проанализируйте
проблематику, особенности сюжета. -
Мотив трагической
неодолимости человеческой страсти. -
Образы антиподы
— Мария и Зарема
В) «Цыганы»
(1823г.)
1)
История создания.
2) Образ Алеко,
байронические черты (недовольство всем
окружающим, социальное одиночество,
протест против всякого гнета, тяготеющего
над человеком в «цивилизованном»
обществе)
3)
Причины ухода Алеко в табор цыган.
4)
Развенчание романтического идеала
неограниченной свободы ( на примере
восприятия любви Алеко и Земфиры).
4. Исторические
поэмы.
А) «Песнь о
вещем Олеге»
-
История создания.
-
Идея роковой
предопределенности. -
Образ Олега.
Б) Поэма «Полтава»
1) История создания.
2) Образы главных
героев: Марии, Мазепы. Что их объединяет
и в чем их различие.
3) Мотив предательства.
В) «Медный всадник»
1) История создания.
2) Конфликт
взаимоотношений человека и власти.
3) Символический
образ Петербурга.
-
Трагическая судьба
Евгения. Причины его трагедии.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
автор: Усаченко Лариса Юрьевна
Учитель русского языка и литературы Муниципальное общеобразовательное учреждение “Школа №2 города Ясиноватая”
Научно-исследовательская работа на тему: “Жанр литературной сказки в творчестве Александра Сергеевича Пушкина”
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА №2 ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ»
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
.
НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
на тему: « Жанр литературной сказки в творчестве А. С. Пушкина»
Подготовил
учитель русского языка и литературы
МОУ «Школа №2 города Ясиноватая »
Усаченко Л. Ю.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….3
ГЛАВА 1. ЖАНР НАРОДНОЙ СКАЗКИ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА…………………….5
-
- Основные эстетические принципы романтизма. Взаимосвязь
фольклора и романтизма………………………………………………………….5
-
- Литературная сказка как жанр…………………………………………….14
Выводы к главе 1………………………………………………………………….24
ГЛАВА 2. ЖАНР ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ В ТВОРЧЕСТВЕ
А. С. ПУШКИНА………………………………………………………………..5
2.1. Сказки А. С. Пушкина с народно-стилевой основой……………………..25
2.2. Сказки А. С. Пушкина с литературной основой………………………….41
2.2.1. Литературная основа и фольклорное начало
в «Сказке о царе Салтане»…………………………………………….….41
2.2.2. Трансформация фольклорных традиций
в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях»……………………..49
Выводы к главе 2…………………………………………………………………57
ВЫВОДЫ………………………………………………………………………..59
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………..….63
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Проблема творческих взаимоотношений фольклора и литературы давно привлекает внимание исследователей и приобретает в последние годы новое научное осмысление. Все чаще появляются исследования, в которых хорошо изучены как прямые, так и опосредованные воздействия устно-поэтической традиции на отдельные художественные произведения и на все творчество того или иного писателя в целом. Фольклорные сюжеты, мотивы, образы, жанрово-стилевые формы всегда обогащали творчество писателей. Однако влияние устно-поэтического творчества на формирование литературных жанров, их развитие и функционирование изучены все же недостаточно. В этой связи большой интерес представляет авторская сказка, которая в значительной степени сохраняет связь с фольклорным материалом и одновременно тяготеет к тому или иному литературному жанру.
Литературная сказка занимает особое место в творчестве А. С. Пушкина. При этом литературная сказка по-разному соотносится со сказкой народной: с одной стороны, авторская сказка продолжает фольклорную традицию, с другой – тесно сближается с тем или иным жанром литературы нового времени. Проблема становления и развития литературной сказки в ее взаимодействии с фольклором нередко привлекала внимание исследователей. В работах М. Азадовского, И. Лупановой, В. Аникина, Э. Померанцевой, Т. Леоновой и др. раскрываются глубинные связи художественных произведений с народным искусством. Однако жанровая природа литературной сказки в силу ее своеобразной двойственности изучена все же недостаточно. Это касается и литературных сказок А. С. Пушкина, поэтому тема нашего исследования видится нам актуальной.
Цель исследования состоит в рассмотрении жанра литературной сказки в творчестве А. С. Пушкина
В соответствии с целью исследования формулируются его основные задачи:
- рассмотреть основные эстетические принципы романтизма;
- проанализировать взаимосвязь фольклора и романтизма;
- проследить этапы становления литературной сказки;
- рассмотреть литературную сказку как жанр;
- проанализировать специфику литературной сказки в творчестве А. С. Пушкина
Объектом исследования являются такие сказки А. С. Пушкина – «Сказка о Медведихе», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».
Предмет исследования – жанр литературной сказки А. С. Пушкина.
Теоретико-методологическую базу исследования составляют работы А. Н. Веселовского, В. М. Жирмунского, Д. С. Лихачева, Ю. М. Лотмана, Е. М. Мелетинского, В. Я. Проппа
Теоретическая значимость работы состоит в уточнении существующих представлений о жанре литературной сказки в творчестве А.С.Пушкина.
Практическое значение работы заключается в том, что ее результаты способствуют дальнейшим научным исследованиям как в области изучения литературной сказки, так и творчества А. С. Пушкина. Ее материалы могут быть использованы в курсах лекций по истории и теории литературы, а также для разработки спецкурсов и спецсеминаров, посвященных этой проблеме.
Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, выводов, списка использованной литературы.
ГЛАВА 1. ЖАНР НАРОДНОЙ СКАЗКИ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА
- Основные эстетические принципы романтизма. Взаимосвязь фольклора и романтизма
Как известно, литературная сказка приобрела особую популярность и признание в эпоху романтизма. Романтикам было присуще особое внимание к национальным основаниям культуры, воплощающимся в фольклоре. Писатели находили различные формы романтизации народного материала. Достаточно хорошо известно, какое место занимала в романтизме народная тематика вообще. Разработка ее привела к особому направлению художественной деятельности и проявилась в различных жанрах. С этим направлением связано и развитие литературной сказки.
Известно, что уже в XVIII веке классицистической идее греко-римского происхождения искусства была противопоставлена идея всеобщности происхождения поэзии, ее народности, национальной самобытности. Выделение особого качества литературы – народности как основного критерия эстетической ценности произведений – явилось одной из предпосылок возникновения романтизма. Оказалось, что в единстве народного содержания и самобытных форм заключается совершенство художественных произведений древних народов. Принцип народности являлся тем универсальным критерием, который определял значимость произведения искусства в любую эпоху. Требование народности становится ведущим в эпоху романтизма.
Важнейшие эстетические принципы романтизма были сформулированы в теоретических работах и манифестах представителей этого направления. Среди самых значительных следует назвать: «Фантазии об искусстве» (1799) В. Вакенродера, «Фрагменты» (1797-1800) Ф. Шлегеля, «Христианство, или Европа» (1799) Новалиса, предисловие ко второму изданию «Лирических баллад» (1800) У. Вордсворта, «О литературе» (1800) и «О Германии» (1810) Ж. де Сталь, «Предисловие к драме «Кромвель» (1824) В. Гюго и др. В них утверждался пафос разрушения привычных границ и иерархий, одухотворяющего синтеза, творческой фантазии, пришедший на смену идеям просветительского рационализма. Романтизм открыл в человеке новые измерения, связанные с бессознательным, свободным воображением, игрой иррациональной стихии.
Пожалуй, первое систематическое изложение романтической теории принадлежало Ф. Шлегелю. В своих «Фрагментах» (1797-1798) он абсолютизирует отдельную личность, акцентируя внимание на том, что романтизм создает новый тип героя: в отличие от предыдущих литературных персонажей, это неповторимая личность, которая сама диктует свои законы, а не подчиняется законам действительности. Ф. Шлегель обосновал принцип историзма, согласно которому каждое явление необходимо рассматривать в развитии, а также требование связи литературы с действительностью. Философ также подчеркивал «универсальность» романтической литературы. По его мнению, она должна постигнуть всеобщие закономерности мироздания, а творческая интуиция является самым полным и самым совершенным способом познания. В связи с этим Ф. Шлегель обращает внимание на мифологическую типизацию, которая ведет к художественному постижению универсальности.
Огромное значение для формирования романтизма имела идеалистическая философия. Кант подходил к миру и человеку с позиций дуализма. С его точки зрения, мир имеет свои границы и одновременно он безграничен. На человека имеют влияние условия его существования, и вместе с тем он свободен в своих мыслях и поступках. Большое влияние на представления романтиков о мире и личности оказала также философия Фихте с ключевой идеей абсолютного «Я» и его внутренней свободы. Философ предпринял попытку вывести разнообразие форм познания из одного – субъективно-идеалистического начала. Он был убежден, что человек – абсолютный, активный субъект, способный одухотворять и трансформировать мир.
Идеология романтизма разворачивается в плоскости духовного. Однако на романтизм как литературное направление имели влияние и общественно-политические события. Конечно, их не следует абсолютизировать, поскольку литература, как замечает Д. Наливайко, развивается прежде всего по своим, имманентным законам [64, с. 157]. Не находя в реальном мире гармонии, романтики создают свой собственный мир фантастики, экзотики, обращаются к прошлому, пытаясь с позиций созданной ими художественной реальности осмыслить глобальные проблемы бытия.
Одной из основ романтизма стала и теория Й. Гердера. Он выдвинул свою программу обновления искусства путем обращения к народно-национальным истокам. Й. Гердер считал, что литература и вся культура питаются традициями, духовными приобретениями разных народов. Поэтому, следуя его теории, романтики начали собирать, обрабатывать и издавать народные песни, сказки, легенды. Но главное – они проникаются духом народного творчества, которое подтолкнуло их к новым поискам. Творчество писателей-романтиков было ориентировано на сакральное воплощение народного духа, образец которого они находили в фольклоре.
Интерес к народной поэзии возник в русской литературе в конце XVIII века и на всем протяжении XIX века не прерывался. В середине XVIII века в России начинает формироваться идея самобытного зарождения поэзии, ее природной эстетической самоценности. Эта мысль встречается в целом ряде работ того времени: В. Тредиаковский «Новый способ к сложению российских стихов» (1735), «Мнение о начале поэзии и стихов вообще» (1755), Г. Теплов «Рассуждение о начале стихотворства» (1755), А. Сумароков «О стихотворстве камчадалов» (1759). В 60-е гг. XVIII века начинается публикация произведений устного народного творчества – сказок, былин, песен. Литературные обработки народных произведений М. Чулкова, В. Левшина, М. Попова, С. Друковцева свидетельствовали о том, что у русского народа существовали давние поэтические традиции, национальные источники вдохновения, без чего невозможно было возникновение романтической литературы.
В русской литературной критике также предпринимались попытки обобщить различные толкования понятия «романтизм». Так, в начале 20-х гг. XIX века в русской литературе разгорелись споры о романтизме, которые приобрели характер размышлений о дальнейших путях развития литературы. Главный акцент в романтических теориях этого времени был сделан на неповторимом своеобразии национальной литературы, культуры, запечатленных в нравах и обычаях народа, его истории. При этом важным было не внешнее сходство, не внешняя характерность, выражающаяся в теме, стиле, чертах местного колорита, то есть зримых признаках национального, а необходимость отражать духовный и нравственный облик народа, его историческое прошлое, его идеалы и стремления, иными словами, весь комплекс особенностей, связанных с понятием народности литературы. Выдвижение романтиками проблемы народности на первый план – свидетельство осознания ими глубокой связи между духовной и исторической жизнью страны. Народность понимается и как изображение жизни народа, и как национальное своеобразие («самобытность»), и как связь с народным творчеством.
Один из важнейших манифестов этой поры – трактат О. Сомова «О романтической поэзии» (1823). В нем автор, опираясь на работы историков и теоретиков романтизма, дал исторический обзор европейских литератур, что позволило ему широко сформулировать перспективы русского романтизма и его национальных истоков (истории, мифологии, устного народного творчества). О. Сомов сумел нарисовать достаточно яркую картину русского романтизма и его крупнейших представителей, к которым он относил Г. Державина, В. Жуковского, А. Пушкина.
Романтики отстаивали мир, основанный на добре, истине, красоте. Эти понятия становятся ключевыми в системе романтизма, с помощью них определяется ценность всего окружающего. Кроме того, романтики пытались создать собственную систему познания и философию религии. В основе познания, считали они, лежит история природы и человека как Божественного воплощения, а сам человек – одна из промежуточных форм воплощения Божественного. Не случайным было появление в романтизме философии откровения. Для нового литературного направления было характерно также формирование новых теоретических основ искусства, базирующихся, с одной стороны, на эстетизации христианства и его основных категорий, а с другой – универсальное соединение в человеке Божественного и естественного, бесконечного и конечного.
Романтизм – явление неоднородное, о чем весьма убедительно писал В. Жирмунский [33]. Отмечая ограниченность раннего (иенского) романтизма, не чуждого индивидуалистического своеволия, В. Жирмунский в то же время положительно расценивал развитие эстетической мысли от диады «личность – человечество» к свойственному гейдельбергским романтикам пониманию огромной значимости «национального сознания» и «своеобразия форм коллективной жизни отдельных народов» [32, с. 25]. Главным в романтическом движении начала XIX века ученый считал не двоемирие и не переживание поэтического разлада с реальностью, а представление об одухотворенности человеческого бытия, о его «пронизанности» божественным началом.
Современные исследователи, в частности Д. Наливайко, отмечают, что романтизм как литературное направление включает в себя несколько течений, каждое из которых имеет свои характерные признаки:
- Ранний романтизм, характеризующийся поиском мировоззренческих универсалий. Он тесно связан с философией, стремится к образованию художественных символов, которые могли бы отразить найденные художниками универсалии (иенский кружок, В. Блейк, С. Колридж, В. Гюго).
- Фольклорный романтизм, ориентированный на возрождение народнопоэтических форм. Представители этого течения собирали произведения устного народного творчества, Фольклор определялся ими как образец естественности.
- Байроническое течение в романтизме связано с именем английского поэта Дж. Г. Байрона. Мотив «мировой скорби», меланхолия, разочарование, отчуждение личности, теория сильной личности находят воплощение в этой разновидности романтизма (ранний А. Пушкин, М. Лермонтов).
- Гротескно-фантастическая линия романтизма связана со стремлением писателей развивать мистическую символику произведений. Гротескность мироустройства часто раскрывалась на примере бытовых сцен (Э. Т. А. Гофман, Э. По, Н. Гоголь).
- Утопическая линия романтизма характеризуется отсутствием мотива «мировой скорби», тяготением к пророчествам, оптимизмом, верой в совершенствование общества и человека (В. Одоевский).
- Вальтерскоттовское течение в романтизме сконцентрировано на истории. Ведущим жанром становится исторический роман (в России – А. Вельтман, А. Пушкин) [64, с. 158-159].
Как известно, романтики активно собирали и публиковали произведения устного народного творчества. Однако этим их деятельность не ограничивалась. В своем творчестве они нередко используют традиционные народные жанры (песню, романс, плач), традиционные фольклорные образы, постоянные тропы и т.д. Но романтики наследуют не только формальные средства фольклора. Они стремились проникнуться духом, мышлением, художественным строем народного творчества. Фольклорные формы давали прекрасные возможности для реализации связи литературы с действительностью, поскольку фольклор, по мысли Й. Гердера, не может быть абстрактным, он всегда связан с реальными фактами человеческого бытия. Одновременно формы народного творчества были одним из способов отражения личного мироощущения.
В русской литературе ярким подтверждением взаимодействия фольклора и литературы было, на наш взгляд, появление литературной сказки, которая первоначально базировалась преимущественно на народных сказочных текстах.
Мыслители и художники эпохи романтизма подчеркивали огромную благотворную роль и силу воздействия искусства на духовную жизнь личности, общества, человечества. «…живописцы, музыканты, поэты представлялись романтическому сознанию… вождями, учителями, порой даже законодателями человечества, способными могущественно влиять на процесс общества, на жизнь народа», – пишет В. М. Маркович [60, с. 11]. Вместе с тем, признавая огромную заслугу романтиков в защите и обосновании самостоятельности искусства, следует сказать, что иногда они преувеличивали значение художественной деятельности, превознося искусство над иными формами культуры – наукой и философией. «Философия достигает величайших высот, но в эти выси она увлекает как бы частицу человека. Искусство же позволяет целостному человеку добраться до этих высот», – писал Ф. Шеллинг [85, с. 396].
Мир для романтиков представляется миром переживаний самих себя в собственной душе. Они полагали, что художник своим творчеством возвышается над толпой как чрезвычайная личность. Поэт, согласно романтической концепции, является предсказателем, оракулом, его талант не подвластен законам, установленным обычными людьми. Он воплощает идеалы нации, дух народа
Своей основной задачей романтики считали преобразование мира. Романтизация, преобразование мира ведет к созданию иной действительности, нежели реальная, считали романтики. Но одновременно они понимали, что «два мира» далеко не всегда существуют в гармоническом единстве. Художники остро чувствовали разлад между мечтой и действительностью, невозможность воплощения идеала. Такие романтические умонастроения получили название «мировая скорбь» (Жан Поль). Романтический герой, как правило, тоже чувствует, что в мире царит хаос, что человеческое счастье невозможно, призрачно. Романтики утверждали культ личности необычной, исключительной. Размышляя об отличии романтического индивидуума от его предшественников, И. Тертерян подчеркивает, что сами романтики немало говорили об этом, и в доказательство приводит малоизвестную, но весьма четкую формулировку анонимного автора, помещенную в одном из номеров газеты «Эль Сигло» в 1834: «В противовес холодным доктринам XVIII века, которые сводят нравственного человека к машине, управляемой точными математическими законами, которые презирают воображение и высмеивают высокие порывы человеческого сердца, мы верим, что чувства человека выше его интересов, а желания – больше потребностей, а воображение – шире реальности» [81, с. 167]. С романтическим культом исключительной личности тесно связан романтический универсализм: стремление охватить весь мир, найти его всеобщую первооснову, претворить по законам гармонии, добра, красоты. Это было не просто стремление, но и вера в возможность такого превращения. Отсюда – отрицание романтиками миметической сути искусства, непоколебимая вера в его преобразующие возможности. Изменяется не только реальный мир, перенесенный в мир искусства, но и само искусство, что, по мнению романтиков, способно влиять на действительность и изменять ее. Это, конечно, не значит, как часто трактовалось в советском литературоведении, что романтики уходят от действительности. Наоборот, они стремились к связи с миром, к его одухотворению, изменению, утверждая историзм в подходе к фактам и явлениям. Они отказывались от идеи о том, что миром правит разум. По мнению романтиков, движущей силой истории являются прежде всего иррациональные стихии народной жизни. Чтобы узнать общество, его духовную жизнь, необходимо сначала познать жизнь народа, а для этого нужно углубиться в фольклор как основную форму отражения его внутреннего мира. Поэтому народное творчество занимает значительное место в теории и художественной практике романтиков.
Романтизм начинался с ниспровержения рациональной эстетики классицизма. В этой связи И. Тертерян замечает, что «полемика между романтиками и классицистами не во всех странах переходила в открытую схватку, как это случилось в Париже 25 февраля 1830 года – в памятный день в истории литературы – день премьеры драмы Гюго «Эрнани», но повсюду романтики порывали с нормативностью классицизма» [81, с. 173]. Критике романтиков прежде всего подвергались требования резкого разграничения «высокого» и «низкого» стилей, жанровых структур, обладающих своими канонами (например, известное требование «трех единств»). В основе романтической эстетики лежала установка на максимальную экспрессивность, осознанный приоритет выразительности над изображением. Романтизм основывался на общекультурном сдвиге, охватившем все сферы общественного сознания.
В русском романтизме представлены все основные течения, так как русская литература в типологическом плане близка к западноевропейским литературам. Но отчетливого преобладания какого-либо течения не наблюдается, хотя достаточно широко представлен фольклорный романтизм. Это свидетельствовало о «полноте и многогранности романтизма в России», несмотря на то, что период его расцвета оказался недолговременным [64, с. 176]. Характер русского романтизма был внутренне обусловлен имманентными законами развития национальной культуры. В творчестве его представителей, столь неоднородном, можно обнаружить много общих черт:
- отрицание литературных канонов;
- глубокое убеждение романтиков в том, что человек должен быть свободным;
- стремление к идеалу. Романтический идеал – народный герой во всем богатстве бытового, этнического и сакрального содержаний;
- антиномичность романтического мировидения, проявляющегося в крайних формах изображения событий (добро – зло, красота – безобразие, жертвенность – эгоизм, Божественное – демоническое).
В эстетике романтизма принципы историзма и народность развивались как взаимообусловленные. Народность осознается романтиками как основной признак нового искусства. Следование народному духу требовало глубокого проникновения в народную культуру, которая особенно явственно проявилась в фольклоре. Поэтому романтики и сконцентрировали внимание на изучении фольклора, благодаря этому в литературе появляется большое количество баллад, сказок, рассказов, созданных на фольклорной основе.
Таким образом, романтизм – это целостная эстетическая система, одной из отличительных черт которой является повышенное внимание к национальному фольклору, истории народа, особенностям народного мировидения. Этим критериям в наибольшей степени отвечал жанр литературной сказки.
1.2. Литературная сказка как жанр
Термин «сказка» до сих пор имеет широкий диапазон смыслов. В его употреблении в литературоведении обнаруживаются две тенденции. С одной стороны, этим термином обозначают и народную, и авторскую сказку, то есть они не дифференцируются, а специфика литературного и фольклорного жанров мало учитывается; с другой стороны, – заметны попытки разграничить оба понятия. В этой связи необходимо уточнить значение терминов «народная сказка» и «литературная сказка».
Разграничение народной и литературной сказок пришло далеко не сразу. Если термин «народная сказка» определяется словарями, энциклопедиями, справочниками, то термин «литературная сказка» и до настоящего времени чаще всего не выделяется в отдельную словарную статью.
Народная сказка обычно определяется как «один из видов устного народного творчества, преимущественно прозаическое произведение волшебного, авантюрного или бытового характера [37, с. 881]. В свою очередь, известнейший исследователь сказок, В. Пропп, объясняя причину многозначности термина, утверждал, что до XVIII века сказки обозначались словом «баснь» (от «баять») [71, с. 13].
Литературная сказка по своему происхождению тесно связана с народной и долгое время рассматривалась как жанр второстепенный по сравнению с «высокими» жанрами. В ХVІІІ веке сказка начинает входить в русскую литературу в форме авторских пересказов и переложений. Так, были широко известны сборники С. Друковцова «Бабушкины сказки» (1778), В. Левшина «Русские сказки» (1780-1783), П. Тимофеева «Сказки русские» (1797) и др.
«Пересмешник, или словенские сказки» (1776-1778) М. Чулкова и «Русские народные сказки, содержащие древнейшие повествования о славных богатырях, сказки народные и прочие, оставшиеся через пересказывания в памяти приключения» (1780-1784) В. Левшина – это сборники, в которых сочетается сказочная фантастика и авторский вымысел и, таким образом, создаются своеобразные произведения по типу волшебно-рыцарских романов в духе «низовой» литературы. Можно считать, что сказки М. Чулкова и В. Левшина – первые опыты создания литературной сказки, так как оба автора не просто фиксировали фольклорные произведения, а свободно излагали их, контаминируя былинные и сказочные мотивы. В этой связи достаточно аргументированным представляется мнение О. Калашниковой, которая утверждает, что развитие русской литературной сказки связано с деятельностью писателей ХVІІІ века, которые заложили новую жанровую традицию в развитии русской прозы – интенсивное развитие прозаической литературной сказки [36, с. 134].
В многочисленных сборниках – «Дедушкины прогулки» (1787), «Лекарства от задумчивости и бессонницы, или настоящие русские сказки» (1786), «Повествователь русских сказок» (1787), «Сказки исторические» (1793), «Старая погудка на новый лад, или полное собрание древних простонародных сказок» (1795) представлены переложения народных сказок. Эти издания содержали много интересных записей фольклорных сказок. Среди них выделяются «Бабушкины сказки» С. Друковцова (1778). В нем было представлено несколько сказок сатирического и социального звучания («про ленивую жену», «хитрая жена», «глупая старуха» и др.).
Но и в пересказе, и в обработке народная сказка ХVІІІ века представляла собой вторжение литературы в сферу коллективного народного сознания. Причем степень такого вторжения была различна. С одной стороны, авторы делали акцент на передаче содержания, но не уделяли должного внимания фольклорной повествовательной форме (например, сказки С. Друковцова), с другой – намечается попытка использовать и изобразительные средства фольклора. Благодаря публикациям сборников сказок русскому читателю начала ХІХ века стали известными распространенные фольклорные сюжеты о трех царствах, о молодильных яблоках, о спящей царевне и др. Но основным сказочным материалом, к которому обращались писатели, были все же сборники Чулкова и Левшина, а не фольклорные тексты, к тому времени еще не приобретшие широкую популярность.
С самого начала XIX века заметно возрастает интерес писателей к устно-поэтическому творчеству. В качестве первой публикации подлинно народных сказок исследователями обычно называется сборник Богдана Броницына «Русские народные сказки», вышедший в 1838 году. Он включал в себя пять сказочных сюжетов, встречающихся в народном репертуаре и на сегодня. Все они записаны в чисто литературной манере. Стилизованность языка, чрезмерное нагромождение мотивов свидетельствуют о том, что это не записи, а пересказы народных сказок. Не зря Э. Померанцева замечает, что Богдан Броницын считал своими предшественниками М. Чулкова, казака Луганского, передающими народные сказки в литературной манере, чаще всего от имени некоего рассказчика, от которого якобы услышали эти сказки [68, с. 70]. Почти одновременно со сборником Богдана Броницына увидел свет и небольшой сборник Е. Авдеевой «Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьей Степановной Черепьевою» (1844). Установка на детское чтение предопределила выбор материала: из семи сказок, включенных в сборник, шесть – сказки о животных. Тексты Авдеевой – своеобразное сочетание фольклорного и литературного материала. «Этот сборник, так же, как и сборник Броницына, дает представление лишь о сказочном материале начала XIX века, однако ни в какой мере не о состоянии сказочной традиции этого времени в целом» – замечает Э. Померанцева [68, с. 72].
В 1841 году вышел сборник И. Сахарова «Русские народные сказки», в котором под видом народных сказок автор опубликовал пересказы былин об Илье Муромце и об Анкундине. Некоторые сказки, помещенные в сборнике Сахарова (например, сказка о Ерше Ершовиче) восходят к сатирическим повестям XVII века. Однако в целом сказки, записанные И. Сахаровым, – стилизованные произведения, в которых чувствуется личность их автора. Среди публикаций первой половины XIX века привлекает внимание и сборник «Три сказки и одна побасенка, пересказанная Михаилом Максимовичем», вышедший в Киеве в 1845 году. Правка текста, произведенная М. Максимовичем, позволяет отнести эти сказки к литературным. Это же замечание касается и сборника «Народные русские сказки и побаски для детей младшего возраста», изданного Иваном Ваненко (И. Башмаковым). Морализаторские вставки и концовки чужды народной традиции, и поэтому можно говорить о том, что в упомянутых сборниках представлены авторские произведения, построенные на фольклорном материале. Только сборник «Народные русские сказки» А. Афанасьева, вышедший в 1855-1863 гг., включает подлинно народные тексты русских сказок, позволившие изучать сказку в ее первозданном виде.
Таким образом, к середине XIX века в литературе возникает как бы промежуточное звено между народной и литературной сказкой – сказка записанная, зафиксированная, обнаруживающая личность собирателя и интерпретатора. Зафиксированная сказка – иное явление по сравнению с устной народной сказкой. Она обращена к другой, более широкой аудитории, для нее характерен литературный язык; как правило, она более пространна, так как ее не надо запоминать. Такая сказка – явление двойственное: с одной стороны, это фольклорный, даже этнографический материал, с другой – порождение письменной литературы, первая ступень проникновения в нее народной сказки. В записанной сказке отражаются различные пути литературной обработки народной сказки от первых ее шагов до самого высокого уровня – создания на ее основе авторского произведения.
Мощным толчком к поискам новой художественной формы в русской литературе ХIХ века послужили споры о народности, возникшие еще в середине XVIII века. Писатели часто обращались к русским темам, героями их произведений становились исторические деятели, богатыри, персонажи славянской мифологии. Большое влияние на русскую стихотворную сказку оказал А. Радищев. Дошедшая до нас в отрывках его поэма-сказка «Бова» – характерное произведение «легкой» поэзии XVIII века с присущими признаками сказки и рыцарского романа. В конце века появился ряд произведений, которые авторы называли сказками. Создают свои стихотворные сказки И. Дмитриев («Причудница»), И. Богданович («Душенька»). Причем, если у Богдановича русская действительность и русская сказочная стихия – лишь фон для развития действия, то у Дмитриева они основа сюжета произведения. Наиболее значимая и известная из русских богатырских сказок, появившихся в конце ХVIII века, – «Илья Муромец» Н. Карамзина. Писатель сделал важный шаг на пути развития стихотворной сказки – шаг к воплощению национальной эпической темы в литературе. А. Радищев, Н. Карамзин, И. Дмитриев, своим сказочным творчеством оказали благотворное влияние на развитие литературной сказки ХIХ века.
Баснописцы конца XVIII века часто называли свои произведения «сказками». Один из первых сборников И. Хемницера назывался «Басни и сказки» (1779). Так же были названы сборники И. Дмитриева (1797), А. Измайлова (1801), где действительно были представлены и басни, и сказки. Неразграничение жанров, неопределенность терминологии в начале XIX века приводила к тому, что авторы порой называли сказкой произведения совершенно других жанров. Из сказок, обладающих важнейшими признаками этого жанра, большинство были переводными [54, с. 36]. По утверждению И. Лупановой, первым образцом литературной обработки остросатирической народной сказки была сказка И. Волкова «Наказанная болтливость» [54, с. 55]. Автором была предпринята попытка в самом начале XIX века творчески переосмыслить бытовую сатирическую народную сказку, что явилось одним из свидетельств зарождения нового жанра – сказки литературной. В первые десятилетия ХIХ века сказочная традиция уже играла значительную роль в развитии литературы, о чем идет речь в монографиях И. Лупановой [54], М. Шустова [86]. Это было связано с тем, что в процессе национального становления русской литературы именно сказка являлась «арсеналом национально-героических образов и мотивов, являясь воплощением духа русской старины» [86, с. 21].
Одним из исследователей сказки в XIX веке был К. Аксаков. Он написал работу «О сказке», в которой так описал черты народной сказки: «В сказке сознательно нарушаются все пределы времени и пространства… Подчеркнутая установка на вымысел – основная черта сказки как жанра» [3, с. 399].
Очень важно то, что писал о сказке еще один известный ученый А. Веселовский. Под сюжетом сказки он понимает комплекс мотивов. Мотив может приурочиваться к разным сюжетам. «Под сюжетом я разумею тему, в которой снуются разные положения-мотивы», «Серия мотивов – сюжет. Мотив вырастает в сюжет» [18, с. 141].
Уже упоминаемый выше В. Пропп предлагает изучать сказку на основе функций действующих персонажей, понимая под функциями «постоянные, устойчивые элементы сказки… которые образуют основные составные части сказки» [71, с. 20]. Исследователь подчеркивает, что «число функций, известных волшебной сказке, – ограничено» и «последовательность функций всегда одинакова» [71, с. 20-21].
Литературные сказки, или, как их называет В. Пропп, «искусственные», другие по характеру, поскольку в них всегда присутствует автор, свободно творящий свою сказку на основе готового материала, но по своему усмотрению и вкусу соединяющий отдельные мотивы (функции) в сюжет. В народной сказке В. Пропп выделяет 31 функцию. «В пределах этих функций развивается действие решительно всех сказок нашего материала, а также действие очень много других сказок самых различных народов» [69, с. 50].
Уже к 30-м гг. XIX века в русской литературе появляется целая плеяда писателей, создававших литературные сказки: В. Жуковский, А. Пушкин, П. Ершов, В. Даль, В. Одоевский. Широко использовали фольклор в своем творчестве О. Сомов, А. Бестужев-Марлинский, Н. Гоголь. В начале 40-х г. к сказке обращаются Н. Языков, Н. Полевой, Н. Некрасов, П. Катенин. И если прежде сказка являлась авторским пересказом фольклорного источника, то в 30-е гг. она «приобретает самостоятельное значение как художественное создание творческого гения» [54, с. 43]. Пересказ фольклорных сюжетов, стилизации народных сказок продолжают жить в литературе. Кроме сказок В. Даля (Казака Луганского), публикуется «Аленький цветочек» С. Аксакова, появляются педагогические сказки для детей, в которых либо в занимательной форме преподносятся технические знания («Городок в табакерке» В. Одоевского), либо в дидактической форме прививаются этические правила (сказки К. Ушинского).
В современном литературоведении термин «сказка» употребляется в двух значениях: с одной стороны, так называют и народную, и литературную сказку; с другой стороны, заметны попытки разграничить оба понятия.
Украинский исследователь современной литературной сказки Ю. Ярмыш, размышляя о сущности жанра, утверждает, что литературная сказка – «это такой жанр художественной литературы, в котором в волшебно-фантастическом или аллегорическом развитии событий и, как правило, в оригинальных сюжетах и образах, в стихах, прозе или драме решаются морально-этические и эстетические проблемы» [87, с. 46]. Обращая внимание на сюжетно-композиционные особенности литературной сказки, исследователь в то же время подчеркивает, что литературная сказка представлена во всех родах литературы – эпосе, лирике, драме. Однако морально-этические и эстетические проблемы решаются не только в литературной сказке, но и в произведениях других жанров. Поэтому данное определение не может быть принято как окончательное.
Тесно связанная с фольклорными произведениями литературная сказка строится по своим особым законам. Об этом пишет исследователь В. Аникин: «Литературная сказка может быть создана лишь при условии творческого отношения писателя к фольклору, при условии переработки того, что донес до нас сказочный эпос, на основе глубокого изучения современной действительности – первого источника всякого творчества» [5, с. 245].
Немалый вклад в развитие теории литературной сказки внес современный исследователь М. Липовецкий. Изучая сказочные произведения 20-80-х гг. XX века, он отмечает, что литературная сказка часто очень далека от фольклорного источника, она – «совершенно самостоятельное произведение с неповторимым художественным миром, оригинальной эстетической концепцией, произведение, которое не только в сюжетном, композиционном отношении ничем не напоминает народную волшебную сказку, но даже образный материал черпает из литературных или не совсем сказочных источников» [42, с. 154].
Итак, в художественной структуре литературной сказки обязательно присутствуют легко узнаваемые элементы сказочной поэтики: сюжет волшебных испытаний либо отдельные сюжетные мотивы, система образов, устойчивые функции персонажей, интонационно-речевой строй или отдельные тропы, клише и т.д.
Исследовательница скандинавской литературы Л. Брауде считает, что литературная сказка – «это авторское художественное прозаическое или поэтическое произведение, основанное либо на фольклорных источниках, либо сугубо оригинальное; произведение преимущественно фантастическое, рисующее чудесные приключения вымышленных героев и в некоторых случаях ориентированное на детей; произведение, в котором волшебство, чудо играет роль сюжетообразующего фактора, служит отправной точкой характеристики персонажей» [16, с. 234].
К литературным сказкам можно отнести произведения, представляющие собой авторские пересказы народных сюжетов, сказки, созданные по фольклорным мотивам или с оригинальным сюжетом. Таким образом, в понятие «литературная сказка» включаются произведения, различные по степени близости к народному творчеству.
Однако и до настоящего времени лишь некоторые словари определяют литературную сказку как отдельное понятие. В «Краткой литературной энциклопедии» находим определение сказки: «Сказка – один из жанров устного народного творчества, эпическое, преимущественно прозаическое произведение волшебного, авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел. Сказками называют разнородные виды художественной прозы (нравственные рассказы о животных, волшебные сказки, авантюрные повести, сатирические анекдоты). Сказка близка другим видам устной прозы: сказу, саге, преданию, легенде, от которых отличается тем, что «сказочник подает ее, а слушатели воспринимают прежде всего как поэтический вымысел, игру фантазии» [37, с. 881-882]. Далее отмечается лишь то, что мотивы народных сказок используются писателями для создания литературных сказок.
В «Литературной энциклопедии терминов и понятий» под редакцией А. Н. Николюкина дается такое определение литературной сказки: «Литературная сказка (авторская, писательская сказка) – литературный эпический жанр в прозе или стихах, опирающийся на традиции фольклорной сказки» [44, с. 459].
Существующие определения в целом акцентируют внимание на наличии в большинстве сказок повторяющихся элементов, то есть на их кумулятивной структуре.
Авторская сказка – произведение своего времени, включающееся в определенную жанровую систему той или иной эпохи. Вероятно, нужно рассматривать литературную сказку первой половины XIX века именно с позиций учета ее первоосновы, фольклорного ядра. Нам кажется верным высказывание М. Липовецкого: «Если связь с первоосновой утрачена, то перед нами что угодно – аллегория, притча, научная фантастика, но не сказка» [41, с. 18].
Авторская сказка постепенно освобождается от первоначальной фольклорной регламентации, строгой жанровой обусловленности и подчиняет каноны фольклорной сказки творческому воображению писателя. Она постепенно уходит от «чистых» жанровых форм, и в ней накапливаются свойства, принципиально отличающие литературную сказку от народной. Поэтому изучение фольклорных, волшебно-сказочных корней литературной сказки поможет понять многие особенности нового жанра и ответить на вопросы, связанные с его исторической судьбой.
Таким образом, многие литературные жанры в той или иной степени связаны с фольклором и генетически, и типологически. Вместе с тем ни один из них не может быть механически перенесен из устного народного творчества в письменную литературу, где существенно меняется само соотношение «жанр – автор». Это касается и литературной сказки, которая, однако, сохраняет важнейшие особенности композиционно-стилевого построения сказки фольклорной.
Выводы к главе 1
Романтизм – это целостная эстетическая система, одной из отличительных черт которой является повышенное внимание к национальному фольклору, истории народа, особенностям народного мировидения. Этим критериям в наибольшей степени отвечал жанр литературной сказки.
Авторская сказка постепенно освобождается от первоначальной фольклорной регламентации, строгой жанровой обусловленности и подчиняет каноны фольклорной сказки творческому воображению писателя. Она постепенно уходит от «чистых» жанровых форм, и в ней накапливаются свойства, принципиально отличающие литературную сказку от народной. Поэтому изучение фольклорных, волшебно-сказочных корней литературной сказки поможет понять многие особенности нового жанра и ответить на вопросы, связанные с его исторической судьбой.
Многие литературные жанры в той или иной степени связаны с фольклором и генетически, и типологически. Вместе с тем ни один из них не может быть механически перенесен из устного народного творчества в письменную литературу, где существенно меняется само соотношение «жанр – автор». Это касается и литературной сказки, которая, однако, сохраняет важнейшие особенности композиционно-стилевого построения сказки фольклорной.
ГЛАВА 2. ЖАНР ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ В ТВОРЧЕСТВЕ А. С. ПУШКИНА
2.1. Сказки А. С. Пушкина с народно-стилевой основой
В развитии и утверждении жанра литературной сказки особое место принадлежит А. С. Пушкину. Достаточно давно сложилось мнение, что обращение Пушкина к фольклору связано с решением им проблемы народности. Но, кроме того, для него, несомненно, был важен опыт художественного освоения чудесного, фантастического мира, чрезвычайно ярко выразившегося в волшебной сказке, в мифотворчестве народнопоэтического сознания. Литературная сказка в творчестве писателя представлена в различных вариантах. В связи с этим Р. Поддубная подчеркивает, что «вопрос об эволюции жанровой поэтики сказок представляет значительный интерес для понимания всего творчества Пушкина, поскольку позволяет увидеть, какие элементы фольклорной поэтики он считал продуктивными и творчески использовал даже в нефольклорных произведениях, а от каких отказался, почувствовав за ними архаичные нормы мироощущения» [66, с. 24]. Фольклорные сюжеты и образы Пушкин воссоздает в свете романтического литературного опыта.
Переработки народной сказки стали в России заметным явлением, начиная со второй половины XVIII века. Зачастую это были своего рода пересказы народных сказок в духе авантюрно-волшебного рыцарского романа. В конце XVIII – начале XIX века на основе народной сказки создавались «богатырские поэмы»: «Бова» А. Радищева, «Бахариана» М. Хераскова, «Царь-Девица» Г. Державина. В течение первых двух десятилетий XIX века сказка проникла в различные литературные жанры: басню, романтическую повесть, поэму. А. С. Пушкин пришел к своим первым сказкам прежде всего через опыты в жанре баллады. Его балладные произведения «Жених» (1828), «Утопленник» (1828), в которых использованы народные источники, включают в себя также мотивы новеллистических сказок и фантастику несказочного типа. Поэтому они не могут быть отнесены к жанру литературной сказки, а, следовательно, остаются за пределами нашего исследования. Но именно балладу «Жених» можно считать промежуточным звеном на пути Пушкина к литературной сказке, поскольку ей присущи некоторые элементы композиции и образной системы народной сказки.
В период с 1831 по 1834 годы Пушкиным был создан знаменитый сказочный цикл, в который вошли «Сказка о царе Салтане», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке». К ним примыкает и «Сказка о Медведихе», менее известная, чем остальные и основанная не на сказочном, а на былинном и песенном фольклоре.
Обращаясь к различным видам фольклора, в болдинскую осень 1830 года Пушкин создает произведение сказочного характера «Как весенней теплою порою…», которое стали называть «Сказкой о Медведихе», и «Сказку о попе и работнике его Балде». Исследователи подчеркивают, что в «Сказке о медведихе» соединены и переосмыслены элементы народной сказки, баллады, плача, песни. Работая в жанре баллады, поэт скоро понял, что этот жанр несовместим с поэтической природой волшебной сказки. Сюжет народной сказки начинает развиваться с конфликта и завершается полным его разрешением. Это придает «замкнутость» сюжету сказки и «позволяет абстрагировать содержание сказки в пространстве и во времени» [34, с. 44]. Сказочное пространство – это, чаще всего, некоторое царство, куда силою воображения переносится слушатель.
По наблюдениям Д. Лихачева, сказочное время «не выходит за пределы сказки. Оно целиком замкнуто в сюжете. Его как бы нет до начала сказки и нет по ее окончании. Оно не определено в общем потоке исторического времени» [45, с. 226].
Сюжет «Сказки о Медведихе» не имеет аналогов в фольклорных источниках, что позволяет считать автором сюжета самого Пушкина. Исследователи отмечают некоторую неясность замысла сказки, так как отсутствует единство между первой и второй частями произведения [14, с. 533]. Острый драматизм сближает «Сказку о Медведихе» с балладой. Однако ее герои обрисованы в традициях сказочного анималистического эпоса. В ней повествуется о том, как ранним утром в лесу гуляет медведица с тремя медвежатами. Мужик с рогатиной встречает их, убивает медведицу и приносит жене в подарок медвежью шубу «в пятьдесят рублев» да трех медвежат в мешке «по пяти рублев». Медведь узнает об этом. Свое горе он выражает в причитании. К медведю-боярину собираются звери со всего леса: «и большие, и меньшие».
В русских народных сказках часто встречаются животные, восходящие к тотемам: рыба-прародительница, конь, корова, птицы. Одним из наиболее распространенных, как указывает В. Аникин, является медведь [5, с. 93]. «Медведь» – наименование-табу, возникшее вследствие запрета произносить имя обожествленного зверя. Ряжение в медведя и магические действия с вывернутым тулупом проходят сквозь все славянские обряды. Пушкин употребляет не нейтральное слово медведица, а именно медведиха, то есть жена медведя.
Медведиха выходит на гулянье со своими детьми как счастливая хозяйка семейства. Это своего рода воплощение народного идеала. Однако в сказке он нарушен. С народным представлением о горе связана аллегоричность образа медведя чернобурого, который запечалился, голову повесил, голосом завыл. Таким образом, в произведении возникают и соединяются две тональности, два эмоциональных полюса, которые создают идейно-художественную целостность. Соединение идиллической и драматической тональности свидетельствует о том, что Пушкин ориентируется на лирический, песенный стиль и на стиль похоронных причитаний. Подобно народному рассказчику, который хранит в памяти народную кайму и стилевые жанровые свойства, поэт воплощает сюжет в заранее заготовленные сказочные обороты и формулы. В тексте сказки несложно выявить выражения, буквально совпадающие с текстами фольклорных произведений.
Пушкин мастерски использует в сказке народные причитания, которым предшествует синтаксический параллелизм в конструкции положительного и отрицательного сравнения: не звоны пошли по городу – пошли вести по всему свету:
Ах ты, свет моя медведиха,
На кого меня покинула,
Вдовца печального,
Вдовца горемычного?
Уж как мне с тобой, моей боярыней,
Веселой игры не игрывати,
Милых детушек не родити,
Медвежатушек не качати,
Не качати, не баюкати [74, с. 311].
Д. Благой отмечал, что «Пушкин любил ходить на кладбище, когда там голосили над могилами бабы и прислушиваться к бабьему причитанию, сидя на какой-нибудь могиле» [14, с. 369]. Такого рода впечатления, вероятно, и нашли отражение в сказке.
Концовка «Сказки о Медведихе» подсказана Пушкину шуточной песней из сборника Д. Чулкова «За морем синичка не пышно жила», о чем неоднократно упоминалось в исследовательской литературе. Однако внимательное изучение последних строк произведения позволяет соотнести сказку с кумулятивными детскими сказками, особенность которых заключается в использовании прозвищ, в названиях, в характеристиках, которыми наделяются в сказке животные. Весь художественный смысл такого приема – дать по возможности более меткое обозначение, ярко изобразить предмет, в одном-двух словах подчеркнуть его характерную сущность. В кумулятивных сказках название предмета играет главенствующую роль. Пушкин дает точные характеристики персонажам, но внимание читателя концентрируется не на предмете, а на его характеристиках: волк – зубы закусливые, глаза завистливые; бобр – жирный хвост; зайка беленький. Углубляет такие характеристики меткие социальные обозначения персонажей: медведь-боярин; волк-дворянин; бобр-торговый гость; ласочка-дворяночка; белочка-княгинечна; лисица-подьячиха; горностаюшка-скоморох; байбак-игумен; зайка-смерд; целовальник-еж. В оценке персонажей чувствуется влияние скомороших песен, которое проявляется именно в социальных обозначениях. Детская кумулятивная сказка как бы сужается автором в перечень. Персонажи выстраиваются иерархически по своей социальной значимости. Ступенчатое сужение концовки сказки, по замечанию Т. Зуевой, является «веским аргументом в пользу художественной законченности произведения» [34, с. 50].
Таким образом, можно говорить о новой тенденции в развитии сказочного жанра в творчестве Пушкина, когда он, пытаясь оторваться от конкретного народного сюжета, совмещает элементы разных фольклорных жанров.
Собственно цикл сказок Пушкина начался с социально-бытовой «Сказки о попе и работнике его Балде» (1830). Известна точка зрения, рассматривающая зарубежный фольклор как источник пушкинских сказок (В. Сиповский, М. Азадовский). Однако большинство исследователей источниками сказок Пушкина считают русские народные сказки. Несмотря на большое значение зарубежного фольклора, в пушкинских сказках основополагающее значение все же имеет национальный фольклор. Так, И. Лупанова в своем исследовании замечает, что «основным источником пушкинских сказок должны быть по праву признаны те произведения, идейный замысел и образы которых оказали решающее влияние как на постановку поэтом определенной художественной задачи, так и на ее творческое воплощение. А такие произведения мы находим именно в русском фольклоре» [54, с. 153].
Поздней осенью 1824 года Пушкин записал: «Поп поехал искать работника. Навстречу ему Балда. Соглашается Балда идти к нему в работники, платы требует только три щелчка в лоб попу. Поп радехонек, попадья говорит: «Каков будет щелк». Балда дюж и работящ. Но срок уже близко. Поп начинает беспокоиться. Балда обводит вокруг пальца бесов. Затем – Балда у царя. Дочь одержима бесом. Балда под страхом виселицы берется вылечить царевну. После приключений бес пойман и высечен» [73, с. 410]. Так зафиксировано в Михайловском. В Болдино 1830 года поэт то же записывает стихами:
Жил-был поп,
Толоконный лоб [76, с. 305].
Исследователи обычно подчеркивали органичность воплощения принципа народности в этой сказке. Так, Д. Благой отмечал, что «в первой сказке поэта народность содержания и формы приходят едва ли не в максимально возможное для сказки в стихах гармоническое соответствие» [14, c. 29]. Т. Зуева полагает, что сюжет «Сказки о попе…» мог быть записан Пушкиным в Псковской губернии. Однако «конспективная запись народного источника представляет собой контаминированный сюжет, объединяющий несколько повествовательных мотивов» [34, с. 52]. Среди этих мотивов можно выделить главные:
- хозяин и батрак (наем за три щелчка);
- работник вьет веревки, чтобы «море морщить, да чертей корчить»;
- соревнование, «кто лощадь понесет»;
- состязание в беге;
- кто дальше забросит дубину;
- кто раскусит камень;
- игра в карты с чертом и др.
Все мотивы связаны между собой образом работника. Создавая сказку, Пушкин отбрасывает лишние, на его взгляд, мотивы и пишет свой вариант сказки, в которой акцент перенесен на социальный конфликт. Его сказка состоит из таких мотивов:
- поп и Балда заключают договор;
- Балда выполняет все условия, но поп поручает работнику невыполнимые задания;
- попу приходится подчиниться условиям договора.
В центре повествования оказались неимоверные проделки сметливого работника. Просторечное слово «балда» имеет несколько значений. В. Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка» выделяет такие значения его: дылда, болван, балбес; долговязый и неуклюжий дурень; большой молот, кувалда; кулак от 8 до 15 фунтов [28, с. 663]. В характере работника соединились все эти значения. Он с виду глуп, но на самом деле обладает сметливостью и наделен недюжинной силой. Балда – шут, плут, но его скрытый ум противопоставляется окружающей его глупости, что позволяет говорить о фольклорной природе образа.
Однако, в отличие от фольклорного героя, пушкинский герой совершает поступки, психологически мотивированные. Разгадав намерения попа (посмотреть кой-какого товару), он и предлагает себя в качестве товара. Поп соглашается взять его, замышляя извлечь для себя пользу. «Фольклорно-сказочная логика заменяется у Пушкина логикой характеров, которые начинают объяснять поведение героев, то есть определяют сюжет», – пишет по этому поводу Т. Зуева [34, с. 55]. Обычно исследователи связывают пушкинскую сказку с антипоповскими сказками, а самого попа делают объектами социальной сатиры [54, с. 159-160]. Но в сказке нет никакой социально-разоблачительной критики попа. Как утверждает М. Шустов, пушкинский поп толоконный лоб не из антипоповских народных сказок, а из сказки-небылицы, «в которой все не по-нашему: стоит церковь из пирогов складена, оладьями повешена, блином накрыта» и «выскочил поп, толоконный лоб – я его и съел» [86, с. 50]. Поэтому поп – сказочный персонаж, позволяющий глубже проникнуть в специфику характера главного персонажа Балды, на котором держится основной смысл сказки. Поп и Балда противопоставлены в произведении, как противопоставлено сказочное и реальное. В результате этого в сказке возникает много алогизмов. Так, нелепое задание попа не вызывает ни тени удивления у работника, который выполняет его и завершает дело щелчками. Поэтому можно утверждать, что на первом плане в сказке Пушкина не взаимоотношения хозяина и батрака, а более глубокий смысл, заключающийся в неизбежности наказании того, кто не сдерживает своих обещаний.
От сказочного народного стиля в пушкинском произведении сохраняется традиционный сказочный зачин (жил-был), некоторые фольклорные формулы (ср.: в народной сказке: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается; у Пушкина: время идет, срок уж близенько), концовка, в роли которой выступает последняя фраза: не гонялся бы ты поп за дешевизной. Заключительная фраза стала функционировать в языке как пословица. Акцент на моральном аспекте сближает сказку с басенным творчеством и со стихотворными сказками-новеллами конца XVIII – начала XIX вв., в основе которых лежала бытовая история или анекдот. С фольклорными произведениями сказку роднит прежде всего особенность ее стиха. Он связан с формами так называемого «балагурного» стиля: с народным театром, раешником, лубочными картинками. Такой стиль проявляет себя в малых жанрах устного народного творчества: пословицах, поговорках, прибаутках, загадках, скороговорках. Своеобразны и рифмы в сказке. Они, по большей части, неточные, но часто втречающиеся в фольклоре: поп – лоб, по лбу – полбу, ладно – накладно, морщить – корчить и т.п. Отсутствие стихотворного размера не разрушает единства стихов, которые рифма соединяет в двустишия, подкрепленные параллелизмом стихов:
Ест за четверых,
Работает за семерых [76, с. 305].
Попадья Балдой не нахвалится,
Поповна о Балде лишь и печалится [76, с. 305].
Бесенок по берегу морскому,
А зайка в лесок да додому [76, с. 307].
Авторский план сказки образуется благодаря широкому использованию поэтом выражений афористического характера: идет, сам не зная куда; почесывать лоб; понадеялся на русский авось; не будет … накладно; щелк щелчку рознь; ест за четверых, работает за семерых. Автор-повествователь выступает как народный рассказчик, блестяще знающий народный язык. Отсюда – широкое употребление просторечных слов и выражений: проворье, бедство, двух зайков, до дому, меньшой и т.п. Колорит народного рассказа воссоздается поэтом с помощью форм народного синтаксиса и ритмико-интонационного строя устно-разговорной речи. Так, в речи рассказчика используются преимущественно простые предложения (Жил-был поп, // Толоконный лоб), нередко используется инверсия (Пошел поп по базару). Предложения часто начинаются союзами а, вот (А Балда приговаривал с укоризной), при описании действий персонажей опускаются глаголы (Испугался бесенок, да к деду). Приведенные примеры характерны для бытового народного языка.
Сюжет в пушкинской сказке движется, как и в народной сказке. Но динамика его значительно усиливается. Пушкин не просто рассказывает, а воспроизводит картины сказочных событий в настоящем времени. «Повествование в сказке отмечается замечательной живописностью, картинностью выражений» – писал Д. Благой [14, с. 535]. Местом действия Пушкин избирает привычную для русского крестьянина обстановку – базар, достигая внешней реалистичности. Одновременно грань между реальным и сказочным миром стирается в результате условности, заключающейся в том, что невозможное с точки зрения здравого смысла преподносится рассказчиком с интонациями достоверности. Исследователи увидели в сказке Пушкина некоторые отступления от сказочного канона, проявляющиеся в психологической мотивировке завязки (поп, поколебавшись, все-таки согласился на условия Балды) [65, с. 130]. Вместо краткой характеристики работника, часто приводимой в народной сказке, Пушкин дает красочное описание жизни Балды:
Живет Балда в поповском доме,
Спит себе на соломе.
Ест за четверых
Работает за семерых [76, с. 308].
Такая описательность – характерная особенность чисто литературного жанра. Финальная сцена сказки также проникнута психологизмом:
Идет Балда, покрякивает,
А поп, завидя Балду, вскакивает,
За попадью прячется,
Со страху корячится [76, с. 309].
Внутреннее состояние персонажа передается изображением целого ряда действий. Но Пушкин значительно изменяет сам характер изображаемого действия, о чем детально писал В. Непомнящий [65].
Таким образом, используя народный сюжет, Пушкин предложил не сатирическую сказку, а, скорее, своеобразную притчу о противоречивости русского характера, в котором уживаются нравоучение и идеал. Предложенная в «Сказке о попе и работнике его Балде» форма, больше не повторилась в его творчестве. Но примечательно то, что такой художественный опыт обогатил все последующие сказки поэта. Фольклорные приемы тесно переплелись в сказке с чисто литературными, иногда даже срослись, но при этом сугубо авторские приемы не разрушали канонов народной сказки.
Продолжая развивать свое творчество в избранном направлении, Пушкин создает «Сказку о рыбаке и рыбке» (1833), которая в значительной степени продолжала тему «Сказки о попе и работнике его Балде». Исследователи полагают, что источником послужила «Сказка о рыбаке и его жене» из сборника братьев Гримм. Своеобразным итогом изучения сказки фольклористами можно признать заключение И. Лупановой: «Внимательное изучение «Сказки о рыбаке и рыбке» свидетельствует о том, что, в отличие от гриммовской сказки, смысл которой исключительно в морали: «будь доволен тем, что имеешь», – смысл пушкинской сказки гораздо более широк, и, в частности, он заключается в воспроизведении русской народной сатиры на барство, на несправедливое социальное устройство» [54, с. 167]. Акцентируя внимание на характере сатиры автора, исследовательница отмечает ее общность с сатирическими народными сказками.
Вопрос о фольклорных источниках сказки о рыбаке и рыбке был обстоятельно рассмотрен М. Азадовским. Используя пушкинские черновики и сопоставив сказку братьев Гримм и текст «Сказки о рыбаке и рыбке», ученый пришел к выводу о несомненном знании и использовании поэтом мотивов немецкой сказки. Однако из деталей пушкинской сказки в тексте Гриммов отсутствует мотив корыта (первое требование у Гриммов – новый дом), по-разному именуются рыбки: у Пушкина – золотая, у Гримов – камбала; причем у Пушкина опущено указание, что рыбка – заколдованный принц. Наконец, у Пушкина значительно усилен мотив покорности мужа. В сказке Гримм старик – только покорный муж, не смеющий ослушаться приказов жены и пользующийся вместе с нею дарами чудесной рыбки; у Пушкина старик совершенно отделяется от старухи. Г. Макогоненко подчеркивает, что «следование образцу было откровенным; при этом, чем больше было совпадений, тем отчетливее выступала оригинальность пушкинской сказки» [57, с. 31]. Сказка братьев Гримм – это зафиксированная народная сказка-притча о жадности. Жена рыбака требует выполнения с помощью чудесной камбалы ее желаний. Сначала она хочет новый дом, затем замок, потом пожелала стать императрицей, папой римским и, наконец, Богом. Последнее желание старухи не исполняется. Рыбак и его жена возвращаются в старую хижину. Пушкин, отталкиваясь от гриммовского сюжета, большое внимание уделил русской сказочной традиции, в частности, сюжету «жадная старуха». Поэт отказался от побочных линий немецкой сказки и все внимание сосредоточил на одной – старик и старуха, детально разрабатывая крестьянскую тему. Рыбак и его жена – бедные люди. Они живут в своей землянке «тридцать лет и три года». Желания старухи социально обусловлены: она не хочет быть «черною крестьянкою» – хочет быть дворянкой, царицей, владычицей морскою.
В качестве основного признака стиля в «Сказке о рыбаке и рыбке» В. Виноградов выделяет прием варьирования. Сказка состоит из экспозиции и одного повторяющегося мотива.
- Экспозиция. Старик выловил золотую рыбку. Она просит отпустить ее в море за выполнение любого желания.
- Старуха велит обратиться к рыбке с просьбой сделать ее дворянкой, царицей, владычицей морскою. Рыбка выполняет все желания, кроме последнего [20, с. 114].
В своей сказке Пушкин отказывается от литературных способов изображения персонажей: образы-типы старика и старухи свойственны бытовой сказке. Кроме того, для народного творчества характерны так называемые кумулятивные сказки, о которых уже упоминалось, когда события связываются между собой причинно-следственными связями. Кумулятивная структура сказки о рыбаке и рыбке помогает глубже раскрыть характер жадной старухи. Если в волшебной сказке превращения чаще всего связаны с приобретением героями определенных положительных качеств, то превращения старухи в пушкинском произведении происходят вопреки законам чудесной сказки. Изображение старухи дается в стиле лубочных картинок.
1) Жил старик со своею старухой
У самого синего моря…
Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу [77, с. 338].
2) Перед ним изба со светелкой,
С кирпичною, беленою трубою,
С дубовыми, тесовыми вороты,
Старуха сидит под окошком [77, с. 340].
3) Что ж он видит? Высокий терем.
На крыльце сидит его старуха
В дорогой собольей душегрейке[ 77 , с. 340].
4) …перед ним царские палаты.
В палатах видит свою старуху.
За столом сидит она царицей,
Служат ей бояре да дворяне [77, с. 342].
5) Глядь: опять перед ним землянка,
На пороге сидит его старуха,
А перед нею разбитое корыто [77, с. 343].
Накопление эпизодов происходит по принципу нарастания. Бесконечная жадность старухи соответствует бесконечной возможности развития сюжета кумулятивной сказки.
В сказке братьев Гримм противопоставление жене мужа проявляется слабо. Хотя рыбак и противится жене, но выполняет ее капризы, и сам потом пользуется добытыми благами. Вот как об этом сказано у братьев Гримм: «Вошел он в избу, а в избе чистые сени и нарядная комната, и стоят в ней новые постели, а дальше чулан и столовая; всюду полки, а на них самая лучшая утварь, и оловянная, и медная – все, что надо. А позади избы маленький дворик, и ходят там утки и куры; а дальше – небольшой садик и огород с разной зеленью и овощами.
– Видишь, – говорит жена, – разве это не хорошо?
– Да, – ответил рыбак, – заживем мы теперь припеваючи, будем довольны и сыты» [25, с. 129].
У Пушкина все иначе. Антитеза «старик-старуха» постепенно углубляется. Старуха-крестьянка изображена как сварливая, вечно чем-то недовольная баба, ругающая безропотного мужа:
Старика старуха забранила:
«Дурачина ты, простофиля!» [77, с. 339].
С переменой социального положения изменяется и поведение старухи. Став дворянкой, она проявляет жестокость по отношению к слугам, мужа «на конюшне служить послала». А изъявив желание быть царицей и встретив сопротивление старика,
Осердилася пуще старуха,
По щеке ударила мужа:
«Как ты смеешь, мужик, спорить со мною»,
Со мною, дворянкой столбовою?..» [77 , с. 341].
Сюжет сказки развивается несколько необычно для фольклора. В центре народной сказки – герой, который добивается успеха благодаря своим положительным качествам. Вместе с тем народная сказка сложна по своей структуре. Если на одном полюсе действуют старик со старухой, а на другом – золотая рыбка, то перед нами волшебная сказка. Если в центре конфликт между стариком и старухой, тогда это бытовая сказка. В центре пушкинского повествования – антигерой в необычных условиях: для достижения желаний старухи нет преград. Но и ее желаниям нет предела. В пушкинской сказке противопоставление муж – жена углубляется. Уже в начале сказки автор подчеркивает патриархальную подчиненность старухи мужу:
Жил старик со своею старухой… [77, с. 338].
Каждый занимается испокон установленным делом:
Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу [77, с. 338].
С появлением золотой рыбки начинается их противостояние. Бытовая ссора, характерная для многих фольклорных сказок, перерастает в социальный конфликт: как только старуха поднялась вверх по иерархической лестнице, она начинает обращаться со своим мужем, как с подчиненным, холопом. Но старик продолжает видеть в своей социально растущей старухе свою жену. Это подтверждается текстом сказки:
– Разбранила меня моя старуха;
– Еще пуще старуха бранится;
– Пуще прежнего старуха взбранилась;
– Опять моя старуха бунтует;
– Что мне делать с проклятою бабой?
Однако вскоре старик подчиняется новым условиям и ведет себя с женою как холоп.
Развитие действия в сказке связано с образом золотой рыбки – чудесного помощника, встречающегося во многих сказках. Согласно фольклорной традиции чудесный помощник вознаграждает героя, отрицательный персонаж наказывается.
В сказке Пушкина золотая рыбка вынуждена исполнять прихоти старухи, потому что с просьбой обращается старик, которому рыбка не может отказать. Желание помочь старику заставляет ее выполнять требования старухи. «Реакция рыбака на требования старухи отделяет его мораль от безнравственного поведения дворянки и царицы и сближает его самого с золотой рыбкой, которая разделяет его возмущения», – замечает Г. Макогоненко [58, с. 136]. Изображение негодования и нарастания гнева чудесного помощника передается через картины изменяющегося моря. Море в сказке – «это образ-символ, вобравший в себя опыт романтизма и личный пушкинский поэтический опыт» [58, с. 136]. Исследователь выделяет три символических значения образа моря:
- объективная реальность, часть могучей природы, «обыкновенное синее море»;
- «персонаж волшебной сказки, сопутствующий добру и ненавидящий зло, насилие, хамство»;
- «извечная свободная стихия», которую нельзя подчинить чьей-то воле [58, с. 140-141].
Поучительность, дидактизм сказки определяется философской метафоричностью сюжета, помещенного в реальную бытовую картину. Концовка в точности повторяет зачин:
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года [77, с. 338].
Глядь: опять перед ним землянка,
На пороге сидит его старуха [77, с. 343].
«Сказка о рыбаке и рыбке» обладает скрытой иронией: в ней пародируется волшебно-сказочное личное благополучие героя, обязательная его «царственность» в устной сказке. Поэтому эту сказку Пушкина иногда называют «ложно-волшебной».
Идею сказки точно выражает художественная деталь – разбитое корыто: человек, который желает невозможного, непременно остается ни с чем, у разбитого корыта. В сказке столкнулись две неравные силы – море-океан и старуха, пожелавшая стать «владычицей морскою». «Но нет в мире такой силы и власти, которые бы покорили Окиян-море. Оттого описание его поведения закономерно осуществлено по законам стилистики романтизма, где море изображалось мятежным потоком, который обрушивается на «гибельный оплот самовластья», – замечает Г. Макогоненко [58, с. 141]:
Видит, на море черная буря:
Так и вздулись сердитые волны,
Так и ходят, так воем и воют [77, с. 342].
В пушкинской сказке в общей художественной идее слились структура и стилевая система. Кумулятивная композиция сказки в тесной связи с повторениями фольклорного характера дали возможность поэту в полной мере использовать возможности вольного стиха как повествовательной единицы. Ритм сказки, соединенный с вечным ритмом моря, приобретает философское звучание. Сказка предупреждает о реальной возможности человеческого разъединения. В голосе автора слышны интонации сожаления по поводу возможности оказаться у разбитого корыта.
Таким образом, сказки Пушкина с народно-стилевой основой обнаружили свою близость с басенной литературной традицией, которая проявляется, прежде всего, в наличии морали. Басенные сентенции пушкинских произведений стали функционировать в языке как пословицы. Однако существование авторского плана свидетельствует о сближении этих сказок с романтической поэмой.
2.2. Сказки А. С. Пушкина с литературной основой
2.2.1. Литературная основа и фольклорное начало в «Сказке о царе Салтане».
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» была написана в 1831 году. Первой творческой попыткой создания сказки можно считать черновые записи самого Пушкина 1828 года. Этот вариант распадается на стихотворный и короткий прозаический текст. Четырнадцать стихов записи стали затем началом сказки о Салтане. Осенью 1831 года сказка была полностью завершена.
Безусловно, Пушкин, работая над сказками-поэмами, широко использовал материал народно-волшебных произведений. Однако он значительно расширил их рамки. Об этом свидетельствуют те отступления от сказочного канона, которые можно обнаружить в его сказке. Во-первых, вследствие введения образа прекрасной царевны Лебеди, не характерного для устной сказки, в произведении говорится о двух свадьбах. Во-вторых, Пушкин использует две сказочные концовки:
Стали жить да поживать,
Да приплода поджидать [78, с. 332].
Я там был: мед-пиво пил,
Да усы лишь обмочил [78, с. 337].
Как уже было отмечено, Пушкин в основном сохраняет традиционные сказочные ситуации. Как и в народной волшебной сказке, герой должен пройти целый ряд испытаний, чтобы достичь благополучия. Анализ построения «Сказки о царе Салтане» позволяет выделить те поступки персонажей, которые важны для дальнейшего развития действия, и обнаружить их повторяемость, то есть описать функции действующих лиц. Среди таких действий могут быть выделены: изгнание (отлучка) из дома, чудесное рождение царевича Гвидона, встреча с чудесным помощником царевной Лебедью и т.д.
Каждый эпизод включается в сказочный мотив, имеющий свое внутреннее строение. Важную роль играют те действия персонажей, которые влияют на развитие сюжета. Так, утроенный мотив сказки, когда князь Гвидон с помощью царевны Лебеди превращается в насекомое (чудесное превращение), играет центральную роль в произведении.
Центральный мотив подчеркивает основную идею сказки – зло всегда наказуемо. Однако Пушкин соединяет свою сказку с мотивом какого-то другого сюжета: битва коршуна и Лебеди. Гибель чародея-коршуна предвещает счастливую развязку всего произведения. Это связано с традицией народной сказки.
В сказке можно заметить внезапно возникающие и обрывающиеся сцены. Каждая строфа представляет собой композиционную единицу, завершенную по смыслу, логически законченную. Например, 1-ая строфа – рассказ о мечтаниях трех девушек выйти замуж и их обещаниях, 2-ая – подслушивание царем их разговора и выбор младшей сестры себе в жены и т.д. Используя прием ретардации, Пушкин нарушает плавность повествования народной сказки и создает ряд развернутых сцен, соединенных связками. При этом автор задает специфический ритм, когда развернутую картину сменяет краткая информация (или наоборот – краткая информация, а за ней – развернутая сцена). Например: 3-я строфа:
В сени вышел царь-отец.
Все пустились во дворец.
Царь недолго собирался:
В тот же вечер обвенчался.
А потом честные гости
На кровать слоновой кости
Положили молодых
И оставили одних и т.д. [78, с. 314].
В основном Пушкин сохранил традиционные сказочные ситуации. Но он создал и ряд новых сцен, аналогичных сказочным. По типу сказочных формул-заговоров построено проникновенно-лирическое обращение к морской волне:
Ты волна моя, волна!
Ты гульлива и вольна!
Плещешь ты, куда захочешь,
Ты морские камни точишь.
Топишь берег ты земли,
Подымаешь корабли –
Не губи ты нашу душу:
Вынеси ты нас на сушу! [78, с. 316].
В этом отрывке очевидна аналогия с заговором, состоящим из величания явления и просьбы к нему.
Отступления от законов построения сюжета народной сказки наблюдаются в связи с введением мотива чудесного помощника. Получение Гвидоном волшебной силы происходит с помощью царевны Лебеди. И. Лупанова видит корни этого образа в русском сказочном творчестве, где образ мудрой жены-советчицы весьма распространен («Дева-семилетка», «Мудрая жена», «Царь-девица» и др. сказки) [53, с. 156].
В силу своей мудрости чудесная помощница князя Гвидона выполняет сложные задачи. Воспроизводя образ мудрой женщины из фольклорных сказок, Пушкин усиливает его, добавляя черты, которыми наделяется героиня в других сказочных сюжетах. Ее мудрость сочетается с непримиримостью, активностью. Одновременно пушкинская царевна – апофеоз чистой, величавой красоты и вместе с тем нежности и ласки:
А сама-то величава,
Выступает будто пава,
А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит [78, с. 331].
Интересен волшебно-сказочный портрет царевны Лебеди:
Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает,
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит [78, c. 332].
Использование чисто литературного приема – развернутой портретной характеристики – служит для подчеркивания отмеченных народной сказкой внутренних качеств героини. С этой целью в традиционное повествование Пушкин вводит новую сцену – разговор Гвидона с Лебедью, в котором передается чувство собственного достоинства героини:
Да, такая есть девица,
Но жена не рукавица:
С белой ручки не стряхнешь,
Да за пояс не заткнешь [78, с. 331].
Таким образом, царевна Лебедь – своеобразный художественный центр сказки, вокруг которого группируются остальные персонажи. Более того, из сохранившихся планов будущих изданий известно намерение поэта изменить название сказки на «Царь-девица» или «Царевна Лебедь». Это означает, что Пушкин сам осознавал центральное сюжетное значение образа Лебеди в системе персонажей.
Как уже отмечалось, число персонажей в художественном произведении незамкнуто, то есть образная система – явление открытое. Поэтому Пушкин в традиционный сказочный сюжет включает новые образы – чудесной белочки, тридцати трех богатырей.
Ель в лесу, под елью белка.
Белка песенки поет
Да орешки все грызет,
А орешки не простые,
В них скорлупки золотые,
Ядра – чистый изумруд [78, с. 321].
В изображении белки автор точно имитировал стилевые особенности и разговорные интонации русской сказки. Мастерство Пушкина-сказочника проявилось и в изображении богатырей:
Тридцать три богатыря,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор [78, с. 325].
Создавая образы сказки, Пушкин сохранил принципы фольклорной типизации, но вместе с тем его персонажи наделены индивидуальными качествами. Царь Салтан, например, нарисован в комическом ключе. Он добродушен, доверчив, верен своей жене. Одновременно Салтан вспыльчив, но отходчив:
В гневе начал он чудесить
И гонца хотел повесить [78, с. 315].
Что? Царь или дитя?
Говорит он не шутя. –
Нынче ж еду! – Тут он топнул,
Вышел вон и дверью хлопнул [78, с. 335].
Пушкин нарушает фольклорный закон неизменности героев. Так, старшие завистливые сестры превращаются из умелых рукодельниц в злых жаб. К тому же они очень трусливы:
Разбежались по углам,
Их нашли насилу там,
Тут во всем они признались,
Повиинились, разрыдались… [78, с. 336].
В нарушение сказочной традиции, но в соответствии с развитыми автором качествами Салтана злые сестры не наказываются:
Царь для радости такой
Отпустил всех трех домой [78, с. 337].
Литературное мастерство Пушкина проявилось и в создании красочного гармоничного мира, в центре которого возвышается дуб – мировое дерево славян, – стоящий посреди пустого острова Буяна:
В море остров был крутой,
Не привальный, не жилой,
Он лежал пустой равниной,
Рос на нем дубок единый [78, с. 320].
«Сказка о царе Салтане» обладает необыкновенной динамичностью. Красочность повествованию придают присущие фольклору существительные-эпитеты: голубушки-сестрицы, гости-господа, батюшка-царь; народные песенные определения: лазоревая даль, грусть-тоска; а рядом с ними – чисто литературные: душою страстной, с ободренною душой. Пушкин наполняет речь сказки народными суждениями: это горе – не горе; правду бают или лгут; ввек тебя я не забуду; жена не рукавица: с белой ручки не стряхнешь, да за пояс не заткнешь. Встречаются в ней разнообразные повторы: лексические (лебедь-птица, наказом наказала, злится-злится), синтаксические:
В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут,
Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет [78, с. 316].
Несмотря на фольклорную основу, «Сказка о царе Салтане» – произведение литературное, в котором авторское начало выражено достаточно ясно. Это проявляется в иронии, насквозь пронизывающей эпизод женитьбы царя Салтана, сцену, когда «распроклятая мошка» – Гвидон – кусает теток и бабу Бабариху. «Литературность» сказки проявляется и в общей тональности изображения места действия. Описание сказочного города напоминает эпоху Киевской Руси.
Город новый, златоглавый,
Пристань с крепкою заставой…
Стены с частыми зубцами,
И за белыми стенами
Блещут маковки церквей
И святых монастырей [78, с. 318].
Новый город со дворцом,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами… [78, с. 320].
Чудесный мифологический остров Буян отразил народно-утопические легенды о невидимом городе Китеже, исчезнувшем во времена ордынского нашествия, об Ореховой земле, о Беловодье, на поиски которого отправлялись группы крестьян и в конце XIX века [34, с. 148].
В сказке Пушкина звон колоколов приветствует мать и сына в чудесном городе:
Мать и сын идут ко граду.
Лишь ступили за ограду,
Оглушительный трезвон
Поднялся со всех сторон [78, с. 318].
Когда на остров приезжает царь Салтан:
Разом пушки запалили;
В колокольнях зазвонили… [78, с. 335].
Колокольный звон способствует созданию сказочно-идеальной, светлой обстановки.
В сказке о Салтане поэт решал глубоко волновавшую его проблему человеческого счастья. Он рано пришел к пониманию неподвластности счастья индивидуальной воле человека. Упорно проникая в русскую национально-историческую культурную традицию, приобщаясь к этическим идеалам народа, Пушкин убеждается, что смысл жизни – не только в счастье, которое возможно в идеальном мире, но и в сохранении человеком своего достоинства.
Исследователи отмечают, что в «Сказке о царе Салтане» Пушкин первым из писателей, проникшись художественным и философским сознанием народа, «нарисовал свой сон о «золотом веке» [34, с. 143]. Замкнутый мир сказки позволил ему выразить русский социально-утопический идеал. Это единственное произведение, в котором автор изобразил гармонию личного и социального бытия.
Таким образом, несмотря на значительное влияние фольклорного материала, «Сказка о царе Салтане» принадлежит к разряду сказок литературных. В этой сказке появляется образ автора-рассказчика, что гораздо усложняет структуру пушкинского текста. Точка зрения рассказчика – народная, ей соответствует и язык рассказчика, стилистически близкий речи персонажей. Справедливо утверждение Л. Слонимского о том, что в сказке Пушкина соединились народная речь, песенные элементы, обрядовые формулы, книжно-литературная струя [79, с. 445-449]. В связи именно с этой сказкой можно говорить об особом подходе Пушкина к ее сюжетному построению. Он вносит собственные дополнения в традиционное повествование – сюжет о Гвидоне и царевне Лебеди. Наряду с этим фольклорные типы превращаются у Пушкина в характеры. Пространственно-временные отношения в ней также отличаются от народно-сказочных. Например, в ней встречаются упоминания о конкретном времени. Развитие сюжета во времени часто останавливается при описании природы. Художественное пространство расширено за счет описаний двух мест действия: царства Салтана и острова Буяна. Поэт не только сохраняет, но и моделирует сказочный вымысел, делая его правдоподобным. Прекрасно владея поэтикой фольклорной сказки, Пушкин сумел выйти за ее пределы, не нарушив при этом сказочные каноны.
2.2.2. Трансформация фольклорных традиций в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях».
По своей художественной структуре ближе всего к «Сказке о царе Салтане» «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». По замечанию Л. Слонимского, она «обладает мрачным колоритом» [79, с. 439].
Героине приходится преодолеть целый ряд испытаний, прежде чем она достигнет счастья. Сюжет сказки о мертвой царевне популярен в фольклоре европейских народов, в России он известен под названием «Волшебное зеркальце».
Можно выделить такие основные моменты в этой сказке:
- Зависть мачехи к красоте падчерицы.
- Мачеха приказывает служанке погубить царевну. Служанка отводит ее в лес, но там щадит.
- В лесу царевна обнаруживает терем семи богатырей и там остается жить.
- Мачеха-царица умерщвляет царевну с помощью отравленного яблока.
- Королевич Елисей отправляется на поиски пропавшей царевны (утроенный мотив: обращение к солнцу, месяцу, ветру).
- Пробуждение царевны.
- Свадьба. Смерть мачехи.
В отличие от немецкого варианта братьев Гримм в сказке Пушкина появляется мотив исчезнувшей невесты, не зафиксированный в черновиках поэта. Этот мотив достаточно распространен в русском фольклоре. Несложно определить и другие отступления Пушкина от немецкого первоисточника. Заменив карликов из немецкой сказки о Белоснежке на русских богатырей, автор одновременно окружил их реалиями русской истории. Они не только гуляют и охотятся на уток, но и расправляются с врагами: сорочином, татарином, пятигорским черкесом.
Руку правую потешить,
Сорочина в поле спешить,
Иль башку с широких плеч
У татарина отсечь,
Или вытравить из леса
Пятигорского черкеса [75, с. 349].
Изменив композиционную структуру фольклорной сказки, Пушкин «оживляет», углубляет ее образы литературными средствами. При создании образа падчерицы автор продолжил свою же работу над формированием женского персонажа, которая была начата в «Сказке о царе Салтане». Но если в образе царевны Лебеди – мудрой помощницы Гвидона – воспевалась красота человеческого ума, то в образе кроткой падчерицы воплощается красота трудолюбия. Героиня Пушкина, как и в устных вариантах такого типа сказок, прежде всего труженица. Начальная ситуация сказки Пушкина совпадает с вариантами народных сказок об оклеветанной девушке. Изменяется не только социальное положение героини – царевна обретает семейное благополучие. Примечательна оговорка в начале сказки: героиня – царская дочь. Но автор рисует характерный национально-сказочный образ гонимой девушки, которой присущи черты крестьянкой девушки.
Дом царевна обошла,
Все порядком убрала,
Затопила жарко печку,
На полати взобралась
И тихонько улеглась [75, с. 348].
Пушкинскя царевна, вместе с тем, обладает безграничной добротой даже по отношению к своим недругам. Ее органическое единение с природой подчеркивается в разных сценах. Во время встречи царевны с нищенкой пес пытается уберечь царевну от опасности. Когда же нищенка бросает царевне яблоко, пес предупреждает царевну об опасности, подобно тому, как в народных сказках благодарные животные – собаки, кошки, страдают за героев. В сказке Пушкина, желая спасти царевну:
Пес бежит, и ей в лицо
Жалко смотрит, грозно воет,
Словно сердце песье ноет,
Словно хочет ей сказать:
Брось! [75, с. 352].
Контаминируя сюжеты различных народных сказок, Пушкин одновременно вносит новые элементы, не характерные для сказок данного типа, но присущие сказочной литературе в целом. В народных сказках встреча героев и чувство их любви возникают как бы случайно. Так, например, в сказках типа «Мертвой царевны» охотившийся на дикого зверя царевич в лесу наталкивается на гроб со спящей героиней, влюбляется в нее и поцелуем оживляет возлюбленную. В сказке Пушкина с самого начала известно, что царевна – невеста королевича Елисея.
За невестью своей
Королевич Елисей
Между тем по свету скачет… [75, с. 354].
Царевна в это же время живет умиротворенной жизнью в доме у семи богатырей.
Конфликт сказки обостряется тем, что все богатыри влюбляются в царевну и в один из дней заходят к ней в светлицу с просьбой выбрать одного из них себе в мужья. Но царевна отвечает отказом:
Для меня вы все равны,
Все удалы, все умны,
Всех я вас люблю сердечно,
Но другому я навечно отдана.
Мне всех милей
Королевич Елисей [75, с. 350].
Царевна на время как бы забывает о возлюбленном. Но ее кроткий ответ свидетельствует о глубине ее характера, о христианской смиренности души героини, которая умеет хранить в неприкосновенности свои чувства. Ожидание любимого – цель ее жизни. Поэтому после отказа царевны
…согласно все опять
стали жить да поживать [75, с. 350].
Таким образом, любовь семи богатырей становится своеобразным испытанием верности героини, из которого она выходит с честью. Создавая ее образ, автор как бы воплощает представления народного рассказчика. Оттого царевна – это идеальная, с точки зрения крестьянина, девушка, а мачеха – жестокая властительница, угрожающая простой девушке рогаткой. Создатель сказки и рассказчик словно соединяются воедино, преподнося слушателю основной смысл сказки, – противопоставление «лица» и «души», красоты внутренней и красоты внешней. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» является прославлением добрых народных нравов.
Во внешней характеристике персонажей Пушкин, с одной стороны, следует фольклорным традициям, с другой – отталкивается от них. Сохраняя сказочную форму описания, поэт дает не типовой портрет, а индивидуальный характер. Он прорисовывается в мимике, жесте, речи. Две разновидности действия создают у Пушкина различных персонажей – мачеху и царевну. Позиция автора-рассказчика проявляется в особом отношении к своим персонажам. Царица и царевна характеризуются почти одними и теми же традиционными словами. Главная героиня – царевна – представляет собой «воплощение милой женственности в русском народном вкусе» [54, c. 349]. Она белолица, черноброва и вместе с тем наделена целым рядом положительных нравственных качеств: нраву кроткого такого; от зеленого вина отрекалася она. Попав в терем богатырей, она «все порядком убрала», «засветила богу свечку, затопила жарко печку». В народной сказке нет эпизода, где все богатыри влюбляются в царевну и просят одного из них выбрать себе в мужья. Введение в композиционную структуру таких дополнительных сцен дает возможность Пушкину «очеловечить» образы.
Необычно выразителен и образ мачехи. Пушкин и здесь следует основному сказочному закону: изображает персонаж в его действии:
И царица хохотать,
И плечами пожимать.
И подмигивать глазами,
И прищелкивать перстами,
И вертеться, подбочась,
Гордо в зеркальце глядясь [75, c. 345].
В народной сказке обнаруживается органическое единство красоты душевной, внутренней и внешней. Пушкин же, напротив, подчеркивает противоречие между красотой лица мачехи и уродливостью ее души. Ей хочется быть «на свете всех милее» – своеобразная мания величия, стремление подчинить себе все окружающее. Но зло всегда наказуемо, и непомерные желания приводят к краху. Поэтому в конце «Сказки о мертвой царевне»
Злая мачеха, вскочив,
Об пол зеркальце разбив,
В двери прямо побежала
И царевну повстречала.
Тут тоска ее взяла
И царица умерла [75, с. 357].
Основным ориентиром при создании сказки для Пушкина всегда была народная этика, находящая свое проявление в различных эпизодах произведения, где отражены различные крестьянские обычаи. Так, при появлении царевны в доме у семи богатырей соблюдается обычай гостеприимства, выражающийся в фольклорной формуле «вызывания»:
Кто же? Выдь и покажися,
С нами честно подружися.
Коль ты старый человек,
Дядей будешь нам навек.
Коли парень ты румяный,
Братец будешь нам названый,
Коль старушка, будь нам мать,
Так и станем величать.
Коли красная девица,
Будь нам милая сестрица [75, с. 348].
Отправляясь на поиски невесты, королевич Елисей, помолился усердно богу. Его обращения к солнцу, месяцу, ветру конструируются, как и в «Сказке о царе Салтане», по типу заговоров, состоящих из величания явления и последующего обращения к нему:
Свет наш солнышко! Ты ходишь
Круглый год по небу, сводишь
Зиму теплую с весной,
Всех нас видишь под собой.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видало ль где на свете
Ты царевны молодой?
Я жених ей [75, с. 354-355].
В сказке царит атмосфера идеальной этики крестьянства, соотносящейся только с положительными героями. Народная этика проявляется и в бытовых зарисовках. Очень детально изображается в сказке терем богатырей, куда забрела царевна. Однако в обрисовке сказочного терема легко узнаваемыми остаются реалистические детали крестьянского дома: ворота, подворье, крыльцо. Внутри дома – светлая горница, под святыми стол дубовый, печь с лежанкой изразцовой.
По своей структуре пушкинская сказка совпадает со многими народными сказками. Однако авторские интонации отражают своеобразную «игру» сказочника. Он как бы встает на уровень представлений народного исполнителя с его нравственными оценками. В некоторые моменты сказочник словно раздваивается. Общий праздничный тон повествования прерывается ироническими вопросами, замечаниями:
Братья молча постояли,
Да в затылки почесали [75, с. 350]
Долго царь был неутешен.
Но как быть? И он был грешен [75, с. 344].
В народных сказках мертвая царевна обычно пробуждается, когда с нее снимают волшебное кольцо, рубашку, пояс, или когда у нее изо рта выпадает кусочек отравленной пищи. У Пушкина отсутствует такое бытовое объяснение оживления. Пушкинскую героиню пробуждают от вечного сна сильные чувства жениха:
И о гроб невесты милой
Он ударился всей силой.
Гроб разбился. Дева вдруг
Ожила… [75, с. 356].
Пушкин опоэтизировал любовь и образы влюбленных, для которых она – большая и страшная сила. Силой своей любви королевич Елисей спасает царевну, поскольку любовь для них – это жизнь.
Совершенно оригинально используется в пушкинском тексте мотив «хрустального гроба». Можно предположить, что гроб играет роль волшебного предмета, который должен быть уничтожен.
В «Сказке о мертвой царевне» очевидно стремление автора приблизиться к русскому фольклорному стилю. В ней часто встречаются просторечия (хвать – поймала, долго дулась и сердилась; пес проклятый одолел), народные эпитеты (молодцы честные; красная девица; алы губки; белы руки; красно солнце; глушь лесная), разнообразные повторы (путь-дорога; вьется вьюга; нет как нет; ждет-пождет; жить да поживать), фразеологизмы (в глаза ему смеется, всем взяла; бог с тобой; идут за днями дни; не сойти живой мне с места). Но рядом с просторечными словами и выражениями звучит высокая лексика, способствующая более полному выражению главной идеи произведения – мысли о преимуществе духовной красоты над красотой внешней, идеи всепобеждающей любви. «Литературность» сказке придают пространные описания обстановки, где происходит действие, не свойственные фольклорной сказке (например, описание «пустого места», на котором похоронена царевна).
Выводы к главе 2
Сказки А. С. Пушкина можно условно разделить на:
- сказки с преобладанием народно-стилевой основы («Сказка о Медведихе», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке»);
- сказки с преобладанием литературной основы («Сказка о царе Салтане, о сыне его славном Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»).
Сказки Пушкина с народно-стилевой основой обнаружили свою близость с басенной литературной традицией, которая проявляется, прежде всего, в наличии морали. Басенные сентенции пушкинских произведений стали функционировать в языке как пословицы. В «Сказке о попе и работнике его Балде» фольклорные приемы тесно переплелись с чисто литературными, иногда даже срослись, но при этом сугубо авторские приемы не разрушали канонов народной сказки.
В пушкинской сказке в общей художественной идее слились структура и стилевая система. Кумулятивная композиция сказки в тесной связи с повторениями фольклорного характера дали возможность поэту в полной мере использовать возможности вольного стиха как повествовательной единицы. Ритм сказки, соединенный с вечным ритмом моря, приобретает философское звучание. Сказка предупреждает о реальной возможности человеческого разъединения. В голосе автора слышны интонации сожаления по поводу возможности оказаться у разбитого корыта.
Что касается сказок с преобладанием литературной основы, то можем сказать, что несмотря на значительное влияние фольклорного материала, «Сказка о царе Салтане» принадлежит именно к таким сказкам. В этой сказке появляется образ автора-рассказчика, что гораздо усложняет структуру пушкинского текста. Прекрасно владея поэтикой фольклорной сказки, Пушкин сумел выйти за ее пределы, не нарушив при этом сказочные каноны.
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» продолжила сказочную линию в творчестве Пушкина. В целом традиционный фольклорный сюжет значительно переосмысливается автором. Если в «Сказке о царе Салтане» представлена утопическая жизнь счастливых людей, то центральной мыслью «Сказки о мертвой царевне» являются размышления о человеческой морали – о превосходстве внутренней красоты над красотой внешней.
ВЫВОДЫ
Литературная сказка первой половины XIX века прошла сложный путь становления. Ее развитие тесно связано с народной волшебной сказкой. В жанровой системе романтизма авторская сказка занимает особое место. В ней, как и в произведениях других жанров, нашли отражение закономерности общего историко-литературного процесса в России. Возникновению сказки в русской литературе предшествовала развитая и усвоенная сочинителями традиция русской народной сказки, обширный опыт художественной переработки устно-поэтических сказочных сюжетов и мотивов.
В эпоху романтизма литературная сказка сложилась как самостоятельный жанр, сформировались и ее основные внутрижанровые разновидности. Это ярко проявилось в творчестве Александра Сергеевича Пушкина.
Синтез литературного и фольклорного стилей А. С. Пушкин осуществлял на основе народной сказки, стремясь воспроизвести ее собственный смысл, ее поэтический строй. В отличие от своих предшественников, Пушкин наметил пути взаимоотношения фольклора и литературы не через мотивы, а через жанры, сохраняя их важнейшие признаки в своих произведениях. И хотя синтез литературного и фольклорного стилей Пушкин осуществил на основе сказки народной, его произведения имеют более глубокую семантику, более сложную пространственно-временную организацию. В этих сказках ощущается романтическая раздвоенность, которая на метафизическом уровне понимается как непримиримая и безысходная борьба добра и зла.
Сказки А. С. Пушкина можно условно разделить на:
- сказки с преобладанием народно-стилевой основы («Сказка о Медведихе», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке»);
- сказки с преобладанием литературной основы («Сказка о царе Салтане, о сыне его славном Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»).
Сказки Пушкина с народно-стилевой основой обнаружили свою близость с басенной литературной традицией, которая проявляется, прежде всего, в наличии морали. Басенные сентенции пушкинских произведений стали функционировать в языке как пословицы.
Используя народный сюжет, Пушкин предложил не сатирическую сказку, а, скорее, своеобразную притчу о противоречивости русского характера, в котором уживаются нравоучение и идеал. Предложенная в «Сказке о попе и работнике его Балде» форма, больше не повторилась в его творчестве. Но примечательно то, что такой художественный опыт обогатил все последующие сказки поэта. Фольклорные приемы тесно переплелись в сказке с чисто литературными, иногда даже срослись, но при этом сугубо авторские приемы не разрушали канонов народной сказки.
Продолжая развивать свое творчество в избранном направлении, Пушкин создает «Сказку о рыбаке и рыбке» (1833), которая в значительной степени продолжала тему «Сказки о попе и работнике его Балде». Исследователи полагают, что источником послужила «Сказка о рыбаке и его жене» из сборника братьев Гримм.
В пушкинской сказке в общей художественной идее слились структура и стилевая система. Кумулятивная композиция сказки в тесной связи с повторениями фольклорного характера дали возможность поэту в полной мере использовать возможности вольного стиха как повествовательной единицы. Ритм сказки, соединенный с вечным ритмом моря, приобретает философское звучание. Сказка предупреждает о реальной возможности человеческого разъединения. В голосе автора слышны интонации сожаления по поводу возможности оказаться у разбитого корыта.
Что касается сказок с преобладанием литературной основы, то можем сказать, что несмотря на значительное влияние фольклорного материала, «Сказка о царе Салтане» принадлежит именно к таким сказкам. В этой сказке появляется образ автора-рассказчика, что гораздо усложняет структуру пушкинского текста. Прекрасно владея поэтикой фольклорной сказки, Пушкин сумел выйти за ее пределы, не нарушив при этом сказочные каноны.
Наряду с этим фольклорные типы превращаются у Пушкина в характеры. Пространственно-временные отношения в ней также отличаются от народно-сказочных. Например, в ней встречаются упоминания о конкретном времени. Развитие сюжета во времени часто останавливается при описании природы. Художественное пространство расширено за счет описаний двух мест действия: царства Салтана и острова Буяна. Поэт не только сохраняет, но и моделирует сказочный вымысел, делая его правдоподобным. Прекрасно владея поэтикой фольклорной сказки, Пушкин сумел выйти за ее пределы, не нарушив при этом сказочные каноны.
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» продолжила сказочную линию в творчестве Пушкина. Пролог отличается ярко выраженным психологизмом: молодая царевна, по сути, повторяет судьбу своей матери – верность, любовь, смерть. В сказке наблюдается разветвление сюжета, который отходит от сказочной прямолинейности. Одновременно сюжет сказки Пушкина, насыщенный жизненными подробностями, в финальной части вновь входит в сказочное русло. В целом традиционный фольклорный сюжет значительно переосмысливается автором. Если в «Сказке о царе Салтане» представлена утопическая жизнь счастливых людей, то центральной мыслью «Сказки о мертвой царевне» являются размышления о человеческой морали – о превосходстве внутренней красоты над красотой внешней.
В художественном мире литературной сказки всякий раз актуализируются определенные черты архаики народной сказки. Именно в силу этого обстоятельства литературная сказка, как бы оригинальна она ни была, как бы далеко ни уходила от фольклорных источников, все же обязательно осознается как сказка.
В жанровой системе романтизма литературная сказка занимает одно из центральных мест. С самого начала своего существования она находилась в сложном взаимодействии с давно ставшими традиционными, хорошо освоенными, узнаваемыми литературными жанрами.
Невозможно создать литературную сказку, в которой присутствовал бы только один план – сказочной условности или реальной достоверности. Гармоничный сказочный мир, где всегда торжествует добро и справедливость, – своего рода антитеза дисгармонии окружающего мира.
Движение истории романтики понимали как постоянное воскрешение изначальных смыслов, что и определяло их обращение к «вечному» жанру сказки. В сложные периоды литературная сказка выверяет обострившиеся противоречия действительности первичными представлениями о духовной сущности человека и его месте в мире, которые воплощены в народной сказке.
Аннотация
В работе последовательно рассмотрены основные эстетические принципы романтизма. Также проанализирована взаимосвязь фольклора и романтизма. Особо внимание уделено жанру литературной сказки, в связи с этим были описаны этапы становления литературной сказки, а также выделены жанровые особенности литературной сказки. В практической части исследования проанализирована специфика литературной сказки в творчестве А. С. Пушкина.
Ключевые слова: романтизм, фольклор, жанр, литературная сказка.
Annotation
The paper consistently considers the basic aesthetic principles of romanticism. The interrelation of folklore and romanticism is also analyzed. Particular attention is paid to the genre of literary fairy tales, in this regard, the stages of the formation of a literary tale were described, as well as the genre features of a literary fairy tale. In the practical part of the study analyzed the specifics of the literary tale in the works of A.S. Pushkin.
Keywords: romanticism, folklore, genre, literary fairy tale.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
- Азадовский М.К. История русской фольклористики / М.К. Азадовский – М.: Учпедгиз, 1958. – 477 с.
- Азадовский М.К. Статьи о литературе и фольклоре / М.К. Азадовский – М.-Л.: Гослитиздат, 1960. – 547 с.
- Аксаков К.С. О сказке // Собр. соч.: В 3-х т. / К.С. Аксаков – М.: Художественная литература, 1986. – Т. 3. – С. 198-216.
- Аникин В.П. Вечнозеленая ветвь: О поэтических источниках писательской сказки / В.П. Аникин // Литература в школе. – 1970. – № 4. – С.3-4.
- Аникин В.П. Русская народная сказка / В.П. Аникин – М.: Художественная литература, 1984. – 176 с.
- Аникин В.П. Русские писатели и сказка / В.П. Аникин // Сказки русских писателей. – М.: Художественная литература, 1985. – С. 3-25.
- Бахтина В.А. Время в волшебной сказке / В.А.Бахтина // Проблемы фольклора. – М.: Художественная литература, 1975. – С. 42-49.
- Бахтина В.А. Литературная сказка в научном осмыслении последнего двадцатилетия / В.А.Бахтина // Фольклор народов РСФСР. – Уфа: Изд. Башкирского ун-та, 1979. – С.56-69.
- Белецкий А.И. Избранные труды по теории литературы / А.И.Белецкий – М.: Просвещение, 1964. – 478 с.
- Белинский В.Г. Сказки: о царе Салтане, о мертвой царевне и о семи богатырях, о рыбаке и рыбке, о купце Остолопове и работнике его Балде // Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В 13 тт. – М.: АН СССР, 1955. – Т. 7. – С. 576-592.
- Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья вторая // Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В 13 тт. – М.: АН СССР, 1955. – Т.7. – С. 141-222.
- Белинский В.Г. О народной сказке // Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В 13 тт. – М.: АН СССР, 1954. – Т. 5. – С. 660-689.
- Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. / Н.Я. Берковский – М.: Художественная литература, 1973. – 567 с.
- Благой Д.Д. Творческий путь Пушкина (1813-1826) / Д.Д.Благой – М.-Л.: АН СССР, 1950. – 578 с.
- Бонди С. Черновики Пушкина. Статьи 1930-1970 гг. 2-е изд / С.Бонди – М.: Просвещение, 1978. – 231 с.
- Брауде Л.Ю. К истории понятия «литературная сказка»/Л.Ю.Брауде // Известия АН СССР. Серия языка и литературы. – Т. 36. – 1977. – № 3. – С. 226-234.
- Ванслов В.В. Эстетика романтизма. / В.В.Ванслов – М.: Искусство, 1966. – 403 с.
- Веселовский А.Н. Историческая поэтика /А.Н.Веселовский – М.: Высшая школа, 1989. – 404 с.
- Виноградов В.В. О языке художественной литературы / В.В.Виноградов – М.: Гослитиздат, 1959. – 655 с.
- Виноградов В.В. Стиль Пушкина / В.В.Виноградов – М.: Учпедгиз, 1944. – 540 с.
- Волков И.Ф. Творческие методы и художественные системы /И.Ф.Волков – М.: Искусство, 1978. – 263 с.
- Волков И.Ф. Теория литературы: Учебное пособие для студентов и преподавателей. /И.Ф.Волков – М.: Просвещение-Владос, 1995. – 255 с.
- Герасимова Н.М. Пространственно-временные формы волшебной сказки /Н.М.Герасимова // Русский фольклор. – Л.: АН СССР, 1978. – Т.18. – С. 34-48.
- Гинзбург Л.Я. О литературном герое / Л.Я.Гинзбург – Л.: Советский писатель, 1979. – 223 с.
- Гримм В., Гримм Я. Сказки для детского и домашнего чтения / В. Гримм, Я. Гримм– М.: Художественная литература. – 280 с.
- Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики /Г.А.Гуковский – М.: Художественная литература, 1965. – 366 с.
- Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры /А.Я.Гуревич – М.: Искусство, 1972. – 367 с.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М., 1956. – Т.1.
- Дьяконова Н.А. Английский романтизм: Проблемы эстетики /Н.А.Дьяконова – М.: Наука, 1978. – 207 с.
- Елистратова А. К проблеме соотношения романтизма и реализма / А.Елистратова – М.: Изд. АН СССР, 1957. – 20 с.
- Еремеев С.Н. Русская литературная сказка первой половины XIX века: структурно-повествовательный аспект: автореферат диссертации на соискание научного степени кандидата филологических наук /С.Н.Еремеев – Тамбов, 2002. – 16 с.
- Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. /В.М.Жирмунский – Л.: Наука, 1978. – 423 с.
- Жирмунский В.М. К вопросу о международных сказочных сюжетах // Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение: Восток и Запад. – Л.: Наука, 1979. – С.145-167.
- Зуева Т.В. Сказки А.С.Пушкина: Книга для учителя /Т.В.Зуева – М.: Просвещение, 1989. – 159 с.
- История романтизма в русской литературе: Возникновение и утверждение романтизма в русской литературе (1770-1825). – М.: Наука, 1979. – 325 с.
- Калашникова О.Л. Русский роман 1760-1770-х годов: Учебное пособие /О.Л.Калашникова – Днепропетровск, 1991. – 160 с.
- Краткая литературная энциклопедия: В 9-и т. – М.: Энциклопедия, 1971. – Т.6. – С. 881-882.
- Курилов А.С. Классицизм, романтизм и сентиментализм (К вопросу о концепциях и хронологии литературно-художественного разви-тия) /А.С.Курилов // Филологические науки. – 2001. – № 6. – С.41-49.
- Лейдерман Н.Л. Жанровые системы литературных направлений и течений /Н.Л.Лейдерман // Вопросы жанра и стиля в советской литературе: Сборник научных статей. – Волгоград, 1985. – С.4-17.
- Лейдерман Н.Л. О теоретических принципах изучения историко-литературного процесса /Н.Л.Лейдерман // Проблемы типологии литературного процесса: Сборник научных трудов. – Пермь, 1980. – С.5-23.
- Липовецкий М.Н. В некотором царстве… / М.Н.Липовецкий // Литературное обозрение. – 1984. – № 11. – С.17-24.
- Липовецкий М.Н. Поэтика литературной сказки / М.Н.Липовецкий – Свердловск, 1992. – 190 с.
- Литературная теория немецкого романтизма. Документы / Под ред. Н.Я.Берковского. – Л.: Гослитиздат, 1934. – 320 с.
- Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. и сост. А.Н.Николюкин. – М., 2001. – 1100 с.
- Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы // Избр. работы: В 3 т. / Д.С. Лихачев – Л.: Художественная литература, 1987.
- Лихачев Д.С. Развитие литературы в X-XVIII вв.: Эпохи и стили./Д.С.Дихачев – Л.: Наука, 1973. – 254 с.
- Лосев А. Философия. Мифология. Культура / А.Ф.Лосев – М.: Наука, 1991. – 450 с.
- Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт, традиции русского дворянства (ХVIII- начало ХХ века) /Ю.М.Лотман – СПб: Искусство, 1994. – 880 с.
- Лотман Ю.М. В школе поэтического мастерства: Пушкин, Лермонтов, Гоголь: Книга для учителя /Ю.М.Лотман – М.: Просвещение, 1988. – 350 с.
- Лотман Ю.М. К структуре диалогического текста в поэмах Пушкина. (Проблема авторских примечаний к тексту) // Пушкин / Ю.М. Лотман. – СПб: Искусство, 1995. – С. 228-236.
- Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии: Анализ поэтического текста. Статьи и исследования. Заметки. Рецензии. Выступления. /Ю.М.Лотман – СПб: Искусство, 1986. – 848 с.
- Лотман Ю.М. О русской литературе: Статьи и исследования (1958-1993). /Ю.М.Лотман – СПб: Искусство, 1997. – 845 с.
- Лупанова И.П. О фольклорных истоках женских образов в „Сказках” А.С.Пушкина /И.П.Лупанова // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. – 1958. – № 3. – С.120-129.
- Лупанова И.П. Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины ХIХ века /И.П.Лупанова – Петрозаводск: Госиздат Карельской АССР, 1959. – 504 с.
- Лупанова И.П. Современная литературная сказка и ее критики: Заметки фольклориста. /И.П.Лупанова – Петрозаводск: Госиздат карельской АССР, 1981. – 180 с.
- Маймин Е.А. О русском романтизме /Е.А.Маймин – М.: Наука, 1975. – 178 с.
- Макогоненко Г.П. «Сказка о рыбаке и рыбке» и вопросы ее интерпретации /Г.П.Макогоненко // Болдинские чтения. – Горький/Нижний Новгород,1981. – С.22-31.
- Макогоненко Г.П. Творчество Пушкина в 30-е годы (1833-1836) /Г.П.Макогоненко – Л.: Художественная литература, 1982. – 463 с.
- Манн Ю.В. Поэтика русского романтизма /Ю.В. Манн – М.: Наука, 1976. – 375 с.
- Маркович В.М. Тема искусства в прозе эпохи романтизма /В.М.Маркович // Искусство и художник в русской прозе первой половины ХIХ века. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. – С. 5-42.
- Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки: Происхождение образа./Е.М.Мелетинский –М.: Наука, 1958. – 263 с.
- Мелетинский Е.М. Структурно-типологическое изучение сказки // Пропп В.Я. Русская сказка: Собрание трудов. – М.: Лабиринт, 2000. – С. 437-465.
- Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, стили /Д.С.Наливайко – К.: Мистецтво, 1985. – 320 с.
- Наливайко Д.С. Романтизм как эстетическая система /Д.С.Наливайко // Вопросы литературы. – 1982. – № 11. – С. 156-195.
- Непомнящий В.С. Заметки о сказках Пушкина/В.С.Непомнящий // Вопросы литературы. – 1972. – № 3. – С. 130-137.
- Поддубная Р.Н. О жанровой поэтике сказок А.С.Пушкина (к вопросу о соотношении фольклорной и литературной сказки в творчестве писателя)/Р.Н.Поддубная// Вопросы русской литературы. Вып. 2(48). – Львов, 1986. – С.24-30.
- Померанцева Э.В. Писатели и сказочники / Э.В.Померанцева – М.: Художественная литература, 1988. – 357 с.
- Померанцева Э.В. Русская народная сказка / Э.В.Померанцева – М.: АН СССР, 1963. – 127 с.
- Пропп В.Я. Морфология сказки. Исторические корни волшебной сказки /В.Я.Пропп – М.: Лабиринт, 1998. – 520 с.
- Пропп В.Я. Поэтика фольклора /В.Я.Пропп – М.: Лабиринт, 1998. – 445 с.
- Пропп В.Я. Русская сказка: Собрание трудов /В.Я.Пропп – М.: Лабиринт, 2000. – 512 с.
- Пропп В.Я. Фольклор и действительность /В.Я.Пропп – М.: Наука, 1976. – 325 с
- Пушкин А.С. Записи сказок // Полн. собр. соч.: в 10 тт. – Изд. 4-е / А. С Пушкин. – Л.: Наука, 1977. – Т. 3. – С.407-416.
- Пушкин А.С. Сказка о Медведихе // Полн. собр. соч.: в 10 тт. Изд.4-е А.С Пушкин. – Л.: Наука, 1977. – Т. 4. – С.310-312.
- Пушкин А.С. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях // Полн. собр. соч.: в 10 тт. – Изд. 4-е / А.С Пушкин. – Т. 4. – С. 344-357.
- Пушкин А.С. Сказка о попе и работнике его Балде // Полн. собр. соч.: в 10 тт. – Изд. 4-е / А.С Пушкин. – Л.: Наука, 1977. – Т.4. – С. 305-309.
- Пушкин А.С. Сказка о рыбаке и рыбке // Полн. собр. соч.: в 10 тт. – Изд. 4-е / А.С Пушкин. – Л.: Наука, 1977. – Т. 4. – С.338-343.
- Пушкин А.С. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди // Полн. собр. соч.: в 10 тт. – Изд. 4-е / А.С Пушкин. – Л.: Наука, 1977. – Т 4. – С. 313-337.
- Слонимский Л. Мастерство Пушкина / Л.Слонимский – М.: ГИХЛ, 1959. – 513 с.
- Стенник Ю.В. Система жанров в историко-литературном процессе /Ю.В.Стенник // Историко-литературный процесс. – Л.: Наука, 1974. – С. 27-38.
- Тертерян И. Романтизм как целостное явление /И.Тертерян // Вопросы литературы. – 1983. – № 4. – С. 38-56.
- Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра/ О.М. Фрейденберг – М.: Лабиринт МП, 1997. – 448 с.
- Хализев В.Е. Теория литературы /В.Е.Хализев – М.: Высшая школа, 1999. – 398 с.
- Чернец Л.. Литературные жанры (Проблема типологии и поэтики)/ Л.В.Чернец – М.: Наука, 1982. – 190 с.
- Шеллинг Ф. Философия искусства /Ф.Шеллинг– М., 1996. – 340 с.
- Шустов М.П. Сказочная традиция в русской литературе ХIХ века /М.П.Шустов – Нижний Новгород, 2000. – 243 с.
- Ярмиш Ю.Ф. У світі казки. /Ю.Ф.Ярмиш – К.: Радянський письменник, 1975. – 185 с.