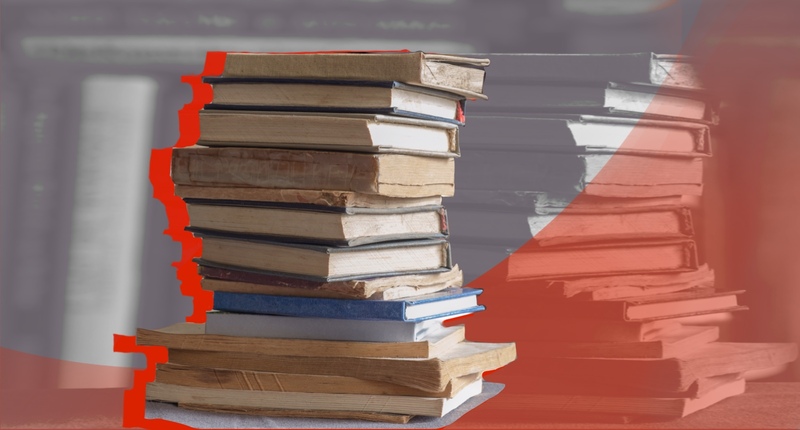1
Лиханов «»Музыка» главная мысль какая? Чему учит книга?
Альберт Лиханов Музыка
Основная мысль
Проблема и проблематика
Что хотел сказать автор?
1 ответ:
4
0
Главный герой вспоминает, как, будучи еще мальчиком, он учился музыке. В музыкальную школу его не приняли из-за отсутствия слуха, а бабушка и мама очень хотели, чтобы Коля стал музыкантом. Поэтому они решили развивать у него слух и отдали заниматься к родственнице, игравшей в оркестре кинотеатра.
У Коли мало что получалось: со слухом действительно были проблемы. И вот однажды, когда обучающая его Зинаида Ивановна вздохнула по поводу бесталанности ученика, что-то вдруг вскипело в нем и он сыграл упражнение без ошибок. Она показала новое… и его сыграл, еще одно — и его! И вот так это воодушевило Кольку, что, когда в очередной раз встретился ему враг Юрка, он наконец-то не прошел с опаской мимо, а ударил Юрку.
Основная мысль произведения — победа над самим собой дается не сразу, но если ты смог что-то в себе преодолеть, то сможешь еще и еще раз.
Но это не единственная мысль автора. Я думаю, что он хотел сказать также: не надо заставлять маленького человека делать что-то, что ему не по душе. Хорошая фраза есть в книге о том, что не мы выбираем музыку, а она нас. И выбирает не каждого!
Читайте также
Сказка учит уважать природу. Учит фантазировать и предаваться мечтам. Учит тому, что в любой стране есть собственная красота, но лучше родимой земли нет ничего. Учит уважать свою Отчизну. Мне понравилась эта сказка, и в особенности девочка Аленушка, какая хотела стать царицей, однако не знала, что она и так царица. Главный смысл сказки «Пора спать» заключается в том, что сон чрезвычайно важен для маленьких детей. Сказка учит уважительно относиться ко сну и своевременно ложиться спать.
К.Паустовский рассказ «Собрание чудес» написан от лица автора. Главные герои рассказа мальчишки Ленька и Ванька, два разных по характеру мальчика. Ленька все разговоры сводил на деньги, он не думает о последствиях, им руководит жажда наживы. Ванька не любит и не уважает Леньку, мальчик боится, что такие люди как Ленька погубят его любимый лес, вырубят все деревья и не пожалеют даже молоденькой березки. Мальчики подрались и Ленька ушел обратно в деревню.
По дороге автор и мальчики заходят к Василию Лялину, старожилу тех мест, старик обладает благородной внешностью и любит свой край, знает историю села, каждую тропинку, каждый кустик.
Главная мысль рассказа «Собрание чудес» учит ценить окружающий мир, видеть красоту природы, беречь и чаще бывать на природе. Рассказ учит умению видеть живую красоту рядом.
Геннадий Трофимович Черненко — популяризатор науки. В книге «Путешествие в страну роботов» он в увлекательной и доступной форме рассказывает об истории автоматических устройств, которые могут не только управлять самолётами и космическими аппаратами, но умеют играть в шахматы, понимать человеческую речь и даже играть на музыкальных инструментах.
Конечно, такая книга не сможет оставить равнодушными мальчишек, интересующихся роботами и их устройством.
Главная мысль: показать, что роботы помогают людям облегчить их деятельность в трудоёмких технологических процессах; за роботами — будущее.
Книга учит быть любознательным, пробуждает интерес к автоматическим устройствам.
В сказке Мамина-Сибиряка «Сказка про славного царя Гороха» мы наблюдаем за действиями главных персонажей и убеждаемся в том, что многое в жизни зависит от характеров героев.
Царь Горох когда-то был добрым и веселым человеком и все жители царства пребывали в благоденствии. Но властелин со временем стал злым, жадным и подозрительным, и это повлияло на жизнь членов его семьи, а государство погрузилось в хаос.
Так, жадность Гороха привела к тому, что царь Косарь озлобился и развязал войну с его царством, а дочь Кутафья была заточена в башне. Вскоре в государстве начался голод, а люди стали роптать.
В то же время мы видим добрую и самоотверженную Горошинку, маленькую дочь царя Гороха, которая спасает отца и всю семью от верной гибели. Горошинка помогает сестре Кутафье покинуть башню и вскоре она выходит замуж за Косаря.
Добрая Горошинка была в конце сказки вознаграждена за все обиды и унижения, которые она претерпела от своей семьи и посторонних людей. Она приобретает нормальный рост и становится красавицей — колдовские чары рассеиваются. А дальше она выходит замуж за витязя Красика и живет с ним долгие годы в согласии.
Главная мысль сказки заключается в том, что злоба, неуемная жадность и жестокость вызывают ответное зло. А если к людям проявлять любовь, внимание и заботу, то вас непременно оценят и ответят вам тем же.
Сказка учит нас быть дружелюбными и честными, выручать близких из беды и не жадничать. Мы видим, что только добрый человек может быть счастливым, а злой непременно потерпит поражение. Добро всегда побеждает зло.
На протяжении всей сказки очень много поучительных моментов, что и является главной её мыслью:
Первое — это прислушиваться к советам старших, как это сделал солдат, выслушав старуху.
Второе — это следовать советам, это как солдат выполнил все приказания старухи.
Третье — это проявлять смекалку и смелость, это мы видим в том, как солдат не растерялся, а последовал за принцессами вслед, и в доказательство сообразил взять кубок.
Четвертое — это значит: раз дал слово, значит его держи, в доказательство этого мы видим, что король сдержал слово и выдал замуж свою дочь за простого солдата. В придачу ещё и завещал ему правление государством после своей смерти.
1828 — 1910
Рассказ отражает глубокое разочарование автора в устройстве общества, желание изменить его ценности, сделав главным ориентиром человека, а не сословную принадлежность.
Рассказ «После бала» был написан в 1903 году на основе жизненной истории родного брата писателя, С.Н. Толстого.
Жанр – рассказ (род литературы – эпос);
Направление – реализм;
Основная идея – человека определяет не только среда, но и внутренняя нравственность;
Тема и проблема – социальное бесправие низших сословий, двуличие аристократии;
Композиция – «рассказ в рассказе», состоит из 4 частей: спор в гостиной, сцена бала, сцена наказания и короткое заключение.
п.1. Тематика и проблематика
Тема бесправного положения более низких сословий выражается в сценах наказания беглого солдата-татарина под руководством полковника. Наказание слишком жестокое, оно несопоставимо с совершенным нарушением. Солдата прогоняют через 2 шеренги сослуживцев, которые должны его бить и не могут отказаться от участия в экзекуции. Человека при этом забивают до смерти.
В царской России времен правления Николая I (в 40-х годах 19 века) это считалось обыденной практикой, даже сами солдаты порой были уверены, что «это по закону, по суду».
Подробнее об этом – в статье Л. Н. Толстого «Николай Палкин», 1887 г.
Проблема: Слабые стороны социального устройства не пытались изменить, а ужесточили порядки в отношении низших сословий, чтобы держать их в подчинении и страхе.
Тема двуличия высших слоев общества раскрывается через двойственный образ полковника, его поведение построено на контрасте.
- На балу он является образцовым членом общества: блестящий военный, отдавший службе Родине много лет; примерный семьянин и отец, который отказывает себе ради того, чтобы дать дочери лучшее. Он производит благоприятное впечатление в аристократической среде, среди «своих»: мы видим его учтивость, легкий и добрый нрав.
- В сцене наказания солдата возникает другой образ полковника. Его жестокость проявляется в том, что он лично командует экзекуцией и следит, чтобы никто не смел проявить жалость к провинившемуся. Для него естественно относиться к солдатам как к ресурсам, которые можно расходовать. Солдаты не заслуживают гуманного отношения, оно только для людей высокого сословия.
Проблема: то, что Иван Васильевич видит как двуличие, является нормальным для полковника. Автор акцентирует внимание: нормы общества могут быть несправедливыми и бесчеловечными, но при этом законными.
Разочарование в религии показано косвенно, прямо автор этого не говорит. Достаточно сопоставить даты событий, чтобы увидеть символизм и критику. Бал происходит в последний день Масленицы, а значит расправа над солдатом – в первый день Великого поста, Чистый понедельник. Это день особого благочестия и духовного очищения, что не вяжется со сценой экзекуции. Немаловажно, что наказание обрушивается на солдата мусульманской веры.
Проблема: справедливости нет ни в светском устройстве государства, ни в духовном, людей низшего сословия ничто не может защитить. Церковь молчит, когда государство карает.
п.2. Идея и пафос рассказа
Человек способен преодолеть влияние среды и увидеть социальную несправедливость, даже если она не коснулась его напрямую. Бесчеловечность и жесткость всегда отзовутся в душе нравственного совестливого человека отвращением, а найти оправдание увиденной сцене наказания не получится.
Можно жить в аристократической среде, но уметь видеть человека в каждом, а не только среди представителей своего сословия. Иван Васильевич доносит до читателей убеждения самого писателя, великого гуманиста и правозащитника.
п.3. Основные герои
- Иван Васильевич, вспоминающий события молодости
- Полковник, отец Вареньки, в которую влюблен Иван
Конфликт произведения завязан на этих героях, остальные персонажи дополняют сюжет. Образы юной беззаботной красавицы Вареньки и измученного солдата подчеркнуто контрастны.
п.4. Литературные приёмы
Говорящее название «После бала» показывает, что изменения в состоянии героя наступили именно после памятного утра.
Антитеза – прием противопоставления сцен бала и казни.
Контраст выражается с помощью образов и детальных описаний, это видно даже по сопоставлению лексики.
Бал: Варенька, любовь, танцы, эйфория, душевный подъём, красота человеческих отношений, улыбка, грация, красноречивые взгляды, яркие краски, сочувствие, нежность, красивая музыка.
Наказание: ужас, тоска, отвращение, визгливая страшная музыка, красная спина татарина, тело человека — пестрое, мокрое, красное, неестественное, шпицрутены, полковник грозный и хмурый, солдат всхлипывает, молит о пощаде.
Портрет помогает проникнуть во внутренний мир героев: внешность, мимика, жесты, манера держаться создают наполненный образ.
Самые яркие портреты в рассказе — Вареньки, полковника и беглого солдата – усиливают контраст.
Образ полковника рушится, когда он проявляет зверскую жестокость к подчиненному.
п.5. Конфликт произведения
Конфликт в рассказе — внутренний, герой переживает его один на один. Представление Ивана Васильевича об обществе сталкивается с жестокими реалиями: неравенством, жестокостью, бесправием низших сословий. Это ведет к разочарованию и непониманию, как можно изменить существующий порядок.
Молчаливый протест героя выражается так: он оставил мысли о любой службе (не только военной) и «никуда не годился», сохранив до зрелых лет убеждение, что увидел в то утро социальную аномалию.
Готовимся к контрольной работе по литературе (18.05.21)
А1. Фольклор – это:
1) устное народное творчество
2) художественная литература 3) жанр
литературы
4) жанр устного народного творчества.
Сюжет – это …
1) основное
содержание произведения 2)
последовательность событий и действий 3) то, что хотел сказать авто
А2. Назовите основные роды литературы:
1) эпос, повесть, драма 2) эпос, лирика, драма 3) роман, поэма, комедия
4) эпос, лирика, трагедия
Действующее лицо художественного
произведения называется:
1)
образом 2) персонажем 3)
типом
А3. Исторические песни — это:
1) авторские песни 2) народные песни, в которых рассказывается о
жизненных историях
3) народные песни, в которых рассказывается об
исторических событиях
Композиция — это:
1) последовательность
событий и действий 2) движение произведения от завязки до развязки
3)
последовательность частей и элементов произведения
А4. Житие – это описание:
1) жизни народного героя 2)
жизни исторического деятеля
3) жизни человека, причисленного к лику святых 4) рассказы о жизни Иисуса Христа
Назовите основные роды литературы:
1) эпос, повесть, драма 2) роман, поэма, комедия 3) эпос,
лирика, трагедия
4) эпос, лирика, драма
А5. «Повесть о Шемякином суде»:
1) это произведение фольклора
2) это произведение древнерусской литературы
3) это произведение современной литературы
Какой из жанров литературы нельзя
отнести к фольклорному?
1) сказка 2) былина
3) народная песня 4)
поэма
А6. К какому жанру литературы
относится произведение «Мцыри»?
1) баллада 2) мемуары
3) поэма – исповедь
Определите жанр произведения А.С. Пушкина «Капитанская дочка»:
1) роман
2) семейно-бытовая хроника 3) историческая повесть 4) мемуары
А7. Где происходит действие пьесы А.Н.
Островского «Снегурочка»?
1) в
северном поселке 2) в царстве
берендеев 3) в
южном городе Ярило
В чьи уста А.С. Пушкин вкладывает пословицу, ставшую
эпиграфом ко всей повести: «Береги честь смолоду»?
1) Савельича
2) Отца Петруши, Андрея
Петровича Гринева 3) Петра
Гринева
А8. Назовите главных героев пьесы А.Н.
Островского «Снегурочка». _______________________
_____________________________________________________________________
Какова основная проблематика произведения «Капитанская дочка»:
1)
проблема любви 2) проблема чести, долга
и милосердия 3) проблема роли народа в
истории
А9. Определите средства выразительности
(подчеркнутые) в следующих поэтических строчках.
|
1) Три |
А.эпитет |
|
2) Отдай разбойную красу… |
Б.метонимия |
|
3) Обломав Погрузился на понтоны Первый |
В.сравнение |
Ответ: 1)______2)______3)_______
Определите средства выразительности
(подчеркнутые) в следующих поэтических строчках.
|
1.Бьётся в тесной На поленьях смола, как слеза… |
А.олицетворение |
|
2.Про тебя мне шептали В белоснежных полях |
Б.сравнение |
|
3. А это я на полустанке В своей замурзанной ушанке… |
В.эпитет |
А10. По характеристике определите героя. Назовите автора,
произведение и героя.
Герой — профессор медицины. Практикуем модное в начале 20 века омолаживание человека. Он известен своими
трудами и за границей. Днем он принимает пациентов, а вечером берется за
изучение медицинской литературы. Профессор предстает перед нами как воплощение
образованности и высокой культуры. По убеждениям это сторонник старых
дореволюционных взглядов. _________________________________________________________________________
По характеристике определите
героя. Назовите автора, произведение и героя.
Помощник профессора медицины, с которым он
любит болтать на разные скользкие темы. Типичный интеллигент, которому
советская власть не успела создать условия, не позволяющие в полной мере
раскрывать и реализовать свой талант.
А11. «Капитанская дочка» Пушкина описывает крестьянское восстание: 1) Степана Разина 2) Емельяна Пугачева 3) Кондратия Булавина 4) Ивана
Болотникова
О чем говорит Мцыри «За эти
несколько минут…Я б рай и вечность променял…» (за что променял бы)?
1) за время встречи с грузинкой 2) за ночь бегства из монастыря 3)
за возможность попасть на родину
А12. Как зовут главного героя «Капитанской
дочки»:
1) Зурин
2) Швабрин 3) Савельич
4) Гринев
Хлестаковщина – это…
1) стремление выдать себя за персону
более важную и значимую, чем это есть на самом деле
2) стремление
модно одеваться 3) погоня за чинами
А13. О
каком герое идёт речь: «Итак, все мои
надежды рушились! Вместо весёлой петербуржской жизни ожидала меня гарнизонная
скука в стороне глухой и отдалённой…»
____________________________________________
Кто из героев произведения Гоголя
«Ревизор» говорит:
1) «Человек простой: если умрёт, так
умрёт; если выздоровеет, то и так выздоровеет»
2) «Чёрт
побери, есть так хочется, и в животе трескотня такая, как будто бы целый полк
затрубил в трубы»
3) «Один раз
меня приняли даже за главнокомандующего. Солдаты выскочили из гауптвахты и
сделали ружьём».
А14. Кто из героев резко переменил свою жизнь,
отказался от всякой карьеры, особенно военной, и посвятил свои силы тому, чтобы помогать другим
людям? Назовите автора, произведение, героя.___________________________________________________________________
Кто из героев был босяком, заядлым
пьяницей и ловким, смелым вором, не дорожил деньгами, помог одному деревенскому
пареньку, чуть не поплатился за это жизнью?
А15. Кто из
героев произведения Гоголя «Ревизор» описан?
1) «Уже постаревший на службе и
очень неглупый по-своему человек. Хотя и
взяточник, но ведёт себя очень солидно»
2) «Человек, прочитавший пять или
шесть книг. Берёт взятки борзыми щенками. В Бога не верует, в церковь не
ходит»
3) «Один из тех людей, которых
называют пустейшими. Говорит и действует без всякого соображения»
Каков основной композиционный прием
в рассказе Толстого «После бала»?
1) антитеза 2)
преувеличение 3)
сопоставление
А16. Кто не является действующим лицом пьесы
«Ревизор»:
1) городничий 2) Скотинин 3) Ляпкин-Тяпкин 4) Земляника
Чем в поэме «Василий Теркин» является постоянно
повторяющееся слова «переправа»?
1)
сравнением 2)
рефреном 3)
средством рифмовки
А17. Как
заканчивается пьеса «Ревизор»?
1) приезд настоящего ревизора
2) немая сцена 3) свадьбой
дочки городничего и Хлестакова 4)
отставкой городничего.
Дочерью кого является Снегурочка из одноименной пьесы
А.Н. Островского?
А18. Соотнесите авторов
произведений из 1 столбика с названиями произведений из 2 столбика и с героями
произведений из 3 столбика.
|
Авторы произведений |
Названия произведений |
Герои произведений |
|
1. |
1. |
1. |
|
2. |
2. |
2. |
|
3. |
3. |
3. |
|
4. |
4. |
4. |
|
5. |
5. |
5. |
|
6. Ж.-Б. |
6. |
6. |
|
7. |
7. |
7. |
|
8. |
8. |
8. |
|
9. |
9. |
9. |
|
10.А.Т. |
10. |
10. |
Ответ:
1.______2.______3.______4._______5._______6._______7.________8.________9.________10.________
Соотнесите
авторов произведений из 1 столбика с названиями произведений из 2 столбика и с
героями произведений из 3 столбика.
|
Авторы произведений |
Названия произведений |
Герои произведений |
|
1. |
1. |
1. |
|
2. |
2. |
2. |
|
3. |
3. |
3. |
|
4. |
4. |
4. |
|
5. |
5. |
5. |
|
6. |
6. |
6. |
|
7. |
7. |
7. |
|
8. |
8. |
8. |
|
9. |
9. |
9. |
|
10. |
10. |
10. |
В1. Дать развернутый ответ на
вопрос (от 10 предложений): Какой герой русской
литературы нравится больше всего и
почему?
4 четверть
Готовимся к итоговой работе, которая состоится 26 апреля.
1.Какой
из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному?
А) сказка; Б) былина; В) народная песня; Г) поэма
2.Какой
из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному?
А) повесть; Б) пословица; В) народная песня; Г) частушка
3. Что такое басня?
Выберите правильный ответ.
А) небольшой рассказ Б) короткий нравоучительный рассказ
В) короткий нравоучительный рассказ в стихах или прозе с
четко сформулированной моралью
Г) сатирический рассказ
4. Что такое
иносказание? Выберите правильный ответ.
А) переносный смысл
Б) иначе аллегория, скрытое упоминание каких-либо фактов или событий
В) образное определение Г) выразительное средство звучащей речи
5. Соотнесите автора
и его произведение:
|
1.А.А. Бестужев — Марлинский |
А) «Мгновение» |
|
2. В.М. Гаршин |
Б) «Двое в декабре» |
|
3.В.Г. Короленко |
В) «Ранние журавли» |
|
4. В.А. Каверин |
Г) «Сигнал» |
|
5. Ю.П. Казаков |
Д) «Вечер на бивуаке» |
|
6. Ч. Айтматов |
Е) «Рейс «Ласточки» |
|
7. В. Богомолов |
Ж) «Два капитана» |
6. Соотнесите автора
и его произведение:
|
1. Распутин В.Г. |
А) «Крохотки» |
|
2. В. Быков |
Б) «То, чего не было» |
|
3.А.И. Солженицын |
В) «Обелиск» |
|
4. В.М. Гаршин |
Г) «Ранние журавли» |
|
5. Ч. Айтматов |
Д) «Мгновение» |
|
6. В.Г. Короленко |
Е) «Два капитана» |
|
7. В.А. Каверин |
Ж) «Женский разговор» |
7. Прочитайте
аннотацию. Назовите автора и произведение.
Повествование о нелегком жизненном пути главного героя,
поставившего себе целью восстановить справедливость, несмотря на трудности, обман
и измену. «Бороться и искать,
найти и не сдаваться!» — вот кредо Ивана Татаринова и Александра Григорьева,
никогда не встречавшихся, но во многом похожих.
8. Прочитайте
аннотацию. Назовите автора и произведение.
Безымянный герой повести приезжает на порохоны Миклашевича, коммуниста и хорошего учителя.
Здесь он знакомится с Ткачуком, который рассказывает ему историю об учителе и
его учениках, среди которых был и Миклашевич. Это случилось в годы войны, когда
Белоруссия была оккупирована войсками вермахта. Учитель пожертвовал жизнью ради
своих учеников, но нет его имени на памятнике, хотя его постоянно кто-то
дописывает. Интересная и грустная история об отваге, доблести и чести людей,
подвиги которых несправедливо забыли.
9. Идея произведения — это:
а) то,
что хотел сказать автор;
б)
нравственный «урок» произведения;
в)
главная обобщающая мысль произведения.
10. Композиция — это:
а)
последовательность событий и действий;
б)
движение произведения от завязки до развязки;
в)
последовательность частей и элементов произведения.
11. Тема произведения — это:
А)
главная идея;
Б) объект
отражения;
В)
конкретная описанная ситуация.
12. Описание автором собственной жизни
называется …
А)
жизнеописанием;
Б)
автобиографией;
В)
портретом.
13. Прочитайте
произведение А.Солженицына «Шарик» и ответьте на вопросы. Ответы должны быть
ПОЛНЫМИ.
Во
дворе у нас один мальчик держит пёсика Шарика на цепи, — кутёнком его посадил,
с детства.
Понёс
я ему однажды куриные кости, ещё тёплые, пахучие, а тут как раз мальчик спустил
беднягу побегать по двору. Снег во дворе пушистый, обильный. Шарик мечется
прыжками, как заяц, то на задние ноги, то на передние, из угла в угол двора, из
угла в угол, и морда в снегу.
Подбежал
ко мне, лохматый, меня опрыгал, кости понюхал — и прочь опять, брюхом по снегу!
Не
надо мне, мол, ваших костей, — дайте только свободу!
А) Какую тему затронул писатель в рассказе?
Б)
В чем заключается главная мысль рассказа
Александра Солженицына «Шарик»?
В)
Почему рассказ заканчивается риторическим восклицанием?
Г) Над чем заставил задуматься данный
рассказ?
14. Прочитайте
произведение А.Солженицына «Костер и муравьи» и ответьте на вопросы. Ответы
должны быть ПОЛНЫМИ.
Я бросил в костёр гнилое брёвнышко,
недосмотрел, что изнутри оно густо населено муравьями.
Затрещало бревно, вывалили муравьи
и в отчаянье забегали, забегали поверху и корёжились, сгорая в пламени. Я
зацепил брёвнышко и откатил его на край. Теперь муравьи многие спасались –
бежали на песок, на сосновые иглы. Но странно: они не убегали от костра. Едва
преодолев свой ужас, они заворачивали, кружились, и – какая-то сила влекла их назад, к
покинутой родине! – и были многие такие, кто опять взбегали на горящее
брёвнышко, метались по нему и погибали там…
А) Какую тему затронул писатель в рассказе?
Б)
В чем заключается главная мысль рассказа
Александра Солженицын «Костер и
муравьи»?
В) Почему рассказ заканчивается
многоточием?
Г) Над чем заставил задуматься данный
рассказ?
3 четверть
28 февраля или 1 марта состоится урок по произведению Ю. Казакова «Двое в декабре»
Домашнее задание после урока для 8а и 8б на 7 марта:
Творческие задания.
1.Представьте себя на месте героя или героини и продолжите “страницу из дневника”.
2.Напишите от лица героя или героини “неотправленное письмо”.
3.Напишите продолжение рассказа.
4.Нарисуйте серию иллюстраций к рассказу.
5.Попробуйте нарисовать “кривую эмоционального восприятия” рассказа (можно в цвете, символах).
6.Постарайтесь подобрать “метафоры” к названию рассказа и оформить их как в прозе, так и в стихотворной форме.
3 четверть
Прочитать произведение В. Быкова «Обелиск» и ответить на вопросы (ответы должны быть полными). Работы сдать до 13 марта 2021 года.
1. Какие проблемы поднимает автор в повести «Обелиск»?
2. Где и когда происходят главные события?
3. Каким человеком показан учитель Алесь Мороз?
4. Почему в первые месяцы оккупации он не оставил школы и даже получил разрешение у немцев и продолжал учить детей?
5. Что сделали ученики Мороза? Как оцениваете их поступок? Можно ли его назвать подвигом?
6. Почему учитель решил разделить страшную участь своих учеников?
7. О чем заставляет нас задуматься повесть «Обелиск»? Какие идеалы утверждает автор этой повестью?
Домашнее задание на 18 марта!!!
Создать презентацию по сборнику А. Солженицына «Крохотки»
Что надо отразить в презентации?
1. История создания сборника.
2. Темы, на которые пишет автор тот или иной рассказ.
3. Проблемы, которые поднимает автор в рассказах.
4. Прочитать 5 — 6 рассказов (написать, какие рассказы прочитал: Я познакомился со следующими рассказами из сборника…)
5. Высказать свое мнение по поводу понравившегося рассказа из сборника.
В презентации должно быть не менее 10 слайдов.
Иллюстрации желательно.
Сегодня стало известно о смерти писателя Альберта Лиханова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Общественную палату РФ.
«Альберт Анатольевич был выдающимся писателем и общественным деятелем, возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей. Его произведения читали и любили во многих странах. Его книги прививали желание делать добрые поступки многим поколениям детей», — пишет Общественная палата России.
Биография
Родился 13 сентября 1935 года в Кирове. Его отец был слесарем, мать — медицинским лаборантом.
В 1953 году поступил на отделение журналистики Уральского государственного университета в Свердловске (ныне Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург). Окончил вуз в 1958 году.
В 1990 году Альберт Лиханов был избран членом-корреспондентом Академии педагогических наук (АПН) СССР. В 1993 году стал членом-корреспондентом Российской академии образования (РАО), созданной на базе АПН СССР. С 2001 года — академик РАО.
С 1958 по 1961 год был литературным сотрудником газеты «Кировская правда», в 1961-1964 годах — главным редактором кировской газеты «Комсомольское племя». В 1963 году стал одним из основателем литературного клуба «Молодость» для начинающих авторов, который работает в Кирове до сих пор.
В 1964-1966 годах — корреспондент «Комсомольской правды» в Новосибирске.
В 1966-1968 годах был инструктором отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ.
С 1968 года работал ответственным секретарем журнала «Смена». Затем в 1975-1988 годах был главным редактором этого издания.
Альберт Лиханов избирался секретарем Союза писателей Москвы, членом правлений Союзов писателей СССР и РСФСР, был сопредседателем правления Союза писателей России.
Был президентом Ассоциации деятелей литературы и искусства для детей и юношества Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (ССОД).
Также являлся членом Русского интеллектуального клуба, учрежденного в 1999 году.
В октябре 1987 года по инициативе Альберта Лиханова был учрежден Советский детский фонд (СДФ) имени В. И. Ленина, и он был избран его председателем. Отделения организации были образованы во всех союзных республиках, краях и областях РСФСР.
С 1988 года — директор Научно-исследовательского института детства (ныне действует при Российском детском фонде).
В 1988 году по инициативе СДФ во главе с Лихановым были созданы первые в Советском Союзе семейные детские дома и принято постановление Совета министров СССР от 17 августа 1988 года, направленное на их поддержку.
В марте 1989 года Альберт Лиханов был избран народным депутатом СССР и членом Верховного совета СССР от Советского детского фонда. Являлся заместителем руководителя советской делегации в ООН при подписании в 1989 году Конвенции о правах ребенка, участвовал в подготовке ратификации документа в СССР.
В сентябре 1991 года при его участии был учрежден Российский детский фонд (РДФ), объединивший действовавшие в РСФСР отделения СДФ им. В. И. Ленина (советский фонд прекратил существование в результате распада СССР). С тех пор Альберт Лиханов является председателем РДФ.
В январе 1992 года стал президентом Международной ассоциации детских фондов (МАДФ), которая объединила детские фонды бывших союзных республик (за исключением стран Балтии).
Благотворительные организации РДФ и МАДФ под руководством Альберта Лиханова занимаются оказанием социальной помощи нуждающимся детям в России и странах бывшего СССР. По инициативе Лиханова созданы реабилитационные детские центры в Кирове, Московской области, Детский дом в Белгородской области. Открыт издательский, образовательный и культурный центр «Детство. Отрочество. Юность» в Москве.
Творчество
Альберт Лиханов известен как автор психологической прозы о детях и подростках. В конце 1950-х годов он дебютировал в печати с очерками о молодежи. Его первый рассказ — «Шагреневая кожа» — был опубликован в 1962 году в журнале «Юность».
Среди наиболее известных произведений писателя — повести «Звезды в сентябре» (1967), «Музыка» (1968), «Крутые горы» (1971), «Солнечное затмение» (1976), «Голгофа» (1979), «Благие намерения» (1980), «Высшая мера» (1982), трилогия «Семейные обстоятельства», включающая повести «Чистые камушки» (1957), «Обман» (1972) и роман «Лабиринт» (1969), а также романы «Мой генерал» (1973-1974), «Русские мальчики» (2000), «Мужская школа» (2000), повести «Никто», «Сломанная кукла», «Мальчик, которому не больно» (2009), «Девочка, которой все равно» (2009).
Также Альберт Лиханов является автором публицистических очерков и нескольких биографических произведений. Среди них — «Уже не дети, еще не взрослые», «Охрана детей-сирот», «Белая книга детства в России», «Недетские заботы Детского фонда», «Драматическая педагогика», «Страна детства: диалоги», «Жизнь перед жизнью, или Преддетство», «Философия детства» и другие.
Неоднократно издавались собрания сочинений Альберта Лиханова (в 1986, 2000, 2010, 2015 годах). Общий тираж его произведений, изданных в России, превышает 30 млн экземпляров. Книги писателя переведены на более чем 30 языков мира.
По произведениям Лиханова сняты фильмы «Семейные обстоятельства» (1977, режиссер Леонид Мартынюк), «Мой генерал» (1979, Андрей Бенкендорф), «Благие намерения» (1984, Андрей Бенкендорф), «Карусель на базарной площади» (1986, Николай Стамбул), «Команда 33» (1988, Николай Гусаров) и другие.
Альберт Лиханов награжден орденами «Знак Почета» (1979), Трудового Красного Знамени (1984), «За заслуги перед Отечеством» IV (2000) и III (2005) степеней, Дружбы (2010), Почета (2016). Лауреат премии Ленинского комсомола (1976), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1980), премии президента РФ в области образования за 2003 год, премии правительства РФ 2009 года в области культуры. Имеет иностранные награды: орден Чести (Грузия, 1996), орден «За заслуги» III степени (Украина), орден Дружбы (Южная Осетия, 2010), орден Франциска Скорины (Белоруссия, 2015), орден Почета (Южная Осетия, 2015), орден «Достлуг» (Азербайджан, 2020) и другие.
Почетный доктор и профессор ряда российских университетов, почетный доктор японского университета «Сакура» (Токио, 2008). Почетный гражданин Кирова (1986) и Кировской области (2005).
Личные сведения
Женат. Супруга, Лилия Александровна Лиханова (род. 1937), была первым диктором кировского областного телевидения. Сын Дмитрий (род. 1959) — журналист и писатель.
В Кировской области учреждена премия имени Альберта Лиханова для школьных, детских и сельских библиотекарей. В Белгородской (с 2000 года) и Кировской (с 2001 года) областях проводятся ежегодные Лихановские общественно-литературные и литературно-педагогические чтения. В ряде городов РФ действуют детские библиотеки, носящие имя писателя: Киров, Белгород, Шахты (Ростовская область).
В августе 2000 года в Центральном государственном архиве Кировской области было положено начало семейному фонду Лихановых, которому были переданы рукописи публицистических и художественных произведений Альберта Лиханова и личные биографические документы членов его семьи.
Фотографии: Depositphotos / Иллюстрация: Юлия Замжицкая
В ходе опроса 2017 года 17 процентов учеников 10–11 классов открыто заявили, что вместо чтения книг школьной программы знакомятся с их кратким изложением или смотрят экранизации. Еще 65% подростков признались, что делают так время от времени. Педсовет опросил 200 выпускников школ из разных регионов страны на предмет того, какие книги они так и не осилили в школе и почему.
Почему бы и не прочитать?
По мнению учителя литературы с 18-летним стажем Марии Константиновой, причин для нежелания читать определенную литературу очень много. Одна из главных — у современного ребенка с его нагрузкой просто нет на это времени и сил. После трудного школьного дня хочется отдохнуть и даже «повалять дурака», а не снова заниматься интеллектуальным трудом. Поэтому книги программы дочитывают, если они захватывают внимание или нравятся.
Произведения, которые дети осилить не могут, как показал опрос, обладают похожими чертами и условно делятся на три категории.
1. Далёкие от современности
Примеры:
- «Слово о полку Игореве» (как в прозе, в переводе Д. С. Лихачева, так и в поэтическом переводе Н. А. Заболоцкого);
- Н. Кун «Мифы Древней Греции».
«Слово…» не смогли дочитать 70 опрошенных, а сборник Куна не осилили 64 выпускника.
Литература Древней Руси построена на рассказе об исторических событиях, в которых школьнику трудно ориентироваться. Сложный язык, множество персонажей, частые отсылки к религиозным представлениям о человеке затрудняют понимание повествования.
В отношении мифов ситуация неоднозначная. Есть дети, которые читают их «запоем», но большинству подвиги Геракла представляются чем-то исключительно надуманным и странным. Образы, использованные в мифах, усложнены представлением о мироздании, нравами, которые бытовали в Древней Греции. Чтобы уяснить сюжет, нужно выстроить в голове совершенно новую систему координат.
Мария Константинова:
«Проблематика таких книг устарела, и современные дети не могут понять философских вопросов, которые в них поднимаются. Религиозная направленность, обращение к Богу или богам часто воспринимается подростками, воспитанными в светских традициях, „в штыки“. Кроме того, они не желают продираться через незнакомую им терминологию. Часть слов невозможно понять без толкового словаря, поэтому внимание рассеивается и книгу откладывают».
Олеся, выпускница московской школы:
«Я честно пыталась в свое время читать книги Древней Руси. Но это было невозможно! Там повсюду отступления на несколько страниц, все эти „ой ты гой еси, добрый молодец“… С ума можно сойти. Пока дочитал до следующего сюжетного поворота, предыдущий уже забыл. А потом постоянно клонит в сон, потому что больше половины слов вообще не несут в себе никакой смысловой нагрузки».
Андрей, выпускник школы в Санкт-Петербурге:
«Мифы я любил. Это как „Марвел“ смотреть — чудовища, герои. Но когда что-то из Древней Руси попадалось — это, конечно, „жесть“, дочитать совершенно нереально. Кому-нибудь вообще это удавалось?..»
2. Бессюжетные
Примеры:
- М. М. Пришвин «Кладовая солнца»;
- А. И. Солженицын «Матренин двор».
Пришвина не дочитали рекордные 124 человека, а 120 не одолели Солженицына.
Повесть «Кладовая солнца» рассказывает историю двоих детей, заблудившихся в лесу во время похода за клюквой, и почти полностью состоит из пейзажей. Сюжет, правда, имеется: главный герой чуть не утонул в болоте и спасся, благодаря собаке. Но продираться к нему приходится через дотошные описания «естествоиспытателя».
В рассказе «Матренин двор» описывается быт праведной женщины Матрены в глухой деревне. Она всю жизнь жила для других, честно работала, терпела невзгоды и помогала людям, не получая при этом никакой отдачи. Это очень «взрослая» тема, а проходят ее в девятом классе. Подросток еще не может оценить талант писателя и проникнуться идеей, поэтому теряет интерес к чтению и иногда возвращается к истории лишь годы спустя.
Мария Константинова:
«Действия многих классических произведений развиваются слишком медленно для современных ребят. Можно сколько угодно пенять на «клиповое мышление», но детям по-настоящему тяжело удерживать внимание. Описания подростки часто пропускают, а если книга целиком из них состоит и лишена четкого сюжета, они начинают путаться между сценами и быстро теряют нить повествования.
Эмоциональные истории, такие как «Матренин двор», воспринимаются ребятами как бессюжетный поток негатива, вызывают отторжение и совершенно идут вразрез с юношеским максимализмом, борьбой за счастье и прочими модными установками».
Егор, выпускник оренбургской школы:
«После Солженицына нужны антидепрессанты, реально. Вообще непонятно, почему эта женщина представляется положительной героиней. Она какая-то бесхребетная: все терпит, все принимает, ничего не пытается изменить, зачем такая жизнь — непонятно. Тоска берет. Я не дочитал. Она там погибла в конце, да?»
Анна, выпускница пермской школы:
«Кладовая солнца» вроде красивая. Но читать про лес и болото столько страниц — ну в смысле?! Когда ты подросток, пойти погулять и посмотреть по сторонам кажется идеей получше».
3. Нравоучительные
Примеры:
- Н. В. Гоголь «Тарас Бульба»;
- Н. А. Островский «Гроза».
56 человек не читали «Тараса Бульбу» в школе, а пьесу Островского не знают 52 выпускника.
Школьники часто не обладают глубокими знаниями истории и не могут соотнести произведение с эпохой, в которую оно было написано, поэтому не вникают в замысел книги, и сюжет кажется им совершенно «диким». Так, история казацкого восстания 17-го века, в ходе которого Тарас Бульба убивает своего сына за любовь к девушке из Польши и предательство Отчизны не служит примером патриотизма, а кажется болезненным проявлением, сродни патологии.
Хуже всего подросткам даются философские размышления, требующие проникновения в душу героя, его психологию. Главная героиня пьесы Островского, Катерина, которая не может ужиться с мужем и свекровью и, влюбившись в другого мужчину, совершает самоубийство в финале, кажется подросткам «королевой драмы», придумавшей проблему на пустом месте. Ведь в современном мире можно просто развестись.
Мария Константинова:
«Подростки в большинстве случаев не ассоциируют себя с героями литературных произведений, поэтому нравоучительные истории с плохим концом, скорее, вызовут у них смех и недоумение. Для понимания они требует серьезной проработки педагогом: рассказа об укладе, нравах того времени, выяснения мотивов поступков героев и так далее. Поэтому просто самостоятельно прочитать книгу недостаточно».
Марина, выпускница ярославской школы:
«Пьесу читать тяжело. Там все строится на репликах, надо держать в голове, кто что сказал. Поэтому в школе я просто спектакль посмотрела, там все понятно».
Илья, выпускник казанской школы:
«Я „Тараса Бульбу“ три раза начинал читать, но ни разу не осилил. Там какой-то „зашквар“. Для меня в этой книге все сложно: язык, сражения, психология, сюжет. Вообще тяжело поверить, что это Гоголь написал — другие его книги как-то нормально „зашли“».
Нужно ли читать книги, которые не нравятся?
Иногда ученики все же заставляют себя дочитать книги, которые их не увлекают: они боятся экзаменов или контрольных работ, пытаются угодить родителям или просто привыкли делать все, что задают на дом.
Если в семье есть культура чтения и восприятия литературы, ученик осилит всю школьную программу. Но Мария Константинова считает, что дети не должны читать книги, которые им не нравятся, потому что это не принесет положительных результатов.
«Чаще всего причина неприятия книги заключается в том, что она попадает к подростку не в том возрасте. Преподаватели русского языка отрабатывают придаточные предложения с детьми в седьмом классе на отрывках из «Войны и мира», а к десятому классу ученики не хотят вновь брать ее в руки, потому что смутно помнят, что там «что-то скучное».
Задача учителя литературы в том, чтобы привить любовь к чтению, а не наоборот. Поэтому в отношении книг можно уповать только на правильную мотивацию, разговор о контексте в начале изучения, возможность для ребят обсудить сюжет, выразить свое мнение и не быть за него пристыженным. А контрольные работы, сочинения вряд ли заставят ученика осилить целую книгу. Максимум — ее краткое изложение».
Материалы по теме:
- Список литературы: прочесть нельзя выкинуть
-
Нескучная классика: как увлечь подростков литературой
-
Почему школьникам сложно учить стихи?
В ночь на 25 декабря в больнице от последствий ковида-19 скончался «Рыцарь детства» – сопредседатель Союза писателей России, член правления Союза писателей России, общественный деятель, председатель общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» (ООБФ «РДФ»), президент союза общественных фондов «Международная ассоциация детских фондов» (СОФ «МАДФ»), председатель общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей» (созданного указом президента России от 6 октября 2020 г. №614) – Альберт Анатольевич Лиханов.
А.А. Лиханов родился 13 сентября 1935 года в городе Кирове. В 1962 году опубликовал в «Юности» первый рассказ «Шагреневая кожа», в 1963-м выпустил историческую повесть «Да будет солнце!» Главной темой творчества Лиханова стало становление характера подростка, формирование его мировоззрения, взаимоотношения с миром взрослых: повести «Звезды в сентябре» (1967), «Теплый дождь» (1968), трилогия «Семейные обстоятельства» (роман «Лабиринт», 1970, повести «Чистые камушки», 1967, «Обман», 1973), роман для детей младшего возраста «Мой генерал» (1975), повести «Голгофа», «Благие намерения», «Высшая мера» (1982), книга «Драматическая педагогика» (1983), дилогия романов в повестях «Русские мальчики» и «Мужская школа», повести последнего времени «Никто», «Сломанная кукла», «Слетки», повести «Мальчик, которому не больно» и «Девочка, которой всё равно» (2009).
Отмечен литературными премиями: имени Александра Грина, «Прохоровское поле», «Большая литературная премия России», имени Д. Мамина-Сибиряка, имени Владислава Крапивина, имени Н.А. Островского, «Золотой витязь», «Русский путь» имени Ф.И. Тютчева и др.
Являлся академиком Российской академии образования, почетным профессором Вятского государственного педагогического университета (ныне Вятский государственный гуманитарный университет), Белгородского государственного университета, Московского государственного педагогического института и Московского гуманитарного университета; почетный доктор Тюменского государственного университета, Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, японского университета «Сока» в Токио, Уральского государственного университета и Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. Лауреат Премии президента Российской Федерации (2005). Лауреат Премии правительства Российской Федерации (2009).
А.А. Лиханов награжден орденами: «Знак Почета», Трудового Красного Знамени (СССР), орденом Дружбы, орденом Почета, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени (РФ).
Союз писателей России
***
Российский детский фонд и Фонд защиты детей с прискорбием сообщили о кончине после тяжелой болезни Альберта Анатольевича Лиханова.
Именно Альберт Лиханов был инициатором и на протяжении 34 лет бессменным руководителем Российского детского фонда – первой и крупнейшей благотворительной организации в нашей стране, а также руководителем созданного в 2020 году Фонда защиты детей.
Как сообщает Российский детский фонд в некрологе, в 1987 году по инициативе Лиханова создан Советский детский фонд имени В. И. Ленина, который в 1992 году преобразован в Международную ассоциацию детских фондов, а в 1991 году учреждён Российский детский фонд с 74 региональными отделениями по стране. За годы своего существования Фонд оказал помощь нуждающимся детям на сумму около 30 млрд рублей внебюджетных средств. По инициативе А.А. Лиханова создана новая Общероссийская общественно-государственная организация «Фонд защиты детей», председателем которой в 2020 году на Учредительном собрании единогласно был избран А.А. Лиханов. Только за первый год работы Фондом под его руководством была оказана значительная помощь более чем 50 тыс. детям. Газета «Советская Россия» на протяжении ряда лет вместе с Лихановым вела активную работу по сбору средств в фонд помощи больным детям, в том числе детским туберкулезом.
Проблемы, с которыми сталкивались дети, – самые разные, но Лиханов исходил из одного: помочь юному человеку построить храм в своей душе. Храм, открытый для добрых чувств. Особо внимание Альберт Анатольевич уделял духовной защите детства. Для этого на протяжении многих лет Российским детским фондом издаются три журнала: «Божий мир», «Дитя человеческое» и «Путеводная звезда». Также Альберт Лиханов учредил и возглавил Научно-исследовательский институт детства. По его инициативе в Подмосковье создан реабилитационный детский центр Международной Ассоциации детских фондов. В нем получили лечение дети, пострадавшие во всех горячих точках. В Белгородской области существует детский дом в райцентре Ровеньки, построенный с финансовым участием Российского детского фонда.
В советские годы писатель обратил внимание на положение детей, ставших никому не нужными при живых родителях, развернув широкую кампанию по спасению такой детворы. Это и стало побудительным мотивом для тысяч молодых людей выбрать путь педагога, предтечей, предвестием Детского фонда.
Источник: «Советская Россия»
Обновлено: 10.01.2023
У всякого человека есть в жизни история, которая как зарубка на дереве: потемнеет от времени, сровняется, смолой ее затянет, но приглядишься посильней – вот она, тут, осталась, присмотришься еще – и время обратно пойдет, закрутится часовая стрелка против солнца все скорей и скорей…
Вот и у меня есть такая история, и я всегда вспоминаю ее, когда слушаю музыку. Вспоминаю, как учился я играть, да так и не выучился, зато выучился другому, может быть, поважней музыки, выучился… да, выучился драться. Не просто кулаками махать, а отстаивать справедливое дело.
Началось все это как-то случайно, и никак я не мог подумать, что в этот обыкновенный, простой самый день начинается какая-то там история.
Итак, это было где-то вскоре после войны. Когда я, вернувшись из школы, ел жидкий супчик с перловыми крупицами на дне, позвякивая ложкой, а бабушка и мама сидели по краям стола и участливо глядели на мою макушку, жалея меня за выпирающие из спины лопатки, бабушка неожиданно сказала:
– Ой, Лиза, у Правдиных Ниночка идет в музыкальную школу. Давай и Колю запишем!
Я пошевелил ушами, не придавая этому большого значения и не отрывая взгляда от крупинок перловки на дне. Это меня и погубило.
Я не удосужился посмотреть, как заблестели бабушкины глаза, и был наказан.
А бабушка и мама оживленно говорили надо мной, обсуждая новую проблему, и бабушка, особо склонная к искусству, рисовала живые картины. Я и эти картины пропускал и оторвался от тарелки только раз, когда бабушка вдруг зажужжала.
Я вопросительно поднял голову и увидел, как бабушка, закрыв глаза и отведя в сторону левую руку, держит в другой руке вилку и жужжит – то громче, то тише. Лицо ее выражало высшее блаженство, и только тут я понял, что она подражает скрипачу и звуку, видимо, скрипки.
Мама сидела напротив бабушки, облокотившись о стол, глядя куда-то вдаль, и лицо ее было задумчиво.
Я смотрел на них, и незаметно ложка упала у меня из рук, произведя чужеродный обстановке звук, сопровождаемый жидким фонтанчиком.
Бабушкина скрипка умолкла, она поглядела на меня и засмеялась. Засмеялась и мама, и они долго хохотали, вытирая слезы и гладя меня по макушке.
Разговоры о музыке поутихли, хотя, как мне казалось, бабушка чаще прислушивалась теперь, когда по радио что-нибудь играли и, бывало, даже останавливалась посреди комнаты с суповой кастрюлей, а на лице ее было отсутствующее выражение.
Я по-прежнему жил своей мелкой частной жизнью заурядного четвероклассника и все еще не мог осознать назревающей угрозы.
Примерно через неделю, когда я, как и в прошлый раз, глотал суп, мечтая о белой булке и раздумывая, почему она называется французской, над моей головой произошел еще один разговор на музыкальную тему.
– Ты знаешь, – сказала бабушка маме, – я была у Правдиных. Они скрипку не рекомендуют. Очень действует на нервную систему.
– А как же? – растерянно спросила мама. – Можно было бы мою шубу обменять. На рынке скрипки есть.
– Да, – сказала бабушка, – но большой размер, взрослые. Для детей нужно поменьше. А купишь маленькую – вырастет, новую надо. Не наберешься…
Они вздохнули.
– А фортепьяно, – сказала бабушка, – легче. Можно с кем-нибудь договориться, к кому-нибудь ходить на игру. И на нервы меньше действует… А то тут эти, как их, пиццикато. Одной рукой все дрожать надо…
Теперь засмеялся я. Я представил себя в черном фраке и с галстучком, как у франта или у офицера в кино. А в руках у меня скрипка, желтая, как сливочное масло. Лизни – вкусное. А я не лижу, стою на сцене и смычком по струнам вожу и такую выскрипывую музыку! А в зале, прямо напротив меня, сидит враг мой первейший – Юрка-рыжий и губы от зависти облизывает.
Ох, этот Юрка!
Трудно, в общем, невозможно установить, почему сложились у нас тогда такие отношения, но Юрка преследовал меня буквально по пятам.
В первом классе мы учились вместе, и по переменкам от нечего делать, а может быть, от холода, который стоял в классе, мы становились возле стенки и толкались. Кто кого отошьет от стенки. Юрка был посильней, во всяком случае, мне это так казалось, и всегда всех отшивал от стенки, а меня проще других. Отшивая, он нахально смеялся, и это действовало на меня особенно. Впрочем, всякая очень уж сильная уверенность человека в самом себе, самоуверенность, словом, до сих пор приводит меня в некое смятение и вызывает ответную неуверенность. Не по себе мне как-то становится…
Так вот, Юрка отпихивал всех от стены, мы орали, но уступали ему – и морально и физически. Потом Юрка перешел почему-то в другую школу и на некоторое время исчез с горизонта. Но только на время.
Мне казалось, – да что казалось, это было точно, – пока Нинка сидела со мной и крутила своим бантиком, все часы остановились. И люди вокруг ничего не делали – только таращились на нас.
И вдруг хлопнула дверь, все повернули головы: из-за двери вышел какой-то мальчишка, а вместо него туда впорхнул белый бант. Я даже не заметил, как Нинка проскочила мимо меня.
Я вздохнул, кровь отлила от моих ушей, и жизнь пошла дальше. Никто в коридоре не пялил на меня глаза, на душе стало очень хорошо, покойно, ко мне пришла бабушка и сказала с укором, будто я в этом виноват:
В коридоре на меня набросились так, будто я неделю в тайге проплутал, а бабушка, и Нинка, и ее мама не чаяли меня и увидеть. Они смотрели на меня, как на страдальца какого или как на генерала – юного, но седого и израненного всего. Опять я зарделся, как морковка, но они ничего не замечали, – что им полный коридор людей, если я оттуда, от этой комиссии, живым вышел!
Еле они угомонились, еле отошли: бабушка узнала, что окончательные результаты всем скажут завтра, и мы пошли домой вместе – Нинка со своей мамой, бабушка и я.
О-хо-хо, этот несчастный день! Мало того, что мы пошли вместе и дошли до самого нашего дома, потому что, видите ли, Нинкина мама решила, что нас с бабушкой надо проводить после такого дела, одни не дойдем, – мало этого, так бабушка еще велела идти мне вместе с Нинкой впереди. Бабушка с Нинкиной мамой шли позади и все говорили о жизни замечательных музыкантов, а я плелся с Нинкой, вогнав голову в плечи, готовый даже за руку с бабушкой идти, только не так, только не с Нинкой.
Я плелся, и все в моей душе переворачивалось от тяжких предчувствий.
Сейчас, много лет спустя, когда заговорили, наконец, о существовании телепатии, странных, невидимых никому излучений, которые передают на расстояние не только мысли, но и страх и могут, говорят, формировать всяческие предчувствия, я думаю, что вот те два длинных квартала, пока я шел с Нинкой Правдиной, были крупнейшим в моей жизни сеансом телепатии. Странные, невидимые мне, но рыжие, наверное, Юркины волны вызывали во мне совершенно ясное чувство предстоящих неприятностей.
И точно. Есть она, черная магия! Как только мы подошли к углу, где сегодня днем я встретил Юрку, он снова появился как из-под земли.
Глаза у него были круглые. А рыжих ресниц и бровей, тоже рыжих, почти не было заметно.
Он стоял молча, пока мы с Нинкой, а потом бабушка с Нинкиной мамой не прошли мимо него. Потом он так же молча забежал вперед и снова посмотрел, как мы пройдем перед ним. Потом он забежал вперед еще раз и снова пристально посмотрел на нас. И когда я в четвертый раз, окончательно добитый, в паре с Нинкой прошел под его светящимся, радостным и одновременно недоумевающим взглядом, он, остановившись, отпустив нас на некоторое расстояние, крикнул адресованное мне, страшное:
– Хахаль! Эй, хахаль!
Уже потом, дома, шаг за шагом разматывая клубок минувшего дня, я припомнил Нинку в эту минуту.
До сих пор она все пыталась говорить со мной.
Но когда Юрка крикнул это, она сразу замолчала. Не обернулась на рыжего, нет. Она просто замолчала и выпрямилась, и высоко подняла голову. И так посмотрела на меня, словно ничего не было. Ни музыкальной школы, ни экзамена. И будто не трещала она, заговаривая со мной целый вечер.
Нинка посмотрела на меня, будто насквозь прожгла.
И тошно мне стало так!
– Да, да, – сказала бабушка невесело, – мне ведь и заведующая это же говорила, да что толку… Как же этот слух развивать, если Колю не приняли…
Все задумались ненадолго, а я посмотрел на Нинку. Она разглядывала нашу комнату, потом увидела фотографию на стене, где я маленький, голышом, да еще с бантом на голове, как девчонка, поняла, что это я, ухмыльнулась, взглянула на меня искоса. Я покраснел слегка, а Нинкина мама сказала:
– Вы знаете, можно же частно договориться. С каким-нибудь музыкантом. У вас есть знакомые музыканты?
Бабушка глянула на нас с интересом, а мама даже в ладоши хлопнула.
– Зинаида Ивановна! – воскликнула мама.
Бабушка надменно повела плечами, покачала головой.
– Зинаида Ивановна! – горько усмехнулась она. – Зинаида Ивановна в кинотеатре играет. Тоже мне музыкантша!
– Не страшно! – обрадовалась Нинкина мама. – Вовсе не страшно! Главное, музицирует, а раз музицирует – научит!
Когда дома я открыл папку, нотные знаки и ключи – и неправильные, брюшком в другую сторону, и правильные, с хорошим брюшком – расплылись и потекли.
Я подошел к окну и посмотрел на улицу, в самый ее конец, куда ушла Нинка с авоськой.
Бабушки еще не было.
Бабушка еще должна была прийти.
Два примера-иллюстрации доказывают нам: нравственный подвиг Януша Корчака заключается в том, что не только последние месяцы своего бытия, но и всю предыдущую жизнь он стоял рядом с бедой, точнее, жил в ее гуще, самоотверженно работая с детьми-сиротами. В этом и заключается авторская позиция.
Я разделяю точку зрения А.А.Лиханова: известный польский педагог Януш Корчак совершил подвиг ради детей не только когда вместе с ними пошел на смерть, но и когда в мирное время заботился о детях-сиротах.
Таким образом, нравственный подвиг можно совершить, одаривая сирот заботой и помощью и идя с ними в газовую камеру.
Готовое сочинение №2
Если человеку не хватает тепла и ласки, к чему это может привести? Каждый из нас заслуживает доброго отношения, и потому так важно заботиться о ближних. В тексте А.А. Лиханова поднимается проблема дефицита любви и доброты в современном мире.
Итогом размышлений писателя становится такая позиция: нехватка любви и доброты проявляется в формальном отношении друг к другу. Грубые и равнодушные люди бывают наказаны таким же невниманием.
В заключение хочется сказать, что в жизни действует закон бумеранга и нам всё возвращается в двойном размере. Каждый человек должен приложить усилия, чтобы мир стал немного светлее, а люди – мягче.
Готовое сочинение №3
В чём проявляется нехватка любви и доброты? К чему приводит отсутствие милосердия и сострадания? Именно эти вопросы возникают при чтении текста известного детского писателя Альберта Лиханова.
Авторская позиция заключается в следующем: нехватка любви и доброты проявляется в невнимательном, формальном отношении друг к другу. Те, для кого доброта и любовь малозначимые, второстепенные качества, бывают наказаны нелюбовью и недобротой окружающих.
Мне близка позиция автора. Действительно, воспитательной цели можно достичь только тогда, когда подходишь к своей задаче с любовью и добротой.
В заключение подчеркну, что нельзя думать, что доброта и человечность не имеют в нашей жизни никакого значения. Напротив, только любовь и милосердие спасут наш мир.
Готовое сочинение №4
Дети, воспитанные в любви, и сами научатся дарить любовь, проявлять заботу. Этот пример показывает, по мысли Лихачёва, как мало сейчас такого же самоотверженного отношения к детям у взрослых и как неохотно они воспитывают у своих сыновей и дочерей такие ценности, как забота, самоотверженность, милосердие. Эти люди не понимают, что, не посеяв в душе детей эти важнейшие качества, они получат жестоких и холодных профессионалов. Но профессионализма недостаточно для счастья, и каждый, кто не сумел любить ближнего, когда-нибудь останется в одиночестве.
Писатель ставит проблему воспитания у будущих поколений добра и справедливости; он считает, что для того, чтобы следующие поколения были не только умнее и талантливее, но и добрее и милосерднее, чем предыдущие, требуется вкладывать в них много любви, воспитывать их в духе сострадания к ближнему, заботы о ближнем.
Готовое сочинение №5
В чем проявляется нехватка любви к детям и к каким последствиям она может привести? Зачем нужно проявлять любовь и доброту по отношению к детям? На эти вопросы отвечает в предложенном для анализа тексте детский и юношеский писатель А.А. Лиханов.
Авторскую позицию можно сформулировать следующим образом: нехватка любви к детям оказывает негативное воздействие не только на детей, но и на взрослых, которые сталкиваются с такой же нелюбовью, поэтому так важно уметь любить детей.
С автором текста нельзя не согласиться. Нелюбовь взрослого к ребенку и отсутствие должного воспитания приведут к подобным результатам: к нелюбви ребенка к взрослому. Воспитание и доброе отношение к детям – это важный аспект не только семейных, но и общественных взаимоотношений. Данные мысли находили отражение во многих художественных произведениях отечественных писателей.
Подводя итоги к сказанному, можно отметить, что любить детей очень важно, поскольку нелюбовь к детям негативно сказывается как на детях, так и на взрослых, которые впоследствии столкнутся с нелюбовью детей по отношению к ним.
Текст ЕГЭ 2021 Лиханова А.А. о любви и доброте (чего нам так не хватает):
(1) Чего нам так не хватает?
(2) А не хватает нам любви к детям. (3)Не хватает самоотверженности родительской, педагогической. (4)Не хватает сыновней, дочерней любви.
(21) А любовь к детям стала напоминать любовь к собственному имуществу.
(22) Впрочем, имущество порой дороже людей… (23)Что может быть печальней и горше! (24)Давно замечено: и лучшие, и худшие стороны человека выявляет беда.
(25) Януш Корчак не только последние месяцы своего бытия, но и всю предыдущую жизнь стоял рядом с бедой, точнее, жил в её гуще, работая с детьми-сиротами.
(26) Сиротство, эта библейски древняя форма человеческого одиночества, требует сострадания и соучастия, самоотверженной и терпеливой любви настоящих стоиков и гуманистов.
(27) Януш Корчак — первый из них; но не временем, пусть трагическим, измерено это первенство, а мерой его выбора, мерой честности.
(28) Мера эта — смерть.
(29) Не только поляки чтут выбор своего бессмертного учителя. (ЗО)Его имя внесено в святцы 1 и мировой педагогики, и элементарной человеческой порядочности. (31)И именно в его устах, под его пером в высшей степени правомерно звучит дидактическое, даже назидательное наставление: как любить детей.
(37)И пусть же всякий, кто спохватится и заторопится вперёд — от нелюбви к любви, от недоброты к доброте, припадёт, как к чистому истоку, к этой последней заповеди Януша Корчака.
— Главная — Сочинение ЕГЭ
(1) Чего нам так не хватает?
(2)А не хватает нам любви к детям. (3)Не хватает самоотверженности родительской, педагогической. (4)Не хватает сыновней, дочерней любви.
(27)Януш Корчак — первый из них; но не временем, пусть трагическим, измерено это первенство, а мерой его выбора, мерой честности.
(28)Мера эта − смерть.
(29)Не только поляки чтут выбор своего бессмертного учителя. (30)Его имя внесено в святцы и мировой педагогики, и элементарной человеческой порядочности. (31)И именно в его устах, под его пером в высшей степени правомерно звучит дидактическое, даже назидательное наставление: как любить детей.
(37)И пусть же всякий, кто спохватится и заторопится вперёд − от нелюбви к любви, от недоброты к доброте, припадёт, как к чистому истоку, к этой последней заповеди Януша Корчака.
Альберт Анатольевич Лиханов (род. в 1935 г.) – детский и юношеский писатель, президент Международной ассоциации детских фондов, лауреат Международной премии имени Януша Корчака.
В соответствии с критериями проверки сочинений формата ЕГЭ 2021 ваша работа оценивается следующим образом.
К1 — Формулировка проблем исходного текста: + 1 балл
Проблема определена верно, сформулирована некорректно, очень широко, но балл я поставлю.
K2 — Комментарий + 3 балла
Комментарий не выглядит как единое целое (наблюдается непоследовательность в изложении мысли, какая-то недосказанность.
Пример 1 в сочинении указан, но пояснен плохо. Пример 2 указан, пояснен плохо
. Взаимосвязь между примерами чётко не определена, но проанализирована.
K3 — Отражение позиции автора исходного текста: + 1 балл
Позиция автора относительно поставленной проблемы определена не совсем корректно, но ответ на вопрос всё-таки дан.
Совет: старайтесь писать конкретнее, отвечая на вопрос проблемы.
K4 — Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста: + 1 балл
Отношение к позиции автора содержит согласие, тезис, обоснование тезиса.
K5 — Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения: + 1 балл
Проблема и ПА не коррелируются (не соотносятся как вопросно-ответное единство) (нарушение логики развития мысли)
K6 — Точность и выразительность речи + 0 балл
Речь отличается бедностью словаря, неточностью словоупотребления и однообразием грамматического строя.
В работе допущены пунктуационные , грамматические , речевые ошибки.
K8 — Соблюдение пунктуационных норм: + 1 балл
K9 — Соблюдение грамматических норм: + 0 баллов
K10 — Соблюдение речевых норм: + 0 баллов
K11 — Соблюдение этических норм: + 1 балл
К12 — Соблюдение фактологической точности в фоновом материале: + 1 балл
Общие рекомендации: следует усилить работу над комментарием, речевым оформлением. Желаю удачи на ЕГЭ!
Как сохранить и бережно пронести сквозь время детское ощущение мира? Над этим вопросом размышляет в своем тексте А.А.Лиханов, затрагивая проблему ценности по-детски чистого восприятия окружающей действительности.
Писатель призывает сохранять в душе детские воспоминания для того, чтобы не терять особого видения мира и не превращать душу в черствую корку хлеба.
Я разделяю позицию Лиханова и считаю, что необходимо трепетно и бережно хранить в своей душе детское видение мира, дабы не утратить тонкой ниточки, связывающей нас с лучезарной и тихой гаванью под названием Детство.
Ее юность-олицетворение детской весенней поры, сквозящей в каждом движении девушки.Чистота и гармония внутреннего мира Наташи привлекала людей, которые тянулись к ней, словно ростки к солнцу. Эта детская непорочность и особое видение мира позволили сохранить в глазах девушки на протяжении всей жизни живой блеск, неумолимое желание творить, трепетное ожидание прихода нового дня, сулящего радостные открытия и возможности.
Обратившись к произведению Ивана Гончарова «Обломов», мы увидим диаметрально противоположный пример-злоупотребление детским ощущением мира. Главный герой всю жизнь пребывал в полудремотном состоянии, опасаясь резких поворотов судьбы и не желая перемен. До конца своих лет он сохранял непорочное видение окружающего мира, впитанное им в детские годы. Но в итоге чему это привело? К бесцельно прожитой жизни и нравственному угнетению душевного состояния. Обломовщина-страшный недуг, разрушающий внутренний мир и губительным образом сказывающийся на развитии личности.
Таким образом мы пришли к выводу о том, что жизнь человека, сумевшего на протяжении всей жизни сохранить детское восприятие и ощущение мира, наполнена красками, стремлениями, неподдельными эмоциями, которых лишены прозябающие и утратившие способность чувствовать мелодии окружающего мира, люди.
Внимание!
Если Вы заметили ошибку или опечатку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.
Тем самым окажете неоценимую пользу проекту и другим читателям.
Уникальный материал — комментарии к сочинению в 2019-2020 гг, которые оценены и отрекомендованы для понимания от И.П. Цыбулько (ФИПИ).
Эти данные актуальны для 2022 ГОДА — т.к. изменений никаких не было в структуре и системе оценивания.
Текст по А.А. Лиханову
(1)Мальчики и девочки в свои семнадцать лет сейчас почти всегда выглядят как взрослые “дяди” и “тёти”, а чуть копии глубже — часто ну такая неподготовленность к взрослой жизни: безответственность (неумение и нежелание отвечать за свои поступки), пассивность, чёрствость, бездушие.
(2) Но откуда всё это вдруг берётся? (3)Да и берётся ли вдруг?
(4)Часто приходится слышать: современная молодёжь горя не видела. (5)И это ставится чуть ли не в упрёк, (б) А разве только при виде горя люди становятся добрее? (7) Разве не радом с прекрасными бабушками, дедушками, мамами, папами, не рядом с прекрасными близкими людьми вырастают эти носители чёрствости, бездушия, у которых доброта есть где-то внутри и у которых она часто в зачаточном состоянии? (8) Будет ли она со временем развиваться? (9) И не пытались ли родные своими делами отгородиться от подростка, как бы говоря: вот тебе всё, что необходимо, вот одежда, обувь, еда, вот тебе деньги, — только будь таким, каким мы хотим тебя видеть, и не причиняй нам хлопот.
(14)И ещё. (15)Дети получают в школах, “престижных” и обычных, необходимые знания: по математике, физике, литературе ■— много всего. (16)Детей учат музыке, рисованию. (17)Дети занимаются спортом ■— их учат быть сильными, красивыми. (18)А вот доброте, сочувствию (умению вместе чувствовать, сопереживать), такту, ответственности, наконец, могут научить только близкие люди. (19)Не формально близкие, а те, кому веришь безоговорочно, кто понимает тебя, кто не только хочет видеть тебя настоящим Человеком, но и растит в тебе этого Человека.
(20). Однажды мой сын спросил у одного из своих друзей, почему его мама не попыталась устроить свою личную жизнь. (21)Тот чуть ли не возмущённо ответил: “Но у неё есть я. ” (22)Он принимал как должное то, что его молодая, красивая, добрая мама не имеет права ни на какую больше жизнь, кроме заботы о нём, тревоги за него. (23)Сейчас, спустя десять лет, друг сына уже женат, у него своя семья, своя, отдельная от матери, жизнь. (24)Он получил от близкого человека всё, что ему было нужно. (25)Но оправдана ли была та материнская жертва? (26)Он никогда об этом не задумывался. (27)Его этому не научили.
(28)Страшно, когда человек остаётся в душевном одиночестве. (29)Почему-то, когда нет веры в кого-то одного, когда нет близкого умного друга, постепенно теряешь веру в остальных людей. (30)Подростку, который остаётся в одиночестве, ещё тяжелее. (31)Может быть, он не будет злым, жестоким. (32)Но и добрым он не будет.
* Альберт Анатольевич Лиханов (род. в 1935 г.) русский писатель, журналист, общественный деятель.
КОММЕНТАРИЙ на 3 балла (из 5). Предложен в качестве образца И.П. Цыбулько
ПРОБЛЕМА
Автор этого текста не только талантливый писатель, но и педагог. Наверное, именно поэтому его волнует проблема: кто способен воспитать в ребёнке нравственные качества, привить лучшее, что может быть в человеке? Кого послушает подросток? Иными словами, в данном тексте А. Лиханов поднимает проблему взаимопонимания, духовной близости педагога и воспитанника.
КОММЕНТАРИЙ
А. Лиханов убеждает читателя в том, что ни жизненные невзгоды, ни дорогие подарки и престижные школы не смогут развить лучшие нравственные качества человека (предложения 5-13). Эти, качества воспитываются только близкими людьми. А если близкие люди “пытаются отгородиться от подростка* то хорошее, что есть в маленьком человеке, может никогда не раскрыться, не будет развиваться. Пример “неразвитости* доброты, сочувствия по отношению к родным, людям показан автором, в предложениях 20-27.
Критерии. За что можно получить 3 балла?
- Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст
- Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, но дано пояснение только к одному примеру, смысловая связь между примерами не выявлена,
- экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию то прочитанного текста, важный для понимания проблемы, и дал пояснение к нему.
- Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет.
КОММЕНТАРИЙ на 4 балла (из 5). Предложен в качестве образца И.П. Цыбулько
ПРОБЛЕМА
Автор этого текста не только талантливый писатель, но и педагог. Наверное, именно поэтому его волнует проблема: кто способен воспитать в ребёнке нравственные качества, привить лучшее, что может быть в человеке? Кого послушает подросток? Иными словами, в данном тексте А. Лиханов поднимает проблему взаимопонимания, духовной близости педагога и воспитанника.
КОММЕНТАРИЙ
Каждый человек — современник какой-либо эпохи и представитель определённого поколения. А. Лиханов начинает рассуждение с того, что даёт самое общее описание современной молодёжи (предложения 1-3): “неподготовленность к взрослой жизни’’, “пассивность, чёрствость, бездушие . ” Откуда это берётся? Задаёт вопрос автор.
Автор подчёркивает ещё одну мысль: “доброте, сочувствию, такту, ответственности” не научит школа, какой бы она ни была. Настоящим; “Человеком” подростка могут “воспитать только близкие люди”. Не формально близкие, а по-настоящему, те, кому подросток доверяет (предложения 14-19).
АВТОРСКАЯ ПОЗИЦИЯ
Из текста ясно, что только человек неравнодушный, духовно близкий может воспитать в ребёнке доброту, сочувствие, ответственность за свои поступки. Нельзя воспитать того, чем сам не отличаешься/ Такова позиция автора.
Критерии. За что можно получить 4 балла?
- Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст.
- Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания проблемы.
- Дано пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена смысловая связь между ними,
- выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение только к одному примеру.
- Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет.
КОММЕНТАРИЙ на 5 баллов (из 5) — МАКСИМУМ. Предложен в качестве образца И.П. Цыбулько
ПРОБЛЕМА
Автор этого текста не только талантливый писатель, по и педагог. Наверное, именно поэтому его волнует проблема: кто способен воспитать в ребёнке нравственные качества, привить лучшее, что может быть в человеке? Кого послушает подросток? Иными словами, в данном тексте А. Лиханов поднимает проблему взаимопонимания, духовной близости педагога и воспитанника.
КОММЕНТАРИЙ
Каждый человек — современник какой-либо эпохи и представитель определённого поколения. А. Лиханов начинает рассуждение с того, что даёт самое общее описание современной молодёжи (предложения 1-3): “неподготовленность к взрослой жизни’’, “пассивность, чёрствость, бездушие . ” Откуда это берётся? Задаёт вопрос автор.
Отвечая па этот вопрос, А. Лиханов убеждает читателя в том, что ни жизненные невзгоды, ни дорогие подарки и престижные школы не смогут развить лучшие нравственные качества человека (предложения 5-13). Эти качества воспитываются только близкими людьми. А если близкие люди “пытаются отгородиться от подростка”, то хорошее, что есть в маленьком человеке, может никогда не раскрыться, не будет развиваться. Пример “неразвитости” доброты, сочувствия по отношению к родным, людям показан автором, в предложениях 20-27.
При этом автор подчёркивает ещё одну мысль: “доброте, сочувствию, такту, ответственности” не научит школа, какой бы она пи была. Настоящим “Человеком” подростка могут “воспитать только близкие люди”. Не формально близкие, а по-настоящему, те, кому подросток доверяет (предложения 14-19).
АВТОРСКАЯ ПОЗИЦИЯ
Из текста ясно, что только человек неравнодушный, духовно близкий может воспитать в ребёнке доброту, сочувствие, ответственность за свои поступки. Нельзя воспитать того, чем сам не отличаешься/ Такова позиция автора.
Читайте также:
- В наши дни нелегко распознать род занятий человека а особенно молодого сочинение егэ
- Почему я хочу посетить нью йорк сочинение на английском
- Сочинение if i were a millionaire
- Какова цель сочинение на лингвистическую тему
- Сегодня я снова лечу в командировку в сибирь первой вхожу в салон самолета сочинение
Вариант сочинения в формате ЕГЭ по тексту А.А.Лиханова (вариант 34
из сб. И.П.Цыбулько)
Почему в мирное время существует проблема сиротства? Что заставляет
родителей оставлять своих детей? Именно эту проблему затрагивает
А.А.Лиханов в своем тексте. Ответы на эти непростые вопросы пытается
найти вместе с автором и читатель.
Размышления над одной из важнейших проблем ведутся рассказчицей,
которой волей судьбы было предназначено учительствовать в одном из
детских домов. С первых строк читателю становится понятно, насколько
глубоко переживает героиня за своих подопечных; как дороги ей чужие
дети, которых она воспитывает, — «все—все—все». Неравнодушной к проблеме
сиротства изображена и другая героиня текста – Лепестинья, женщина с
непростой судьбой. Со слезами на глазах вспоминая войну, Лепестинья
задает вопрос: «Ну ладно, тогда голодуха, тяжелое время, сироты понятно
откуда брались, а теперь—то, теперь?» Автор убеждает читателя в том,
что эта женщина, лишенная возможности иметь своих детей, обладает
чутким сердцем, поэтому так эмоциональны ее размышления о сиротстве.
Чтобы подчеркнуть остроту поднятой проблемы, А.А.Лиханов использует
прием котраста. Сиротство как следствие войны противопоставлено
сиротству в мирное время. Автор подчеркивает неизбежность сиротства в
результате «страшной войны». «Тогда – голод, тогда – трудности, тогда –
война», —пишет А.А.Лиханов. Как бы жестоко это ни звучало, читатель
вслед за рассказчицей осознает неотвратимость этой беды в судьбах тех
детей, которым пришлось пережить войну. Уважения, по мнению
рассказчицы, заслуживает Дзержинский, занимавшийся беспризорниками в
трудное для страны время, а также Макаренко «со своей колонией».
Однако непонятными для обеих героинь текста остаются причины
возникновения сиротства в мирное время. «Но теперь—то? Не голод, не
война. Нетрудно, в общем, жить. И что? Дети без родителей – вот они, у
меня за плечом…», — размышляет рассказчица.
Авторская позиция достаточно четко прослеживается в тексте.
Сиротство противоречит самой природе существования жизни. Не
должно быть детей без родителей, каждому ребенку родители необходимы.
С мыслью А.А.Лиханова нельзя не согласиться. Действительно, всем детям
нужны родители, дети нуждаются в их заботе и любви. Это должно
оставаться непреложной истиной во все времена. Ведь так больно
осознавать, что в нашем обществе есть взрослые люди, сознательно
отказавшиеся от своих детей, и есть дети, лишенные родительского
тепла.
В произведениях русской художественной литературы, классической и
современной, можно найти примеры изображения судеб детей—сирот.
Писатели рассматривают эту проблему в разных проявлениях: одни
говорят о сиротстве как о трагедии, ставшей следствием войны; другие
изображают детей, являющихся сиротами при живых родителях. Так, в
рассказе «Судьба человека» М.А.Шолохова мы видим мальчика—сироту,
судьба которого трогает не только наши сердца, но и сердце главного героя.
Андрей Соколов не остался равнодушным к маленькому существу, заменил
мальчику отца, и писатель убеждает нас в том, что его герой не поступил
бы иначе. Слишком большие потери перенес сам Соколов, поэтому боль и
одиночество ребенка ему были весьма понятны. Хочется, чтобы людей,
подобных главному герою рассказа, способных согреть своим родительским
теплом пусть даже чужого ребенка, было бы в нашем обществе больше.
Современный писатель Павел Санаев в повести со страшным названием
«Похороните меня за плинтусом» рисует шокирующую судьбу мальчика,
которого при живой матери вполне можно назвать сиротой.
Воспитываемый бабушкой и дедушкой ребенок окружен беспрерывными
скандалами, возникающими в этой семье, особенно при появлении матери.
Не должно быть таким детство маленького человека, не должно! Герой
повести при живых родственниках является сиротой, и самое страшное,
что он сам это понимает, вот почему и возникает эта мольба:
«Похороните меня за плинтусом!»
В заключение нельзя не подчеркнуть, что сиротство – очень острая
проблема, и закрывать глаза на нее мы не имеем права. А.А.Лиханову удалось
донести до читателя мысль о серьезности этой проблемы и о том, что
оставаться равнодушными к ней нельзя.
У всякого человека есть в жизни история, которая как зарубка на дереве: потемнеет от времени, сровняется, смолой ее затянет, но приглядишься посильней — вот она, тут, осталась, присмотришься еще — и время обратно пойдет, закрутится часовая стрелка против солнца все скорей и скорей…
Вот и у меня есть такая история, и я всегда вспоминаю ее, когда слушаю музыку. Вспоминаю, как учился я играть, да так и не выучился, зато выучился другому, может быть, поважней музыки, выучился… да, выучился драться. Не просто кулаками махать, а отстаивать справедливое дело.
* * *
Началось все это как-то случайно, и никак я не мог подумать, что в этот обыкновенный, простой самый день начинается какая-то там история.
Итак, это было где-то вскоре после войны. Когда я, вернувшись из школы, ел жидкий супчик с перловыми крупицами на дне, позвякивая ложкой, а бабушка и мама сидели по краям стола и участливо глядели на мою макушку, жалея меня за выпирающие из спины лопатки, бабушка неожиданно сказала:
— Ой, Лиза, у Правдиных Ниночка идет в музыкальную школу. Давай и Колю запишем!
Я пошевелил ушами, не придавая этому большого значения и не отрывая взгляда от крупинок перловки на дне. Это меня и погубило.
Я не удосужился посмотреть, как заблестели бабушкины глаза, и был наказан.
А бабушка и мама оживленно говорили надо мной, обсуждая новую проблему, и бабушка, особо склонная к искусству, рисовала живые картины. Я и эти картины пропускал и оторвался от тарелки только раз, когда бабушка вдруг зажужжала.
Я вопросительно поднял голову и увидел, как бабушка, закрыв глаза и отведя в сторону левую руку, держит в другой руке вилку и жужжит — то громче, то тише. Лицо ее выражало высшее блаженство, и только тут я понял, что она подражает скрипачу и звуку, видимо, скрипки.
Мама сидела напротив бабушки, облокотившись о стол, глядя куда-то вдаль, и лицо ее было задумчиво.
Я смотрел на них, и незаметно ложка упала у меня из рук, произведя чужеродный обстановке звук, сопровождаемый жидким фонтанчиком.
Бабушкина скрипка умолкла, она поглядела на меня и засмеялась. Засмеялась и мама, и они долго хохотали, вытирая слезы и гладя меня по макушке.
Разговоры о музыке поутихли, хотя, как мне казалось, бабушка чаще прислушивалась теперь, когда по радио что-нибудь играли и, бывало, даже останавливалась посреди комнаты с суповой кастрюлей, а на лице ее было отсутствующее выражение.
Я по-прежнему жил своей мелкой частной жизнью заурядного четвероклассника и все еще не мог осознать назревающей угрозы.
Примерно через неделю, когда я, как и в прошлый раз, глотал суп, мечтая о белой булке и раздумывая, почему она называется французской, над моей головой произошел еще один разговор на музыкальную тему.
— Ты знаешь, — сказала бабушка маме, — я была у Правдивых. Они скрипку не рекомендуют. Очень действует на нервную систему.
— А как же? — растерянно спросила мама. — Можно было бы мою шубу обменять. На рынке скрипки есть.
— Да, — сказала бабушка, — но большой размер, взрослые. Для детей нужно поменьше. А купишь маленькую — вырастет, новую надо. Не наберешься…
Они вздохнули.
— А фортепьяно, — сказала бабушка, — легче. Можно с кем-нибудь договориться, к кому-нибудь ходить на игру. И на нервы меньше действует… А то тут эти, как их, пиццикато. Одной рукой все дрожать надо…
Теперь засмеялся я. Я представил себя в черном фраке и с галстучком, как у франта или у офицера в кино. А в руках у меня скрипка, желтая, как сливочное масло. Лизни — вкусное. А я не лижу, стою на сцене и смычком по струнам вожу и такую выскрипывую музыку! А в зале, прямо напротив меня, сидит враг мой первейший — Юрка-рыжий и губы от зависти облизывает.
Ох, этот Юрка!
Трудно, в общем, невозможно установить, почему сложились у нас тогда такие отношения, но Юрка преследовал меня буквально по пятам.
В первом классе мы учились вместе, и по переменкам от нечего делать, а может быть, от холода, который стоял в классе, мы становились возле стенки и толкались. Кто кого отошьет от стенки. Юрка был посильней, во всяком случае, мне это так казалось, в всегда всех отшивал от стенки, а меня проще других. Отшивая, он нахально смеялся, и это действовало на меня особенно. Впрочем, всякая очень уж сильная уверенность человека в самом себе, самоуверенность, словом, до сих пор приводит меня в некое смятение и вызывает ответную неуверенность. Не по себе мне как-то становится…
Так вот, Юрка отпихивал всех от стены, мы орали, но уступали ему — и морально и физически. Потом Юрка перешел почему-то в другую школу и на некоторое время исчез с горизонта. Но только на время.
* * *
Между тем музыкальные события развивались, я в один прекрасный вечер, совершив необычайный поступок в своей практике — велев отложить уроки «на потом», — бабушка взяла меня за руку и повела в музыкальную школу.
Идти с ней за руку мне было стыдно, но такая уж существовала у бабушки традиция — водить меня по улице, как детсадовца, — и я шел, озираясь по сторонам, чтобы в решающую минуту, когда из-за угла появится какая-нибудь знакомая личность, вдруг зачихать и полезть в карман за платком или просто напрячь силы и посильней рвануть руку, дабы доказать свою хотя и относительную, но все-таки независимость.
А тут произошло все как-то неуловимо. То ли я зазевался, то ли он просто вылез из-под земли, но в тот самый миг, когда я мирно тащился на бабушкином буксире, передо мной появился Юрка-рыжий…
Я мгновенно освободился от контактов с бабушкой, но это было ни к чему, потому что Юрка уже видел, как меня в четвертом классе водят за руку. Наверное, у меня здорово покраснели уши. Юрка-рыжий уловил мое состояние и, как бандит на безоружного человека, напал на меня.
— Ну, ты! — сказал он и пошел за мной следом. — Ну, ты! — повторил он, нахально улыбаясь, и чуть стукнул по одной моей ноге так, что я зацепился ею за вторую ноту и едва не упал.
Видно, тут-то и была моя главная ошибка. Наберись я тогда храбрости, остановись на мгновение и ткни хотя бы легонько этого Юрку куда-нибудь в грудь, он бы, наверное, отвязался от меня, и весь конфликт был бы исчерпан. Но я не остановился, не ткнул Юрку, даже ничего не сказал ему, а прибавил шагу, даже чуть побежал, догнал бабушку и — о слабость! — сам взял ее за руку, как бы страхуясь от Юркиного нападения.
Юрка-рыжий сухо хохотнул, увеличил дистанцию и пошел за нами, время от времени покрикивая:
— Ну, ты!..
* * *
Музыкальная школа размещалась, где-то в глубинах драматического театра, под самой крышей, и пока мы добирались до нее, я подумал, что театр походит на огромного слона, а мы идем внутри у него, по бесконечным и узким, словно кишки, коридорам. Впечатление это подтвердилось, когда мы нашли все-таки эту музыкальную школу. Она оказалась обыкновенным коридором, перегороженным крашеной фанерой. В этом аппендиксе было полно народу, главным образом взрослые, хотя школа называлась детской. Приглядевшись, я увидел, что взрослые не одни, а все с ребятами или девчонками, и все ведут себя так, будто чего-то ждут.
Бабушка нашла местечко, мы устроились, я начал разглядывать коридор повнимательнее и вдруг почувствовал, как снова, второй уже раз сегодня, краснеют мои уши.
В другом углу, положив ладошки на колени, с белым бантам, который был больше ее головы, сидела наша классная тихоня Нинка Правдина, сидела выпрямившись, словно на уроке, серьезная до невозможности, и смотрела на меня, преисполненная чувства собственного достоинства. Даже кнопочный нос с редкими веснушками у нее кверху задирался.
В краску меня бросило сразу от многих обстоятельств. Во-первых, потому, что вся эта история с музыкой казалась мне ненужной и даже постыдной в глазах серьезных людей, и в мои планы вовсе не входило, чтобы кто-то видел меня тут.
Во-вторых, потому, что Нинка Правдина в ту пору казалась мне непревзойденной красавицей, чему не мешали даже ее веснушки. Кроме того, она держалась в школе особняком, даже с девчонками не водилась, а потому казалась мне какой-то необыкновенной… Во всяком случае, к ее ответам на уроках, за которые ей всегда ставили пятерки, я внимательно прислушивался, а ее неофициальных высказываний на переменках, равно как и взглядов, пронизывающих до пяток, просто-напросто остерегался.
Ну, а в-третьих, от чего меня бросило в жар, была ее мамаша, которую я как-то видел в школе и которая теперь улыбалась мне и кивала так, будто мы с ней какие-нибудь родственники, и смотрела на меня так поощрительно, будто я уже не просто Колька, а какой-нибудь заслуженный артист республики.
Меня этот взгляд добил окончательно, но в эту минуту рядом кашлянула бабушка, кокетливо поправила гребенку в седых волосах, и, поднявшись, пошла к Нинкиной маме.
Нинкина мама поднялась навстречу бабушке, они заворковали сразу о чем-то, наверное, о своих пиццикатах, присели, а Нинка прямо бабочкой вокруг них кружилась, так и вертелась вся. Бабушка, улыбаясь, поглядывала на нее, гладила ее по волосам, потом посмотрела на меня и сказала Нинке что-то, наверное, сказала, чтобы она пошла ко мне. Я подумал про себя, что уж это дудки, что уж Нинка ко мне не пойдет, очень ей надо, но, странное дело, она, ни чуточки не стесняясь, — а ведь народу в коридоре было порядочно — подошла ко мне, и хоть бы хны!.. Уселась рядышком. Словно мы с ней давнишние дружки.
От Нинки несло каким-то благоуханием, бант у нее прямо светился белым сиянием, щеки горели, как фонарики, черные глаза блестели. Нинка чувствовала себя как рыба в воде, будто она тут всю жизнь, в этом коридоре, пасется. Она поглядывала на меня дружелюбно, а я не знал, куда от стыда деться: народ в коридоре скучал, и все прямо таращились на нас, особенно мальчишки. «Во, — скажут, — девчатник нашелся! Девчатник музыкальный!»
Нинка же ничего не замечала вокруг — надо же, я ее такой простой, такой ненадменной первый раз видел! — и говорила со мной о всяких пустяках там, о том, какой в сорок девятом примере по арифметике ответ у меня, и всякое такое.
Она заглядывала мне в глаза, слушала мое бурканье с большим вниманием, все время кивала головой с невиданным бантом, и мне казалось, что и правда это не бант, а огромная белая бабочка.
— А ты не боишься? — спросила меня Нинка и посмотрела с участием.
— Чего? — буркнул я.
— Экзамена.
А я даже и не знал, что какой-то там экзамен будет. Я и не готовился.
— Ну, не бойся! — сказала Нинка. — Это ерунда! Простецкое упражнение. Нужно повторить, что тебе там выстучат. Слух проверяют.
Слух проверяют… Я даже и не думал, что слух еще как-то проверяют. Я же не глухой, чего тут проверять? Но тем не менее что-то мне такое предстояло. Я заволновался еще больше, заерзал на стуле, видно, уши у меня покраснели пуще прежнего, и Нинка, заметив мое волнение, совсем прямо обалдела — взяла меня за руку, пожала ее и сказала:
— Не бойся!
* * *
Мне казалось, — да что казалось, это было точно, — пока Нинка сидела со мной и крутила своим бантиком, все часы остановились. И люди вокруг ничего не делали — только таращились на нас.
И вдруг хлопнула дверь, все повернули головы: из-за двери вышел какой-то мальчишка, а вместо него туда впорхнул белый бант. Я даже не заметил, как Нинка проскочила мимо меня.
Я вздохнул, кровь отлила от моих ушей, и жизнь пошла дальше. Никто в коридоре не пялил на меня глаза, на душе стало очень хорошо, покойно, ко мне пришла бабушка и сказала с укором, будто я в этом виноват:
— А Ниночка уже давно играет!
Я хотел было спросить, на чем это она играет, но раздумал: хватит мне на сегодня этой Ниночки!
За дверью раздалась какая-то барабанная дробь. Через мгновение она повторилась, потом забренчал рояль, дверь распахнулась, и на пороге появилась Нинка, еще более румяная, и бант ее будто светился еще ярче.
Она бросилась к своей маме, они зашушукались там, в своем углу, потом поднялись и подошли к нам.
— Ну вот, — сказала Нинкина мама. — Ниночке прямо там, в комиссии, сказали, что она зачислена.
Бабушка снова стала гладить Нинку по голове, заулыбалась ей, захвалила, а ее мама, радуясь, сказала:
— Но мы не уйдем. Подождем, как у Коляши!
«Ничего себе, — подумал я. — Коляша! Во придумали! Не дай бог, Нинка в классе скажет, изведут! Коляша!..»
Но расстроиться как следует я не успел: бабушка подтолкнула меня в бок и кивнула на дверь. Настала моя очередь проверять слух.
* * *
Я думал — там врачи. Ухо-горло-носы. Ведь слух проверяют! Но врачей никаких не было. Были две женщины средних лет, сильно накрашенные, и возле рояля сидел сутулый старик с курчавыми волосками, торчащими из ушей. Это я, как вошел, сразу заметил, это меня очень заинтересовало, я даже хихикнул про себя. «Вот тебе и ухо-горло-нос», — подумал я. Но старик на меня никакого внимания не обратил, даже не обернулся, не поглядел на миг: может, сразу понял, кто вошел…
Накрашенные женщины, глядя сквозь меня, спросили мою фамилию и спросили, не играю ли я на каком-нибудь инструменте, на что я мотнул головой, хотя в душе опять захихикал и подумал, что надо бы сказать: «Да, играю — на нервах». Ходила тогда у нас такая шуточка. Но ничего я, конечно, не сказал, а накрашенные женщины велели, чтобы я повторял то, что мне сейчас простучат.
— Пал Саныч! — воскликнула одна из них, и старик с волосатыми ушами, все так же не оборачиваясь, не проявляя ко мне никакого совершенно интереса, протянул вперед длинную, прямо двухметровую руку со стиснутым кулаком и громко постучал по роялю. В рояле что-то тоненько звякнуло, пружина, наверное, и я понял, что старик стучит не просто так, а со смыслом, с какими-то едва уловимыми перерывами. Будто азбуку Морзе выстукивает.
Я провел кулаком под носом, была у меня такая привычка, вздохнул, подошел к столу и простучал что-то совсем не то. Даже мне это стало ясно. Крашеные тетки нахмурились, но старик, все так же не поворачиваясь, опять протянул руку вперед. И как-то так он ее протянул, что мне показалось, будто он протягивает мне руку помощи, как утопающему.
Я вцепился взглядом в эту длинную, жилистую руку и напряг все свои слуховые возможности. Старик постучал быстро, но как-то внятно, и я тут же, без остановки, повторил то, что он простучал. Точно, без помарок.
Крашеные тетки уже не глазели на меня, но вдруг повернулся старик. Он глядел на меня, щурясь слезящимися белесыми глазами, и словно хотел что-то сказать.
Но он ничего не сказал, а одна из крашеных теток велела мне идти, и я вышел, с красными от слуховой работы ушами, растерянный, не зная, что и подумать.
* * *
В коридоре на меня набросились так, будто я неделю в тайге проплутал, а бабушка, и Нинка, и ее мама не чаяли меня и увидеть. Они смотрели на меня, как на страдальца какого или как на генерала — юного, но седого и израненного всего. Опять я зарделся, как морковка, но они ничего не замечали, — что им полный коридор людей, если я оттуда, от этой комиссии, живым вышел!
Еле они угомонились, еле отошли: бабушка узнала, что окончательные результаты всем скажут завтра, и мы пошли домой вместе — Нинка со своей мамой, бабушка и я.
О-хо-хо, этот несчастный день! Мало того, что мы пошли вместе и дошли до самого нашего дома, потому что, видите ли, Нинкина мама решила, что нас с бабушкой надо проводить после такого дела, одни не дойдем, — мало этого, так бабушка еще велела идти мне вместе с Нинкой впереди. Бабушка с Нинкиной мамой шли позади и все говорили о жизни замечательных музыкантов, а я плелся с Нинкой, вогнав голову в плечи, готовый даже за руку с бабушкой идти, только не так, только не с Нинкой.
Я плелся, и все в моей душе переворачивалось от тяжких предчувствий.
Сейчас, много лет спустя, когда заговорили, наконец, о существовании телепатии, странных, невидимых никому излучений, которые передают на расстояние не только мысли, но и страх и могут, говорят, формировать всяческие предчувствия, я думаю, что вот те два длинных квартала, пока я шел с Нинкой Правдиной, были крупнейшим в моей жизни сеансом телепатии. Странные, невидимые мне, но рыжие, наверное, Юркины волны вызывали во мне совершенно ясное чувство предстоящих неприятностей.
И точно. Есть она, черная магия! Как только мы подошли к углу, где сегодня днем я встретил Юрку, он снова появился как из-под земли.
Глаза у него были круглые. А рыжих ресниц и бровей, тоже рыжих, почти не было заметно.
Он стоял молча, пока мы с Нинкой, а потом бабушка с Нинкиной мамой не прошли мимо него. Потом он так же молча забежал вперед и снова посмотрел, как мы пройдем перед ним. Потом он забежал вперед еще раз и снова пристально посмотрел на нас. И когда я в четвертый раз, окончательно добитый, в паре с Нинкой прошел под его светящимся, радостным и одновременно недоумевающим взглядом, он, остановившись, отпустив нас на некоторое расстояние, крикнул адресованное мне, страшное:
— Хахаль! Эй, хахаль!
Уже потом, дома, шаг за шагом разматывая клубок минувшего дня, я припомнил Нинку в эту минуту.
До сих пор она все пыталась говорить со мной.
Но когда Юрка крикнул это, она сразу замолчала. Не обернулась на рыжего, нет. Она просто замолчала и выпрямилась, и высоко подняла голову. И так посмотрела на меня, словно ничего не было. Ни музыкальной школы, ни экзамена. И будто не трещала она, заговаривая со мной целый вечер.
Нинка посмотрела на меня, будто насквозь прожгла.
И тошно мне стало так!
* * *
На другой день, вернувшись из школы, я застал бабушку очень разрумянившейся. Она хлопотала у печки, в комнате вкусно пахло ржаным пирогом с картошкой.
Бабушка моя была мастерица по части всякой выпечки, в хорошие годы, когда водилась мука, всех она удивляла неиссякаемым умением стряпать какие-то вкуснейшие коржики, пышки, пончики и пирожки.
Гремя противнями, сложив морщинки на переносице от важности производимого дела, взмахивая куриным крылышком, окунутым в маслице, бабушка напоминала сталевара, выдающего плавку, где с горячим металлом не шути — обожжет или переварится. В такие минуты она была сердита, сосредоточенна, и тут уж лучше к ней не подступаться!
Из всех своих произведений больше всего любила бабушка печь пирог какой хошь, на усмотрение и на требование — хоть с морковкой, с картошкой, хоть с нежнейшей рыбой или мясным фаршем, заправленным как следует лучком, с совершенно особой, тающей во рту поджаренной верхней корочкой.
Пирог был для бабушки высшей точкой ее душевного вдохновения, как, скажем, контрапункт для композитора. Перед праздником, либо перед другим каким торжественным событием бабушка сначала начинала охать и волноваться, и когда волнение достигало накала, она упрекала себя: «Что же это я?» — и начинала хлопотать у печки.
В то время, о котором идет речь, пирогов с тающей верхней корочкой бабушке печь не приходилось, но она не унывала, доставала в обмен на довоенные жакеты или стоптанные туфли ржаной мучицы, но себе не изменяла. Ведь не может же композитор перестать сочинять музыку. Даже в самое трудное время…
Когда я вошел, бабушка стряпать уже заканчивала, строгость сошла с ее лица: она улыбнулась мне и заторопила, чтобы я собирался в музыкальную школу за результатом.
В коридоре, перегороженном крашеной фанерой, было пусто, на стенке висели листки с фамилиями принятых учиться музыке. Бабушка велела мне быстренько найти себя в этих списках, я посмотрел, но не нашел, посмотрел еще раз и снова не нашел. Бабушка рассердилась, — экая я бестолковщина! вытащила футляр, обмотанный тонкой резинкой, нацепила очки и сама стала читать списки, поводя головой слева направо, потом быстро налево и снова направо…
Бабушка читала не торопясь, основательно, боясь упустить строчку, ведь каждая строчка была целой фамилией! Листки кончились, бабушка долго смотрела на стенку рядом с последней строкой, и что было в душе у нее в этот миг, одному богу известно!
Она постояла так недолго, потом, решившись на что-то, взяла меня крепко за рукав и, подтолкнув вперед, вошла в комнату, где я вчера так неудачно стучал по столу.
В комнате, будто никуда и не уходила со вчерашнего дня, сидела одна из крашеных теток. Едва она подняла голову, как бабушка стала быстро-быстро говорить. Я никогда не видел, чтобы она так быстро говорила — как Синявский по радио. А бабушка тараторила, и так это у нее здорово получалось, я диву давался.
Конечно, она сказала, что никак невозможно, чтобы я не учился музыке, что музыка — наша семейная страсть, что бабушка, она сама из простых, из пролетариата, но всю жизнь мечтала, чтобы внук умел играть при нашей Советской власти на музыкальном инструменте.
— Видите ли, уважаемая…
— Пелагея Васильевна, — торопливо, будто угодить хотела, сказала бабушка.
— Видите ли, уважаемая Пелагея Васильевна, мы бы зачислили вашего ребенка, взяли бы, как говорится, сверх нормы, но увы… У него нет слуха!
Только что бабушка угодливо подсказывала этой крашеной тетке свое имя-отчество, а тут ее словно перевернуло. Она выпрямилась, разгладила морщинки на переносице, поджала губу, голову набок наклонила и спросила с вызовом, будто ее только что оскорбили:
— То есть как это слуха нет?
И покрутила головой, будто сказать хотела: ну и ну, дескать, мухлюете тут немилосердно! Тетка была хоть и накрашенная, но в душе хорошая. Она принялась объяснять, говорить, что слух — это очень важно, хотя и его можно выработать, беды большой нет, тренировка в музыке тоже очень важна, и посоветовала прийти, когда будет конкурс в группу народных инструментов.
— Это на балалайке-то? — возмутилась бабушка и потянула меня к выходу. — Ну уж увольте, милочка!
На пороге бабушка остановилась на минуту, обернулась, задохнулась от возмущения и, покраснев, сказала тихо, будто эта тетка в чем-то виновата:
— Мы же войну вынесли… А вы — балалайку…
О, эта музыка! Из-за нее и я, поддавшись настроению бабушки и мамы, пришел в уныние, будто завалил невесть какой экзамен, будто я и в самом деле виноват, что нет у меня слуха.
Вернувшись домой, мы жевали без всякого вкуса поджаристый бабушкин пирог, испеченный к несостоявшемуся событию, захлебывали его крепким чаем и молчали опять, потому что говорить было нечего. Что тут скажешь?
Где-то в душе я, потихоньку остывая, успокаивался, думал, что в общем-то ничего страшного не случилось, какой в самом деле из меня музыкант, вот Юрке бы как следует надавать за «хахаля» — это дело, а с музыкой — ну что, переживем, пусть Нинка Правдина играет, это вполне для нее подойдет…
И только я подумал про Нинку, ну вот только-только, как в дверь постучали, и вошли сначала Нинка, а за ней ее мама.
Лица у них были встревоженные. Оказалось, они все уже знали, потому что были вслед за нами в музыкальной школе. Сразу же, с порога еще, Нинкина мама стала утешать нас, говоря, что все это ерунда, что просто большой конкурс в музыкальную школу, а слух — ведь это не беда, его можно развить упражнениями.
— Да, да, — сказала бабушка невесело, — мне ведь и заведующая это же говорила, да что толку… Как же этот слух развивать, если Колю не приняли…
Все задумались ненадолго, а я посмотрел на Нинку. Она разглядывала нашу комнату, потом увидела фотографию на стене, где я маленький, голышом, да еще с бантом на голове, как девчонка, поняла, что это я, ухмыльнулась, взглянула на меня искоса. Я покраснел слегка, а Нинкина мама сказала:
— Вы знаете, можно же частно договориться. С каким-нибудь музыкантом. У вас есть знакомые музыканты?
Бабушка глянула на нас с интересом, а мама даже в ладоши хлопнула.
— Зинаида Ивановна! — воскликнула мама.
Бабушка надменно повела плечами, покачала головой.
— Зинаида Ивановна! — горько усмехнулась она. — Зинаида Ивановна в кинотеатре играет. Тоже мне музыкантша!
— Не страшно! — обрадовалась Нинкина мама. — Вовсе не страшно! Главное, музицирует, а раз музицирует — научит!
* * *
Зинаида Ивановна была дальней нашей родственницей, такой дальней-предальней, что о ее существовании вспоминали, только встретив на улице или же придя в кино, где она играла перед началом вечерних сеансов.
Меня, понятное дело, на вечерние сеансы не пускали, поэтому я Зинаиду Ивановну представлял себе смутно, очень даже плохо представлял.
В кино на переговоры с дальней родственницей мама и бабушка собирались тщательно, волнуясь, потому что, по их представлениям, это был последний шанс сделать из меня великого — ну, не великого, так по крайней мере крупного — музыканта.
Зинаида Ивановна работала в «Иллюзионе», самом шикарном кинотеатре. Двери в фойе там были стеклянные, и сквозь них можно было бесплатно послушать музыку, которую исполнял оркестр.
Мы пришли пораньше, прослушали сквозь стекло всю программу, а когда зрителей пустили в зал и оркестранты стали собирать на сцене свои трубы, бабушка попросилась у контролерши пройти в фойе.
— В оркестр, — сказала бабушка, — к Зинаиде Ивановне.
Мы прошли в фойе все втроем, и бабушка с мамой отправились на сцену, куда-то за кулисы. Я стоял, как будто какой-нибудь безбилетник, и каждый киношный работник, проходивший по фойе, мог меня турнуть.
Наконец появилась Зинаида Ивановна. Она шла, будто русалка, в чешуйчатом платье до пола, круглолицая, и в чуть выпяченных губах у нее ловко сидела папироска. Росту Зинаида Ивановна была весьма маленького, гораздо ниже мамы и бабушки, но неотразимое ее платье все-таки заслоняло их, делало сразу невидными какими-то и тусклыми.
Маленькими, неторопливыми шажками, глядя прямо в глаза, Зинаида Ивановна подошла ко мне и вдруг потрепала по щеке.
— Уй-тютюлечки! — сказала она. — Какой большой мальчик! И учится, наверное, хорошо?
— Хорошо, хорошо, — торопливо подтвердила бабушка, и в голосе ее ни чуточки не было от того пренебрежения, с каким говорила она вчера о Зинаиде Ивановне.
— Ах, музыка! — воскликнула в это время Зинаида Ивановна, закатывая к потолку маленькие глазки и всплескивая ручками. — Ах, музыка! Я вас понимаю!.. Ну что же, что же… Приходите! Я ваша!..
— Когда же? — спросила мама, как девочка, стоявшая все время в тени.
— Хоть завтра! — сказала Зинаида Ивановна, но тут же спохватилась. Нет, завтра я не могу… Послезавтра… Впрочем, давайте на той неделе, в понедельник…
* * *
— Ишь ты, стрекоза, — ерепенилась бабушка, когда мы шли домой. Завтра, послезавтра, в понедельник. — И тяжело вздыхала: — Будет ли какой от нее толк?
А мне почему-то вспоминалось серебряное, в чешуйку, платье Зинаиды Ивановны, и казалось, что толк будет…
На первый урок мы пошли вместе с бабушкой, и Зинаида Ивановна, уже без чешуйчатого платья, поила нас чаем, а потом долго музицировала.
Она играла польки и вальсы, и бабушка, смягчаясь, молча, понимающе кивала головой, когда Зинаида Ивановна брала высокие аккорды. Бабушке первый урок очень понравился, она в корне пересмотрела свое отношение к дальней родственнице и полностью доверила меня ей.
Теперь я ходил на музыку уже один и чаем Зинаида Ивановна меня не поила, поглубже запахивалась при моем появлении в засаленный стеганый халат и садилась рядом со мной к инструменту.
Она учила меня для начала, как надо держать руки, как нажимать клавиши и в то же время жать на педали.
Жать не педали мне особенно нравилось, это напоминало автомобиль сцепления и тормоза, — и, увлекаясь этим, представляя, что я шофер, а вовсе никакой не музыкант, я забывал об остальном.
Зинаида Ивановна обреченно откидывалась на высокую спинку стула, стирала пот со лба, тяжело дышала, по лицу ее ползли красные пятна, а я сидел, опустив голову, сознавая собственное ничтожество, и боялся взглянуть на учительницу.
Наконец Зинаида Ивановна отходила, лишь в голосе ее слышалась какая-то тугость, будто трудно ей было мне все наново объяснять, и мы начинали опять.
Отметок, ясное дело, Зинаида Ивановна не ставила; бабушка, пристроив меня к музыке, успокоилась, решив, что теперь, видно, надо ждать; мама с утра до позднего вечера была на работе, так что о моих музыкальных успехах знали лишь мы — я и моя учительница. А дома на вопрос: «Ну как там музыка?» — я непринужденно отвечал: «Все в порядке».
Не помню точно, какое упражнение мы разучивали с Зинаидой Ивановной первым. По-моему, это было упражнение № 24, какая-то очень простенькая музыкальная фраза. Нужно было ударить несколько раз разными пальцами по клавишам в определенной последовательности. Выходило упражнение № 24.
Видно, комиссия в музыкальной школе кое-что понимала все-таки: запомнить на слух упражнение это я никак не мог, поэтому после нескольких сеансов мучений я попробовал запомнить, какими пальцами иуда надо было жать.
Но запомнить это тоже оказалось непросто, что-то я там такое путал, и Зинаида Ивановна, видно, отчаявшись, велела мне поучиться писать музыкальные ключи.
— Вот посмотри, — сказала она и ткнула пальцем в ноты. — Ты, конечно, знаешь, что такое музыкальный ключ?
Я кивнул.
— Вот и напиши целую страницу ключей.
Придя домой, я быстро написал по памяти страницу ключей в тетради, чтобы поскорее выбросить из головы эту музыку и заняться своими делами.
На другой день по дороге к Зинаиде Ивановне мне попался Юрка-рыжий. Я шел с нотной папкой на веревочке, с довоенной еще папкой, которую невесть где раскопала бабушка, а Юрка стоял на тротуаре, пристально, как удав, глядя на меня.
Я сжался весь, готовый к схватке, но Юрка пропустил меня мимо, не тронув пальцем.
— Ну, музыкант! — крикнул он вслед то ли с удивлением, то ли с угрозой. — Ну, музыкант!
Трепеща, я пришел к Зинаиде Ивановне. В ее комнате гремела музыка, соревнуясь с отчаянным мужским голосом. Я остановился в нерешительности, взявшись за дверную ручку, не зная, входить или лучше не надо. А рояль гремел так, что, казалось, у него вот-вот струны лопнут:
Мой совет до обручень-я
Не цалуй я-го!
Не цалуй я-го!
орал мужской голос.
Аха-ха-ха-ха!
Ха-ха-ха-ха!
Я даже вздрогнул от этого хохота, приоткрыл дверь и увидел Зинаиду Ивановну в том же стеганом халате, но не так, как обычно, глубоко запахнутом. У рояля, облокотившись, стоял мужчина с галстуком-бабочкой. Я сразу подумал, что ему бы больше подошло грузить на пристани кули с картошкой или молотобойцем работать с такой пунцовой физиономией, но Зинаида Ивановна не дала мне разглядывать своего певца, прервала музыку, вышла в коридорчик и, радостно улыбаясь, будто первый раз меня видела, спросила:
— Ну что ключи?
Я достал из папки тетрадку. Странно всхлипнув, Зинаида Ивановна побежала в комнату, и я услышал, как она кричала там, за дверью, смеясь:
— Ты смотри, какие ключи!
Урока у нас не было, я ушел переписывать ключи, потому что они были у меня, целая страница, животиками направо, совсем в другую сторону.
Возвращаясь домой, я снова увидел Юрку. Он стоял на том же месте, будто никуда и не уходил.
— Эй, ты, — сказал он мне, когда я поравнялся, — эй, ты, музыкант, сыграй что-нибудь.
Домой я пришел с синяком и с отвратительным настроением, потому что противопоставить синяку ничего не смог.
* * *
С этих пор начались мои настоящие муки. Каждый раз, когда я шел на музыку, меня встречал Юрка. Я пробовал изменить маршрут, ходить другой улицей, но Юрка ждал меня и там, будто у него было сто глаз.
Он пинал меня — не сильно, нет, легонечко, этак подпинывал, едва-едва, или просто шел сзади, и это было еще хуже. Содрогаясь всей душой, униженный, запрятав куда-то глубоко в себя собственное достоинство, я шел, всей спиной ощущая Юрку, каждую минуту ожидая, что он ударит сзади. Но Юрка не ударял, он шел за мной с полквартала, потом отставал, и этот момент, когда он останавливался наконец, я ощущал почти физически.
Вздохнув, не оглядываясь, я прибавлял шагу, и до самых ворот Зинаиды Ивановны мне было тошно… Каким униженным я чувствовал себя! Все кипело во мне, кулаки сжимались сами собой, скулы ходили желваками — так ненавидел я Юрку и презирал себя. Героические картины сменялись одна за другой в моем воображении: то мне казалось, что я знаменитый боксер, и вот мы, уже взрослые, встречаемся на улице, и я бью его, легонько так бью одной левой прямо в подбородок, а он катится кубарем от моего хука; то мне виделась война — я остаюсь подпольщиком в нашем городе, а Юрка, ясное дело, становится предателем, и я мщу ему — не только за себя мщу, но, конечно, и за себя, — хватаю его темной ночью на улице и веду на партизанский суд…
Но между видениями я снова оказывался на улице, шагая к Зинаиде Ивановне с этой проклятой музыкальной папкой, и прохожие толкали меня и возвращали к действительности, к Юрке, которого я встречу не когда-то там, а который сейчас стоит посреди дороги на пути домой.
Я стучался в дверь к Зинаиде Ивановне, и новые мучения наваливались на меня.
Музыкальные ключи кое-как нарисовать мне удалось, но занятие, пропущенное из-за этого «ха-ха-ха-ха», из-за этого сатаны с бабочкой-галстуком, немедленно сказалось: я снова забыл, куда каким пальцем жать в 24-м упражнении.
Зинаида же Ивановна, решив, видно, что она достаточно помаялась со мной и уж что-что, а 24-е упражнение я должен знать назубок, заупрямилась, требуя от меня упражнение, и не желала показывать, куда когда надо нажимать.
Это занятие было переломным в моей музыкальной биографии.
Я пыхтел, обливаясь потом, краснел с макушки до пяток, нажимал клавиши, лихорадочно пытаясь вспомнить, как это делается, но рояль издавал какие-то чужеродные звуки, вовсе не напоминавшие музыку.
В тяжелые минуты всегда приходят какие-то странные, ненужные мысли. Отчаявшись, опустив руки, я вспомнил вдруг давнее свое видение. На сцене, перед толпой народа стою я в черном фраке с галстучком, как у того «ха-ха-ха-ха», который приходил к Зинаиде Ивановне.
Я глянул вперед, перед собой. В блестящей стенке рояля отражался жалкий шпингалет со встрепанными волосами, в залатанной на локтях курточке, и курносый вдобавок…
Мне стало горестно, так горестно, что захотелось не то что зареветь, завыть волком — протяжно и глухо, от отчаяния, оттого, что я такая беспутная, ни с чем не сравнимая бездарь!
Я сидел перед очами суровой Зинаиды Ивановны, отражаясь жалким, всклокоченным существом в зеркальной стенке рояля, чувствуя все свое ничтожество, готовый вдарить кулаком по этим проклятым, незапоминающимся клавишам, как вдруг Зинаида Ивановна, моя дальняя родственница, сделала такое, чего я никогда, никогда в жизни не забуду.
Краснея лицом, светлея глазами, запахивая потуже халат, она встала и прошептала, отворачиваясь, искренне возмущаясь:
— Какая бесталанность!
Гнев душил Зинаиду Ивановну. Еще бы, потрачено столько сил, столько энергии, в конце концов столько родственных чувств — и никакой отдачи. Полная пустота. Полная неспособность. Не сдержав себя в минуту гнева, она прошептала этот свой страшный приговор, и я услышал его, услышал!
Все вскипело во мне. Сначала, отчаявшись, я опустил голову, готовый вскочить и убежать отсюда, уйти навсегда, чтобы не видеть этого белозубого оскала проклятых клавиш. Но уйти — означало сдаться.
Нас было трое в комнате: Зинаида Ивановна, я и рояль. Сумерки вползли в окна, было безумно тихо, и вдруг — вдруг я почувствовал себя легким и свободным, будто я, как лягушка-царевна, сбросил свою лягушечью шкуру и стал другим, совсем другим человеком.
Мне стало просто и ясно, и как-то особо, со всеми деталями я увидел все, что было вокруг. Зинаиду Ивановну, и каждое пятно на ее туго запахнутом халате, и ее красное лицо, и рояль, смеющийся во весь рот надо мной, и оконный переплет — черный крест на фоне синеющего неба, и коричневый — именно коричневый! — горшок на подоконнике с причудливо прогнутым стволиком герани. Мне почудилось, что я даже слышу терпкий запах гераниевых листьев.
Я выпрямился, посмотрев на себя в стенку рояля, посмотрев себе в глаза, и смело положил руки на клавиши. Они прошлись по белым зубам рояля быстро и непринужденно! Это было упражнение номер 24!
Я сыграл еще раз, глядя на клавиши, и еще раз — уже не глядя на них.
Торопливые шаги прозвучали у меня за спиной и умолкли. Шаги говорили. Я понял, что они не удивлены, нет, они поражены.
А я играл и играл упражнение номер 24.
Молча, ничего не говоря, Зинаида Ивановна взяла меня за руки, отвела их в сторону и сыграла какую-то новую фразу. Я тотчас повторил ее. Тогда она сыграла третью, и я опять поразил ее. Я сыграл все три фразы подряд, сначала упражнение 24, а потом два новых.
Зинаида Ивановна вздохнула, погладила меня по голове и сказала:
— Вот видишь…
Будто я неслух, который долго упрямился, а вот теперь сдался, уступил. Будто все, что случилось сегодня, давно уже быть могло. Ничего она не поняла, Зинаида Ивановна.
А я сидел, свесив руки, как знаменитый пианист после долгой игры, и мне казалось, что меня кто-то вытряхнул. Что внутри у меня пусто.
Я медленно оделся, взял в руки свою нотную папку и вышел на улицу. Зинаида Ивановна удивленно глядела мне вслед.
Впереди, где-то по дороге домой, меня ждал Юрка. А двух побед подряд не бывает. Не осталось у меня на Юрку сил…
Он ткнул меня куда-то в грудь, и хотя было совсем не больно, слезы застлали улицу, ставшую расплывчатым, мутным пятном.
* * *
Но настает в череде тяжких дней, сплошных неудач и неприятностей минута, когда вы вдруг улавливаете еле слышные шаги приближающихся перемен. Все вокруг по-прежнему — одни неприятности. Но вы ощущаете, вы наверняка знаете, что скоро, скоро — не сегодня, так завтра, не завтра, так на той неделе — вдруг случится что-то невероятное. И вам уже легче. И неприятности, которые по-прежнему не дают житья — не такие уж неприятности. Вы воспринимаете их как временные осложнения, как грипп, например, от которого никуда не денешься, но скоро — вы это знаете наверняка, — скоро он пройдет…
Так было и со мной на другой день. После школы опять предстояла дорога к Зинаиде Ивановне, и Юрка посреди этой дороги, урок музыки, обратная дорога и вторая встреча с Юркой.
Но в школе, вспоминая время от времени о предстоящем, я не сжимал кулаки в лютой ненависти к Юрке, не вздрагивал, стыдясь сам себя. Что-то должно было случиться скоро. Это неизвестное что-то вселяло в меня столько уверенности и покоя, что даже когда Нинка, ощутив мой взгляд, опять посмотрела на меня блестящими своими глазищами, я не отвернулся, как обычно, а принял этот взгляд. Мне стало тепло отчего-то там, внутри, и чувство ожидания выросло, окрепло. Нинка посмотрела на меня как-то особенно, и я понял это.
С того дня, когда мы вдвоем попались на глаза Юрке и он обозвал меня хахалем, Нинка как бы отодвинулась от меня. Нет, в общем-то ничего не случилось, просто она вела себя так же, как до встречи в музыкальной школе, где она проявила к моей особе ошеломившее меня внимание.
Да, ничего не случилось, а все-таки случилось.
Не зря же, забыв об уроке, я смотрел часто на Нинку, на ее бант. Нинка чувствовала мой взгляд, но не вертелась, зная, что я обращаю на нее внимание, а лишь изредка оборачивалась и взглядывала на меня, нет, не на меня, а в меня своими черными смородиновыми глазами.
Я вздрагивал, отворачивался и ждал, тщетно ждал, когда Нинка, как тогда, перед музыкальным экзаменом, подойдет ко мне.
Но она не подходила. И я понимал, что музыка, которой я усердно внимал на уроках Зинаиды Ивановны, — это единственная тропинка, по которой может подойти ко мне Нинка…
А сегодня… сегодня она посмотрела на меня удивительно!
Правда, больше она не взглянула ни разу в мою сторону за весь день, но это было неважно! Зато все перемены Нинка смеялась и бегала с девчонками. Это было так не похоже на нее, неприступную классную королеву, которой и девчонки-то стеснялись. А на большой перемене случилось вообще невероятное.
У нас в классе стояло пианино, старенькое и обшарпанное. На уроках пения мы пели бодрые песни, а пианино, дребезжа, вторило нам под руками учителя. Иногда кто-нибудь из ребят на переменке откидывал с шумом крышку и стучал по клавишам или ездил по ним кулаком. Но это случалось редко, дежурные тотчас хватали «музыканта» и выдворяли его за дверь.
Когда в большую перемену Нинка села к пианино и открыла крышку, по привычке кто-то из дежурных завопил, но она даже не повернула головы в его сторону, а девчонки, с которыми она бегала сегодня, окружили пианино плотным кольцом. Дежурные отступились, а Нинка заиграла.
Я помнил, бабушка говорила когда-то, дескать, Нинка играет, но я подумать не мог, что она умеет так играть! Нет, не чижика-пыжика, не пресловутое упражнение номер 24 играла Нинка. Старенькое, обшарпанное пианино стонало всеми струнами, рождая удивительные звуки. Я не знал, что играет Нинка, но это походило на море. Волны то накатывались на меня, сверкая брызгами, то отступали, успокаиваясь, и все это было в музыке.
Девчонки, окружившие Нинку, стояли открыв рот, замерли привередливые дежурные, и даже самые шебутные мальчишки не лезли и не орали. Все слушали музыку, и всем, всем, ничего не понимавшим в ней, она нравилась.
Нинка играла, а волны все катились, и вот море уже бушевало. Меня будто мороз по коже продрал — стало холодно и торжественно. Я видел только Нинкин венчик, сделанный из косички, ее корону, и Нинка, конечно, не смотрела на меня, но я знал, я чувствовал, что эта удивительная и неожиданная музыка имеет отношение ко мне.
Волна благодарности к Нинке захлестнула меня, закружила голову. Мне захотелось сейчас, сию минуту сделать что-нибудь удивительное, достойное, рыцарское, чтобы и Нинка поняла мое к ней отношение, и, как только она встала, перестав играть, я, краснея, подошел к пианино и одним духом выпалил все, что знал: упражнение номер 24 и два других новых упражнения. Я сыграл их на одном дыхании, без остановки, и, ясное дело, вышла какая-то мешанина.
Кто-то из мальчишек хлопнул меня по плечу, крикнул в ухо модную в классе присказку: «И ты, брутто, сказало нетто, завернулось в тару и упало!»
Смешная поговорка, которой я не придавал раньше ровно никакого значения и вместе со всеми потешался этой забавной нескладухе, вдруг приобрела для меня особый смысл.
Я зарделся.
Нинка играла хорошую музыку, а у меня вышло так, будто я ее передразнил своей ерундой. После нее мои упражнения прозвучали резко и странно и совсем некстати.
Я готов был сгореть со стыда, но все-таки набрался сил и взглянул на Нинку. Она стояла совсем рядом со мной, а смотрела в сторону. Туда и смотреть-то нечего было — пустой угол, а она смотрела. Просто отворачивалась.
Мне стало опять горько.
Протарахтел в коридоре звонок, начался урок, а я все не мог прийти в себя. Было так хорошо, и вот…
Ах, как клял я себя, как проклинал, какими последними ругал словами! «И ты, брутто, сказало нетто, завернулось в тару и упало!» — дурацкая эта прибаутка вертелась в голове, и я представлял сам себе то брутто, то нетто, которое заворачивается в какую-то тару и падает с позором. Было тошно. Мне казалось, что все смотрят на меня, и я сидел, уткнувшись в тетрадь. Наконец мне стало невмоготу, и я поднял голову, чтобы попроситься выйти, спрятаться в уборной, сунуть там голову под холодный кран. Я поднял голову, и глаза мои сами собой посмотрели на Нинку. Я думал, что увижу опять ее бант, но нет, я встретился с ее смородинами.
Она смотрела на меня и улыбалась, ничуть не сердясь.
Я повел плечами: тяжкий груз свалился с меня. Я понял, что мне опять хорошо и что радостное предчувствие доброго возвращается снова.
Я засмеялся тихонько и вдруг с неожиданной остротой, с легкостью и удивлением, что так долго не мог догадаться о таком простом, подумал, что ведь я ни в чем, совсем ни в чем не виноват перед Нинкой. Просто она музыкант, а я нет и никогда им не стану.
Да, да, да! Сегодня были две музыки. Нинкина и моя. Какие там две одна, Нинкина. То, что бренчал я, — никакая не музыка, и музыкой никогда не станет. Дело все в том, что музыка — не для меня, и это яснее ясного.
Я припомнил свои муки у Зинаиды Ивановны, тот день преодоления, когда я сыграл проклятое упражнение номер 24 и еще два. Казалось бы, мне не хватало логики. Решиться на это, когда вроде бы телега сдвинулась с места.
Нет, я не буду учиться музыке. Я не нужен ей. Нинка доказала сегодня, что музыка — это то, что выбирает человека само. Не человек выбирает музыку.
Диким напряжением, оскорбленным достоинством я преодолел музыку у Зинаиды Ивановны. Я собрался, чтобы сыграть, и сыграл. Но я не сделал ничего, кроме того, что собрался и соединил все, что я уже умел, уже должен был уметь делать.
Это был первый шаг. Важный, но первый.
Решает все последний шаг. Я сделал второй.
Я улыбался смородиновым Нинкиным глазам и точно знал, что это она, а не я, будет играть на сцене.
И будет шуметь море. То приливать бешеными волнами, то отступать, успокаиваясь…
* * *
Вместо музыки в тот день я хотел пойти в кино. В «Иллюзионе» крутили «Железную маску», и хотя я смотрел ее уже два раза, замирая от страха, ну что ж, придется смотреть еще раз. Все решено!
Великое дело, если человек решил что-нибудь для себя! Решил — и ни в какую, хоть лопни, не переменит своего решения. А если переменит — грош ему цена.
Но «Железную маску» посмотреть еще мне не удалось. Бабушка сказала, что она идет по каким-то своим делам и как раз в мою сторону, так что мы пойдем вместе. Делать было нечего, я взял папку, и мы поплелись.
Стояла весна, сугробы походили на губку, из которой текли грязные ручейки. Солнце серебрило окна старинных деревянных домов, на печных трубах и коньках крыш сидели, мурлыча, разномастные кошки.
Мы шли рядом, и сколько бабушка ни пыталась взять меня за руку, я никак не давался.
Ах, бабушка! Она никак не хотела увидеть, что четвертый класс — это не первый, что время идет и люди растут, все люди без исключения! А кроме того… Кроме того, это она, она, моя дорогая бабушка, была виновата в том, что в тот день, когда мы шли на экзамен в музыкальную школу, Юрка увидел меня на постыдном «прицепе» — бабушка вела меня за руку.
Не будь этого, думал я, может, и ничего, обошлось бы, и Юрка не лез бы ко мне… Одно на другое, и вон что накрутилось…
Мы шли в сторону, где жила Зинаида Ивановна, и по дороге нам, конечно, попался Юрка. Он не задел меня, не рискнул, потому что я шел не один, только посмотрел на меня презрительно и скривился…
Бабушка зашла со мной к Зинаиде Ивановне, и та похвалила ей меня за успехи; они поболтали, бабушка ушла, а Зинаида Ивановна обернулась ко мне, запахивая халат и говоря:
— Ну-с… Ну-с…
Я все стоял, не раздеваясь, с папкой в руке. Сердце мое колотилось. Я должен был сказать все Зинаиде Ивановне. Сесть к роялю и снова стучать эти упражнения было бы против совести, против моего решения, против второго шага. «Все решает последний шаг, — думал я, — надо, надо, надо сделать его».
Я набрался духу и сказал, глядя в глаза Зинаиде Ивановне:
— Вы знаете, я не буду ходить к вам больше… Ведь из меня же не выйдет музыканта…
— Что ты, что ты! — закричала Зинаида Ивановна.
— Ну не выйдет! — твердо сказал я. — Вы же сами знаете…
Зинаида Ивановна замахала руками, запричитала что-то, но вдруг успокоилась.
— Попей тогда чаю, — сказала она и пошла на кухню.
В пальто и с папкой в одной руке я попил чаю. Зинаида Ивановна грустно смотрела на меня и молчала, думая о чем-то своем. Когда я встал, она вдруг подошла ко мне, погладила по голове и сказала дрогнувшим голосом:
— Я не знала, что ты такой… А я, вот видишь, играю в кино…
Она засморкалась, я внимательно посмотрел на нее. Тогда, в кинотеатре, когда я увидел ее в первый раз, Зинаида Ивановна походила на русалку в своем блестящем, чешуйчатом платье. С тех пор я много раз смотрел на Зинаиду Ивановну. Никакая она была не русалка. И лицо у нее было нездоровое, дряблое. И на щеках у нее было много старых, больших веснушек…
Мне стало жалко ее, я торопливо сказал, что буду заходить просто так… пить чай. Зинаида Ивановна качнула неопределенно головой: мол, хорошо, но не верю.
Я торопливо выскочил на улицу и в гулкой весенней тишине снова услышал, как где-то совсем близко слышатся шаги перемен…
Я посмотрел вверх на небо и провалился взглядом в бесконечную синеву. У неба не было дна, как не было конца у жизни и у всего, что будет, что придет скоро…
Сердце стучало, голова кружилась, грудь расширяло счастье. Я шел нараспашку, красный галстук трепыхался на плече, как огонек, я шагал, ни на секунду не вспомнив о Юрке, как вдруг кто-то взял меня за рукав.
Я обернулся. Я обернулся и засмеялся.
Это была Нинка. В руке она держала авоську с хлебом. И еще она улыбалась.
— Ты с музыки? — спросила она, и я кивнул.
— А ты за хлебом ходила? — спросил я, не подумав, что как-то уж слишком далеко она ушла за хлебом, и теперь кивнула Нинка.
Мы пошли рядом, не зная, что сказать.
Мокрый снег кашицей разъезжался под ногами, текли синие ручьи, на крышах сидели кошки.
Мы шли, и я ждал, когда что-нибудь скажет Нинка, но она молчала, а я не знал, что говорить. Но даже вот так, молча, было хорошо идти рядом с ней, жмурясь от зайчиков.
Когда на экзамене в музыкальной школе она подошла ко мне в первый раз и говорила, говорила что-то, мне было ужасно неудобно. Казалось, весь коридор смотрит на нас, и я замечал эти взгляды. А сейчас мне было все равно, кто на нас смотрит.
Мы шли, иногда нечаянно касаясь друг друга, и все молчали. Нинка была в ботинках с новыми калошами, калоши сверкали на солнце, пускали зайчики, и мне казалось, что от этих зайчиков вокруг делается светлее… Я шел, улыбаясь, глядясь в лужи, и совсем-совсем забыл о Юрке. А он стоял, он ждал, он охотился за мной.
Я поднял голову и увидел, как смеются Юркины синие, с рыжими крапинками, глаза. Он смотрел на меня и на Нинку и очень радовался. Раньше он унижал только меня, и мы знали об этом вдвоем — он и я. Теперь он унизит меня втройне: перед собой, передо мной и перед Нинкой!
Юрка подходил ко мне не спеша, сунув руки в карманы пальто, нагло улыбаясь, а я не трепетал, как раньше, нет.
Мысли, одолевавшие меня, мучившие меня, терзавшие меня столько времени, вдруг соединились в последовательную цепь, взялись как бы за руки, обрели стройность и четкость. В одно мгновение из мальчишки, который не знал, чего хотел, боялся Юрки, стеснялся Нинки, разучивал нелюбимые музыкальные упражнения и вообще жил беспорядочно и неопределенно, я стал человеком, который знал, что хотел, и знал, что ему делать.
Еще вчера я был рабом музыки. Я мучился, я бился головой в дверь, не зная, что она никогда не откроется для меня. Сегодня в школе я понял, что есть вещи важнее музыки. Например, когда человек говорит сам себе правду. Пусть эта правда не такая легкая. Но это важнее музыки. Это заставляет человека быть самим собой. И если человек сказал сам себе правду один раз, если он сумел сделать это, он скажет ее себе снова.
И я сказал. Я понял, что, отказавшись от музыки, найдя в себе силу сделать это, сказав самому себе правду один раз, я скажу ее снова. Я был рабом музыки. Я перестал быть им. Я был рабом Юрки. Теперь я ничей не раб.
А Юрка все шел и шел на меня и все ухмылялся нагло, ожидая легкой, как всегда, победы. Он достал из кармана кулак и отвел его чуть назад.
Мне захотелось закрыть глаза и спрятаться куда-нибудь.
Но я не закрыл глаза и не спрятался.
Я был свободный человек. А рядом со мной была Нинка.
Еще до того, как Юрка отвел для размаха свой кулак, с ненавистью, ослепившей меня, я подскочил к нему и изо всех сил врубил ему куда-то по верхней губе, в самое чувствительное место.
Я думал, он упадет, но Юрка не упал, только сильно качнулся и отступил.
— Ну-ну, — сказал он только, — ну-ну…
И непонятно было, с угрозой или удивлением сказал он это…
Я думал, Юрка будет ругаться матом, и тогда я скажу Нинке, чтобы она бежала, а сам буду драться с Юркой, сражаться до последнего и за матерщину, которая оскорбит Нинку и за все унижения, которые мне достались от него.
Но он сказал только: «Ну-ну, ну-ну…» — и уступил дорогу.
Меня трясло всего, колотило мелкой дрожью, и Нинка успокаивала меня. Дойдя до угла, мы обернулись. Юрка все еще стоял на том же месте, растерянно глядя нам вслед.
И тут только я спохватился. Во время драки я бросил нотную папку.
Она была ни к чему мне теперь, совсем ни к чему. Это упражнение номер 24, и тетрадка с ключами животиком в другую сторону. Да, она была ни к чему мне, нотная папка, которую невесть где достала бабушка, но я вернулся.
Нинка хотела было остановить меня, но я посмотрел на нее внимательно и сказал дрожащими губами:
— Пусти!
Она отпустила меня, и я вернулся к Юрке. Я не спеша наклонился и не спеша взял папку. Потом я повернулся и не спеша пошел к Нинке.
Юрка не двинулся, не сказал ни слова.
* * *
Когда дома я открыл папку, нотные знаки и ключи — и неправильные, брюшком в другую сторону, и правильные, с хорошим брюшком — расплылись и потекли.
Я подошел к окну и посмотрел на улицу, в самый ее конец, куда ушла Нинка с авоськой.
Бабушки еще не было.
Бабушка еще должна была прийти.