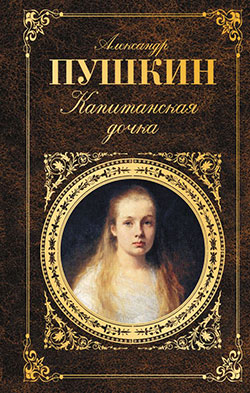Работая над «Капитанской дочкой» — произведением весьма рискованным в политическом отношении, Пушкину приходилось, как уже сказано, все время думать о цензуре. И вот по соображениям явно цензурного порядка он вынужден был несколько смягчить это место: в окончательном тексте после отказа генерала помочь Гриневу он едет в Белогорскую крепость, по дороге его схватывают караульные Пугачева и насильно приводят в Бердскую слободу; таким образом в «пристанище Пугачева» он попадает не намеренно, а случайно.
Но это автоцензурное смягчение не нарушило главного. Реакция Пугачева, услышавшего, что обижают сироту, в обоих случаях одна и та же:
* «Глаза у Пугачева засверкали. «Кто из моих людей смеет обижать сироту? — закричал он.— Будь он семи пядень во лбу, а от суда моего не уйдет. Говори: кто виноватый?»
* — Швабрин виноватый,— отвечал я.— Он держит в неволе ту девушку, которую ты видел, больную, у попадьи, и насильно хочет на ней жениться.
* — Я проучу Швабрина,— сказал грозно Пугачев.— Он узнает, каково у меня своевольничать и обижать народ. Я его повешу».
Реакция эта не только диаметрально противоположна тому., как принял известие об участи Маши генерал Р., но и яркое свидетельство народности дела Пугачева, поднявшегося на защиту народа, который обижают. Причем здесь, как и в ряде других мест романа, Пушкин дает характер, душевный облик Пугачева совершенно таким, каким воспринимал его сам народ, каким он рисовался в народном творчестве — песнях, преданиях.
Контраст двух лагерей — правительства и Пугачева — подчеркивается и композиционно: расположением двух глав — оренбургской («Осада города») и бердской («Мятежная слобода») — непосредственно друг подле друга. Мало того, этот контраст проводится, но только в обратном порядке, и расположением двух следующих глав — «Сирота» и «Арест».
В главе «Осада города» генерал отказывает Гриневу в помощи; в главе «Мятежная слобода» Пугачев ее обещает. И в главе «Сирота» сдерживает свое обещание, едет вместе
с Гриневым в Белогорскую крепость, освобождает Машу из-под власти Швабрина и даже предлагает Гриневу (опять н соответствии с его «пророческим» сном) быть его «посажёным отцом». В следующей главе («Арест») представители правительственного лагеря сперва грубо схватывают Гринева и Машу (все обошлось благополучно лишь потому, что правительственным отрядом начальствует старый знакомец Гринева — гусар Зурин), а затем, в конце главы, Гринева арестуют и под конвоем, как преступника, отправляют в страшную «следственную комиссию», учрежденную по делу Пугачева: «Меня посадили в тележку. Со мною сели два гусара с саблями наголо, и я поехал по большой дороге».
После главы «Арест» следует еще одна — и последняя, заканчивающая весь роман,— глава: «Суд». И, как это почти всегда у Пушкина, начало «Капитанской дочки» гармонически перекликается с концом.
В начале романа птенец вылетает из своего дворянского гнезда; в конце романа, после ряда волнующих событий и происшествий, выпавших на его долю, он снова в него возвращается. И такая композиция так же закономерна, создает такую же типическую обстановку для произведения, оформленного в качестве семейных дворянских мемуаров, как композиция «Пиковой дамы» — повести об игроке, начинающейся и заканчивающейся за картами.
Между первой и последней главами Пушкин протягивает нити соответствий и даже прямых совпадений. В середине последней главы мы—снова в симбирском поместье Гриневых. Перед нами опять те же старики Гриневы — властный и суровый отец, безропотная, любящая мать; та же обстановка; повторяются и те же характерные детали (чтение отцом «Придворного Календаря», упоминание о влиятельном петербургском родственнике, князе Б.). Но подле стариков Гриневых новое лицо — полюбившаяся им невеста сына, Марья Ивановна Миронова, и нет самого сына, Петруши, осужденного за участие «в замыслах бунтовщиков» и приговоренного к ссылке «в отдаленный край Сибири на вечное поселение». И вот всё, словно бы и то же самое, предстает совсем по-иному. Поместная идиллия первой главы, перекликающаяся с первыми тремя белогорски-ми главами, оборачивается, как в трех последних белогорских главах, трагедией.В последней главе, как и в первой, батюшка — с «Придворным Календарем» в руках. Но в первой главе он внимательно читает его: «Эта книга имела всегда сильное на него влияние: никогда не перечитывал он ее без особенного участия, и чтение это производило в нем всегда удивительное волнение желчи…» В последней главе он рассеянно “переворачивает листы: «…но мысли его были далеко, и чтение не производило над ним обыкновенного своего действия».
В первой главе — «матушка варила в гостиной медовое варенье»; в последней — в той же гостиной «матушка молча вязала шерстяную фуфайку, и слезы изредка капали на ее работу». Совершенно очевидно, что каждая из этих деталей органически связана со всем остальным, полностью соответствует данной ситуации и потому ложится нужной краской в общий колорит каждой из сцен. Варить варенье матушка должна была именно в первой, в основном идиллической главе; наоборот, так естественно, что в последней главе она вяжет «шерстяную фуфайку» (сперва Пушкин написал было «вязала чулок», но поправил: «фуфайку»), конечно, для сосланного теперь в Сибирь Петруши, кото-оый в первой главе, «облизываясь, смотрел на кипучие пенки».
Дальше ход действия в обеих параллельных сценах развертывается сввершенно симметрично. В первой главе принимается решение об отъезде Петруши не в Петербург, а в Белогорскую крепость; в последней главе повествуется о решении Марьи Ивановны, приехавшей из Белогорской крепости, ехать в Петербург. И в том и в другом случае упоминается о слезах матушки. Но «слезы» эти тоже разные. В первом случае матушка плачет горькими слезами при мысли о разлуке с сыном; во втором случае—радостными слезами, слезами надежды на то, что Марье Ивановне удастся се замысел — добиться оправдания Петруши.
Симметрия в развертывании сюжета и действия романа проводится и далее, до самого конца. Гринев смело явился к вождю крестьянского восстания Пугачеву (я уже говорил, что в окончательном тексте это несколько смягчено), в его «резиденцию» — «мятежную слободу» — для спасения своей невесты и достиг этого. Маша едет к императрице в ее резиденцию — Царское Село — для спасения своего жениха и также добивается этого: в свою очередь спасает своего спасителя. И, как всегда у Пушкина, это отнюдь не только внешний композиционный прием.
Предложения интернет-магазинов
А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Проблема взаимоотношения власти и общества
- Категория: Развернутые ответы на вопросы
Капитан Иван Кузьмич Миронов понимает честь и долг как истинный офицер, присягнувший императрице. Он бесстрашно защищает Белогорскую крепость, даже не имея хорошего вооружения. После сдачи крепости он отказывается признать в «беглом казаке» императора, за что тот лишает его жизни. Проблема чести и долга связана и с образом Пугачёва. С точки зрения офицеров гвардии, он «беглый казак», вождь антидворянского восстания, преступник, разбойник, но на самом деле у него есть и положительные черты. Ему не чужды понятия чести и долга. Вспомнив о заячьем тулупчике и стакане вина, раз подаренном ему Гринёвым, он оставляет ему жизнь, дарит коня, тулуп, даёт денег, которые, правда, украл урядник. Пугачёв живёт по принципу: «Долг платежом красен». Он не позволяет издеваться и мучить сироту и готов сам покарать обидчика. Именно он помогает Гринёву спасти Машу от Швабрина.
-
Развернутые ответы на вопросы
-
А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Проблема воспитания
(890)Воспитание в широком смысле слова — условия, влияющие на формирование личности.
Онегин воспитан в среде столичного дворянства (глава 1). Онегин получает французское воспитание от мадам и месье, которые «учат всему шутя», не бранят за шалости. Воспитание Онегина лишено твёрдой моральной основы, оно освобождало его от принципов нравственности. Навыки, полученные в юности…Подробнее…
-
А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Проблема нравственного выбора
(1028)Татьяна становится несчастной, но поступиться честью, моральным долгом перед своим мужем не может: «Я вас люблю (к чему лукавить?), / Но я другому отдана; / Я буду век ему верна». Онегин. Ситуация нравственного выбора — дуэль с Ленским. Чувствуя свою неправоту, помириться с другом и сохранить ему жизнь, т.е. поступить честно, или пойти на…
Подробнее…
-
А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Проблема нравственной свободы человека
(676)Онегин поступает благородно и честно в отношениях с Татьяной: он сохраняет в тайне написанное Татьяной письмо и не пользуется её любовью и неопытностью, а искренне говорит ей об отсутствии чувств. Понятие морального долга перед кем-либо Онегину чуждо: всегда и во всём он предпочитает собственные чувства и желания (в отношениях с дядей,…
Подробнее…
-
А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Проблема чести и долга
(883)Татьяна после отъезда Онегина из деревни делает решающий нравственный выбор: соглашается поехать в Москву и выйти замуж. Это свободный выбор героини, для которой «все жребии равны». Она любит Онегина, но добровольно подчиняется своему долгу перед семьёй. Таким образом, в последнем монологе (глава
Татьяна лишь подтверждает, что между…
Подробнее…
-
А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Проблема взаимоотношения власти и общества
(893)Капитан Иван Кузьмич Миронов понимает честь и долг как истинный офицер, присягнувший императрице. Он бесстрашно защищает Белогорскую крепость, даже не имея хорошего вооружения. После сдачи крепости он отказывается признать в «беглом казаке» императора, за что тот лишает его жизни. Проблема чести и долга связана и с образом Пугачёва. С точки…
Подробнее…
-
А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Проблема нравственного воспитания молодого человека, формирования его личности
(734)Пётр Гринёв, не отказываясь от такого понимания чести и долга, расширяет его до общечеловеческого и гражданского значения. Он, совершая ошибки, всё время пытается выполнять наставления отца: «Береги честь смолоду». Он ни разу не изменил присяге, данной императрице. Выбирая между смертью и изменой присяге, он предпочёл первое. Тем не менее он…
Подробнее…
-
А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Проблема патриотизма
(937)Савельич. Он не военный, не дворянин, не беглый каторжник, а простой, добросовестный и добродушный дворовый человек, крепостной крестьянин. Он самоотверженно любит Гринёва и всё старается сделать ради «барского дитяти». Даже его скупость — это проявление заботы о барине. Савельич готов пожертвовать всем, даже жизнью, ради Гринёва: он…
Подробнее…
-
А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Проблема справедливости и милосердия
(689)Алексей Иванович Швабрин противопоставлен Гринёву. Он — столичный дворянин, офицер гвардии, но поверхностно образованный человек. Его отличают беспринципность и показной патриотизм. Сосланный, очевидно, за дуэль, не имея никаких шансов на возвращение в Петербург, он примыкает к восстанию, видя в нём лишь возможность перемен и повышения по…
Подробнее…
-
М.Ю. Лермонтов «Мцыри». Проблема взаимоотношений человека и природы
(628)Общество и природа в творчестве М.Ю. Лермонтова противопоставлены друг другу. Естественная неиспорченность человека связана с природой, ложь, фальшь, непонимание — с обществом. Единение с природой характерно для естественного, чистого душой, стремящегося к полнокровной жизни Мцыри: «Я, как брат, / Обняться с бурей был бы рад».
В момент схватки с…
Подробнее…
-
Н.В. Гоголь «Мёртвые души». Проблема воспитания
(700)Отец Чичикова даёт сыну, уезжающему учиться, наказ, который предопределит будущую судьбу героя: «больше всего угождай учителям и начальникам. Коли будешь угождать начальнику, то, хоть и в науке не успеешь и таланту бог не дал, всё пойдёшь в ход и всех опередишь»; «водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае могли быть тебе полезными……
Подробнее…
-
«Капитанская дочка»: как герои Пушкина решают свои проблемы с властью
Профессор-литературовед Юрий Никишов рассказывает о том, как Пушкин заложил в «Капитанской дочке» универсальную инструкцию по общению с царями и спасению личного счастья.
В романе Пушкина «Капитанская дочка» молодые герои — Петр Гринев и Маша Миронова — влюбляются, разлучаются и вновь воссоединяются в финале. За этим интересно наблюдать, но идейно самой важной в романе нам кажется пара Петр Гринев — Емельян Пугачев. Развязка сюжета, тем не менее, оборачивается неожиданным событием: Миронова встречается с императрицей Екатериной — с этого момента романтическая героиня становится великим дипломатом, а напряженные отношения Гринева с Пугачевым выглядят как виртуозная борьба двух ценностных миров.
В «Капитанской дочке» в историческую канву повествования вписана вымышленная история двух молодых людей, которым повезло найти друг в друге своих суженых. Сюжет повествования образует параллель, когда влюбленные для спасения своей жизни и любви вынуждены искать защиты у власть имущих: Петр Гринев — у Емельяна Пугачева, а Маша Миронова — у Екатерины II. Тут вроде бы они не на равных, и проще задача у девушки: она обращается к увенчанной монархине. Конечно, разница в их положении разительная: монарх выступает первым дворянином в своем отечестве, тогда как Маша Миронова — дворянка лишь номинальная. И все-таки здесь, в женской связке персонажей, нет классовой розни.
Зато для мужской пары контраст положений чрезвычайно значителен, и когда он выступает напрямую, то это дает результат немедленный, автоматический. Изменник Швабрин что-то сказал Пугачеву, и тот сразу, не задавая Гриневу вопросов, отправил его как офицера правительственных войск на виселицу. Ситуацию исправило вмешательство Савельича — субординация заменена личными отношениями.
Попробуем разобраться, как отличается общение двух романтических героев с властью и почему Гриневу и Маше помогла преодолеть трудности только категория личной симпатии.
Маша Миронова — Екатерина II
Повесть «Капитанская дочка» завершается кратким эпилогом от издателя. Здесь фиксируются концовки некоторых сюжетных линий. Потомки мемуариста хранят реликвии минувшего: кроме записок деда это и собственноручное письмо императрицы, где содержатся «похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова». Фразу о сердце капитанской дочки примем без комментариев, по факту. А вот почему похвалы удостоился ум?
Маша Миронова в меру умна — это вполне очевидно; только один Швабрин с корыстным расчетом описал ее Гриневу «совершенною дурочкою» и на первый случай преуспел: «С первого взгляда она не очень мне понравилась» — признается нам Гринев; но скоро предубеждение отпало. Доброе и верное сердце Маши заслуживает похвалы, оно ее действительно над многими возвышает. Но ум ее вроде бы обыкновенен, а хвалят обычно что-то выделяющееся. Так нам может казаться вплоть до поездки Мироновой в Царское Село.
Марья Ивановна догадалась — и в том не ошиблась — по какой причине ее жених не сумел оправдаться за свою несомненную для суда связь с Пугачевым, — ведь ее, причастную к событию, так и не вызвали в комиссию. Эта догадка уже свидетельствует об ее уме. Но и решившись ходатайствовать за справедливое решение судьбы жениха, девушка действует исключительно продуманно. Еще в пути узнает, что ей в столицу ехать без надобности: царица и двор в Царском Селе; туда она без промедления и явилась. Устроилась с пребыванием в доме смотрителя в уголке за перегородкой, вдоволь наслушалась рассказов его словоохотливой жены, а еще и племянницы придворного истопника о буднях государыни. Потом прогулялась с добровольной опекуншей по аллеям Царскосельского сада — и это для Маши оказалось очень кстати.
Ранним утром потихоньку Марья Ивановна выходит в сад, «на прогулку», не позабыв прихватить заготовленное прошение. И встречается с приятной дамой лет сорока. Догадывается ли Марья Ивановна, с кем ее свел случай? Более чем вероятно! Но даже в руки обычной придворной даме отдать прошение все равно лучше, чем пустить его косным канцелярским путем.
Забегая вперед, отметим любопытную деталь — при колоссальной разнице доверительных разговоров молодых людей с властителями возникают сходные — или перевернутые — элементы. Царица закрылась маской придворной дамы! Тут можно даже видеть жест великодушия: зачем пугать царским величием скромную девушку. Пугачев же не свободен от своего лжевеличия, на людях он обязан играть роль царя — отсюда психологическая напряженность в общении наедине с человеком, который видел его простым казаком.
В Царскосельском саду состоялся разговор, простой и естественный. Даме нетрудно выяснить, что перед ней провинциалка, приехала одна, без родителей, за их отсутствием, и, «конечно, по каким-нибудь делам». «Точно так-с. Я приехала подать просьбу государыне». Догадка проста: «Вы сирота: вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду?»
Вот тут и следует ответ, про который мало сказать — умный, потому что он — мудрый: «Никак нет-с. Я приехала просить милости, а не правосудия».
Маша просит у власти милости и выигрывает
В принципе Марья Ивановна могла бы требовать и правосудия с большими шансами утвердить свою правоту. Однако тут прямо надо сказать, что в суровом приговоре Гриневу нет судебной ошибки. Подозреваемый офицер предстал перед следственной комиссией, ему предъявлены вопросы: почему при падении Белогорской крепости все офицеры (предатель Швабрин не в счет) отправлены на виселицу, а Гринев — один — отпущен на свободу, и каким это образом он самовольно покинул Оренбург и появился в Белогорской крепости в сопровождении самозванца? По первому вопросу подозреваемому оправдаться было нетрудно — рассказом о нечаянном знакомстве в степи, во время бурана. Гринев и далее собирался быть откровенным, но внезапная мысль, что тогда и Марью Ивановну потребуют к ответу, поразила его настолько, что он «замялся и спутался». В записках Гринева помечается: «Судьи мои, начинавшие, казалось, выслушивать ответы мои с некоторою благосклонностию, были снова предубеждены противу меня при виде моего смущения». И после наветов Швабрина на очной ставке «я отвечал, что держусь первого своего объяснения и ничего другого в оправдание себе сказать не могу» — как тут не признать, что недоверие суда убедительно?
Г.П. Макогоненко полагал приговор Гриневу несправедливым, потому что, по принятому тогда предубеждению, приговор царского суда не мог быть справедливым по определению: «Суд был быстр и несправедлив — несправедлив потому, что Гринева приговорили к казни по обвинению в измене присяги и переходе на сторону Пугачева, то есть в преступлении, которое он не совершал. Читатель отлично знает, что Гринев отказался присягать Пугачеву и не служил у него». Но члены комиссии не знают того, что читатель отлично знает, — еще не написанные мемуары они не читали, а на главный свой вопрос внятного ответа так и не получили.
Марья Ивановна имела шанс надеяться и на правосудие: дело могло бы быть пересмотрено, как говорят, по вновь открывшимся обстоятельствам. Она предпочла взывать к милости: императрица имеет право и виноватого простить. Но тут важнее всего сроки: милосердное решение достигается быстрее. Две встречи с царицей, «нечаянная» и по вызову, состоялись в один погожий осенний день. Из эпилога мы узнаем, что Гринев вернулся в родные края в конце года. Для того, чтобы только исполнить неукоснительный указ императрицы, и то потребовались не месяц, а месяцы! А сколько бы времени прошло, если бы пересмотр дела был возложен на скрипучие, неповоротливые колеса правосудия?
Придворная дама вызвалась помочь юной просительнице. «Марья Ивановна вынула из кармана сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей покровительнице, которая стала читать ее про себя. Сначала она читала с видом внимательным и благосклонным; но вдруг лицо ее переменилось, — и Марья Ивановна, следовавшая глазами за всеми ее движениями, испугалась строгому выражению этого лица, за минуту столь приятному и спокойному.
— Вы просите за Гринева? — сказала дама с холодным видом. — Императрица не может его простить. Он пристал к самозванцу не из невежества и легковерия, но как безнравственный и вредный негодяй.
— Ах, неправда! — вскрикнула Марья Ивановна.
— Как неправда! — возразила дама, вся вспыхнув».
«Вскрикнула» Марья Ивановна: тут эмоции опережают рассудок. Но таков и ответ: «вспыхнув», императрица едва себя не выдала. А не привыкла она встречать возражения на свои слова! Успокоиться ей, вероятно, помогло и смирение просительницы, ищущей милости, а не правосудия, и то, что в прошении речь шла не о судебной ошибке, а сообщались убедительные факты, которые отсутствовали в показаниях Гринева. Так что императрице только и оставалось как-то заплатить свой долг перед дочерью капитана Миронова.
Итак, возможно, девушка была на грани совершения ошибки — всего-то одно слово — но сделала правильный выбор. Жизненный опыт Марьи Ивановны еще невелик, и вряд ли она знала то, что хорошо знал Пушкин: судебная, да и всякая иная, власть озабочена чистотой мундира, т.е. всячески избегает признания какой бы то ни было своей неправоты.
Петр Гринев — Емельян Пугачев
На отношения между Гриневым и Пугачевым решающее значение оказывает нечаянная «демократическая» встреча в степи в буран: стихия субординации не признает, соответственно становится неважным, что один — дворянин-офицер, хоть и младший по званию, а другой — простой казак, хотя и с не афишируемым здесь скрытным умыслом. Тут главное, что оба отнеслись друг к другу с симпатией, добротой. После этой встречи Пугачеву легче понять, что Гринев не принимает его царскую маску, поскольку тот видел его лицо без маски.
Состоялись и две встречи с разговорами наедине. Эмоциональная амплитуда при этом постоянно колеблется, размах колебаний очень широк. Пугачев весело вспоминает предшествующие контрастные встречи и переходит к главному вопросу: «Ну, думал ли ты, ваше благородие, что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь? (Тут он взял на себя вид важный и таинственный)». И предлагает служить ему с усердием, за наградой дело не станет. Предложение вызвало у Гринева усмешку. Пугачев нахмурился: «Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо».
Гринев точно оценил степень опасности. Он сумел сохранить свое лицо, но избежал соблазна разоблачения самозванца и даже заставил собеседника взглянуть на ситуацию своими глазами: «Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Ты человек смышленый: ты сам увидел бы, что я лукавствую».
Гринева ждет еще один опасный вопрос: «Кто же я таков, по твоему разумению?» Но от такого вопроса можно уйти, и лукавства тут немного: «Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку».
У Пугачева есть еще предложение: «А разве нет удачи удалому? <…> Думай про меня что хочешь, а от меня не отставай. <…> Послужи мне верой и правдою, а я тебя пожалую…».
Но природный дворянин уже присягал и присягу не меняет. А человек-флюгер кому нужен? И Пугачеву остается быть последовательным: «Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай на все четыре стороны и делай что хочешь».
Тут можно похвалить и ум Гринева. Мемуарист не уронил своего дворянского достоинства, остался искренним, но и уклонился от оценок властного собеседника, тем более колючих оценок.
В разговоре на равных Гринев теряет осторожность, но остается в живых
Второй личный мужской разговор состоялся в кибитке, в поездке в Белогорскую крепость. Разговор нетороплив, временем не стеснен. Принципиальное отличие от первого — Пугачев перед Гриневым в этот раз не прячет лицо под маской самозванца. Несколько хвастлив, так ведь на пике своего успеха. В будущее смотрит с надеждой, но понимает, что успех не гарантирован. Перед Гриневым откровенен: «Улица моя тесна, воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо востро; при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою». Совет Гринева заблаговременно прибегнуть к милосердию государыни встречает горькой усмешкой. «Буду продолжать как начал».
В этот раз Пугачев уже не зовет Гринева к себе на службу — но пытается увлечь принципом своей жизни, рассказывая калмыцкую сказку об орле и вороне. Долго ли, коротко ли жить — зависит от еды. Делает свой выбор орел: «чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст!». Гринев признает сказку затейливой, но ее вывод перевертывает: «Но жить убийством и разбоем значит по мне клевать мертвечину».
На том и кончился разговор: «Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал. Оба мы замолчали, погрузясь каждый в свои размышления».
Осмелел Гринев, однако. Что он дворянин и соответствующей позиции придерживается, это обозначалось с самого начала, но, оставаясь при своих, он избегал оценок чужой позиции («Бог тебя знает…»). Теперь он себе даже иронию позволяет, что вызывает удивленный взгляд Пугачева. Сравним. При допросе его с участием Хлопуши и Белобородова Гринев почувствовал, что разговор принимает опасный для него оборот, и сумел переменить его, поблагодарив Пугачева за лошадь и тулуп: «Уловка моя удалась. Пугачев развеселился». Гринев и после умеет сказать то, от чего лицо самозванца выражает «довольное самолюбие». А вот его реплика по поводу калмыцкой сказки полна обидного для собеседника высокомерия.
В самом перевертыше и переадресации оценок нет ничего самого по себе остроумного. Такой прием давно на примете Пушкина и припечатан им язвительным определением. Поэт, например, писал Вяземскому 13 сентября 1825 года: «Сам съешь! — Заметил ли ты, что все наши журнальные антикритики основаны на сам съешь? Булгарин говорит Федорову: ты лжешь, Федоров говорит Булгарину: сам ты лжешь. Пинский говорит Полевому: ты невежда. Полевой возражает Пинскому: ты сам невежда, один кричит: ты крадешь! другой: сам ты крадешь! — и все правы».
Мужицкий царь не позволяет обиде разрастаться благодаря своему великодушию и последовательности взятой линии («Долг платежом красен», «миловать так миловать»). Разговор тем не менее пресекся. Кончилось единение, компромисс на основе симпатии обнажил свой неширокий диапазон.
В «Капитанской дочке» столкнулись два образа жизни. Один по принципу «лучше раз напиться живой крови, а там что бог даст!» Другой — «Береги честь смолоду». Первый — «неправильный», но жутко обаятельный. Второй — правильный, но скучный.
Марину Цветаеву поразил парадокс: «Капитанская дочка» написана в 1836 году, «История Пугачева» — в 1834 году. «Пугачев из “Истории пугачевского бунта” встает зверем, а не героем. Но даже и не природным зверем встает, ибо почти все его зверства — страх за жизнь, — а попустителем зверств, слабым до преступности человеком. <…> Было бы наоборот, то есть будь “Капитанская дочка” написана первой, было бы естественно: Пушкин сначала своего Пугачева вообразил, а потом узнал. (Как всякий поэт в любви.) Но здесь он сначала узнал, а потом вообразил.
Тот же корень, но другое слово: преобразил».
Личная симпатия решает все
Содержательность рассмотренных диалогов реализуется посредством произносимых слов, но Пушкин всюду дает описание сопутствующих интонаций и мимики, что выразительно передает эмоциональное состояние говорящих; озвученному диалогу сопутствует вполне внятный диалог немой. Это способ освоения психологической углубленности в изображении героев.
В широком мире «Капитанской дочки», где много индивидуальных судеб, привычек, обыкновений, где обозначены и классовые различия, все-таки главенствует идея не разобщения, а единения. Утверждаются те начала, которые сулят процветание, продолжение жизни.
Есть основание обобщить, что личная симпатия — это единственный способ преодоления классовых противоречий. Тем самым и эпизод с Екатериной, и диалоги с Пугачевым вынуждают признать, что сугубо частное решение проблема имеет, но мирное общее решение ее невозможно.
Не отдельному, пусть весьма завлекательному, но общечеловеческому отдан приоритет в «Капитанской дочке», не закрыты глаза и на колоссальные трудности, которые встретят люди на этом пути.
Автор: Юрий Никишов
Источник: discours.io
На чтение 4 мин Просмотров 3.3к.
Обновлено 26 февраля, 2021
Русский бунт в романе «Капитанская дочка» А.С. Пушкина исторически точно и ярко показан глазами его очевидца Петра Андреевича Гринева. Нужно отметить, что, начиная с двадцатых годов девятнадцатого столетия, А.С. Пушкин живо интересуется историческим прошлым своей страны, что вдохновило писателя на написание таких произведений, как «Борис Годунов», «Песнь о вещем Олеге», «Полтава». К тридцатым годам этот интерес обострился, так как именно в это время крестьянские волнения были отнюдь не редкостью. Все чаще писатель обращается к теме русского бунта, крестьянской революции. В романе «Капитанская дочка» он глубоко и исторически верно раскрывает причины, ход и характер Пугачевского бунта.
Автор справедливо считает, что причины русского бунта – в крепостном гнете, безграничной жестокости и самовластии правителей той местности, где эти бунты возникали, в несправедливой политике царя и его правительства, касающейся нерусских народностей на юге Урала. В главе «Пугачевщина» А.С. Пушкин устами Петра Гринева, главного героя романа, рассказывает о положении в Оренбургской губернии. Она была обширна, населяли ее «полудикие народы», которые совсем недавно признали владычество российских государей. От правительства требовался постоянный надзор, чтобы держать в повиновении эти народы. Часто среди них возникали возмущения, разного рода недовольства, они были глухи к законам и гражданской жизни. На Оренбургской земле строились крепости, заселенные казаками. Однако яицкие казаки, которые должны были охранять спокойствие и безопасность края, сами представляли для правительства неспокойных и опасных подданных.
Петр Гринев, рассказчик и участник Пугачевского бунта, по долгу службы оказался в одной из отдаленных крепостей Оренбургской губернии. Однажды комендант Белогорской крепости получил письмо от генерала, в котором он сообщал о сбежавшем донском казаке Емельяне Пугачеве, который назвал себя императором Петром III и, собрав шайку, производил грабежи и убийства. Генерал приказывал коменданту принять меры к отражению или уничтожению самозванца. Но капитан Миронов догадывался, что мятежник силен и сдержать его будет непросто. Когда же Пугачев со своим отрядом подошел к воротам крепости, то легко смог взять их штурмом, и, хотя Иван Кузьмич звал своих солдат в бой, «обробелый гарнизон не тронулся», поэтому мятежники оказались в крепости. Простой народ везде радостно встречал бунтаря, как своего победителя. Не стала исключением встреча и в Белогорской крепости. В течение трех часов жители и бывшие защитники крепости присягали Емельяну Пугачеву, который объявлял каждому присягнувшему прощение и принимал в свою шайку. Тех, кто отказался перейти на сторону мятежника, повесили. Остался верен своей клятве, данной императрице, Иван Кузьмич, повесили рядом с комендантом Ивана Игнатьича, зарубили саблей Василису Егоровну, чуть не казнили Петра Гринева, который тоже отказался служить лжеимператору, и, если бы не Савельич, который бросился на спасение барского сына, висеть бы герою на плахе рядом с капитаном Мироновым. Бунт оставил сиротой Машу Миронову. Много несчастья принесла она в крепость.
По дороге в Оренбург Емельян Пугачев пополнял свое войско новыми людьми, которые присоединялись к нему, а сейчас стекались все к городу, как к злодейскому гнезду. Однако бунтующие деревни приходили в повиновение при виде войска, шайки мятежников бежали, иногда даже раньше, чем до них доходили войска. Освободили и Оренбург, разбив отряды Пугачева, но самозванец, сбежав, заручился поддержкой рабочих сибирских заводов и вновь начал разбойничать. Он разорил многие сибирские крепости, взял Казань и направлялся в Москву. Армия шла по следам Пугачева. Гринев с горечью говорит, что по дороге они видели разоренные селенья. Нигде не было правления, помещики скрывались от мятежников в лесах, шайки зверствовали повсюду, начальники некоторых отрядов казнили и миловали по своему усмотрению. Состояние всего края было ужасно. Глядя на эту картину Гринев восклицает: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Этим автор хочет подчеркнуть, что стихийные восстания с не совсем ясными целями и без определенного плана ни к чему хорошему не приводят.
По моему мнению, А.С. Пушкин показал русский бунт объективно и правдиво. Он не старался идеализировать ту или иную сторону конфликта, а также не пытался принизить значение этого события в истории нашей страны.

 Татьяна лишь подтверждает, что между…
Татьяна лишь подтверждает, что между…