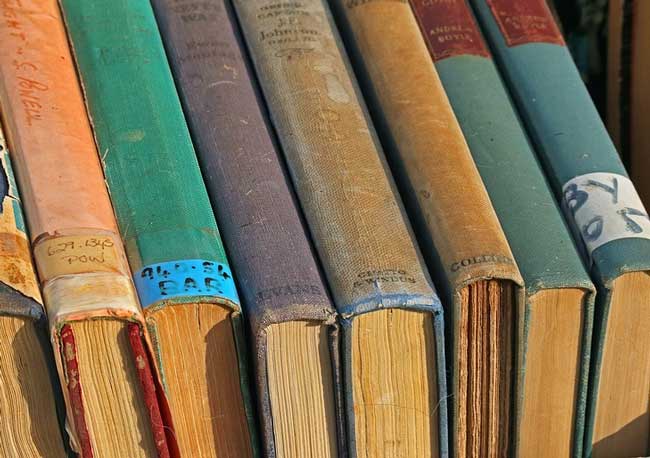Федор Лукич Сысоев, учитель фабричной школы, содержимой на счет «Мануфактуры Куликина сыновья», готовился к торжественному обеду. Ежегодно после экзаменов дирекция фабрики устраивала обед, на котором присутствовали: инспектор народных училищ, все присутствовавшие на экзамене и администрация фабрики. Обеды, несмотря на свою официальность, выходили всегда длинные, веселые и вкусные; забыв чинопочитание и памятуя только о своих трудах праведных, учителя досыта наедались, дружно напивались, болтали до хрипоты и расходились поздно вечером, оглашая весь фабричный поселок пением и звуками поцелуев. Таких обедов Сысоев, сообразно числу лет, прослуженных им в фабричной школе, пережил тринадцать.
Теперь, собираясь на четырнадцатый обед, он старался придать себе возможно праздничный и приличный вид. Целый час он чистил веничком новую черную пару, почти столько же времени стоял перед зеркалом, когда надевал модную сорочку; запонки плохо пролезали в петли сорочки, и это обстоятельство вызвало целую бурю жалоб, угроз и попреков по адресу жены. Бегаючи около него, бедная жена выбилась из сил. Да и сам он под конец замучился. Когда принесли ему из кухни вычищенные штиблеты, то у него не хватило сил натянуть их на ноги. Пришлось полежать и выпить воды.
— Как ты слаб стал! — вздохнула жена. — Тебе бы вовсе не ходить на этот обед.
— Прошу без советов! — сердито оборвал ее учитель.
Он был сильно не в духе, так как был очень недоволен последними экзаменами. Сошли эти экзамены прекрасно; все мальчики старшего отделения были удостоены свидетельства и награды; начальство, и фабричное и казенное, осталось довольно успехами, но учителю было мало этого. Ему было досадно, что ученик Бабкин, всегда писавший без одной ошибки, сделал в экзаменационном диктанте три ошибки; ученик Сергеев от волнения не сумел помножить 17 на 13; инспектор, человек молодой и неопытный, статью для диктанта выбрал трудную, а учитель соседней школы, Ляпунов, которого инспектор попросил диктовать, вел себя «не по-товарищески»: диктуя — выговаривал слова не так, как они пишутся, и точно жевал слова.
Натянувши с помощью жены штиблеты и оглядев себя еще раз в зеркало, учитель взял свою суковатую палку и отправился на обед. У самого входа в квартиру директора фабрики, где устраивалось торжество, с ним произошла маленькая неприятность. Он вдруг закашлялся… От кашлевых толчков с головы слетела фуражка и из рук вывалилась палка, а когда из квартиры директора, заслышав его кашель, выбежали учителя и инспектор училищ, он сидел на нижней ступени и обливался потом.
— Федор Лукич, это вы? — удивился инспектор. — Вы… пришли?
— А что?
— Вам, голубчик, посидеть бы дома. Сегодня вы совсем нездоровы…
— Сегодня я такой, каким и вчера был. А если вам неприятно мое присутствие, то я могу уйти.
— Ну, к чему эти слова, Федор Лукич? Зачем говорить это? Милости просим! Собственно ведь не мы, а вы виновник торжества. Нам даже очень приятно, помилуйте!..
В квартире директора фабрики всё уже было готово к торжеству. В большой столовой с немецкими олеографиями и запахом герани и лака стояли два стола: один большой — для обеда, другой поменьше — закусочный. В окно сквозь спущенные сторы еле-еле пробивался полуденный, знойный свет… Комнатные сумерки, швейцарские виды на сторах, герань, тонко порезанная колбаса на тарелках — глядели наивно, девически сентиментально, и всё это было похоже на самого хозяина квартиры, маленького добродушного немца, с круглым животиком и с маслеными, ласковыми глазками. Адольф Андреич Бруни (так звали хозяина) суетился около закусочного стола, как на пожаре, наливал рюмки, подкладывал в тарелки и всё старался как бы угодить, рассмешить, показать свое дружелюбие. Он хлопал по плечам, заглядывал в глаза, хихикал, потирал руки, одним словом, ласкался, как добрая собака.
— Федор Лукич, кого вижу! — заговорил он прерывистым голосом, увидев Сысоева. — Как нам приятно! Несмотря на свою болезнь, вы пришли!.. Господа, позвольте вас порадовать: Федор Лукич пришел!
Около закусочного столика уже толпились педагоги и ели. Сысоев нахмурился; ему не понравилось, что товарищи начали есть и пить, не дождавшись его. Он выглядел среди них Ляпунова, того самого, который диктовал на экзамене, и, подойдя к нему, начал:
— Это не по-товарищески! Да-с! Так порядочные люди не диктуют!
— Господи, вы всё о том же! — сказал Ляпунов и поморщился. — Неужели вам не надоело?
— Да, всё о том же! У меня Бабкин никогда ошибок не делал! Я знаю, почему вы так диктовали. Вам просто хотелось, чтобы мои ученики провалились и ваша школа показалась лучше моей. Я всё понимаю!..
— Да что вы придираетесь? — огрызнулся Ляпунов. — Какого чёрта вы ко мне пристаете?
— Будет, господа, — вмешался инспектор, делая плачущее лицо. — Ну, стоит ли из-за пустяков горячиться. Три ошибки… ни одной ошибки… ну не всё ли это равно?
— Нет, не всё равно. У меня Бабкин никогда ошибок не делал!
— Пристает! — продолжал Ляпунов, сердито фыркая. — Пользуется своим положением больного человека и всех поедом ест. Ну, я, батенька, не погляжу, что вы больной!
— Оставьте мою болезнь в покое! — сердито крикнул Сысоев. — Какое вам дело? Зарядили все одно: болезнь! болезнь! болезнь!.. Очень мне нужно ваше сочувствие! Да и откуда вы взяли, что я болен? Был до экзаменов болен, это правда, а теперь я совсем поправился, только слабость осталась.
— Выздоровел, ну и слава богу, — сказал законоучитель о. Николай, молодой священник в франтоватой коричневой рясе и в брюках навыпуск. — Радоваться нужно, а вы раздражаетесь и прочее тому подобное.
— Вы тоже хороши, — перебил его Сысоев. — Вопросы должны быть прямые, ясные, а вы всё время загадки задавали. Так нельзя!
Его кое-как общими силами успокоили и усадили за стол. Он долго выбирал, чего бы выпить, и, сделав кислое лицо, выпил полрюмки какой-то зеленой настойки, затем потянул к себе кусок пирога и кропотливо выбрал из начинки яйца и лук. С первого же глотка пирог показался ему пресным. Он посолил его и тотчас же сердито отодвинул, так как пирог был пересолен.
За обедом Сысоева посадили между инспектором и Бруни. После первого же блюда, по давно заведенному обычаю, начались тосты.
— Считаю приятным долгом, — начал инспектор, — поблагодарить отсутствующих здесь попечителей школы Даниила Петровича и… и… и…
— И Ивана Петровича… — подсказал Бруни.
— И Ивана Петровича Куликиных, не жалеющих средств на школу, и предлагаю выпить за их здоровье…
— С своей стороны, — сказал Бруни, вскочив, как ужаленный, — я предлагаю тост за здоровье уважаемого инспектора народных училищ, Павла Геннадиевича Надарова!
Задвигались стулья, заулыбались лица, и началось обычное чоканье. Третий тост всегда принадлежал Сысоеву. И на этот раз он поднялся и стал говорить. Сделав серьезное лицо и откашлявшись, он прежде всего заявил, что у него нет дара красноречия и что говорить он не готовился. Далее он сказал, что за 14 лет его службы было много интриг, подкопов и даже доносов на него и что он знает своих врагов и доносчиков, но не желает назвать их «из боязни испортить кое-кому аппетит»; несмотря на интриги, Куликинская школа заняла первое место во всей губернии «не только в нравственном, но даже и в материальном отношении».
— Везде, — сказал он, — учителя получают 200 да 300, а я получаю 500 рублей, и к тому же моя квартира отделана заново и даже меблирована на счет фабрики. А в этом году все стены оклеены новыми обоями…
Далее учитель распространился о том, как щедро сравнительно с земскими и казенными школами ученики снабжаются письменными принадлежностями. И всем этим, по его мнению, школа обязана не хозяевам фабрики, живущим за границей и едва ли даже знающим о существовании школы, а человеку, который, несмотря на свое немецкое происхождение и лютеранскую веру, имеет русскую душу. Сысоев говорил долго, с передышками и с претензией на витиеватость, и речь его вышла тягучей и неприятной. Он несколько раз упомянул про каких-то врагов своих, старался говорить намеками, повторялся, кашлял, некрасиво шевелил пальцами. Под конец он утомился, вспотел и стал говорить тихо, прерывисто, как бы про себя и кончил свою речь не совсем складно:
— Итак, предлагаю выпить за Бруни, то есть за Адольфа Андреича, который тут, между нами… вообще… и понятно.
Когда он кончил, все легко вздохнули, как будто кто брызнул в воздух холодной водой и рассеял духоту. Неприятного чувства не испытал, по-видимому, один только Бруни. Сияя и закатывая свои сентиментальные глаза, немец с чувством потряс руку Сысоеву и опять заласкался, как собака.
— О, благодарю вас! — сказал он, делая ударение на о, и прижимая левую руку к сердцу. — Я очень счастлив, что вы меня понимаете! Я всей душой, я желаю всего лучшего! Но только должен я вам заметить, вы преувеличиваете мое значение. Своим процветанием школа обязана только вам, почтеннейший мой друг, Федор Лукич! Без вас она ничем не отличалась бы от других школ! Вы думаете: немец говорит комплимент, немец говорит деликатности. Ха-ха! Нет, душа моя, Федор Лукич, я честный человек и никогда не говорю комплиментов. Если мы платим вам пятьсот рублей в год, то, значит, вы дороги нам. Не так ли? Господа, ведь я правду говорю? Другому мы не платили бы столько… Помилуйте, хорошая школа — это честь для фабрики!
— Я должен искренно сознаться, что ваша школа действительно необыкновенна, — сказал инспектор. — Не подумайте, что это фимиам. По крайней мере другой такой мне не приходилось встречать во всю жизнь. Я сидел у вас на экзамене и всё время удивлялся… Чудо, что за дети! Много знают и бойко отвечают, и притом они у вас какие-то особенные, незапуганные, искренние… Заметно, что и вас любят, Федор Лукич. Вы педагог до мозга костей, вы, должно быть, родились учителем. Все данные в вас: и врожденное призвание, и многолетний опыт, и любовь к делу… Просто удивительно, сколько у вас при слабости здоровья энергии, знания дела… этой, понимаете ли, выдержки, уверенности! Правду сказал кто-то в училищном совете, что вы поэт в своем деле… Именно поэт!
И все обедавшие единодушно, как один человек, заговорили о необыкновенном таланте Сысоева. И точно плотина прорвалась: потекли искренние, восторженные речи, каких не говорит человек, когда его сдерживает расчетливая и осторожная трезвость. Были забыты и речь Сысоева, и его несносный характер, и злое, нехорошее выражение лица. Разговорились все, даже молчаливые и робкие, вновь назначенные учителя, убогие, забитые юноши, иначе не величавшие инспектора, как «ваше высокоблагородие». Ясно, что в своем кругу Сысоев был личностью замечательной.
Привыкший за 14 лет службы к успехам и похвалам, он равнодушно прислушивался к восторженному гулу своих почитателей.
Вместо него похвалами упивался Бруни. Немец ловил каждое слово, сиял, хлопал в ладоши и застенчиво краснел, точно похвалы относились не к учителю, а к нему.
— Браво! Браво! — кричал он. — Верно! Вы угадали мою мысль!.. Отлично!..
Он заглядывал учителю в глаза, как бы желая поделиться с ним своим блаженством. В конце концов он не выдержал, вскочил и, покрывая все голоса своим визгливым тенорком, прокричал:
— Господа! Позвольте мне говорить! Тсс! На все ваши слова я могу только одно сказать: фабричная администрация не останется в долгу у Федора Лукича!..
Все смолкли. Сысоев поднял глаза на розовое лицо немца.
— Мы умеем ценить, — продолжал Бруни, делая серьезное лицо и понижая голос. — На все ваши слова я должен сказать вам, что… семья Федора Лукича будет обеспечена и что на этот предмет месяц тому назад уже положен в банк капитал.
Сысоев вопросительно поглядел на немца, на товарищей, как бы недоумевая: почему будет обеспечена семья, а не он сам? И тут на всех лицах, во всех неподвижных, устремленных на него взглядах, он прочел не сочувствие, не сострадание, которых он терпеть не мог, а что-то другое, что-то мягкое, нежное и в то же время в высшей степени зловещее, похожее на страшную истину, что-то такое, что в одно мгновение наполнило его тело холодом, а душу невыразимым отчаянием. С бледным, покривившимся лицом, он вдруг вскочил и схватил себя за голову. Четверть минуты простоял он так, с ужасом глядел вперед в одну точку, как будто видел перед собою эту близкую смерть, о которой говорил Бруни, потом сел и заплакал.
— Полноте!.. Что с вами?.. — слышал он встревоженные голоса. — Воды! Выпейте воды!
Прошло немного времени и учитель успокоился, но уже прежнее оживление не возвращалось к обедающим. Обед кончился в угрюмом молчании и гораздо раньше, чем в прошлые годы.
Придя домой, Сысоев прежде всего погляделся в зеркало.
«Конечно, напрасно я там разревелся! — думал он, глядя на свои глаза с темными кругами и на впалые щеки. — Сегодня у меня цвет лица гораздо лучше, чем вчера. У меня малокровие и катар желудка, а кашель у меня желудочный».
Успокоившись на этом, он медленно разделся и долго чистил веничком свою черную пару, потом старательно сложил ее и запер в комод.
Потом он подошел к столу, где лежала стопка ученических тетрадей, и, выбрав тетрадь Бабкина, сел и погрузился в созерцание красивого детского почерка…
А в это время, пока он рассматривал диктант своих учеников, в соседней комнате сидел земский врач и шёпотом говорил его жене, что не следовало бы отпускать на обед человека, которому осталось жить, по-видимому, не более недели.
Рассказ «Учитель»
Произведение написано в 1886 году
Федор Лукич Сысоев, учитель фабричной школы, содержимой на счет «Мануфактуры Куликина сыновья», готовился к торжественному обеду. Ежегодно после экзаменов дирекция фабрики устраивала обед, на котором присутствовали: инспектор народных училищ, все присутствовавшие на экзамене и администрация фабрики. Обеды, несмотря на свою официальность, выходили всегда длинные, веселые и вкусные; забыв чинопочитание и памятуя только о своих трудах праведных, учителя досыта наедались, дружно напивались, болтали до хрипоты и расходились поздно вечером, оглашая весь фабричный поселок пением и звуками поцелуев. Таких обедов Сысоев, сообразно числу лет, прослуженных им в фабричной школе, пережил тринадцать.
Теперь, собираясь на четырнадцатый обед, он старался придать себе возможно праздничный и приличный вид. Целый час он чистил веничком новую черную пару, почти столько же времени стоял перед зеркалом, когда надевал модную сорочку; запонки плохо пролезали в петли сорочки, и это обстоятельство вызвало целую бурю жалоб, угроз и попреков по адресу жены. Бегаючи около него, бедная жена выбилась из сил. Да и сам он под конец замучился. Когда принесли ему из кухни вычищенные штиблеты, то у него не хватило сил натянуть их на ноги. Пришлось полежать и выпить воды.
— Как ты слаб стал! — вздохнула жена. — Тебе бы вовсе не ходить на этот обед.
— Прошу без советов! — сердито оборвал ее учитель.
Он был сильно не в духе, так как был очень недоволен последними экзаменами. Сошли эти экзамены прекрасно; все мальчики старшего отделения были удостоены свидетельства и награды; начальство, и фабричное и казенное, осталось довольно успехами, но учителю было мало этого. Ему было досадно, что ученик Бабкин, всегда писавший без одной ошибки, сделал в экзаменационном диктанте три ошибки; ученик Сергеев от волнения не сумел помножить 17 на 13; инспектор, человек молодой и неопытный, статью для диктанта выбрал трудную, а учитель соседней школы, Ляпунов, которого инспектор попросил диктовать, вел себя «не по-товарищески»: диктуя — выговаривал слова не так, как они пишутся, и точно жевал слова.
Натянувши с помощью жены штиблеты и оглядев себя еще раз в зеркало, учитель взял свою суковатую палку и отправился на обед. У самого входа в квартиру директора фабрики, где устраивалось торжество, с ним произошла маленькая неприятность. Он вдруг закашлялся… От кашлевых толчков с головы слетела фуражка и из рук вывалилась палка, а когда из квартиры директора, заслышав его кашель, выбежали учителя и инспектор училищ, он сидел на нижней ступени и обливался потом.
— Федор Лукич, это вы? — удивился инспектор. — Вы… пришли?
— А что?
— Вам, голубчик, посидеть бы дома. Сегодня вы совсем нездоровы…
— Сегодня я такой, каким и вчера был. А если вам неприятно мое присутствие, то я могу уйти.
— Ну, к чему эти слова, Федор Лукич? Зачем говорить это? Милости просим! Собственно ведь не мы, а вы виновник торжества. Нам даже очень приятно, помилуйте!..
В квартире директора фабрики всё уже было готово к торжеству. В большой столовой с немецкими олеографиями и запахом герани и лака стояли два стола: один большой — для обеда, другой поменьше — закусочный. В окно сквозь спущенные сторы еле-еле пробивался полуденный, знойный свет… Комнатные сумерки, швейцарские виды на сторах, герань, тонко порезанная колбаса на тарелках — глядели наивно, девически сентиментально, и всё это было похоже на самого хозяина квартиры, маленького добродушного немца, с круглым животиком и с маслеными, ласковыми глазками. Адольф Андреич Бруни (так звали хозяина) суетился около закусочного стола, как на пожаре, наливал рюмки, подкладывал в тарелки и всё старался как бы угодить, рассмешить, показать свое дружелюбие. Он хлопал по плечам, заглядывал в глаза, хихикал, потирал руки, одним словом, ласкался, как добрая собака.
— Федор Лукич, кого вижу! — заговорил он прерывистым голосом, увидев Сысоева. — Как нам приятно! Несмотря на свою болезнь, вы пришли!.. Господа, позвольте вас порадовать: Федор Лукич пришел!
Около закусочного столика уже толпились педагоги и ели. Сысоев нахмурился; ему не понравилось, что товарищи начали есть и пить, не дождавшись его. Он выглядел среди них Ляпунова, того самого, который диктовал на экзамене, и, подойдя к нему, начал:
— Это не по-товарищески! Да-с! Так порядочные люди не диктуют!
— Господи, вы всё о том же! — сказал Ляпунов и поморщился. — Неужели вам не надоело?
— Да, всё о том же! У меня Бабкин никогда ошибок не делал! Я знаю, почему вы так диктовали. Вам просто хотелось, чтобы мои ученики провалились, и ваша школа показалась лучше моей. Я всё понимаю!..
— Да что вы придираетесь? — огрызнулся Ляпунов. — Какого чёрта вы ко мне пристаете?
— Будет, господа, — вмешался инспектор, делая плачущее лицо. — Ну, стоит ли из-за пустяков горячиться. Три ошибки… ни одной ошибки… ну не всё ли это равно?
— Нет, не всё равно. У меня Бабкин никогда ошибок не делал!
— Пристает! — продолжал Ляпунов, сердито фыркая. — Пользуется своим положением больного человека и всех поедом ест. Ну, я, батенька, не погляжу, что вы больной!
— Оставьте мою болезнь в покое! — сердито крикнул Сысоев. — Какое вам дело? Зарядили все одно: болезнь! болезнь! болезнь!.. Очень мне нужно ваше сочувствие! Да и откуда вы взяли, что я болен? Был до экзаменов болен, это правда, а теперь я совсем поправился, только слабость осталась.
— Выздоровел, ну и слава богу, — сказал законоучитель о. Николай, молодой священник в франтоватой коричневой рясе и в брюках навыпуск. — Радоваться нужно, а вы раздражаетесь и прочее тому подобное.
— Вы тоже хороши, — перебил его Сысоев. — Вопросы должны быть прямые, ясные, а вы всё время загадки задавали. Так нельзя!
Его кое-как общими силами успокоили и усадили за стол. Он долго выбирал, чего бы выпить, и, сделав кислое лицо, выпил полрюмки какой-то зеленой настойки, затем потянул к себе кусок пирога и кропотливо выбрал из начинки яйца и лук. С первого же глотка пирог показался ему пресным. Он посолил его и тотчас же сердито отодвинул, так как пирог был пересолен.
За обедом Сысоева посадили между инспектором и Бруни. После первого же блюда, по давно заведенному обычаю, начались тосты.
— Считаю приятным долгом, — начал инспектор, — поблагодарить отсутствующих здесь попечителей школы Даниила Петровича и… и… и…
— И Ивана Петровича… — подсказал Бруни.
— И Ивана Петровича Куликиных, не жалеющих средств на школу, и предлагаю выпить за их здоровье…
— С своей стороны, — сказал Бруни, вскочив, как ужаленный, — я предлагаю тост за здоровье уважаемого инспектора народных училищ, Павла Геннадиевича Надарова!
Задвигались стулья, заулыбались лица, и началось обычное чоканье. Третий тост всегда принадлежал Сысоеву. И на этот раз он поднялся и стал говорить. Сделав серьезное лицо и откашлявшись, он прежде всего заявил, что у него нет дара красноречия и что говорить он не готовился. Далее он сказал, что за 14 лет его службы было много интриг, подкопов и даже доносов на него и что он знает своих врагов и доносчиков, но не желает назвать их «из боязни испортить кое-кому аппетит»; несмотря на интриги, Куликинская школа заняла первое место во всей губернии «не только в нравственном, но даже и в материальном отношении».
— Везде, — сказал он, — учителя получают 200 да 300, а я получаю 500 рублей, и к тому же моя квартира отделана заново и даже меблирована на счет фабрики. А в этом году все стены оклеены новыми обоями…
Далее учитель распространился о том, как щедро сравнительно с земскими и казенными школами ученики снабжаются письменными принадлежностями. И всем этим, по его мнению, школа обязана не хозяевам фабрики, живущим за границей и едва ли даже знающим о существовании школы, а человеку, который, несмотря на свое немецкое происхождение и лютеранскую веру, имеет русскую душу. Сысоев говорил долго, с передышками и с претензией на витиеватость, и речь его вышла тягучей и неприятной. Он несколько раз упомянул про каких-то врагов своих, старался говорить намеками, повторялся, кашлял, некрасиво шевелил пальцами. Под конец он утомился, вспотел и стал говорить тихо, прерывисто, как бы про себя и кончил свою речь не совсем складно:
— Итак, предлагаю выпить за Бруни, то есть за Адольфа Андреича, который тут, между нами… вообще… и понятно.
Когда он кончил, все легко вздохнули, как будто кто брызнул в воздух холодной водой и рассеял духоту. Неприятного чувства не испытал, по-видимому, один только Бруни. Сияя и закатывая свои сентиментальные глаза, немец с чувством потряс руку Сысоеву и опять заласкался, как собака.
— О, благодарю вас! — сказал он, делая ударение на о, и прижимая левую руку к сердцу. — Я очень счастлив, что вы меня понимаете! Я всей душой, я желаю всего лучшего! Но только должен я вам заметить, вы преувеличиваете мое значение. Своим процветанием школа обязана только вам, почтеннейший мой друг, Федор Лукич! Без вас она ничем не отличалась бы от других школ! Вы думаете: немец говорит комплимент, немец говорит деликатности. Ха-ха! Нет, душа моя, Федор Лукич, я честный человек и никогда не говорю комплиментов. Если мы платим вам пятьсот рублей в год, то, значит, вы дороги нам. Не так ли? Господа, ведь я правду говорю? Другому мы не платили бы столько… Помилуйте, хорошая школа — это честь для фабрики!
— Я должен искренно сознаться, что ваша школа действительно необыкновенна, — сказал инспектор. — Не подумайте, что это фимиам. По крайней мере другой такой мне не приходилось встречать во всю жизнь. Я сидел у вас на экзамене и всё время удивлялся… Чудо, что за дети! Много знают и бойко отвечают, и притом они у вас какие-то особенные, незапуганные, искренние… Заметно, что и вас любят, Федор Лукич. Вы педагог до мозга костей, вы, должно быть, родились учителем. Все данные в вас: и врожденное призвание, и многолетний опыт, и любовь к делу… Просто удивительно, сколько у вас при слабости здоровья энергии, знания дела… этой, понимаете ли, выдержки, уверенности! Правду сказал кто-то в училищном совете, что вы поэт в своем деле… Именно поэт!
И все обедавшие единодушно, как один человек, заговорили о необыкновенном таланте Сысоева. И точно плотина прорвалась: потекли искренние, восторженные речи, каких не говорит человек, когда его сдерживает расчетливая и осторожная трезвость. Были забыты и речь Сысоева, и его несносный характер, и злое, нехорошее выражение лица. Разговорились все, даже молчаливые и робкие, вновь назначенные учителя, убогие, забитые юноши, иначе не величавшие инспектора, как «ваше высокоблагородие». Ясно, что в своем кругу Сысоев был личностью замечательной.
Привыкший за 14 лет службы к успехам и похвалам, он равнодушно прислушивался к восторженному гулу своих почитателей.
Вместо него похвалами упивался Бруни. Немец ловил каждое слово, сиял, хлопал в ладоши и застенчиво краснел, точно похвалы относились не к учителю, а к нему.
— Браво! Браво! — кричал он. — Верно! Вы угадали мою мысль!.. Отлично!..
Он заглядывал учителю в глаза, как бы желая поделиться с ним своим блаженством. В конце концов он не выдержал, вскочил и, покрывая все голоса своим визгливым тенорком, прокричал:
— Господа! Позвольте мне говорить! Тсс! На все ваши слова я могу только одно сказать: фабричная администрация не останется в долгу у Федора Лукича!..
Все смолкли. Сысоев поднял глаза на розовое лицо немца.
— Мы умеем ценить, — продолжал Бруни, делая серьезное лицо и понижая голос. — На все ваши слова я должен сказать вам, что… семья Федора Лукича будет обеспечена и что на этот предмет месяц тому назад уже положен в банк капитал.
Сысоев вопросительно поглядел на немца, на товарищей, как бы недоумевая: почему будет обеспечена семья, а не он сам? И тут на всех лицах, во всех неподвижных, устремленных на него взглядах, он прочел не сочувствие, не сострадание, которых он терпеть не мог, а что-то другое, что-то мягкое, нежное и в то же время в высшей степени зловещее, похожее на страшную истину, что-то такое, что в одно мгновение наполнило его тело холодом, а душу невыразимым отчаянием. С бледным, покривившимся лицом, он вдруг вскочил и схватил себя за голову. Четверть минуты простоял он так, с ужасом глядел вперед в одну точку, как будто видел перед собою эту близкую смерть, о которой говорил Бруни, потом сел и заплакал.
— Полноте!.. Что с вами?.. — слышал он встревоженные голоса. — Воды! Выпейте воды!
Прошло немного времени и учитель успокоился, но уже прежнее оживление не возвращалось к обедающим. Обед кончился в угрюмом молчании и гораздо раньше, чем в прошлые годы.
Придя домой, Сысоев прежде всего погляделся в зеркало.
«Конечно, напрасно я там разревелся! — думал он, глядя на свои глаза с темными кругами и на впалые щеки. — Сегодня у меня цвет лица гораздо лучше, чем вчера. У меня малокровие и катар желудка, а кашель у меня желудочный».
Успокоившись на этом, он медленно разделся и долго чистил веничком свою черную пару, потом старательно сложил ее и запер в комод.
Потом он подошел к столу, где лежала стопка ученических тетрадей, и, выбрав тетрадь Бабкина, сел и погрузился в созерцание красивого детского почерка…
А в это время, пока он рассматривал диктант своих учеников, в соседней комнате сидел земский врач и шёпотом говорил его жене, что не следовало бы отпускать на обед человека, которому осталось жить, по-видимому, не более недели.
- Авторы
- Чехов
- Учитель словесности
Чехов — Учитель словесности
I
Послышался стук лошадиных копыт о бревенчатый пол; вывели из конюшни сначала вороного Графа Нулина, потом белого Великана, потом сестру его Майку. Всё это были превосходные и дорогие лошади. Старик Шелестов оседлал Великана и сказал, обращаясь к своей дочери Маше:
— Ну, Мария Годфруа, иди садись. Опля!
Маша Шелестова была самой младшей в семье; ей было уже 18 лет, но в семье еще не отвыкли считать ее маленькой и потому все звали ее Маней и Манюсей; а после того, как в городе побывал цирк, который она усердно посещала, ее все стали звать Марией Годфруа.
— Опля! — крикнула она, садясь на Великана.
Сестра ее Варя села на Майку, Никитин — на Графа Нулина, офицеры — на своих лошадей, и длинная красивая кавалькада, пестрея белыми офицерскими кителями и черными амазонками, шагом потянулась со двора.
Никитин заметил, что, когда садились на лошадей и потом выехали на улицу, Манюся почему-то обращала внимание только на него одного. Она озабоченно оглядывала его и Графа Нулина и говорила:
— Вы, Сергей Васильич, держите его всё время на мундштуке. Не давайте ему пугаться. Он притворяется.
И оттого ли, что ее Великан был в большой дружбе с Графом Нулиным, или выходило это случайно, она, как вчера и третьего дня, ехала всё время рядом с Никитиным. А он глядел на ее маленькое стройное тело, сидевшее на белом гордом животном, на ее тонкий профиль, на цилиндр, который вовсе не шел к ней и делал ее старее, чем она была, глядел с радостью, с умилением, с восторгом, слушал ее, мало понимал и думал:
«Даю себе честное слово, клянусь богом, что не буду робеть и сегодня же объяснюсь с ней…»
Был седьмой час вечера — время, когда белая акация и сирень пахнут так сильно, что, кажется, воздух и сами деревья стынут от своего запаха. В городском саду уже играла музыка. Лошади звонко стучали по мостовой; со всех сторон слышались смех, говор, хлопанье калиток. Встречные солдаты козыряли офицерам, гимназисты кланялись Никитину; и, видимо, всем гуляющим, спешившим в сад на музыку, было очень приятно глядеть на кавалькаду. А как тепло, как мягки на вид облака, разбросанные в беспорядке по небу, как кротки и уютны тени тополей и акаций, — тени, которые тянутся через всю широкую улицу и захватывают на другой стороне дома до самых балконов и вторых этажей!
Выехали за город и побежали рысью по большой дороге. Здесь уже не пахло акацией и сиренью, не слышно было музыки, но зато пахло полем, зеленели молодые рожь и пшеница, пищали суслики, каркали грачи. Куда ни взглянешь, везде зелено, только кое-где чернеют бахчи да далеко влево на кладбище белеет полоса отцветающих яблонь.
Проехали мимо боен, потом мимо пивоваренного завода, обогнали толпу солдат-музыкантов, спешивших в загородный сад.
— У Полянского очень хорошая лошадь, я не спорю, — говорила Манюся Никитину, указывая глазами на офицера, ехавшего рядом с Варей. — Но она бракованная. Совсем уж некстати это белое пятно на левой ноге и, поглядите, головой закидывает. Теперь уж ее ничем не отучишь, так и будет закидывать, пока не издохнет.
Манюся была такой же страстной лошадницей, как и ее отец. Она страдала, когда видела у кого-нибудь хорошую лошадь, и была рада, когда находила недостатки у чужих лошадей. Никитин же ничего не понимал в лошадях, для него было решительно всё равно, держать ли лошадь на поводьях или на мундштуке, скакать ли рысью или галопом; он только чувствовал, что поза у него была неестественная, напряженная и что поэтому офицеры, которые умеют держаться на седле, должны нравиться Манюсе больше, чем он. И он ревновал ее к офицерам.
Когда ехали мимо загородного сада, кто-то предложил заехать и выпить сельтерской воды. Заехали. В саду росли одни только дубы; они стали распускаться только недавно, так что теперь сквозь молодую листву виден был весь сад с его эстрадой, столиками, качелями, видны были все вороньи гнезда, похожие на большие шапки. Всадники и их дамы спешились около одного из столиков и потребовали сельтерской воды. К ним стали подходить знакомые, гулявшие в саду. Между прочим подошли военный доктор в высоких сапогах и капельмейстер, дожидавшийся своих музыкантов. Должно быть, доктор принял Никитина за студента, потому что спросил:
— Вы изволили на каникулы приехать?
— Нет, я здесь постоянно живу, — ответил Никитин. — Я служу преподавателем в гимназии.
— Неужели? — удивился доктор. — Так молоды и уже учительствуете?
— Где же молод? Мне 26 лет… Слава тебе господи.
— У вас и борода и усы, но всё же на вид вам нельзя дать больше 22—23 лет. Как вы моложавы!
«Что за свинство! — подумал Никитин. — И этот считает меня молокососом!»
Ему чрезвычайно не нравилось, когда кто-нибудь заводил речь об его молодости, особенно в присутствии женщин или гимназистов. С тех пор как он приехал в этот город я поступил на службу, он стал ненавидеть свою моложавость. Гимназисты его не боялись, старики величали молодым человеком, женщины охотнее танцевали с ним, чем слушали его длинные рассуждения. И он дорого дал бы за то, чтобы постареть теперь лет на десять.
Из сада поехали дальше, на ферму Шелестовых. Здесь остановились около ворот, вызвали жену приказчика Прасковью и потребовали парного молока. Молока никто не стал пить, все переглянулись, засмеялись и поскакали назад. Когда ехали обратно, в загородном саду уже играла музыка; солнце спряталось за кладбище, и половина неба была багрова от зари.
Манюся опять ехала рядом с Никитиным. Ему хотелось заговорить о том, как страстно он ее любит, но он боялся, что его услышат офицеры и Варя, и молчал. Манюся тоже молчала, и он чувствовал, отчего она молчит и почему едет рядом с ним, и был так счастлив, что земля, небо, городские огни, черный силуэт пивоваренного завода — всё сливалось у него в глазах во что-то очень хорошее и ласковое, и ему казалось, что его Граф Нулин едет по воздуху и хочет вскарабкаться на багровое небо.
Приехали домой. На столе в саду уже кипел самовар, и на одном краю стола со своими приятелями, чиновниками окружного суда, сидел старик Шелестов и, по обыкновению, что-то критиковал.
— Это хамство! — говорил он. — Хамство и больше ничего. Да-с, хамство-с!
Никитину с тех пор, как он влюбился в Манюсю, всё нравилось у Шелестовых: и дом, и сад при доме, и вечерний чай, и плетеные стулья, и старая нянька, и даже слово «хамство», которое любил часто произносить старик. Не нравилось ему только изобилие собак и кошек, да египетские голуби, которые уныло стонали в большой клетке на террасе. Собак дворовых и комнатных было так много, что за всё время знакомства с Шелестовыми он научился узнавать только двух: Мушку и Сома. Мушка была маленькая облезлая собачонка с мохнатою мордой, злая и избалованная. Никитина она ненавидела; увидев его, она всякий раз склоняла голову набок, скалила зубы и начинала: «ррр… нга-нга-нга-нга… ррр…»
Потом садилась под стул. Когда же он пытался прогнать ее из-под своего стула, она заливалась пронзительным лаем, а хозяева говорили:
— Не бойтесь, она не кусается. Она у нас добрая.
Сом же представлял из себя огромного черного пса на длинных ногах и с хвостом, жестким, как палка. За обедом и за чаем он обыкновенно ходил молча под столом и стучал хвостом по сапогам и по ножкам стола. Это был добрый глупый пес, но Никитин терпеть его не мог за то, что он имел привычку класть свою морду на колени обедающим и пачкать слюною брюки. Никитин не раз пробовал бить его по большому лбу колодкой ножа, щелкал по носу, бранился, жаловался, но ничто не спасало его брюк от пятен.
После прогулки верхом чай, варенье, сухари и масло показались очень вкусными. Первый стакан все выпили с большим аппетитом и молча, перед вторым же принялись спорить. Споры всякий раз за чаем и за обедом начинала Варя. Ей было уже 23 года, она была хороша собой, красивее Манюси, считалась самою умной и образованной в доме и держала себя солидно, строго, как это и подобало старшей дочери, занявшей в доме место покойной матери. На правах хозяйки она ходила при гостях в блузе, офицеров величала по фамилии, на Манюсю глядела как на девочку и говорила с нею тоном классной дамы. Называла она себя старою девой — значит, была уверена, что выйдет замуж.
Всякий разговор, даже о погоде, она непременно сводила на спор. У нее была какая-то страсть — ловить всех на слове, уличать в противоречии, придираться к фразе. Вы начинаете говорить с ней о чем-нибудь, а она уже пристально смотрит вам в лицо и вдруг перебивает: «Позвольте, позвольте, Петров, третьего дня вы говорили совсем противоположное!»
Или же она насмешливо улыбается и говорит: «Однако, я замечаю, вы начинаете проповедовать принципы третьего отделения. Поздравляю вас».
Если вы сострили или сказали каламбур, тотчас же вы слышите ее голос: «Это старо!» или: «Это плоско!» Если же острит офицер, то она делает презрительную гримасу и говорит: «Арррмейская острота!»
И это «ррр»… выходило у нее так внушительно, что Мушка непременно отвечала ей из-под стула: «ррр… нга-нга-нга»…
Теперь за чаем спор начался с того, что Никитин заговорил о гимназических экзаменах.
— Позвольте, Сергей Васильич, — перебила его Варя. — Вот вы говорите, что ученикам трудно. А кто виноват, позвольте вас спросить? Например, вы задали ученикам VIII класса сочинение на тему: «Пушкин как психолог». Во-первых, нельзя задавать таких трудных тем, а во-вторых, какой же Пушкин психолог? Ну, Щедрин или, положим, Достоевский — другое дело, а Пушкин великий поэт и больше ничего.
— Щедрин сам по себе, а Пушкин сам по себе, — угрюмо ответил Никитин.
— Я знаю, у вас в гимназии не признают Щедрина, но не в этом дело. Вы скажите мне, какой же Пушкин психолог?
— А то разве не психолог? Извольте, вам примеры.
И Никитин продекламировал несколько мест из «Онегина», потом из «Бориса Годунова».
— Никакой не вижу тут психологии, — вздохнула Варя. — Психологом называется тот, кто описывает изгибы человеческой души, а это прекрасные стихи и больше ничего.
— Я знаю, какой вам нужно психологии! — обиделся Никитин. — Вам нужно, чтобы кто-нибудь пилил мне тупой пилою палец и чтобы я орал во всё горло, — это, по-вашему, психология.
— Плоско! Однако, вы все-таки не доказали мне: почему же Пушкин психолог?
Когда Никитину приходилось оспаривать то, что казалось ему рутиной, узостью или чем-нибудь вроде этого, то обыкновенно он вскакивал с места, хватал себя обеими руками за голову и начинал со стоном бегать из угла в угол. И теперь то же самое: он вскочил, схватил себя за голову и со стоном прошелся вокруг стола, потом сел поодаль.
За него вступились офицеры. Штабс-капитан Полянский стал уверять Варю, что Пушкин в самом деле психолог, и в доказательство привел два стиха из Лермонтова; поручик Гернет сказал, что если бы Пушкин не был психологом, то ему не поставили бы в Москве памятника.
— Это хамство! — доносилось с другого конца стола. — Я так и губернатору сказал: это, ваше превосходительство, хамство!
— Я больше не спорю! — крикнул Никитин. — Это его же царствию не будет конца! Баста! Ах, да поди ты прочь, поганая собака! — крикнул он на Сома, который положил ему на колени голову и лапу.
«Ррр… нга-нга-нга»… — послышалось из-под стула.
— Сознайтесь, что вы не правы! — крикнула Варя. — Сознайтесь!
Но пришли гостьи-барышни, и спор прекратился сам собой. Все отправились в зал. Варя села за рояль и стала играть танцы. Протанцевали сначала вальс, потом польку, потом кадриль с grand-rond, которое провел по всем комнатам штабс-капитан Полянский, потом опять стали танцевать вальс.
Старики во время танцев сидели в зале, курили и смотрели на молодежь. Между ними находился и Шебалдин, директор городского кредитного общества, славившийся своей любовью к литературе и сценическому искусству. Он положил начало местному «Музыкально-драматическому кружку» и сам принимал участие в спектаклях, играя почему-то всегда только одних смешных лакеев или читая нараспев «Грешницу». Звали его в городе мумией, так как он был высок, очень тощ, жилист и имел всегда торжественное выражение лица и тусклые неподвижные глаза. Сценическое искусство он любил так искренно, что даже брил себе усы и бороду, а это еще больше делало его похожим на мумию.
После grand-rond он нерешительно, как-то боком подошел к Никитину, кашлянул и сказал:
— Я имел удовольствие присутствовать за чаем во время спора. Вполне разделяю ваше мнение. Мы с вами единомышленники, и мне было бы очень приятно поговорить с вами. Вы изволили читать «Гамбургскую драматургию» Лессинга?
— Нет, не читал.
Шебалдин ужаснулся и замахал руками так, как будто ожег себе пальцы, и, ничего не говоря, попятился от Никитина. Фигура Шебалдина, его вопрос и удивление показались Никитину смешными, но он все-таки подумал:
«В самом деле неловко. Я — учитель словесности, а до сих пор еще не читал Лессинга. Надо будет прочесть».
Перед ужином все, молодые и старые, сели играть в «судьбу». Взяли две колоды карт: одну сдали всем поровну, другую положили на стол рубашкой вверх.
— У кого на руках эта карта, — начал торжественно старик Шелестов, поднимая верхнюю карту второй колоды, — тому судьба пойти сейчас в детскую и поцеловаться там с няней.
Удовольствие целоваться с няней выпало на долю Шебалдина. Все гурьбой окружили его, повели в детскую и со смехом, хлопая в ладоши, заставили поцеловаться с няней. Поднялся шум, крик…
— Не так страстно! — кричал Шелестов, плача от смеха. — Не так страстно!
Никитину вышла судьба исповедовать всех. Он сел на стул среди залы. Принесли шаль и накрыли его с головой. Первой пришла к нему исповедоваться Варя.
— Я знаю ваши грехи, — начал Никитин, глядя в потемках на ее строгий профиль. — Скажите мне, сударыня, с какой это стати вы каждый день гуляете с Полянским? Ох, недаром, недаром она с гусаром!
— Это плоско, — сказала Варя и ушла.
Затем под шалью заблестели большие неподвижные глаза, обозначился в потемках милый профиль и запахло чем-то дорогим, давно знакомым, что напоминало Никитину комнату Манюси.
— Мария Годфруа, — сказал он и не узнал своего голоса — так он был нежен и мягок, — в чем вы грешны?
Манюся прищурила глаза и показала ему кончик языка, потом засмеялась и ушла. А через минуту она уже стояла среди залы, хлопала в ладоши и кричала:
— Ужинать, ужинать, ужинать!
И все повалили в столовую.
За ужином Варя опять спорила и на этот раз с отцом. Полянский солидно ел, пил красное вино и рассказывал Никитину, как он раз зимою, будучи на войне, всю ночь простоял по колено в болоте; неприятель был близко, так что не позволялось ни говорить, ни курить, ночь была холодная, темная, дул пронзительный ветер. Никитин слушал и косился на Манюсю. Она глядела на него неподвижно, не мигая, точно задумалась о чем-то или забылась… Для него это было и приятно, и мучительно.
«Зачем она на меня так смотрит? — мучился он. — Это неловко. Могут заметить. Ах, как она еще молода, как наивна!»
Гости стали расходиться в полночь. Когда Никитин вышел за ворота, во втором этаже дома хлопнуло окошко и показалась Манюся.
— Сергей Васильич! — окликнула она. Что прикажете?
— Вот что… — проговорила Манюся, видимо, придумывая, что бы сказать. — Вот что… Полянский обещал прийти на днях со своей фотографией и снять всех нас. Надо будет собраться.
— Хорошо.
Манюся скрылась, окно хлопнуло, и тотчас же в доме кто-то заиграл на рояле.
«Ну, дом! — думал Никитин, переходя через улицу. — Дом, в котором стонут одни только египетские голуби, да и те потому, что иначе не умеют выражать своей радости!»
Но не у одних только Шелестовых жилось весело. Не прошел Никитин и двухсот шагов, как и из другого дома послышались звуки рояля. Прошел он еще немного и увидел у ворот мужика, играющего на балалайке. В саду оркестр грянул попурри из русских песен…
Никитин жил в полуверсте от Шелестовых, в квартире из восьми комнат, которую он нанимал за триста рублей в год вместе со своим товарищем, учителем географии и истории Ипполитом Ипполитычем. Этот Ипполит Ипполитыч, еще не старый человек, с рыжею бородкой, курносый, с лицом грубоватым и неинтеллигентным, как у мастерового, но добродушным, когда вернулся домой Никитин, сидел у себя за столом и поправлял ученические карты. Самым нужным и самым важным считалось у него по географии черчение карт, а по истории — знание хронологии; по целым ночам сидел он и синим карандашом поправлял карты своих учеников и учениц или же составлял хронологические таблички.
— Какая сегодня великолепная погода! — сказал Никитин, входя к нему. — Удивляюсь вам, как это вы можете сидеть в комнате.
Ипполит Ипполитыч был человек неразговорчивый; он или молчал, или же говорил только о том, что всем давно уже известно. Теперь он ответил так:
— Да, прекрасная погода. Теперь май, скоро будет настоящее лето. А лето не то, что зима. Зимою нужно печи топить, а летом и без печей тепло. Летом откроешь ночью окна, и всё-таки тепло, а зимою — двойные рамы, и всё-таки холодно.
Никитин посидел около стола не больше минуты и соскучился.
— Спокойной ночи! — сказал он, поднимаясь и зевая. — Хотел было я рассказать вам нечто романическое, меня касающееся, но ведь вы — география! Начнешь вам о любви, а вы сейчас: «В каком году была битва при Калке?» Ну вас к чёрту с вашими битвами и с Чукотскими носами!
— Что же вы сердитесь?
— Да досадно!
И, досадуя, что он не объяснился еще с Манюсей и что ему не с кем теперь поговорить о своей любви, он пошел к себе в кабинет и лег на диван. В кабинете было темно и тихо. Лежа и глядя в потемки, Никитин стал почему-то думать о том, как через два или три года он поедет зачем-нибудь в Петербург, как Манюся будет провожать его на вокзал и плакать; в Петербурге он получит от нее длинное письмо, в котором она будет умолять его скорее вернуться домой. И он напишет ей… Свое письмо начнет так: милая моя крыса…
— Именно, милая моя крыса, — сказал он и засмеялся.
Ему было неудобно лежать. Он подложил руки под голову и задрал левую ногу на спинку дивана. Стало удобно. Между тем окно начало заметно бледнеть, на дворе заголосили сонные петухи. Никитин продолжал думать о том, как он вернется из Петербурга, как встретит его на вокзале Манюся и, вскрикнув от радости, бросится ему на шею; или, еще лучше, он схитрит: приедет ночью потихоньку, кухарка отворит ему, потом на цыпочках пройдет он в спальню, бесшумно разденется и — бултых в постель! А она проснется и — о радость!
Воздух совсем побелел. Кабинета и окна уж не было. На крылечке пивоваренного завода, того самого, мимо которого сегодня проезжали, сидела Манюся и что-то говорила. Потом она взяла Никитина под руку и пошла с ним в загородный сад. Тут он увидел дубы и вороньи гнезда, похожие на шапки. Одно гнездо закачалось, выглянул из него Шебалдин и громко крикнул: «Вы не читали Лессинга!»
Никитин вздрогнул всем телом и открыл глаза. Перед диваном стоял Ипполит Ипполитыч и, откинув назад голову, надевал галстук.
— Вставайте, пора на службу, — говорил он. — А в одежде спать нельзя. От этого одежда портится. Спать надо в постели, раздевшись…
И он, по обыкновению, стал длинно и с расстановкой говорить о том, что всем давно уже известно.
Первый урок у Никитина был по русскому языку, во втором классе. Когда он ровно в девять часов вошел в этот класс, то здесь, на черной доске, были написаны мелом две большие буквы: М. Ш. Это, вероятно, значило: Маша Шелестова.
«Уж пронюхали, подлецы… — подумал Никитин. — И откуда они всё знают?»
Второй урок по словесности был в пятом классе. И тут на доске было написано М. Ш., а когда он, кончив урок, выходил из этого класса, сзади него раздался крик, точно в театральном райке:
— Ура-а-а! Шелестова!!
От спанья в одежде было нехорошо в голове, тело изнемогало от лени. Ученики, каждый день ждавшие роспуска перед экзаменами, ничего не делали, томились, шалили от скуки. Никитин тоже томился, не замечал шалостей и то и дело подходил к окну. Ему была видна улица, ярко освещенная солнцем. Над домами прозрачное голубое небо, птицы, а далеко-далеко, за зелеными садами и домами, просторная, бесконечная даль с синеющими рощами, с дымком от бегущего поезда…
Вот по улице в тени акаций, играя хлыстиками, прошли два офицера в белых кителях. Вот на линейке проехала куча евреев с седыми бородами и в картузах. Гувернантка гуляет с директорскою внучкой… Пробежал куда-то Сом с двумя дворняжками… А вот, в простеньком сером платье и в красных чулочках, держа в руке «Вестник Европы», прошла Варя. Была, должно быть, в городской библиотеке…
А уроки кончатся еще не скоро — в три часа! После же уроков нужно идти не домой и не к Шелестовым, а к Вольфу на урок. Этот Вольф, богатый еврей, принявший лютеранство, не отдавал своих детей в гимназию, а приглашал к ним гимназических учителей и платил по пяти рублей за урок…
«Скучно, скучно, скучно!»
В три часа он пошел к Вольфу и высидел у него, как ему показалось, целую вечность. Вышел от него в пять часов, а в седьмом уже должен был идти в гимназию, на педагогический совет — составлять расписание устных экзаменов для IV и VI классов!
Когда, поздно вечером, шел он из гимназии к Шелестовым, сердце у него билось и лицо горело. Неделю и месяц тому назад всякий раз, собираясь объясниться, он приготовлял целую речь с предисловием и с заключением, теперь же у него не было наготове ни одного слова, в голове всё перепуталось, и он только знал, что сегодня он наверное объяснится и что дольше ждать нет никакой возможности.
«Я приглашу ее в сад, — обдумывал он, — немножко погуляю и объяснюсь»…
В передней не было ни души; он вошел в залу, потом в гостиную… Тут тоже никого не было. Слышно было, как наверху, во втором этаже, с кем-то спорила Варя и как в детской стучала ножницами наемная швея.
Была в доме комнатка, которая носила три названия: маленькая, проходная и томная. В ней стоял большой старый шкап с медикаментами, с порохом и охотничьими принадлежностями. Отсюда вела во второй этаж узкая деревянная лестничка, на которой всегда спали кошки. Были тут двери: одна — в детскую, другая — в гостиную. Когда вошел сюда Никитин, чтобы отправиться наверх, дверь из детской отворилась и хлопнула так, что задрожали и лестница и шкап; вбежала Манюся в темном платье, с куском синей материи в руках, и, не замечая Никитина, шмыгнула к лестнице.
— Постойте… — остановил ее Никитин. — Здравствуйте, Годфруа… Позвольте…
Он запыхался, не знал что говорить; одною рукой держал ее за руку, а другою — за синюю материю. А она не то испугалась, не то удивилась и глядела на него большими глазами.
— Позвольте… — продолжал Никитин, боясь, чтоб она не ушла. — Мне нужно вам кое-что сказать… Только… здесь неудобно. Я не могу, не в состоянии… Понимаете ли, Годфруа, я не могу… вот и всё…
Синяя материя упала на пол, и Никитин взял Манюсю за другую руку. Она побледнела, зашевелила губами, потом попятилась назад от Никитина и очутилась в углу между стеной и шкапом.
— Честное слово, уверяю вас… — сказал он тихо. — Манюся, честное слово…
Она откинула назад голову, а он поцеловал ее в губы и, чтоб этот поцелуй продолжался дольше, он взял ее за щеки пальцами; и как-то так вышло, что сам он очутился в углу между шкапом и стеной, а она обвила руками его шею и прижалась к его подбородку головой.
Потом оба побежали в сад.
Сад у Шелестовых был большой, на четырех десятинах. Тут росло с два десятка старых кленов и лип, была одна ель, всё же остальное составляли фруктовые деревья: черешни, яблони, груши, дикий каштан, серебристая маслина… Много было и цветов.
Никитин и Манюся молча бегали по аллеям, смеялись, задавали изредка друг другу отрывистые вопросы, на которые не отвечали, а над садом светил полумесяц и на земле из темной травы, слабо освещенной этим полумесяцем, тянулись сонные тюльпаны и ирисы, точно прося, чтобы и с ними объяснились в любви.
Когда Никитин и Манюся вернулись в дом, офицеры и барышни были уже в сборе и танцевали мазурку. Опять Полянский водил по всем комнатам grand-rond, опять после танцев играли в судьбу. Перед ужином, когда гости пошли из залы в столовую, Манюся, оставшись одна с Никитиным, прижалась к нему и сказала:
— Ты сам поговори с папой и Варей. Мне стыдно…
После ужина он говорил со стариком. Выслушав его, Шелестов подумал и сказал:
— Очень вам благодарен за честь, которую вы оказываете мне и дочери, но позвольте мне поговорить с вами по-дружески. Буду говорить с вами не как отец, а как джентльмен с джентльменом. Скажите, пожалуйста, что вам за охота так рано жениться? Это только мужики женятся рано, но там, известно, хамство, а вы-то с чего? Что за удовольствие в такие молодые годы надевать на себя кандалы?
— Я вовсе не молод! — обиделся Никитин. — Мне 27-й год.
— Папа, коновал пришел! — крикнула из другой комнаты Варя.
И разговор прекратился. Домой провожали Никитина Варя, Манюся и Полянский. Когда подошли к его калитке, Варя сказала:
— Что это ваш таинственный Митрополит Митрополитыч никуда не показывается? Пусть бы к нам пришел.
Таинственный Ипполит Ипполитыч, когда вошел к нему Никитин, сидел у себя на постели и снимал панталоны.
— Не ложитесь, голубчик! — сказал ему Никитин, задыхаясь. — Постойте, не ложитесь!
Ипполит Ипполитыч быстро надел панталоны и спросил встревоженно:
— Что такое?
— Я женюсь!
Никитин сел рядом с товарищем и, глядя на него удивленно, точно удивляясь самому себе, сказал:
— Представьте, женюсь! На Маше Шелестовой! Сегодня предложение сделал.
— Что ж? Она девушка, кажется, хорошая. Только молода очень.
— Да, молода! — вздохнул Никитин и озабоченно пожал плечами. — Очень, очень молода!
— Она у меня в гимназии училась. Я ее знаю. По географии училась ничего себе, а по истории — плохо. И в классе была невнимательна.
Никитину вдруг почему-то стало жаль своего товарища и захотелось сказать ему что-нибудь ласковое, утешительное.
— Голубчик, отчего вы не женитесь? — спросил он. — Ипполит Ипполитыч, отчего бы вам, например, на Варе не жениться? Это чудная, превосходная девушка! Правда, она очень любит спорить, но зато сердце… какое сердце! Она сейчас про вас спрашивала. Женитесь на ней, голубчик! А?
Он отлично знал, что Варя не пойдет за этого скучного курносого человека, но все-таки убеждал его жениться на ней. Зачем?
— Женитьба — шаг серьезный, — сказал Ипполит Ипполитыч, подумав. — Надо обсудить все, взвесить, а так нельзя. Благоразумие никогда не мешает, а в особенности в женитьбе, когда человек, перестав быть холостым, начинает новую жизнь.
И он заговорил о том, что всем давно уже известно. Никитин не стал слушать его, простился и пошел к себе. Он быстро разделся и быстро лег, чтобы поскорее начать думать о своем счастии, о Манюсе, о будущем, улыбнулся и вдруг вспомнил, что он не читал еще Лессинга.
«Надо будет прочесть… — подумал он. — Впрочем, зачем мне его читать? Ну его к чёрту!»
И утомленный своим счастьем, он тотчас же уснул и улыбался до самого утра.
Снился ему стук лошадиных копыт о бревенчатый пол; снилось, как из конюшни вывели сначала вороного Графа Нулина, потом белого Великана, потом сестру его Майку…
II
«В церкви было очень тесно и шумно, и раз даже кто-то вскрикнул, и протоиерей, венчавший меня и Манюсю, взглянул через очки на толпу и сказал сурово:
— Не ходите по церкви и не шумите, а стойте тихо и молитесь. Надо страх божий иметь.
Шаферами у меня были два моих товарища, а у Мани — штабс-капитан Полянский и поручик Гернет. Архиерейский хор пел великолепно. Треск свечей, блеск, наряды, офицеры, множество веселых, довольных лиц и какой-то особенный, воздушный вид у Мани, и вся вообще обстановка и слова венчальных молитв трогали меня до слез, наполняли торжеством. Я думал: как расцвела, как поэтически красиво сложилась в последнее время моя жизнь! Два года назад я был еще студентом, жил в дешевых номерах на Неглинном, без денег, без родных и, как казалось мне тогда, без будущего. Теперь же я — учитель гимназии в одном из лучших губернских городов, обеспечен, любим, избалован. Для меня вот, думал я, собралась теперь эта толпа, для меня горят три паникадила, ревет протодьякон, стараются певчие, и для меня так молодо, изящно и радостно это молодое существо, которое немного погодя будет называться моею женой. Я вспомнил первые встречи, наши поездки за город, объяснение в любви и погоду, которая, как нарочно, всё лето была дивно хороша; и то счастье, которое когда-то на Неглинном представлялось мне возможным только в романах и повестях, теперь я испытывал на самом деле, казалось, брал его руками.
После венчания все в беспорядке толпились около меня и Мани и выражали свое искреннее удовольствие, поздравляли и желали счастья. Бригадный генерал, старик лет под семьдесят, поздравил одну только Манюсю и сказал ей старческим скрипучим голосом, так громко, что пронеслось по всей церкви:
— Надеюсь, милая, и после свадьбы вы останетесь всё таким же роза́ном.
Офицеры, директор и все учителя улыбнулись из приличия, и я тоже почувствовал на своем лице приятную неискреннюю улыбку. Милейший Ипполит Ипполитыч, учитель истории и географии, всегда говорящий то, что всем давно известно, крепко пожал мне руку и сказал с чувством:
— До сих пор вы были не женаты и жили одни, а теперь вы женаты и будете жить вдвоем.
Из церкви поехали в двухэтажный нештукатуренный дом, который я получаю теперь в приданое. Кроме этого дома, за Маней деньгами тысяч двадцать и еще какая-то Мелитоновская пустошь со сторожкой, где, как говорят, множество кур и уток, которые без надзора становятся дикими. По приезде из церкви, я потягивался, развалясь у себя в новом кабинете на турецком диване, и курил; мне было мягко, удобно и уютно, как никогда в жизни, а в это время гости кричали ура, и в передней плохая музыка играла туши и всякий вздор. Варя, сестра Мани, вбежала в кабинет с бокалом в руке и с каким-то странным, напряженным выражением, точно у нее рот был полон воды; она, по-видимому, хотела бежать дальше, но вдруг захохотала и зарыдала, и бокал со звоном покатился по полу. Мы подхватили ее под руки и увели.
— Никто не может понять! — бормотала она потом в самой дальней комнате, лежа на постели у кормилицы. — Никто, никто! Боже мой, никто не может понять!
Но все отлично понимали, что она старше своей сестры Мани на четыре года и всё еще не замужем и что плакала она не из зависти, а из грустного сознания, что время ее уходит и, быть может, даже ушло. Когда танцевали кадриль, она была уже в зале, с заплаканным, сильно напудренным лицом, и я видел, как штабс-капитан Полянский держал перед ней блюдечко с мороженым, а она кушала ложечкой…
Уже шестой час утра. Я взялся за дневник, чтобы описать свое полное, разнообразное счастье, и думал, что напишу листов шесть и завтра прочту Мане, но, странное дело, у меня в голове всё перепуталось, стало неясно, как сон, и мне припоминается резко только этот эпизод с Варей и хочется написать: бедная Варя! Вот так бы всё сидел и писал: бедная Варя! Кстати же зашумели деревья: будет дождь; каркают вороны, и у моей Мани, которая только что уснула, почему-то грустное лицо».
Потом Никитин долго не трогал своего дневника. В первых числах августа начались у него переэкзаменовки и приемные экзамены, а после Успеньева дня — классные занятия. Обыкновенно в девятом часу утра он уходил на службу и уже в десятом начинал тосковать по Мане и по своем новом доме и посматривал на часы. В низших классах он заставлял кого-нибудь из мальчиков диктовать и, пока дети писали, сидел на подоконнике с закрытыми глазами и мечтал; мечтал ли он о будущем, вспоминал ли о прошлом — всё у него выходило одинаково прекрасно, похоже на сказку. В старших классах читали вслух Гоголя или прозу Пушкина, и это нагоняло на него дремоту, в воображении вырастали люди, деревья, поля, верховые лошади, и он говорил со вздохом, как бы восхищаясь автором:
— Как хорошо!
Во время большой перемены Маня присылала ему завтрак в белой, как снег, салфеточке, и он съедал его медленно, с расстановкой, чтобы продлить наслаждение, а Ипполит Ипполитыч, обыкновенно завтракавший одною только булкой, смотрел на него с уважением и с завистью и говорил что-нибудь известное, вроде:
— Без пищи люди не могут существовать.
Из гимназии Никитин шел на частные уроки, и когда наконец в шестом часу возвращался домой, то чувствовал и радость и тревогу, как будто не был дома целый год. Он вбегал по лестнице, запыхавшись, находил Маню, обнимал ее, целовал и клялся, что любит ее, жить без нее не может, уверял, что страшно соскучился, и со страхом спрашивал ее, здорова ли она и отчего у нее такое невеселое лицо. Потом вдвоем обедали. После обеда он ложился в кабинете на диван и курил, а она садилась возле и рассказывала вполголоса.
Самыми счастливыми днями у него были теперь воскресенья и праздники, когда он с утра до вечера оставался дома. В эти дни он принимал участие в наивной, но необыкновенно приятной жизни, напоминавшей ему пастушеские идиллии. Он не переставая наблюдал, как его разумная и положительная Маня устраивала гнездо, и сам тоже, желая показать, что он не лишний в доме, делал что-нибудь бесполезное, например, выкатывал из сарая шарабан и оглядывал его со всех сторон. Манюся завела от трех коров настоящее молочное хозяйство, и у нее в погребе и на погребице было много кувшинов с молоком и горшочков со сметаной, и всё это она берегла для масла. Иногда ради шутки Никитин просил у нее стакан молока; она пугалась, так как это был непорядок, но он со смехом обнимал ее и говорил:
— Ну, ну, я пошутил, золото мое! Пошутил!
Или же он посмеивался над ее педантизмом, когда она, например, найдя в шкапу завалящий, твердый, как камень, кусочек колбасы или сыру, говорила с важностью:
— Это съедят в кухне.
Он замечал ей, что такой маленький кусочек годится только в мышеловку, а она начинала горячо доказывать, что мужчины ничего не понимают в хозяйстве и что прислугу ничем не удивишь, пошли ей в кухню хоть три пуда закусок, и он соглашался и в восторге обнимал ее. То, что в ее словах было справедливо, казалось ему необыкновенным, изумительным; то же, что расходилось с его убеждениями, было, по его мнению, наивно и умилительно.
Иногда на него находил философский стих, и он начинал рассуждать на какую-нибудь отвлеченную тему, а она слушала и смотрела ему в лицо с любопытством.
— Я бесконечно счастлив с тобой, моя радость, — говорил он, перебирая ей пальчики или распуская и опять заплетая ей косу. — Но на это свое счастье я не смотрю как на нечто такое, что свалилось на меня случайно, точно с неба. Это счастье — явление вполне естественное, последовательное, логически верное. Я верю в то, что человек есть творец своего счастья, и теперь я беру именно то, что я сам создал. Да, говорю без жеманства, это счастье создал я сам и владею им по праву. Тебе известно мое прошлое. Сиротство, бедность, несчастное детство, тоскливая юность — всё это борьба, это путь, который я прокладывал к счастью…
В октябре гимназия понесла тяжелую потерю: Ипполит Ипполитыч заболел рожей головы и скончался. Два последних дня перед смертью он был в бессознательном состоянии и бредил, но и в бреду говорил только то, что всем известно:
— Волга впадает в Каспийское море… Лошади кушают овес и сено…
В тот день, когда его хоронили, учения в гимназии не было. Товарищи и ученики несли крышку и гроб, и гимназический хор всю дорогу до кладбища пел «Святый боже». В процессии участвовало три священника, два дьякона, вся мужская гимназия и архиерейский хор в парадных кафтанах. И глядя на торжественные похороны, встречные прохожие крестились и говорили:
— Дай бог всякому так помереть.
Вернувшись с кладбища домой, растроганный Никитин отыскал в столе свой дневник и написал:
«Сейчас опустили в могилу Ипполита Ипполитовича Рыжицкого.
Мир праху твоему, скромный труженик! Маня, Варя и все женщины, бывшие на похоронах, искренно плакали, быть может, оттого, что знали, что этого неинтересного, забитого человека не любила никогда ни одна женщина. Я хотел сказать на могиле товарища теплое слово, но меня предупредили, что это может не понравиться директору, так как он не любил покойного. После свадьбы это, кажется, первый день, когда у меня не легко на душе…»
Затем во весь учебный сезон не было никаких особенных событий.
Зима была вялая, без морозов, с мокрым снегом; под Крещенье, например, всю ночь ветер жалобно выл по-осеннему, и текло с крыш, а утром во время водосвятия полиция не пускала никого на реку, так как, говорили, лед надулся и потемнел. Но, несмотря на дурную погоду, Никитину жилось так же счастливо, как и летом. Даже еще прибавилось одно лишнее развлечение: он научился играть в винт. Только одно иногда волновало и сердило его и, казалось, мешало ему быть вполне счастливым: это кошки и собаки, которых он получил в приданое. В комнатах всегда, особенно по утрам, пахло, как в зверинце, и этого запаха ничем нельзя было заглушить; кошки часто дрались с собаками. Злую Мушку кормили по десяти раз в день, она по-прежнему не признавала Никитина и ворчала на него:
— Ррр… нга-нга-нга…
Как-то Великим постом в полночь возвращался он домой из клуба, где играл в карты. Шел дождь, было темно и грязно. Никитин чувствовал на душе неприятный осадок и никак не мог понять, отчего это: оттого ли, что он проиграл в клубе двенадцать рублей, или оттого, что один из партнеров, когда расплачивались, сказал, что у Никитина куры денег не клюют, очевидно, намекая на приданое? Двенадцать рублей было не жалко, и слова партнера не содержали в себе ничего обидного, но все-таки было неприятно. Даже домой не хотелось.
— Фуй, как нехорошо! — проговорил он, останавливаясь около фонаря.
Ему пришло в голову, что двенадцати рублей ему оттого не жалко, что они достались ему даром. Вот если бы он был работником, то знал бы цену каждой копейке и не был бы равнодушен к выигрышу и проигрышу. Да и всё счастье, рассуждал он, досталось ему даром, понапрасну и в сущности было для него такою же роскошью, как лекарство для здорового; если бы он, подобно громадному большинству людей, был угнетен заботой о куске хлеба, боролся за существование, если бы у него болели спина и грудь от работы, то ужин, теплая уютная квартира и семейное счастье были бы потребностью, наградой и украшением его жизни; теперь же всё это имело какое-то странное, неопределенное значение.
— Фуй, как нехорошо! — повторил он, отлично понимая, что эти рассуждения сами по себе уже дурной знак.
Когда он пришел домой, Маня была в постели. Она ровно дышала и улыбалась и, по-видимому, спала с большим удовольствием. Возле нее, свернувшись клубочком, лежал белый кот и мурлыкал. Пока Никитин зажигал свечу и закуривал, Маня проснулась и с жадностью выпила стакан воды.
— Мармеладу наелась, — сказала она и засмеялась. — Ты у наших был? — спросила она, помолчав.
— Нет, не был.
Никитин уже знал, что штабс-капитан Полянский, на которого в последнее время сильно рассчитывала Варя, получил перевод в одну из западных губерний и уже делал в городе прощальные визиты, и поэтому в доме тестя было скучно.
— Вечером заходила Варя, — сказала Маня, садясь. — Она ничего не говорила, но по лицу видно, как ей тяжело, бедняжке. Терпеть не могу Полянского. Толстый, обрюзг, а когда ходит или танцует, щеки трясутся… Не моего романа. Но все-таки я считала его порядочным человеком.
— Я и теперь считаю его порядочным.
— А зачем он так дурно поступил с Варей?
— Почему же дурно? — спросил Никитин, начиная чувствовать раздражение против белого кота, который потягивался, выгнув спину. — Насколько мне известно, он предложения не делал и обещаний никаких не давал.
— А зачем он часто бывал в доме? Если не намерен жениться, то не ходи.
Никитин потушил свечу и лег. Но не хотелось ни спать, ни лежать. Ему казалось, что голова у него громадная и пустая, как амбар, и что в ней бродят новые, какие-то особенные мысли в виде длинных теней. Он думал о том, что, кроме мягкого лампадного света, улыбающегося тихому семейному счастью, кроме этого мирка, в котором так спокойно и сладко живется ему и вот этому коту, есть ведь еще другой мир… И ему страстно, до тоски вдруг захотелось в этот другой мир, чтобы самому работать где-нибудь на заводе или в большой мастерской, говорить с кафедры, сочинять, печатать, шуметь, утомляться, страдать… Ему захотелось чего-нибудь такого, что захватило бы его до забвения самого себя, до равнодушия к личному счастью, ощущения которого так однообразны. И в воображении вдруг, как живой, вырос бритый Шебалдин и проговорил с ужасом:
— Вы не читали даже Лессинга! Как вы отстали! Боже, как вы опустились!
Маня опять стала пить воду. Он взглянул на ее шею, полные плечи и грудь и вспомнил слово, которое когда-то в церкви сказал бригадный генерал: роза́н.
— Роза́н, — пробормотал он и засмеялся.
В ответ ему под кроватью заворчала сонная Мушка:
— Ррр… нга-нга-нга…
Тяжелая злоба, точно холодный молоток, повернулась в его душе, и ему захотелось сказать Мане что-нибудь грубое и даже вскочить и ударить ее. Началось сердцебиение.
— Так значит, — спросил он, сдерживая себя, — если я ходил к вам в дом, то непременно должен был жениться на тебе?
— Конечно. Ты сам это отлично понимаешь.
— Мило.
И через минуту опять повторил:
— Мило.
Чтобы не сказать лишнего и успокоить сердце, Никитин пошел к себе в кабинет и лег на диван без подушки, потом полежал на полу, на ковре.
«Какой вздор! — успокаивал он себя. — Ты — педагог, работаешь на благороднейшем поприще… Какого же тебе еще нужно другого мира? Что за чепуха!»
Но тотчас же он с уверенностью говорил себе, что он вовсе не педагог, а чиновник, такой же бездарный и безличный, как чех, преподаватель греческого языка; никогда у него не было призвания к учительской деятельности, с педагогией он знаком не был и ею никогда не интересовался, обращаться с детьми не умеет; значение того, что он преподавал, было ему неизвестно, и, быть может, даже он учил тому, что не нужно. Покойный Ипполит Ипполитыч был откровенно туп, и все товарищи и ученики знали, кто он и чего можно ждать от него; он же, Никитин, подобно чеху, умеет скрывать свою тупость и ловко обманывает всех, делая вид, что у него, слава богу, всё идет хорошо. Эти новые мысли пугали Никитина, он отказывался от них, называл их глупыми и верил, что всё это от нервов, что сам же он будет смеяться над собой…
И в самом деле, под утро он уже смеялся над своею нервностью и называл себя бабой, но для него уже было ясно, что покой потерян, вероятно, навсегда и что в двухэтажном нештукатуренном доме счастье для него уже невозможно. Он догадывался, что иллюзия иссякла и уже начиналась новая, нервная, сознательная жизнь, которая не в ладу с покоем и личным счастьем.
На другой день, в воскресенье, он был в гимназической церкви и виделся там с директором и товарищами. Ему казалось, что все они были заняты только тем, что тщательно скрывали свое невежество и недовольство жизнью, и сам он, чтобы не выдать им своего беспокойства, приятно улыбался и говорил о пустяках. Потом он ходил на вокзал и видел там, как пришел и ушел почтовый поезд, и ему приятно было, что он один и что ему не нужно ни с кем разговаривать.
Дома застал он тестя и Варю, которые пришли к нему обедать. Варя была с заплаканными глазами и жаловалась на головную боль, а Шелестов ел очень много и говорил о том, как теперешние молодые люди ненадежны и как мало в них джентльменства.
— Это хамство! — говорил он. — Так я ему прямо и скажу: это хамство, милостивый государь!
Никитин приятно улыбался и помогал Мане угощать гостей, но после обеда пошел к себе в кабинет и заперся.
Мартовское солнце светило ярко, и сквозь оконные стекла падали на стол горячие лучи. Было еще только двадцатое число, но уже ездили на колесах, и в саду шумели скворцы. Похоже было на то, что сейчас вот войдет Манюся, обнимет одною рукой за шею и скажет, что подали к крыльцу верховых лошадей или шарабан, и спросит, что ей надеть, чтобы не озябнуть. Начиналась весна такая же чудесная, как и в прошлом году, и обещала те же радости… Но Никитин думал о том, что хорошо бы взять теперь отпуск и уехать в Москву и остановиться там на Неглинном в знакомых номерах. В соседней комнате пили кофе и говорили о штабс-капитане Полянском, а он старался не слушать и писал в своем дневнике: «Где я, боже мой?! Меня окружает пошлость и пошлость. Скучные, ничтожные люди, горшочки со сметаной, кувшины с молоком, тараканы, глупые женщины… Нет ничего страшнее, оскорбительнее, тоскливее пошлости. Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе я сойду с ума!»
Рассказа Учитель словесности Чехова сюжет
Главный герой рассказа Чехова, Сергей Васильевич Никитин, работает учителем русского языка и литературы в небольшом провинциальном городке. Он холост, ему 27 лет, хотя он выглядит намного моложе, что очень сильно раздражает его. Живет Никитин вместе со своим коллегой, Ипполитом Ипполитовичем – преподавателем истории и географии, человеком, не говорящим ничего иного, кроме как очевидных всем фактов.
Главный герой часто бывает в гостях у местного помещика Шелестова, семейство которого состоит из него самого, его старшей дочери Вари и младшей Маши. Варе двадцать три года, она хороша собой и очень умна, но при этом, как и её отец, вечно чем-то недовольна и любит затевать споры со всеми подряд на любые темы. Она не замужем, над чем сама постоянно шутит, называя себя «старой девой». Младшей же дочери Шелестова, Маше, недавно исполнилось восемнадцать лет, но «в семье еще не отвыкли считать ее маленькой и потому все звали ее Маней и Манюсей; а после того, как в городе побывал цирк, который она усердно посещала, ее все стали звать Марией Годфруа». Как и её отец, Маша была «страстной лошадницей». Помимо Никитина, в доме Шелестовых почти всегда весело: много гостей, офицеров, всяческих домашних животных.
По сюжету, Никитин страстно влюблен Машу и чувствует, что он ей тоже небезразличен, но у молодого человека не хватает смелости признаться в своих чувствах. Когда же он находит подходящий момент и объясняется Маше, девушка отвечает ему взаимностью.
В скором времени, они играют свадьбу. В приданное Никитину переходит небольшой дом, где он в спокойствии живет со своей любимой Машей, и куда он спешит каждый день после уроков. Теперь его любимыми днями становятся те, когда ему не надо ходить на работу. И ничто, кроме внезапной смерти старого товарища, Ипполита Ипполитовича, не может омрачить жизнь молодоженов.
Но тут, казалось бы, маленькое и незначительное событие, неожиданно выводит Никитина из душевного равновесия. Проиграв деньги в карты, он осознаёт, что из-за женитьбы на Маше и полученного приданного совсем перестал следить за деньгами. Молодой человек думает, что он незаслуженно получил спокойную счастливую жизнь. Позже случается разговор с женой о том, что все в семье Шелестовых достаточно долго ждали, когда Никитин сделает предложение Маше, поскольку считали, что являясь постоянным гостем в их доме, он взял на себя это обязательство.
После этого заявления душевной гармонии молодого человека приходит окончательный конец. Никитин осознаёт, что он совсем не любит свою работу, что быть педагогом – это не его призвание, что он погряз в уютном мирке пошлости и достатка. Его преследуют мысли о том, что где-то там, вдалеке, есть другой мир, мир творчества, страданий и счастья, мир, в котором он может что-то создавать и быть по-настоящему полезным для общества.
Основной мыслью рассказа является показать, как талантливый и интеллигентный человек, попав в общество невежественных обывателей, может стать таким же, как и они – глупым, пошлым конформистом, увлеченным своими мелкими, незначительными переживаниями.
Картинка Учитель словесности
А. П. Чехов, «Учитель словесности». Читать полный текст рассказа, слушать аудиокнигу. Кратчайшее изложение для читательского дневника и краткое содержание. Анализ произведения: герои, тема и проблематика. Что писать в сочинении?
«Учитель словесности» — рассказ А. П. Чехова о гимназическом учителе Никитине, который женился на юной дочери богатого помещика и поначалу был совершенно счастлив, но несколько месяцев спустя понял, какая пошлость его окружает, и ему невыносимо захотелось сбежать от этой обывательской жизни.
Полный текст и аудиокнига
Полный текст рассказа «Учитель словесности» можно прочитать в «Викитеке».
Аудиоверсия доступна на YouTube:
Краткое содержание рассказа
I
26-летний Сергей Васильевич Никитин — учитель словесности из гимназии в неком губернском городе — катается на лошадях в компании богатого помещика Шелестова и его 18-летней дочери Маши. Девушка явно неравнодушна к учителю, а он к ней. Мужчина давно хочет признаться ей в любви, но никак не решается.
Влюблённому Никитину всё нравится у Шелестовых: «и дом, и сад при доме, и вечерний чай, и плетёные стулья, и старая нянька, и даже слово “хамство”, которое любил часто произносить старик». Раздражают его только беспардонные хозяйские собаки и кошки.
23-летняя Варя, старшая дочь помещика, за чаем традиционно спорит с Никитиным — на этот раз о том, можно ли назвать Пушкина психологом. Потом гости слушают игру на рояле, играют в фанты, разговаривают… Вечер проходит весело, а Никитин так и не находит сил признаться Маше в своих чувствах. Придя домой, учитель мечтает, как они будут любить друг друга, когда поженятся.
На следующий день Никитин скучает в гимназии, не может дождаться конца уроков, а вечером идёт к Шелестовым. Учитель сталкивается с Машей в маленькой проходной комнате, пытается признаться в любви, но все нужные слова вылетают у него из головы: «Честное слово, уверяю вас… Манюся, честное слово…». К счастью, девушке всё понятно и без слов. Влюблённые целуются, а потом со смехом выбегают в сад.
После ужина Никитин просит у Шелестова руки дочери. Тот не против, но удивляется: «Что вам за охота так рано жениться?». Вся семья провожает жениха до дома, где учитель засыпает, «утомлённый своим счастьем». Ему снится прогулка верхом, с которой начался рассказ.
II
После свадьбы Никитин записывает в дневнике, какие радостные чувства испытывал в момент венчания, какое получил приданое (двухэтажный дом, 20 тысяч рублей и немного земли). Но больше всего ему запомнилось, как в этот день горько плакала Варя. Никитин уверен, что она рыдала, потому что младшая сестра выходит замуж, а она сама до сих пор никому не нужна.
В жизни Никитина наступает идиллический период. В гимназии он тоскует по молодой супруге и витает в облаках, повторяя со вздохом: «Как хорошо!». Возвращаясь вечером домой, он целует и обнимает Машу, клянётся ей в любви. Больше всего он теперь любит воскресенья и праздники, которые можно провести с любимой женой.
Манюся между тем занимается хозяйством: заводит трёх коров, хранит в погребе горшочки со сметаной, рассуждает об отношениях с прислугой. Никитину в молодой супруге нравится всё: «То, что в её словах было справедливо, казалось ему необыкновенным, изумительным; то же, что расходилось с его убеждениями, было, по его мнению, наивно и умилительно».
Так проходят лето, осень и зима. А к весне в душе гимназического учителя происходит разительная перемена. Однажды во время Великого поста он возвращается домой из клуба, проиграв в карты 12 рублей. В душе у него неприятный осадок: его обидели слова одного из картежников, что у Никитина «куры денег не клюют». Учитель думает, что богатство и семейное счастье достались ему случайно, а не за какие-то заслуги. Он уже не радуется жизни, а повторяет себе: «Как нехорошо!».
Дома он обсуждает с Машей новость о внезапном отъезде капитана Полянского. За этого офицера Варя рассчитывала выйти замуж, но он не сделал ей предложения и теперь отбывает в другую губернию. Маша считает, что Полянский дурно поступил с Варей: «Зачем он часто бывал в доме? Если не намерен жениться, то не ходи».
Никитину не дают покоя дурные мысли. Он вдруг понимает, что за пределами его тихого семейного дома есть другой, большой мир, ему хочется оказаться в этом мире — «самому работать где-нибудь на заводе или в большой мастерской, говорить с кафедры, сочинять, печатать, шуметь, утомляться, страдать…».
Муж пытается сказать Маше грубость, но в итоге лишь задаёт вопрос:
— Так значит, если я ходил к вам в дом, то непременно должен был жениться на тебе?
— Конечно. Ты сам это отлично понимаешь.
— Мило.
Никитин с горечью думает о том, что он на самом деле не педагог, а чиновник, «бездарный и безличный». Он понимает, что значат эти тяжёлые мысли: прежняя беззаботная жизнь отныне закончена, начинается новая — «нервная, сознательная жизнь, которая не в ладу с покоем и личным счастьем». Теперь учителю кажется, что все вокруг скрывают, что на самом деле недовольны жизнью и невежественны.
Начинается чудесная весна, но в этот раз она уже не радует Никитина. Он хочет бросить всё и убежать. Учитель записывает у себя в дневнике:
«Где я, боже мой?! Меня окружает пошлость и пошлость. Скучные, ничтожные люди, горшочки со сметаной, кувшины с молоком, тараканы, глупые женщины… Нет ничего страшнее, оскорбительнее, тоскливее пошлости. Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе я сойду с ума!»
Анализ произведения: тема, проблема, смысл рассказа
Тема произведения — поиски любви и счастья. Чехов поднимает проблему пошлости, мещанства. «Учитель словесности» даёт неутешительный ответ на вопрос: а что было бы, если бы главные герои рассказов «Ионыч» или «Дом с мезонином» всё-таки женились на своих возлюбленных? Были бы они довольны или быстро разочаровались бы в семейной жизни?
Принято говорить, что в этом рассказе Чехов критикует обывательщину. Когда главному герою неожиданно приходит осознание того, что он живёт неправильно, это трактуют как хороший знак: Никитин ещё не до конца погряз в житейской пошлости, он стремится к чему-то большему. Ещё недавно абсолютно счастливый, теперь он чувствует себя самозванцем и хочет сбежать от своей скучной жизни. Однако, несмотря на отчаянную запись в дневнике, слабо верится, что учитель словесности найдёт в себе силы всё изменить.
Можно взглянуть на ситуацию и с другой стороны: сказать, что Никитин переживает типичный переход от страстной влюблённости к обычной семейной жизни. Только что он был ослеплён любовью, всё кругом ему нравилось, в жене он не видел ни одного изъяна. Но едва начал замечать, что мир вокруг несовершенен, как мигом опустил руки и захотел убежать. Если так, то Никитин вовсе не борец с пошлостью, а просто недалёкий и слабохарактерный человек, который с подобным отношением к жизни вряд ли когда-нибудь будет по-настоящему счастлив.
А. П. ЧЕХОВ
Учитель словесности
I
Послышался стук лошадиных копыт о бревенчатый пол; вывели из конюшни сначала вороного Графа Нулина, потом белого Великана, потом сестру его Майку. Всё это были превосходные и дорогие лошади. Старик Шелестов оседлал Великана и сказал, обращаясь к своей дочери Маше:
— Ну, Мария Годфруа, иди садись. Опля!
Маша Шелестова была самой младшей в семье; ей было уже 18 лет, но в семье еще не отвыкли считать ее маленькой и потому все звали ее Маней и Манюсей; а после того, как в городе побывал цирк, который она усердно посещала, ее все стали звать Марией Годфруа.
— Опля! — крикнула она, садясь на Великана.
Сестра ее Варя села на Майку, Никитин — на Графа Нулина, офицеры — на своих лошадей, и длинная красивая кавалькада, пестрея белыми офицерскими кителями и черными амазонками, шагом потянулась со двора.
Никитин заметил, что, когда садились на лошадей и потом выехали на улицу, Манюся почему-то обращала внимание только на него одного. Она озабоченно оглядывала его и Графа Нулина и говорила:
— Вы, Сергей Васильич, держите его всё время на мундштуке. Не давайте ему пугаться. Он притворяется.
И оттого ли, что ее Великан был в большой дружбе с Графом Нулиным, или выходило это случайно, она, как вчера и третьего дня, ехала всё время рядом с Никитиным. А он глядел на ее маленькое стройное тело, сидевшее на белом гордом животном, на ее тонкий профиль, на цилиндр, который вовсе не шел к ней и делал ее старее, чем она была, глядел с радостью, с умилением, с восторгом, слушал ее, мало понимал и думал:
«Даю себе честное слово, клянусь богом, что не буду робеть и сегодня же объяснюсь с ней…»
Был седьмой час вечера — время, когда белая акация и сирень пахнут так сильно, что, кажется, воздух и сами деревья стынут от своего запаха. В городском саду уже играла музыка. Лошади звонко стучали по мостовой; со всех сторон слышались смех, говор, хлопанье калиток. Встречные солдаты козыряли офицерам, гимназисты кланялись Никитину; и, видимо, всем гуляющим, спешившим в сад на музыку, было очень приятно глядеть на кавалькаду. А как тепло, как мягки на вид облака, разбросанные в беспорядке по небу, как кротки и уютны тени тополей и акаций, — тени, которые тянутся через всю широкую улицу и захватывают на другой стороне дома до самых балконов и вторых этажей!
Выехали за город и побежали рысью по большой дороге. Здесь уже не пахло акацией и сиренью, не слышно было музыки, но зато пахло полем, зеленели молодые рожь и пшеница, пищали суслики, каркали грачи. Куда ни взглянешь, везде зелено, только кое-где чернеют бахчи да далеко влево на кладбище белеет полоса отцветающих яблонь.
Проехали мимо боен, потом мимо пивоваренного завода, обогнали толпу солдат-музыкантов, спешивших в загородный сад.
— У Полянского очень хорошая лошадь, я не спорю, — говорила Манюся Никитину, указывая глазами на офицера, ехавшего рядом с Варей. — Но она бракованная. Совсем уж некстати это белое пятно на левой ноге и, поглядите, головой закидывает. Теперь уж ее ничем не отучишь, так и будет закидывать, пока не издохнет.
Манюся была такой же страстной лошадницей, как и ее отец. Она страдала, когда видела у кого-нибудь хорошую лошадь, и была рада, когда находила недостатки у чужих лошадей. Никитин же ничего не понимал в лошадях, для него было решительно всё равно, держать ли лошадь на поводьях или на мундштуке, скакать ли рысью или галопом; он только чувствовал, что поза у него была неестественная, напряженная и что поэтому офицеры, которые умеют держаться на седле, должны нравиться Манюсе больше, чем он. И он ревновал ее к офицерам.
Когда ехали мимо загородного сада, кто-то предложил заехать и выпить сельтерской воды. Заехали. В саду росли одни только дубы; они стали распускаться только недавно, так что теперь сквозь молодую листву виден был весь сад с его эстрадой, столиками, качелями, видны были все вороньи гнезда, похожие на большие шапки. Всадники и их дамы спешились около одного из столиков и потребовали сельтерской воды. К ним стали подходить знакомые, гулявшие в саду. Между прочим подошли военный доктор в высоких сапогах и капельмейстер, дожидавшийся своих музыкантов. Должно быть, доктор принял Никитина за студента, потому что спросил:
— Вы изволили на каникулы приехать?
— Нет, я здесь постоянно живу, — ответил Никитин. — Я служу преподавателем в гимназии.
— Неужели? — удивился доктор. — Так молоды и уже учительствуете?
— Где же молод? Мне 26 лет… Слава тебе господи.
— У вас и борода и усы, но всё же на вид вам нельзя дать больше 22 23 лет. Как вы моложавы!
«Что за свинство! — подумал Никитин. — И этот считает меня молокососом!»
Ему чрезвычайно не нравилось, когда кто-нибудь заводил речь об его молодости, особенно в присутствии женщин или гимназистов. С тех пор как он приехал в этот город и поступил на службу, он стал ненавидеть свою моложавость. Гимназисты его не боялись, старики величали молодым человеком, женщины охотнее танцевали с ним, чем слушали его длинные рассуждения. И он дорого дал бы за то, чтобы постареть теперь лет на десять.
Из сада поехали дальше, на ферму Шелестовых. Здесь остановились около ворот, вызвали жену приказчика Прасковью и потребовали парного молока. Молока никто не стал пить, все переглянулись, засмеялись и поскакали назад. Когда ехали обратно, в загородном саду уже играла музыка; солнце спряталось за кладбище, и половина неба была багрова от зари.
Манюся опять ехала рядом с Никитиным. Ему хотелось заговорить о том, как страстно он ее любит, но он боялся, что его услышат офицеры и Варя, и молчал. Манюся тоже молчала, и он чувствовал, отчего она молчит и почему едет рядом с ним, и был так счастлив, что земля, небо, городские огни, черный силуэт пивоваренного завода — всё сливалось у него в глазах во что-то очень хорошее и ласковое, и ему казалось, что его Граф Нулин едет по воздуху и хочет вскарабкаться на багровое небо.
Приехали домой. На столе в саду уже кипел самовар, и на одном краю стола со своими приятелями, чиновниками окружного суда, сидел старик Шелестов и, по обыкновению, что-то критиковал.