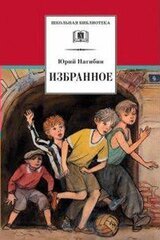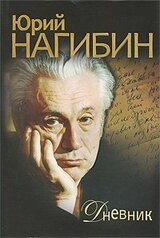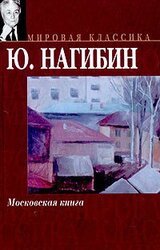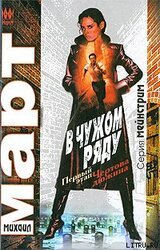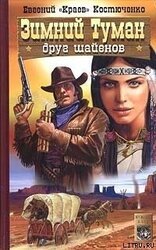Юрий Маркович Нагибин
Мой первый друг, мой друг бесценный
Мы жили в одном подъезде, но не знали друг друга. Далеко не все ребята нашего дома принадлежали к дворовой вольнице. Иные родители, уберегая своих чад от тлетворного влияния двора, отправляли их гулять в чинный сад при Лазаревском институте или в церковный садик, где старые лапчатые клены осеняли гробницу бояр Матвеевых.
Там, изнывая от скуки под надзором дряхлых богомольных нянек, дети украдкой постигали тайны, о которых двор вещал во весь голос. Боязливо и жадно разбирали они наскальные письмена на стенах боярской гробницы и пьедестале памятника статскому советнику и кавалеру Лазареву. Мой будущий друг не по своей вине делил участь этих жалких, тепличных детей.
Все ребята Армянского и прилегающих переулков учились в двух рядом расположенных школах, по другую сторону Покровки. Одна находилась в Старосадском, под боком у немецкой кирхи[1], другая — в Спасоглинищевском переулке. Мне не повезло. В год, когда я поступал, наплыв оказался столь велик, что эти школы не смогли принять всех желающих. С группой наших ребят я попал в очень далекую от дома 40-ю школу в Лобковском переулке, за Чистыми прудами.
Мы сразу поняли, что нам придется солоно. Здесь царили Чистопрудные, а мы считались чужаками, непрошеными пришельцами. Со временем все станут равны и едины под школьным стягом. Поначалу здоровый инстинкт самосохранения заставлял нас держаться тесной группой. Мы объединялись на переменках, гуртом ходили в школу и гуртом возвращались домой. Самым опасным был переход через бульвар, здесь мы держали воинский строй. Достигнув устья Телеграфного переулка, несколько расслаблялись, за Потаповским, чувствуя себя в полной безопасности, начинали дурачиться, орать песни, бороться, а с наступлением зимы завязывать лихие снежные баталии.
В Телеграфном я впервые приметил этого длинного, тонкого, бледно-веснушчатого мальчика с большими серо-голубыми глазами в пол-лица. Стоя в сторонке и наклонив голову к плечу, он с тихим, независтливым восхищением наблюдал наши молодецкие забавы. Он чуть вздрагивал, когда пущенный дружеской, но чуждой снисхождения рукой снежок залеплял чей-то рот или глазницу, скупо улыбался особо залихватским выходкам, слабый румянец скованного возбуждения окрашивал его щеки. И в какой-то момент я поймал себя на том, что слишком громко кричу, преувеличенно жестикулирую, симулирую неуместное, не по игре, бесстрашие. Я понял, что выставляюсь перед незнакомым мальчиком, и возненавидел его. Чего он трется возле нас? Какого черта ему надо? Уж не подослан ли он нашими врагами?.. Но когда я высказал ребятам свои подозрения, меня подняли на смех:
— Белены объелся? Да он же из нашего дома!..
Оказалось, мальчик живет в одном подъезде со мной, этажом ниже, и учится в нашей школе, в параллельном классе. Удивительно, что мы никогда не встречались! Я сразу изменил свое отношение к сероглазому мальчику. Его мнимая настырность обернулась тонкой деликатностью: он имел право водить компанию с нами, но не хотел навязываться, терпеливо ожидая, когда его позовут. И я взял это на себя.
Во время очередной снежной битвы я стал швырять в него снежками. Первый снежок, угодивший ему в плечо, смутил и вроде бы огорчил мальчика, следующий вызвал нерешительную улыбку на его лице, и лишь после третьего поверил он в чудо своего причастия и, захватив в горсть снега, пустил в меня ответный снаряд. Когда схватка кончилась, я спросил его:
— Ты под нами живешь?
— Да, — сказал мальчик. — Наши окна выходят на Телеграфный.
— Значит, ты под тетей Катей живешь? У вас одна комната?
— Две. Вторая темная.
— У нас тоже. Только светлая выходит на помойку. — После этих светских подробностей я решил представиться. — Меня зовут Юра, а тебя?
И мальчик сказал:
— Павлик.
…Тому сорок три года… Сколько было потом знакомств, сколько звучало в моих ушах имен, ничто не сравнится с тем мгновением, когда в заснеженном московском переулке долговязый мальчик негромко назвал себя: Павлик.
Каким же запасом индивидуальности обладал этот мальчик, затем юноша — взрослым ему не довелось стать, — если сумел так прочно войти в душу другого человека, отнюдь не пленника прошлого при всей любви к своему детству. Слов нет, я из тех, кто охотно вызывает духов былого, но живу я не во мгле минувшего, а на жестком свету настоящего, и Павлик для меня не воспоминание, а соучастник моей жизни. Порой чувство его продолжающегося во мне существования настолько сильно, что я начинаю верить: если твое вещество вошло в вещество того, кто будет жить после тебя, значит, ты не умрешь весь. Пусть это и не бессмертие, но все-таки победа над смертью.
1
Ки́рха (die Kirche) — церковь (нем.).
✯✯✯✯✯
Мы жили в одном подъезде, но не знали друг друга. Далеко не все ребята нашего дома принадлежали к дворовой вольнице. Иные родители, уберегая своих чад от тлетворного влияния двора, отправляли их гулять в чинный сад при Лазаревском институте или в церковный садик, где старые лапчатые клены осеняли гробницу бояр Матвеевых.
Там, изнывая от скуки под надзором дряхлых богомольных нянек, дети украдкой постигали тайны, о которых двор вещал во весь голос. Боязливо и жадно разбирали они наскальные письмена на стенах боярской гробницы и пьедестале памятника статскому советнику и кавалеру Лазареву. Мой будущий друг не по своей вине делил участь этих жалких, тепличных детей.
Все ребята Армянского и прилегающих переулков учились в двух рядом расположенных школах, по другую сторону Покровки. Одна находилась в Старосадском, под боком у немецкой кирхи[1], другая — в Спасоглинищевском переулке. Мне не повезло. В год, когда я поступал, наплыв оказался столь велик, что эти школы не смогли принять всех желающих. С группой наших ребят я попал в очень далекую от дома 40-ю школу в Лобковском переулке, за Чистыми прудами.
Мы сразу поняли, что нам придется солоно. Здесь царили Чистопрудные, а мы считались чужаками, непрошеными пришельцами. Со временем все станут равны и едины под школьным стягом. Поначалу здоровый инстинкт самосохранения заставлял нас держаться тесной группой. Мы объединялись на переменках, гуртом ходили в школу и гуртом возвращались домой. Самым опасным был переход через бульвар, здесь мы держали воинский строй. Достигнув устья Телеграфного переулка, несколько расслаблялись, за Потаповским, чувствуя себя в полной безопасности, начинали дурачиться, орать песни, бороться, а с наступлением зимы завязывать лихие снежные баталии.
В Телеграфном я впервые приметил этого длинного, тонкого, бледно-веснушчатого мальчика с большими серо-голубыми глазами в пол-лица. Стоя в сторонке и наклонив голову к плечу, он с тихим, независтливым восхищением наблюдал наши молодецкие забавы. Он чуть вздрагивал, когда пущенный дружеской, но чуждой снисхождения рукой снежок залеплял чей-то рот или глазницу, скупо улыбался особо залихватским выходкам, слабый румянец скованного возбуждения окрашивал его щеки. И в какой-то момент я поймал себя на том, что слишком громко кричу, преувеличенно жестикулирую, симулирую неуместное, не по игре, бесстрашие. Я понял, что выставляюсь перед незнакомым мальчиком, и возненавидел его. Чего он трется возле нас? Какого черта ему надо? Уж не подослан ли он нашими врагами?.. Но когда я высказал ребятам свои подозрения, меня подняли на смех:
— Белены объелся? Да он же из нашего дома!..
Оказалось, мальчик живет в одном подъезде со мной, этажом ниже, и учится в нашей школе, в параллельном классе. Удивительно, что мы никогда не встречались! Я сразу изменил свое отношение к сероглазому мальчику. Его мнимая настырность обернулась тонкой деликатностью: он имел право водить компанию с нами, но не хотел навязываться, терпеливо ожидая, когда его позовут. И я взял это на себя.
Во время очередной снежной битвы я стал швырять в него снежками. Первый снежок, угодивший ему в плечо, смутил и вроде бы огорчил мальчика, следующий вызвал нерешительную улыбку на его лице, и лишь после третьего поверил он в чудо своего причастия и, захватив в горсть снега, пустил в меня ответный снаряд. Когда схватка кончилась, я спросил его:
— Ты под нами живешь?
— Да, — сказал мальчик. — Наши окна выходят на Телеграфный.
— Значит, ты под тетей Катей живешь? У вас одна комната?
— Две. Вторая темная.
— У нас тоже. Только светлая выходит на помойку. — После этих светских подробностей я решил представиться. — Меня зовут Юра, а тебя?
И мальчик сказал:
— Павлик.
…Тому сорок три года… Сколько было потом знакомств, сколько звучало в моих ушах имен, ничто не сравнится с тем мгновением, когда в заснеженном московском переулке долговязый мальчик негромко назвал себя: Павлик.
Каким же запасом индивидуальности обладал этот мальчик, затем юноша — взрослым ему не довелось стать, — если сумел так прочно войти в душу другого человека, отнюдь не пленника прошлого при всей любви к своему детству. Слов нет, я из тех, кто охотно вызывает духов былого, но живу я не во мгле минувшего, а на жестком свету настоящего, и Павлик для меня не воспоминание, а соучастник моей жизни. Порой чувство его продолжающегося во мне существования настолько сильно, что я начинаю верить: если твое вещество вошло в вещество того, кто будет жить после тебя, значит, ты не умрешь весь. Пусть это и не бессмертие, но все-таки победа над смертью.
Я знаю, что еще не могу написать о Павлике по-настоящему. И неизвестно, смогу ли когда-нибудь написать. Мне очень многое непонятно, ну хотя бы что значит в символике бытия смерть двадцатилетних. И все же он должен быть в этой книге, без него, говоря словами Андрея Платонова, народ моего детства неполон.
Поначалу наше знакомство больше значило для Павлика, нежели для меня. Я уже был искушен в дружбе. Помимо рядовых и добрых друзей, у меня имелся закадычный друг, чернявый, густоволосый, подстриженный под девочку Митя Гребенников. Наша дружба началась в нежном возрасте, трех с половиной лет, и в описываемую пору насчитывала пятилетнюю давность.
Митя был жителем нашего дома, но с год назад его родители поменяли квартиру. Митя оказался по соседству, в большом шестиэтажном доме на углу Сверчкова и Потаповского, и ужасно заважничал. Дом был, правда, хоть куда, с роскошными парадными, тяжелыми дверями и просторным плавным лифтом. Митя, не уставая, хвастался своим домом: «Когда глядишь на Москву с шестого этажа…», «Не понимаю, как люди обходятся без лифта…». Я деликатно напомнил, что совсем недавно он жил в нашем доме и прекрасно обходился без лифта. Глядя на меня влажными, темными, как чернослив, глазами, Митя брезгливо сказал, что это время кажется ему страшным сном. За такое следовало набить морду. Но Митя не только внешне походил на девчонку — он был слабодушный, чувствительный, слезливый, способный к истерическим вспышкам ярости, — и на него рука не поднималась. И все-таки я ему всыпал. С истошным ревом он схватил фруктовый нож и попытался меня зарезать. Впрочем, по-женски отходчивый, он чуть ли не на другой день полез мириться. «Наша дружба больше нас самих, мы не имеем права терять ее» — вот какие фразы умел он загибать, и еще похлеще. Отец у него был адвокатом, и Митя унаследовал дар велеречия.
Наша драгоценная дружба едва не рухнула в первый же школьный день. Мы попали в одну школу, и наши матери позаботились усадить нас за одну парту. Когда выбирали классное самоуправление, Митя предложил меня в санитары. А я не назвал его имени, когда выдвигали кандидатуры на другие общественные посты.
Сам не знаю, почему я не сделал этого, то ли от растерянности, то ли мне показалось неудобным называть его, после того как он выкликнул мое имя. Митя не выказал ни малейшей обиды, но его благодушие рухнуло в ту минуту, когда большинством голосов я был выбран санитаром. В мои обязанности входило носить нарукавный красный крест и осматривать перед уроком руки и шеи учеников, отмечая грязнуль крестиками в тетрадке. Получивший три крестика должен был или вымыться, или привести в школу родителей. Казалось бы, ничего особенно заманчивого в этой должности не было, но у Мити помутился разум от зависти. Целый вечер после злополучных выборов он звонил ко мне домой по телефону и голосом, полным ядовитого сарказма и муки, требовал «товарища санитара». Я подходил. «Товарищ санитар?» — «Да!» — «А, черт бадянский!» — кричал он и швырял трубку. Лишь от большой злобы можно придумать какого-то «черта бадянского». Я так и не выяснил, что это: фамилия нечистого или какое-то загадочное и отвратительное качество?
К чему я так подробно рассказываю о своих отношениях с другим мальчиком? Митина вздорность, перепады настроения, чувствительные разговоры и всегдашняя готовность к ссоре, хотя бы ради сладости примирения, стали казаться мне непременной принадлежностью дружбы. Сблизившись с Павликом, я долго не понимал, что нашел иную, настоящую дружбу. Мне казалось, что я просто покровительствую робкому чужаку. Поначалу так оно, в известной мере, и было. Павлик недавно переехал в наш дом и ни с кем не свел приятельства, он был из тех несчастных ребятишек, которых выгуливали в Лазаревском и церковном садах.
Этой строгостью исчерпалась до дна родительская забота о Павлике. В последующие годы никогда я не видел, чтобы Павлику что-либо запрещалось или навязывалось. Он пользовался полной самостоятельностью. Родительской опеке он предоставил своего младшего брата, а себя воспитывал сам. Я вовсе не шучу: так оно было на самом деле. Павлика любили в семье, и он любил родителей, но отказывал им в праве распоряжаться собой, своими интересами, распорядком дня, знакомствами, привязанностями и перемещением в пространстве. И тут он был куда свободнее меня, опутанного домашними табу. Тем не менее первую скрипку в наших отношениях играл я. И не только потому, что был местным старожилом. Мое преимущество заключалось в том, что я не догадывался о нашей дружбе. По-прежнему я считал своим лучшим другом Митю Гребенникова. Даже удивительно, как ловко заставлял он меня играть в спектакле под названием «Святая дружба». Ему нравилось ходить со мной в обнимку по школьным коридорам и фотографироваться вместе на Чистых прудах. Я смутно подозревал, что Митя выгадывает на этом какие-то малости: в школе, что там ни говори, ему льстила дружба с «товарищем санитаром», а под прицелом Чистопрудного «пушкаря» он наслаждался превосходством своей тонкой девичьей красоты над моей скуластой, широконосой заурядностью. Пока фотограф колдовал под черной тряпкой, Чистопрудные кумушки наперебой восторгались Митиными глазами — «черносливом», прической с противным названием «бубикопф» и кокетливым черным бантом на груди. «Девочка, ну просто девочка!» — захлебывались они, и ему, дураку, это льстило!
Ко всему еще он оказался ябедой. Однажды классная руководительница велела мне остаться после занятий и учинила грандиозный разнос за игру в деньги. Лишь раз в жизни, в дошкольные времена, играл я в расшибалку, быстро продул семь копеек наличными и еще рубль в долг. Поверив чистосердечному раскаянию, дед помог мне вернуть долг чести, на том и кончилось мое знакомство с азартными играми.
Прижатый в угол, Митя сознался в доносе. Он оговорил меня для моей же пользы, боясь, что дурные наклонности вновь пробудятся во мне и погубят мою столь счастливо начавшуюся карьеру — он имел в виду пост санитара. А затем со слезами в глазах Митя требовал вернуть ему былое доверие ради святой дружбы, что «больше нас самих», и пытался влепить мне иудин поцелуй. Все это выглядело фальшиво, скверно, непорядочно, тем не менее я еще года два, если не больше, участвовал в недостойном фарсе, пока вдруг не понял, что у настоящей дружбы совсем иной адрес. Митя все же был привязан ко мне и тяжело переживал разрыв…
И вот пришел в мою жизнь Павлик. И у дворовых и у школьных ребят навсегда засело в памяти, что в нашей паре я был ведущим, а Павлик ведомым. Недоброжелатели считали, что Павлик — какой-то принудительный ассортимент ко мне. Это осталось с той поры, когда я «вводил Павлика в свет» — сперва во дворе, потом в школе, — он перешел в наш класс и вновь оказался в положении чужака. И тут действительно дело было поставлено строго: меня нельзя было пригласить на день рождения, Новый год или другой праздник, не пригласив Павлика. Я покинул футбольную дворовую команду, где считался лучшим бомбардиром, когда Павлика отказались взять хотя бы запасным, и вернулся лишь вместе с ним… Так возникла иллюзия нашего неравенства, которую не могла рассеять вся последующая жизнь. Общественное мнение не склонно к перемене даже перед лицом очевидности.
На самом деле ни один из нас не зависел от другого, но душевное превосходство было на стороне Павлика. Его нравственный кодекс был строже и чище моего. Долгое приятельство с Митей не могло пройти бесследно: я привык к известному моральному соглашательству. Прощение предательства немногим отличается от самого предательства. Павлик не понимал сделок с совестью, тут он становился беспощаден. Нам было лет по четырнадцати, когда я на своей шкуре испытал, каким непримиримым может быть мягкий, покладистый Павлик.
На уроках немецкого я чувствовал себя принцем. Мать не зря надрывалась над пишущей машинкой, выколачивая рубли для оплаты уроков фрейлейн Шульц, омрачившей мои детские годы. Понятно, что все наши часто менявшиеся школьные немки души во мне не чаяли. И задержавшаяся дольше других Елена Францевна не являла собой исключения, хотя я никак не соответствовал ее идеалу ученика.
Она требовала в классе не просто тишины и внимания, а молитвенной сосредоточенности, как в храме. Худущая, изжелта-серая, напоминающая лемура громадными темными подглазьями на изможденном, в кулачок, личике, Елена Францевна казалась умирающей от какой-то страшной болезни. Но она была совершенно здорова, никогда не пропускала уроков, даже во время эпидемий гриппа, валивших всех учителей подряд. Она могла наорать на ученика за рассеянный взгляд или случайную улыбку. Куда хуже крика были ее въедливые нотации, она словно кусала тебя обидными словами. Конечно, за глаза ее звали Крысой, — в каждой школе есть своя Крыса, — а худая, востренькая, злая Елена Францевна казалась специально созданной для этой клички. Была ли она на самом деле такой злой? У ребят не существовало двух мнений на этот счет. Мне же она представлялась несчастным, издерганным человеком. Но я-то был принцем! Она вызывала меня читать вслух, и маленькое, некрасивое ее лицо молодо розовело, когда я выдавал свое «истинно берлинское произношение».
Но настал и мой черед. Елена Францевна никогда не спрашивала у меня уроков. Мы и так разговаривали с ней по-немецки, чего же еще надо? Вдруг, ни с того ни с сего, она вызвала меня к доске, будто самого рядового ученика. Как раз перед этим я пропустил несколько дней — то ли болел, то ли прогуливал — и понятия не имел о домашнем задании. Наверное, она все-таки была злючкой и вызвала меня нарочно, чтоб подловить. Но поначалу все шло хорошо. Я проспрягал какой-то глагол, отбарабанил предлоги, требующие дательного падежа, прочел по учебнику тошнотворную назидательную историйку и пересказал содержание.
— Прекрасно, — поджала узкие, бледные губы Елена Францевна. — Теперь стихотворение.
— Какое стихотворение?
— То, которое задано! — отчеканила она ледяным тоном.
— А вы разве задавали?
— Привык на уроках ворон считать! — Удивительно, как легко она заводилась — с пол-оборота. — Здоровенный парень, а дисциплина!..
— Да я же не был в школе! Я болел.
Она уставилась на меня окольцованными синевой, лемурьими глазами и стала листать классный журнал, пальцы ее дрожали.
— Совершенно верно, ты отсутствовал. А спросить у товарищей, что задано, мозгов не хватило?
Взял бы да и сказал — не хватило. Ну что она могла мне сделать? Поставить «неуд»? Едва ли. И тут я нашел другой выход. О домашних заданиях я спрашивал у Павлика, а он ни словом не обмолвился о стихотворении. Забыл, наверное. Я так и сказал Елене Францевне с легкой усмешкой, призывая и ее отнестись к случившемуся юмористически.
— Встань! — приказала Павлику немка. — Это правда?
Он молча наклонил голову. И я тут же понял, что это неправда. Как раз о немецком я его не спрашивал. О математике, русском, истории, биологии спрашивал, а готовить немецкие уроки я считал ниже своего достоинства — принц все-таки!
Елена Францевна перенесла свой гнев на Павлика. Он слушал ее, по обыкновению, молча, не оправдываясь и не огрызаясь, словно все это нисколько его не касалось. Спустив пары, немка угомонилась и предложила мне прочесть любое стихотворение на выбор. Я рванул шиллеровскую «Перчатку» и заработал жирное «отлично».
Вот так все и обошлось. Ан не обошлось. Когда, довольный и счастливый, я вернулся на свое место, Павлика не оказалось рядом. Исчезли его учебники, тетрадки, вставочка с пером «рондо». Я оглянулся: он сидел за пустой партой, через проход, позади меня.
— Ты чего это?..
Он не ответил. У него были какие-то странные глаза: красные и налитые влагой. Я никогда не видел Павлика плачущим. Даже после жестоких, неравных и неудачных драк, когда и самые сильные ребята плачут — не от боли, а от обиды, — он не плакал. Он и сейчас умудрялся держать слезы в глазах, не давая им пролиться, но внутри себя он плакал.
— Брось! — сказал я. — Стоит ли из-за Крысы?..
Он молчал и глядел своими остекленевшими глазами мимо меня. Какое ему дело до Крысы, он и думать о ней забыл! Его предал друг. Спокойно, обыденно и публично, средь бела дня, ради грошовой выгоды предал человек, за которого он, не раздумывая, пошел бы в огонь и в воду.
Никому не хочется признаваться в собственной низости. Я стал уговаривать себя, что поступил правильно. Как ни крути, он все-таки подвел меня, пусть и невольно, и мне пришлось защищаться. Ну, покричала на него немка, подумаешь, несчастье — она на всех кричит. Стоит ли вообще придавать значение подобной чепухе?.. А вот окажись Павлик на моем месте, назвал бы он меня? Нет! Он скорее проглотил бы собственный язык. И вдруг я понял, что это не пустые слова. Недавно я прочел книжку про Джордано Бруно «Псы Господни». Из всех людей, каких я знал, только Павлик мог бы, как Джордано Бруно… Ради своей правды… А ведь так оно и сталось: подобно Джордано, Павлик кончил жизнь в огне. Он мог спастись — для этого ему достаточно было всего лишь поднять руки…
Почти год держал он меня в отчуждении. Все мои попытки помириться так, «между прочим», успеха не имели. А возможности были: мы учились в одном классе, жили в одном подъезде, наши пути все время пересекались. Надо отдать должное чуткости ребят: они деликатно охраняли нашу разобщенность, помогая избегать ложных положений, разных неловкостей. Учителя и другие взрослые люди, не ведавшие о нашем разрыве, то и дело совершали невольные промахи, по привычке считая нас с Павликом неразлучными. Будь то опыты на уроке химии, занятия в физическом кружке, воскресники, дежурства в учительской или пионерские поручения, нас обязательно зачисляли в одну группу, звено или пару. Ребята неприметно помогали нам разъединиться.
В глубине души я вовсе не испытывал к ним благодарности. Они мешали моему тайному стремлению помириться с Павликом невзначай. Но все равно выпадало немало случаев, когда при обоюдной доброй воле мы могли начать хотя бы суховатое общение, чтобы затем без выяснения отношений и всякой «достоевщины», столь любезной Мите Гребенникову, вработаться в прежнюю дружбу. Ничего не получалось: Павлик не хотел этого. Не только потому, что презирал всякие обходные пути, мелкие уловки и хитрости, все скользкое, уклончивое, двусмысленное — прибежище слабых душ, но и потому, что ему не нужен был тот человек, каким я вдруг раскрылся на уроке немецкого.
Когда же через год я послал ему записку с просьбой о встрече, он без всяких церемоний сразу поднялся ко мне, как делал это прежде. С некоторым смущением я обнаружил, что не должен ни извиняться, ни хоть словом касаться прошлого. Павлик не хотел, чтобы я нес ответственность за себя прежнего. Он понял, что во мне стала другая кровь, вот и пришел.
Поль Валери сказал: «Писатель вознаграждает себя, как умеет, за какую-то несправедливость судьбы». Сейчас я вознаграждаю себя за несправедливость судьбы к Павлику. Когда мы недавно собирались в нашем старом дворе, я тщетно ждал, что наконец-то услышу о нем добрые высокие слова. Вспоминали Ивана, вспоминали Арсенова, Толю Симакова, Борьку Соломатина, но хоть бы кто сказал о Павлике. Только письмо его родным отправили, но ведь это не более чем формальность, пусть и благородная…
Его не знали. Редкое душевное целомудрие заставляло Павлика держать на запоре свой внутренний мир. Посторонним людям он казался апатичным, незаинтересованным, безучастно пропускающим бытие мимо себя. Но я-то знаю, как мощно заряжен на жизнь был Павлик, каким сильным, страстным, целенаправленным характером он обладал. Ему так и не пришлось выйти на суд людской. Все, что в нем развивалось, зрело, строилось, не успело обрести форму…
Природа дружбы иная, чем у любви. Легко любить ни за что и очень трудно — за что-нибудь. Дружба не столь безотчетное чувство, хотя и в ней есть своя мистика. Я знаю, что привлекло Павлика ко мне и чем явился для меня он в начале наших отношений. Потом годы окутали нас таким добрым теплом, что не осталось места головному рассуждению.
Павлик был мальчик умственный. В своей семье он не имел питательной среды. Его отец был часовщиком, с расширенным и слезящимся от лупы левым глазом. Кроме часов, его ничто на свете не интересовало. Это только в сказках часовщик овеян дыханием романтики и доброго чудачества. Считается, что причастность к таинственной стихии времени выделяет человека из обыденности. Отец Павлика ремонтировал секунды, минуты и часы, но сам жил вне времени, безразличный к его интересам, страстям и борениям. Правда, в иную добрую минуту он с удовольствием вспоминал, что смотрел однажды замечательный спектакль: «Коварский и любовь». У Павлика мертвело лицо, когда отец посягал на подобные разговоры.
Его мать производила впечатление женщины, не ведавшей, что изобретено книгопечатание. И это казалось тем более странным, что ее братья были крупными учеными — химик и биолог. Она не поддерживала с ними родственных отношений, а может — они с ней. Впрочем, брат-химик однажды привез Павлику из заграничного вояжа кучу шикарного тряпья. Мать Павлика явилась в мир, так и не очнувшись до конца от темного сна предбытия, — тихий голос, отсутствующий взгляд, замедленные жесты, неконтактность с окружающими. Она свела свою жизнь к минимуму забот. Павлик сделал все от него зависящее, чтобы не попасть в этот малый круг, уступив младшему брату скупое материнское внимание. Но и на нее иной раз находило: она подвигала к пианино вращающуюся табуретку и слабо беспокоила клавиши вялыми пальцами, закрыв глаза бледными тонкими веками, похожими на птичью пленку. Лицо Павлика мертвело, как и во время культурных диверсий отца.
В нашей семье все думали. Быть может, больше, чем надо. У нас существовал культ книги: дед собирал научную библиотеку, отец — техническую, мы с матерью — художественную литературу и мемуары. О литературе говорили все время, глумясь над известным утверждением, что литературой можно заниматься, но боже упаси о ней говорить. И конечно, вскормленный такой средой, я был очень книжным мальчиком. Зловещему обаянию двора и акуловской дачи обязан я тем, что не стал книжным червем. Павлику наша настроенность на культуру была необходима, как воздух.
Мне же общение с ним давало нечто большее. Он был не только Атосом наших детских игр в мушкетеры, он обладал характером Атоса: несовременным в своей безупречности и благородстве вопреки всему.
С каждым годом мы становились все ближе и дороже друг другу. На пороге юности нас поразил общий недуг — невыясненность устремлений. Вопрос: кем быть? — возник в наших душах куда раньше, нежели его продиктовала жизненная необходимость. Мы оба хотели играть, а не присутствовать безмолвными статистами на сцене жизни. Иные одаренные ребята уже знали свой путь. Математика сама нашла Славу Зубкова, музыка — Тольку Симакова, живопись — Сережу Лепковского, спорт — Арсенова. Другие ребята, не подчиненные рано проснувшемуся дару, знали хотя бы примерное направление своего будущего: инженерия, медицина, педагогика, строительство. Многие наши сверстники, не мучаясь понапрасну, жили изо дня в день: школа, футбол, кино, а там видно будет.
Мы не могли принять такую ползучую жизнь. Неизвестность томила нас. Мы оба хорошо и ровно учились по всем предметам, у нас не было ведущей страсти, чтение — страсть пассивная, нельзя стать просто читателем, так же как и театральным зрителем или посетителем музеев. У нас не было и ярко выраженных способностей, нас интересовало все. Теперь я понимаю, что мы уже тогда числились по ведомству Аполлона, а не иных, серьезных богов, но сами мы охотнее посещали лекции академиков Лазарева и Вавилова, чем спектакли и концерты. Мы искали себя. Застрельщиком поисков был Павлик. Это его осенило, что мы должны варить гуталин. Знаменитый дядя-химик начинал с варки гуталина. И однажды сварил такой замечательный гуталин, что сразу вошел в славу. Нам такого гуталина сварить не удалось, хотя мы продушили всю квартиру въедливым запахом ваксы. Чтобы жильцы не ругались, мы всем чистили ботинки, а Фоме Зубцову — сапоги. Отец, смеясь, говорил, что так начинал не Лавуазье, а Рокфеллер. Но из нас даже Рокфеллеров не вышло. Наш гуталин не давал блеска, хотя здорово пачкался, и Фома Зубцов всякий раз «перечищал» свои хромовые сапоги у айсоров на углу Кривоколенного переулка.
Затем мы пытались создать красную тушь. Жидкость оставляла несмываемые пятна на руках, одежде, стенах и грязно-белой шерсти моего пса Джека, но, нанесенная пером на бумагу, обнаруживала непонятную водянистость. Строки бледнели, таяли, и мы уже готовы были поверить, что ненароком создали «симпатическую тушь», но ядовитый цвет не исчезал совсем.
Блистательный пример дяди-химика заставлял нас упорно цепляться за чуждую нам науку. Мы беспощадно били пробирки, переводили химикалии, колбы лопались над спиртовкой, как бомбы, вызывая панику среди соседей, и наконец у Павлика достало мужества сказать: «Хватит добывать стекло из пробирок!» На химии был поставлен крест.
Пришел черед физике, науке будущего. Мы изнуряли себя на лекциях знаменитых ученых, пытались постигнуть теорию относительности, повесив для бодрости на стенке портрет молодого Альберта Эйнштейна; спорили о квантовой теории, не понимая в ней ни шиша; ломали головы над книгами Ноультона, Эддингтона, Брэгга, но едва справлялись даже со школьной физикой, потому что оба были бездарны в математике. Нас выручил… Пастернак. В «Охранной грамоте» я прочел о муках будущего поэта, мечтавшего стать композитором, но не обладавшего абсолютным слухом. Он отказался от музыки, узнав, что его кумир, гениальный Скрябин, скрывает как нечто стыдное несовершенство своего слуха. Павлик не сразу понял, куда я гну. «Для современного физика математика — все равно что абсолютный слух для композитора». — «Правильно! — сказал он и оборвал провода на мостике Уитстона, который начинал собирать. — К черту!.. — А потом добавил задумчиво: — А все-таки Скрябин стал Скрябиным и без абсолютного слуха».
Но Скрябин не мог без музыки, а Пастернак мог — и отступился. Мы тоже могли без физики…
Миновала, поглотив уйму времени и сил, но не захватив души, география с картами, атласами, глобусами, с книгами о Ливингстоне, Стэнли, Миклухо-Маклае и Пржевальском; ботаника с гербариями, с тонким волнующим ароматом засушенных цветов, трав, листьев, с приобретением в складчину слабенького микроскопа; электротехника, отмеченная серией коротких замыканий и одним серьезным пожаром, — была красная машина и тревожный звон колокола, и сперва плоское, затем по-удавьи округлившееся, долгое тело шланга, и бравые, расторопные пожарники в сияющих золотых касках…
Наш отдых от трудов праведных был не менее изнурителен и целенаправлен. «Перерыв!» — объявлял Павлик и ставил на нос кий от настольного бильярда, или стул, или половую щетку, или цветок, если дело происходило летом. Я немедленно следовал его примеру.
Мы увлекались балансированием, посмотрев в мюзик-холле номер австрийского гастролера, мага и волшебника. Он балансировал на слабо натянутом канате, держа на кончике раскляпанного носа полутораметровый стальной штырь с подносом, на котором стоял кипящий самовар и чайный сервиз. «Этому можно научиться», — задумчиво сказал Павлик, заставив меня поежиться.
Я уже знал, что у Павлика слово не расходится с делом. Знал боками и легким сотрясением мозга. Когда награждали первых девушек-парашютисток, Павлик решил, что ради поддержания мужской чести мы тоже должны совершить прыжок с двумя зонтиками из окна его кухни во двор. Хорошо еще, что мужская честь удовлетворилась прыжком из его кухни, а не из моей, находившейся на этаж выше.
Мы раздобыли зонтики и кинули жребий, кому прыгать первым. Выпало мне. Я не особенно волновался: несколько пробных прыжков с платяного шкафа убедили нас, что зонтики держат не хуже парашюта. Я влез на подоконник, затем стал на карниз. Внизу подо мной светлела полоска асфальта, дальше двор был вымощен булыжником. Я видел круглые картузы возчиков, плешь дворника Валида, макушки играющих в классы девчонок, спины лошадей. И я шагнул туда, к ним, вниз. На мгновение показалось, что плотная струя воздуха подхватила меня, вслед за тем двор со всем, что его населяло, подскочил вверх и ударил меня в пятки. Что-то взболтнулось в голове, и я потерял сознание.
Вокруг меня хлопотали люди, когда сверху примчался Павлик. Поразив всех своим чудовищным бессердечием, он даже не глянул на поверженного друга, схватил зонтики и, убедившись, что они не пострадали, пулей взлетел наверх. Через секунду он распластался рядом со мной. Все же его приземление оказалось удачнее: он отделался потерей половинки переднего зуба…
Не стоит думать, что балансирование — невинная забава, когда этим занимаешься на пару с Павликом. Вот как все это выглядело в ту пору, когда после долгих беспощадных тренировок мы сравнялись с австрийским виртуозом.
По команде мы разом вскидывали на нос, лоб или подбородок какой-нибудь предмет. Миг-другой — обретен центр равновесия, и предмет застывает в совершенной неподвижности. Проходит десять, пятнадцать, двадцать минут, полчаса, голова, откинутая назад, затекает, пора кончать, но никому не хочется сдаваться.
Приходит мать с покупками. Мы приветствуем ее, не меняя позы. Она идет в темную комнату, переодевается там, достает швейную машинку, что-то шьет, тихонько напевая про себя. Затем прячет машинку в шкаф, выходит и застает нас в той же позе.
— Какой кошмар! — больным голосом говорит она и идет на кухню.
Через некоторое время возвращается с кофейником в руке — ничего не изменилось.
— Господи! Вы посмотрели бы на себя со стороны — законченные идиоты!.. Вас же удар хватит!..
Мать недалека от истины: в затылке тяжесть, — видно, вся кровь скопилась там. Пробую заговорить Павлику зубы: уроки, мол, не сделаны, мне дали на один вечер пьесу Жироду «Троянской войны не будет», — ни ответа, ни привета. Проходит еще минут двадцать. Смерть начинает казаться избавлением, но я еще цепляюсь за жизнь.
— Давай так, — предлагаю я, — считаем до трех, и все!
— Как хочешь, — равнодушно отзывается Павлик.
— Раз, два, три!
Мы враз обретаем свободу. Павлик никогда не мешкает: он не нуждается в такой мелкой победе, но ему хочется, чтобы я тоже научился терпению…
Поиски своего лица продолжались… Меж тем я начал писать рассказы, а Павлик — пробовать силы на подмостках любительской сцены, но почему-то в этих своих занятиях мы уже не стремились к объединению. Я не предлагал Павлику соавторство, а он не уговаривал меня стать его партнером. Наверное, потому, что тут каждый столкнулся со своей судьбой, с единственным делом, которому должен был служить. Но мы даже самим себе не признавались, что выбор сделан. Мы обманывали себя так искренне, что по окончании школы оба подали заявление в медицинский институт, обычное прибежище тех, кто не ладит с математикой и не верит в себя на гуманитарном поприще. Лишь убедившись в тщете своего жестокого благоразумия, лишенные в непосильной зубрежке возможности заниматься тем, без чего нам жизнь была не в жизнь, мы ринулись на открывшиеся среди года факультеты киноискусства. Я с грехом пополам поступил на сценарный, Павлик провалился на режиссерском. Зато через полгода он блестяще сдал экзамены сразу в три института: в ГИТИС, куда и пошел, в тот же ВГИК, чтоб доказать себе и другим, что может туда поступить, и для спокойствия родителей в историко-архивный. «Что ж, — рассуждал его отец, — Павлик не стал врачом, но, может, я увижу его в постановке «Коварский и любовь».
Он этого не дождался. В первый день войны ребята Армянского переулка явились в военкомат. Нас с Толей Симаковым забраковали: поначалу война была разборчивой. В сентябре я получил от Павлика кое-как нацарапанную открытку с фронта: «Эти мерзавцы здорово бомбят, но ничего — живем».
А жить ему оставалось совсем немного. Он погиб под Сухиничами. Не от бомбы, не от осколка снаряда, не от прицельной или шальной пули — от своего характера. Немцы предлагали советским солдатам, захваченным врасплох в здании сельсовета, сохранить жизнь, если они положат оружие на деревянный, изрешеченный пулями пол и выйдут по одному с поднятыми руками. Но вот этого-то как раз и не могли сделать бойцы поредевшего отделения, которым командовал Павлик. Потеряв многих людей, немцы подожгли сельсовет, из пламени и дыма еще раздавались выстрелы. Ни один человек не вышел. Так рассказывали местные жители, когда вернулись наши. К тому времени от всей деревни остались лишь зола да угли.
Нет могилы Павлика, нет могилы Толи Симакова. Он погиб в Бжезинке после неудачного побега из лагеря. Серое небо третьей военной зимы приняло в себя еще клубок черного дыма.
Уходя в начале января 1942 года на фронт, я ничего не знал об участи моих друзей…
Четверть века прошло с окончания войны, прожита лучшая, главная часть жизни, а мне до сих пор то чаще, то реже каждый год снится Павлик. Сон — счастливый художник, ему не нужно заботиться о цельности сюжетной ткани, о правдоподобии, о достоверности, мотивировках, он владеет тайной, заставляющей верить ему, прощать нескладицу и даже явную нелепость. Мне всегда снится одно и то же, меняются лишь второстепенные подробности, улетучивающиеся по пробуждении и ничего не значащие в существе сна, — Павлик жив и вернулся. Непонятно, где он был все эти годы, почему не давал о себе знать. Во всяком случае, тут нет ничего зазорного для него, откупленного своей гибелью даже от плена во сне. Подразумевается, скорее, долгая утрата памяти, летаргия забывшей себя личности — сон пренебрегает точным объяснением. Довольно того, что Павлик жив и вернулся. И хотя меня тревожит и томит невнятность судьбы чудом воскресшего, все меркнет перед громадным счастьем — Павлик жив, жив!.. А затем начинается нечто смутное и безмерно печальное. Павлик не идет ко мне. Я ему не нужен. Возле него как-то дискретно реет его молчаливая мать, равно призрачная и во сне и в жизни и все же более необходимая вернувшемуся Павлику, чем я, единственный друг. Их осеняет какая-то общая забота, которую мне не дано разделить. Но ведь должны мы отговориться, отплакаться за все эти годы. Неужели Павлик не понимает этого, неужели он совсем забыл меня? Нет, он все понимает и ничего не забыл. Он сознательно не идет ко мне, исключает меня из своего нового бытия. За что? Я ни в чем не виноват перед ним, я не сделал ничего плохого, ему не в чем упрекнуть меня. Во сне я говорю все эти слова кому-то: то ли его матери — в тщетной надежде, что это дискретное существо поможет мне, то ли самому Павлику, но не прямо, а на неслышном человеку языке рыб. Но он-то слышит меня и не отзывается. Вдруг он возникает рядом со мной, холодно кивает и молча проходит мимо.
Я просыпаюсь с мокрым лицом и долго думаю об этом сне, испытывая въяве острую душевную боль. Я перебираю свою жизнь, поступки, отношения с людьми, все наработанное и ненаработанное и не нахожу вины за собой, вины, заслуживающей такой казни. Но может быть, там, откуда пришел Павлик, иные мерила, быть может, мы сами некогда иначе мерили себя?..
С каких-то пор мне стало казаться, что мой грех перед ним — в отсутствии чувства вины. Если мерить мою жизнь последним поступком Павлика, разве могу я считать, что ни в чем не виноват? Нет. Виноват. Виноват во всем: в том, что не отдал своей жизни за друга, не спас, не защитил миллионы погибших, виноват в тюрьмах и лагерях, в убийстве президентов и проповедников, в плохих книгах — не только своих; в том, что правда ходит с поджатым хвостом, а ложь и клевета — задрав голову; что в мире не затихают выстрелы, не затухают пожарища, гибнут дети и не счесть обездоленных…
Каждый погибший откупает другого у гибели. Павлик дал себя сжечь, чтобы жил я. А я плохо распорядился его подарком. Не надо отрицать своей вины: мы все виноваты друг перед другом и во сто крат сильней — перед мертвыми. И надо все время помнить об этой своей вине, — быть может, тогда исполнится самая святая мечта из всех доступных человеку: вернуть к жизни ушедших…
Минувшим летом грибная страсть занесла меня на край Калужской области. Приятель, купивший там за бесценок брошенный дом в полупустой деревне, обещал мне настоящий грибной рай. Как полагается новоселу, он плохо знал дорогу, и мы долго плутали по каким-то новым шоссе и старым проселкам. И раз мелькнула, царапнула по сердцу надпись на дорожном указателе: «До Сухиничей…» — я не разобрал, сколько километров. Наконец мы оказались в молодом смешанном леске — березы, осины, невысокие елочки, и приятель неуверенно, будто советуясь, сказал:
— Кажется, здесь.
Может, мы и не туда приехали, но после исхоженных, с примятой, а то и вовсе вытоптанной травой, нищих подмосковных лесов тут нам и впрямь привиделся рай. Грибы попадались разные и все больше не особо ценные: сыроежки, моховики, лисички, но случались и подберезовики, и даже белые. И какой-то приятный был этот лесок: чистый, нехоженый, неломаный, просквоженный солнцем, без паутины и прилипчивых мух. По нему легко ходилось: ни чащобы, ни валежника, ни топких, вязких мест, где нога вдруг по колено проваливается в торф, никаких подвохов не таил молодой приветливый реднячок. Может, потому я почувствовал скорее обиду, нежели боль, напоровшись на что-то острое, скрытое в траве. Инстинктивно я рванулся вперед и чудом удержал равновесие: мои ноги запутались в колючей проволоке, — я увидел свой капкан, на миг приподняв его над травой. Приятель поспешил мне на помощь. Вдвоем мы освободили мои матерчатые туфли и брючины от шипов, а затем извлекли на свет божий тяжелый моток колючей проволоки, той самой, без которой немыслим передний край.
Она лежала у наших ног, частью сухо— и красно-ржавая, частью мокрая, черная; в налете какой-то плесени, безобразная, давно мертвая, но еще способная ужалить. И кто ее знает, служила она нам или противнику, скорее всего, и тем и другим, ну да не об этом речь…
Я никак не был настроен на встречу с войной. Молодой лес вырос там, где некогда были землянки, окопы, ходы сообщений, пулеметные гнезда, колючая проволока, минные поля и погорелья деревень.
И тут меня снова нагнала и пронзила стрела дорожного знака: «До Сухиничей…» Вот на этой земле, где-то поблизости, а может, прямо здесь, Павлик доживал свою короткую жизнь. Почему-то мне впервые предстало, что в окруженном неприятелем сельсовете творилась не смерть, а последняя жизнь Павлика. Пока все не стало огнем, он жил жизнью мысли и всех чувств, памяти, и слов, и маленьких желаний: попить воды, покурить, утереть пот со лба. Он жил и, как всякий живой, обладал своим прошлым; ему являлись лица людей, которых он успел полюбить, и лица тех, кого он не успел возненавидеть; им фоном служили бульвары, переулки, театральные залы, аудитории, казармы. И что-то он задерживал, оставлял с собой, что-то отмахивал как ненужное, мешающее…
Наша ответственность друг перед другом куда больше, чем мы позволяем себе думать. В любой миг нас может призвать и обреченный смерти, и обреченный выбору между добром и злом, и просто усталый человек, и герой перед подвигом, и малый ребенок, — это зов на помощь, но одновременно и на суд.
✯✯✯✯✯
1 20 Всего посещений
Hits: 6
Юрий Маркович Нагибин
Мой первый друг, мой друг бесценный
Мы жили в одном подъезде, но не знали друг друга. Далеко не все ребята нашего дома принадлежали к дворовой вольнице. Иные родители, уберегая своих чад от тлетворного влияния двора, отправляли их гулять в чинный сад при Лазаревском институте или в церковный садик, где старые лапчатые клены осеняли гробницу бояр Матвеевых.
Там, изнывая от скуки под надзором дряхлых богомольных нянек, дети украдкой постигали тайны, о которых двор вещал во весь голос. Боязливо и жадно разбирали они наскальные письмена на стенах боярской гробницы и пьедестале памятника статскому советнику и кавалеру Лазареву. Мой будущий друг не по своей вине делил участь этих жалких, тепличных детей.
Мы сразу поняли, что нам придется солоно. Здесь царили Чистопрудные, а мы считались чужаками, непрошеными пришельцами. Со временем все станут равны и едины под школьным стягом. Поначалу здоровый инстинкт самосохранения заставлял нас держаться тесной группой. Мы объединялись на переменках, гуртом ходили в школу и гуртом возвращались домой. Самым опасным был переход через бульвар, здесь мы держали воинский строй. Достигнув устья Телеграфного переулка, несколько расслаблялись, за Потаповским, чувствуя себя в полной безопасности, начинали дурачиться, орать песни, бороться, а с наступлением зимы завязывать лихие снежные баталии.
В Телеграфном я впервые приметил этого длинного, тонкого, бледно-веснушчатого мальчика с большими серо-голубыми глазами в пол-лица.
Стоя в сторонке и наклонив голову к плечу, он с тихим, независтливым восхищением наблюдал наши молодецкие забавы. Он чуть вздрагивал, когда пущенный дружеской, но чуждой снисхождения рукой снежок залеплял чей-то рот или глазницу, скупо улыбался особо залихватским выходкам, слабый румянец скованного возбуждения окрашивал его щеки. И в какой-то момент я поймал себя на том, что слишком громко кричу, преувеличенно жестикулирую, симулирую неуместное, не по игре, бесстрашие. Я понял, что выставляюсь перед незнакомым мальчиком, и возненавидел его. Чего он трется возле нас? Какого черта ему надо? Уж не подослан ли он нашими врагами?. . Но когда я высказал ребятам свои подозрения, меня подняли на смех:
— Белены объелся? Да он же из нашего дома!. .
Оказалось, мальчик живет в одном подъезде со мной, этажом ниже, и учится в нашей школе, в параллельном классе. Удивительно, что мы никогда не встречались! Я сразу изменил свое отношение к сероглазому мальчику. Его мнимая настырность обернулась тонкой деликатностью: он имел право водить компанию с нами, но не хотел навязываться, терпеливо ожидая, когда его позовут. И я взял это на себя.
Для среднего школьного возраста.
Юрий Маркович Нагибин
Мой первый друг, мой друг бесценный
Мы жили в одном подъезде, но не знали друг друга. Далеко не все ребята нашего дома принадлежали к дворовой вольнице. Иные родители, уберегая своих чад от тлетворного влияния двора, отправляли их гулять в чинный сад при Лазаревском институте или в церковный садик, где старые лапчатые клены осеняли гробницу бояр Матвеевых.
Там, изнывая от скуки под надзором дряхлых богомольных нянек, дети украдкой постигали тайны, о которых двор вещал во весь голос. Боязливо и жадно разбирали они наскальные письмена на стенах боярской гробницы и пьедестале памятника статскому советнику и кавалеру Лазареву. Мой будущий друг не по своей вине делил участь этих жалких, тепличных детей.
Все ребята Армянского и прилегающих переулков учились в двух рядом расположенных школах, по другую сторону Покровки. Одна находилась в Старосадском, под боком у немецкой кирхи[1], другая — в Спасоглинищевском переулке. Мне не повезло. В год, когда я поступал, наплыв оказался столь велик, что эти школы не смогли принять всех желающих. С группой наших ребят я попал в очень далекую от дома 40-ю школу в Лобковском переулке, за Чистыми прудами.
Мы сразу поняли, что нам придется солоно. Здесь царили Чистопрудные, а мы считались чужаками, непрошеными пришельцами. Со временем все станут равны и едины под школьным стягом. Поначалу здоровый инстинкт самосохранения заставлял нас держаться тесной группой. Мы объединялись на переменках, гуртом ходили в школу и гуртом возвращались домой. Самым опасным был переход через бульвар, здесь мы держали воинский строй. Достигнув устья Телеграфного переулка, несколько расслаблялись, за Потаповским, чувствуя себя в полной безопасности, начинали дурачиться, орать песни, бороться, а с наступлением зимы завязывать лихие снежные баталии.
В Телеграфном я впервые приметил этого длинного, тонкого, бледно-веснушчатого мальчика с большими серо-голубыми глазами в пол-лица. Стоя в сторонке и наклонив голову к плечу, он с тихим, независтливым восхищением наблюдал наши молодецкие забавы. Он чуть вздрагивал, когда пущенный дружеской, но чуждой снисхождения рукой снежок залеплял чей-то рот или глазницу, скупо улыбался особо залихватским выходкам, слабый румянец скованного возбуждения окрашивал его щеки. И в какой-то момент я поймал себя на том, что слишком громко кричу, преувеличенно жестикулирую, симулирую неуместное, не по игре, бесстрашие. Я понял, что выставляюсь перед незнакомым мальчиком, и возненавидел его. Чего он трется возле нас? Какого черта ему надо? Уж не подослан ли он нашими врагами?.. Но когда я высказал ребятам свои подозрения, меня подняли на смех:
— Белены объелся? Да он же из нашего дома!..
Оказалось, мальчик живет в одном подъезде со мной, этажом ниже, и учится в нашей школе, в параллельном классе. Удивительно, что мы никогда не встречались! Я сразу изменил свое отношение к сероглазому мальчику. Его мнимая настырность обернулась тонкой деликатностью: он имел право водить компанию с нами, но не хотел навязываться, терпеливо ожидая, когда его позовут. И я взял это на себя.
Во время очередной снежной битвы я стал швырять в него снежками. Первый снежок, угодивший ему в плечо, смутил и вроде бы огорчил мальчика, следующий вызвал нерешительную улыбку на его лице, и лишь после третьего поверил он в чудо своего причастия и, захватив в горсть снега, пустил в меня ответный снаряд. Когда схватка кончилась, я спросил его:
— Ты под нами живешь?
— Да, — сказал мальчик. — Наши окна выходят на Телеграфный.
— Значит, ты под тетей Катей живешь? У вас одна комната?
— Две. Вторая темная.
— У нас тоже. Только светлая выходит на помойку. — После этих светских подробностей я решил представиться. — Меня зовут Юра, а тебя?
И мальчик сказал:
— Павлик.
…Тому сорок три года… Сколько было потом знакомств, сколько звучало в моих ушах имен, ничто не сравнится с тем мгновением, когда в заснеженном московском переулке долговязый мальчик негромко назвал себя: Павлик.
Каким же запасом индивидуальности обладал этот мальчик, затем юноша — взрослым ему не довелось стать, — если сумел так прочно войти в душу другого человека, отнюдь не пленника прошлого при всей любви к своему детству. Слов нет, я из тех, кто охотно вызывает духов былого, но живу я не во мгле минувшего, а на жестком свету настоящего, и Павлик для меня не воспоминание, а соучастник моей жизни. Порой чувство его продолжающегося во мне существования настолько сильно, что я начинаю верить: если твое вещество вошло в вещество того, кто будет жить после тебя, значит, ты не умрешь весь. Пусть это и не бессмертие, но все-таки победа над смертью.
Я знаю, что еще не могу написать о Павлике по-настоящему. И неизвестно, смогу ли когда-нибудь написать. Мне очень многое непонятно, ну хотя бы что значит в символике бытия смерть двадцатилетних. И все же он должен быть в этой книге, без него, говоря словами Андрея Платонова, народ моего детства неполон.
Поначалу наше знакомство больше значило для Павлика, нежели для меня. Я уже был искушен в дружбе. Помимо рядовых и добрых друзей, у меня имелся закадычный друг, чернявый, густоволосый, подстриженный под девочку Митя Гребенников. Наша дружба началась в нежном возрасте, трех с половиной лет, и в описываемую пору насчитывала пятилетнюю давность.
Митя был жителем нашего дома, но с год назад его родители поменяли квартиру. Митя оказался по соседству, в большом шестиэтажном доме на углу Сверчкова и Потаповского, и ужасно заважничал. Дом был, правда, хоть куда, с роскошными парадными, тяжелыми дверями и просторным плавным лифтом. Митя, не уставая, хвастался своим домом: «Когда глядишь на Москву с шестого этажа…», «Не понимаю, как люди обходятся без лифта…». Я деликатно напомнил, что совсем недавно он жил в нашем доме и прекрасно обходился без лифта. Глядя на меня влажными, темными, как чернослив, глазами, Митя брезгливо сказал, что это время кажется ему страшным сном. За такое следовало набить морду. Но Митя не только внешне походил на девчонку — он был слабодушный, чувствительный, слезливый, способный к истерическим вспышкам ярости, — и на него рука не поднималась. И все-таки я ему всыпал. С истошным ревом он схватил фруктовый нож и попытался меня зарезать. Впрочем, по-женски отходчивый, он чуть ли не на другой день полез мириться. «Наша дружба больше нас самих, мы не имеем права терять ее» — вот какие фразы умел он загибать, и еще похлеще. Отец у него был адвокатом, и Митя унаследовал дар велеречия.
Наша драгоценная дружба едва не рухнула в первый же школьный день. Мы попали в одну школу, и наши матери позаботились усадить нас за одну парту. Когда выбирали классное самоуправление, Митя предложил меня в санитары. А я не назвал его имени, когда выдвигали кандидатуры на другие общественные посты.
Сам не знаю, почему я не сделал этого, то ли от растерянности, то ли мне показалось неудобным называть его, после того как он выкликнул мое имя. Митя не выказал ни малейшей обиды, но его благодушие рухнуло в ту минуту, когда большинством голосов я был выбран санитаром. В мои обязанности входило носить нарукавный красный крест и осматривать перед уроком руки и шеи учеников, отмечая грязнуль крестиками в тетрадке. Получивший три крестика должен был или вымыться, или привести в школу родителей. Казалось бы, ничего особенно заманчивого в этой должности не было, но у Мити помутился разум от зависти. Целый вечер после злополучных выборов он звонил ко мне домой по телефону и голосом, полным ядовитого сарказма и муки, требовал «товарища санитара». Я подходил. «Товарищ санитар?» — «Да!» — «А, черт бадянский!» — кричал он и швырял трубку. Лишь от большой злобы можно придумать какого-то «черта бадянского». Я так и не выяснил, что это: фамилия нечистого или какое-то загадочное и отвратительное качество?
К чему я так подробно рассказываю о своих отношениях с другим мальчиком? Митина вздорность, перепады настроения, чувствительные разговоры и всегдашняя готовность к ссоре, хотя бы ради сладости примирения, стали казаться мне непременной принадлежностью дружбы. Сблизившись с Павликом, я долго не понимал, что нашел иную, настоящую дружбу. Мне казалось, что я просто покровительствую робкому чужаку. Поначалу так оно, в известной мере, и было. Павлик недавно переехал в наш дом и ни с кем не свел приятельства, он был из тех несчастных ребятишек, которых выгуливали в Лазаревском и церковном садах.
Этой строгостью исчерпалась до дна родительская забота о Павлике. В последующие годы никогда я не видел, чтобы Павлику что-либо запрещалось или навязывалось. Он пользовался полной самостоятельностью. Родительской опеке он предоставил своего младшего брата, а себя воспитывал сам. Я вовсе не шучу: так оно было на самом деле. Павлика любили в семье, и он любил родителей, но отказывал им в праве распоряжаться собой, своими интересами, распорядком дня, знакомствами, привязанностями и перемещением в пространстве. И тут он был куда свободнее меня, опутанного домашними табу. Тем не менее первую скрипку в наших отношениях играл я. И не только потому, что был местным старожилом. Мое преимущество заключалось в том, что я не догадывался о нашей дружбе. По-прежнему я считал своим лучшим другом Митю Гребенникова. Даже удивительно, как ловко заставлял он меня играть в спектакле под названием «Святая дружба». Ему нравилось ходить со мной в обнимку по школьным коридорам и фотографироваться вместе на Чистых прудах. Я смутно подозревал, что Митя выгадывает на этом какие-то малости: в школе, что там ни говори, ему льстила дружба с «товарищем санитаром», а под прицелом Чистопрудного «пушкаря» он наслаждался превосходством своей тонкой девичьей красоты над моей скуластой, широконосой заурядностью. Пока фотограф колдовал под черной тряпкой, Чистопрудные кумушки наперебой восторгались Митиными глазами — «черносливом», прической с противным названием «бубикопф» и кокетливым черным бантом на груди. «Девочка, ну просто девочка!» — захлебывались они, и ему, дураку, это льстило!
Мой первый друг, мой друг бесценный
Для среднего школьного возраста.
Приключения 1990Честертон Гилберт Кийт, Нагибин Юрий Маркович, Руденко Борис Антонович, Аграновский Валерий Абрамович, Молчанов Андрей Алексеевич, Топоров Виктор Леонидович
ЭхоНагибин Юрий Маркович
Скачать книгу «Мой первый друг, мой друг бесценный»
О книге
Бывает так, что, сосредоточиваясь на собственной жизни, забываешь, как много интересного может происходить в мире, насколько увлекательны истории других людей. Часто на выручку приходит книга. И это даёт не только новые эмоции, но и понимание, как неоднозначно всё в нашей жизни.
Книга Нагибин Юрий Маркович «Мой первый друг, мой друг бесценный» позволит приятно провести время за чтением, произведение относится к жанру проза для детей. Автор книги создал удивительно яркое и запоминающееся произведение. Читая, понимаешь, что герои – такие же люди, что у них есть такие же переживания и чувства, и это вызывает ещё больший отклик в душе.
Писатель говорит о таких темах, которые актуальны во все времена, потому что люди все равно остаются людьми и не забудут о том, что им важно. Это такое произведение, которое приносит не только удовольствие при чтении, но и развивает духовно. Это одна из тех книг, от которых не хочется отрываться, пока не будет прочитана последняя страница. На сайте есть возможность скачать книгу в формате epub, fb2 или читать онлайн.
Популярные книги жанра «Проза для детей»
С этой книгой читают
Сто первый километрХруцкий Эдуард Анатольевич
Эпопея известного мастера детективного жанра Э. Хруцкого, рассказывающая о работе Отдела по борьбе с бандитизмом Московского уголовного…
Корнет из нашего времени. Часть первая Мелик Валерий
Сознание бывшего спецназовца, потом киллера, в результате несчастного случая попадает в тело корнета кирасирского полка, получившего травму во время событий 9 января…
Начало. Шаг первый Филиппов Константин
Очередное произведение из когорты «наши там»Попаданец. Самостоятельный попаданец так как попадает по собственной воле. Как только захватывает себе новое тело в новом…
В чужом ряду. Первый этап. Чертова дюжинаМарт Михаил
Потерпевший аварию самолет с тремя тоннами чистого золота застрял на крутом склоне глухого таежного участка, где не ступала нога человека. На поиски бесценного груза…
Ликвидация. Книга перваяБондаренко Вячеслав Васильевич, Поярков Алексей Владимирович
Он каждый день висит на волоске от смерти, чувствует за спиной ее леденящее дыхание. Смерть смотрит на него глазами воров, убийц и бандитов, она забирает его друзей,…
Первый уровень. Солдаты поневолеАндреев Николай Ник Эндрюс, Романов Николай Александрович
На огромном расстоянии от Сириуса располагался красный карлик Мимас. Вокруг него вращался астероид, внутри которого находилась тайная база пиратов Гленторан. Именно…
Дан. Книга первая Хорт Игорь Анатольевич
21 летний Дан, выпускник космической академии, будущий военный летчик и гражданский шахтер-инженер попадает в иной мир/иное измерение из-за аварии на корабле. Ему…
Зимний Туман — друг шайеновКостюченко Евгений Николаевич «Краев»
Неожиданная встреча на Пулковском шоссе закончилась тем, что Степан оказался на Диком Западе, в XIX веке. Он не пропал в чужом враждебном мире, потому что быстро усвоил…
Рассказ о себе[1]
Я родился 3 апреля 1920 года в Москве, возле Чистых прудов, в семье служащего. Когда мне было восемь лет, мои родители расстались, и моя мать вышла замуж за писателя Я. С. Рыкачева.
Я обязан матери не только прямо унаследованными чертами характера, но основополагающими качествами своей человеческой и творческой личности, вложенными в меня в раннем детстве и укрепленными всем последующим воспитанием. Эти качества: уметь ощущать драгоценность каждой минуты жизни, любовь к людям, животным и растениям.
В литературном обучении я всем обязан отчиму. Он научил меня читать только хорошие книги и думать о прочитанном.
Мы жили в коренной части Москвы, в окружении дубовых, кленовых, вязовых садов и старинных церквей. Я гордился своим большим домом, выходившим сразу в три переулка: Армянский, Сверчков и Телеграфный.
И мать, и отчим надеялись, что из меня выйдет настоящий человек века: инженер или ученый в точных науках, и усиленно пичкали меня книгами по химии, физике, популярными биографиями великих ученых. Для их собственного успокоения я завел пробирки, колбу, какие-то химикалии, но вся моя научная деятельность сводилась к тому, что время от времени я варил гуталин ужасного качества. Я не ведал своего пути и мучился этим.
Зато все уверенней чувствовал себя на футбольном поле. Тогдашний тренер «Локомотива» француз Жюль Лимбек предсказывал мне большое будущее. Он обещал ввести меня к восемнадцати годам в дубль мастеров. Но моя мать не хотела смириться с этим. Видимо, под ее нажимом отчим все чаще убеждал меня что-нибудь написать. Да, вот так искусственно, не по собственному неотвратимому позыву, а под давлением извне началась моя литературная жизнь.
Я написал рассказ о лыжной прогулке, которую мы предприняли всем классом в один из выходных дней. Отчим прочел и грустно сказал: «Играй в футбол». Конечно, рассказ был плох, и все же я с полным основанием считаю, что уже в первой попытке определился мой столбовой литературный путь: не придумывать, а идти впрямую от жизни – или текущей, или минувшей.
Я отлично понял отчима и не пытался оспорить уничтожающую оценку, скрывавшуюся за его хмурой шуткой. Но писание захватило меня. С глубоким удивлением обнаружил я, как от самой необходимости перенести на бумагу несложные впечатления дня и черты хорошо знакомых людей странно углубились и расширились все связанные с немудреной прогулкой переживания и наблюдения. Я по-новому увидел моих школьных товарищей и нежданно сложный, тонкий и запутанный узор их отношений. Оказывается, писание – это постижение жизни.
И я продолжал писать, упорно, с мрачным ожесточением, и моя футбольная звезда сразу закатилась. Отчим доводил меня до отчаяния своей требовательностью. Порой я начинал ненавидеть слова, но оторвать меня от бумаги было делом мудреным.
Все же, когда я закончил школу, мощная домашняя давильня снова пришла в действие, и вместо литфака я оказался в 1-м Московском медицинском институте. Сопротивлялся я долго, но не мог устоять перед соблазнительным примером Чехова, Вересаева, Булгакова – врачей по образованию.
По инерции я продолжал старательно учиться, а учеба в медвузе – труднейшая. Ни о каком писании теперь и речи быть не могло. Я с трудом дотянул до первой сессии, и вдруг посреди учебного года открылся прием на сценарный факультет киноинститута. Я рванулся туда.
ВГИК я так и не кончил. Через несколько месяцев после начала войны, когда последний вагон с институтским имуществом и студентами ушел в Алма-Ату, я подался в противоположную сторону. Довольно порядочное знание немецкого языка решило мою военную судьбу. Политическое управление Красной армии направило меня в седьмой отдел Политического управления Волховского фронта. Седьмой отдел – это контрпропаганда.
Но прежде чем говорить о войне, расскажу о двух своих литературных дебютах. Первый, устный, совпал по времени с моим переходом из медицинского во ВГИК.
Я выступил с чтением рассказа на вечере начинающих авторов в клубе писателей.
А через год в журнале «Огонек» появился мой рассказ «Двойная ошибка»; характерно, что он был посвящен судьбе начинающего писателя. Мартовскими, грязно заквашенными улицами я бегал от одного газетного киоска к другому и спрашивал: нет ли последнего рассказа Нагибина?
Первая публикация светится в памяти ярче, чем первая любовь.
…На Волховском фронте мне пришлось не только выполнять свои прямые обязанности контрпропагандиста, но и сбрасывать листовки на немецкие гарнизоны, и выбираться из окружения под печально знаменитым Мясным бором, и брать (так и не взяв) «господствующую высоту». На протяжении всего боя с основательной артиллерийской подготовкой, танковой атакой и контратакой, стрельбой из личного оружия я тщетно силился разглядеть эту высоту, из-за которой гибло столько людей. Мне кажется, что после этого боя я стал взрослым.
Впечатлений хватало, жизненный опыт скапливался не по крупицам. Каждую свободную минуту я кропал коротенькие рассказы, и сам не заметил, как их набралось на книжку.
Тоненький сборник «Человек с фронта» вышел в 1943 году в издательстве «Советский писатель». Но еще до этого меня заочно приняли в Союз писателей. Произошло это с идиллической простотой. На заседании, посвященном приему в Союз писателей, Леонид Соловьев прочел вслух мой военный рассказ, а А. А. Фадеев сказал: «Он же писатель, давайте примем его в наш Союз…»
В ноябре 1942 года уже на Воронежском фронте мне крупно не повезло: дважды подряд меня засыпало землей. В первый раз во время рупорной передачи из ничьей земли, второй раз по пути в госпиталь, на базаре маленького городка Анны, когда я покупал варенец. Откуда-то вывернулся самолет, скинул одну-единственную бомбу, и я не попробовал варенца.
Из рук врачей я вышел с белым билетом – путь на фронт был заказан даже в качестве военного корреспондента. Мать сказала, чтобы я не оформлял инвалидности. «Попробуй жить, как здоровый человек». И я попробовал…
На мое счастье, газета «Труд» получила право держать трех штатских военкоров. Я работал в «Труде» до конца войны. Мне довелось побывать в Сталинграде в самые последние дни битвы, когда «дочищали» Тракторозаводской поселок, под Ленинградом и в самом городе, затем при освобождении Минска, Вильнюса, Каунаса и на других участках войны. Ездил я и в тыл, видел начало восстановительных работ в Сталинграде и как там собрали первый трактор, как осушали шахты Донбасса и рубили обушком уголек, как трудились волжские портовые грузчики и как вкалывали, сжав зубы, ивановские ткачихи…
Все виденное и пережитое тогда неоднократно возвращалось ко мне много лет спустя в ином образе, и я опять писал о Волге и Донбассе военной поры, о Волховском и Воронежском фронтах и, наверное, никогда не рассчитаюсь до конца с этим материалом.
После войны я занимался в основном журналистикой, много ездил по стране, предпочитая сельские местности.
К середине 1950-х я разделался с журналистикой и целиком отдался чисто литературной работе. Выходят рассказы, добро замеченные читателями, – «Зимний дуб», «Комаров», «Четунов сын Четунова», «Ночной гость», «Слезай, приехали». В критических статьях появились высказывания, что я наконец-то приблизился к художнической зрелости.
В последующую четверть века у меня вышло много сборников рассказов: «Рассказы», «Зимний дуб», «Скалистый порог», «Человек и дорога», «Последний штурм», «Перед праздником», «Ранней весной», «Друзья мои, люди», «Чистые пруды», «Далекое и близкое», «Чужое сердце», «Переулки моего детства», «Ты будешь жить», «Остров любви», «Берендеев лес» – перечень далеко не полный. Обратился я и к более крупному жанру. Кроме повести «Трудное счастье», в основе которой лежит рассказ «Трубка», я написал повести: «Павлик», «Далеко от войны», «Страницы жизни Трубникова», «На кордоне», «Перекур», «Встань и иди» и другие.
Один из ближайших моих друзей взял меня однажды на утиную охоту. С тех пор в мою жизнь прочно вошла Мещера, мещерская тема и мещерский житель, инвалид Отечественной войны, егерь Анатолий Иванович Макаров. Я написал о нем книгу рассказов и сценарий художественного фильма «Погоня», но, помимо всего, я просто очень люблю этого своеобычного, гордого человека и ценю его дружбу.
Ныне мещерская тема, а правильнее сказать, тема «природа и человек» осталась у меня лишь в публицистике – не устаю надсаживать горло, взывая о снисхождении к изнемогающему миру природы.
О своем Чистопрудном детстве, о большом доме с двумя дворами и винными подвалами, о незабвенной коммунальной квартире и ее населении я рассказал в циклах «Чистые пруды», «Переулки моего детства», «Лето», «Школа». Последние три цикла составили «Книгу детства».
Мои рассказы и повести – это и есть моя настоящая автобиография.
В 1980–1981 годах были подведены предварительные итоги моей работы новеллиста: издательство «Художественная литература» выпустило четырехтомник, составленный только из рассказов и нескольких маленьких повестей. Вслед за тем я собрал под одной обложкой свои критические статьи, размышления о литературе, о любимом жанре, о товарищах по оружию, о том, что строило мою личность, а строили ее люди, время, книги, живопись и музыка. Название сборника – «Не чужое ремесло». Ну а дальше я продолжал писать о современности и о прошлом, о своей стране и чужих землях – сборники «Наука дальних странствий», «Река Гераклита», «Поездка на острова».
Вначале я был рабски предан Его Величеству Факту, затем пробудилась фантазия, и я перестал цепляться за зримую очевидность явлений, теперь оставалось отбросить сковывающие рамки времени. Протопоп Аввакум, Марло, Тредиаковский, Бах, Гёте, Пушкин, Тютчев, Дельвиг, Аполлон Григорьев, Лесков, Фет, Анненский, Бунин, Рахманинов, Чайковский, Хемингуэй – вот новые герои. Чем объясняется подобный, довольно пестрый подбор имен? Стремлением воздать Богу Богово. В жизни многим недодается по заслугам, особенно же творцам: поэтам, писателям, композиторам, живописцам. Их убивают не только на дуэлях, как Марло, Пушкина, Лермонтова, но и более медленным и мучительным способом – непониманием, холодом, слепотой и глухотой. Художники в долгу перед обществом – это общеизвестно, но и общество в долгу перед теми, кто доверчиво несет ему свое сердце. Антон Рубинштейн говорил: «Творцу нужна похвала, похвала и похвала». Но как мало похвал выпало при жизни на долю большинства из названных мною творцов!
Конечно, далеко не всегда мною движет желание компенсировать ушедшего творца за недополученное при жизни. Порой совсем иные мотивы заставляют меня обращаться к великим теням. Пушкин, скажем, уж никак не нуждается в чьем-либо заступничестве. Просто однажды я крепко усомнился в пресловутом легкомыслии Пушкина-лицеиста, в безотчетности его молодого стихотворчества. Я всем нутром ощутил, что Пушкин рано постиг свое избранничество и принял на себя непосильную для других ношу. А когда я писал о Тютчеве, мне хотелось разгадать тайну создания одного из самых личных и горестных его стихотворений…
Вот уже долгие годы я много времени отдаю кино. Начал я с самоэкранизаций, это был период учебы, так и не завершенной в киноинституте, освоение нового жанра, затем стал работать над самостоятель ными сценариями, к ним относятся: дилогия «Председатель», «Директор», «Красная палатка», «Бабье царство», «Ярослав Домбровский», «Чайковский» (в соавторстве), «Блистательная и горестная жизнь Имре Кальмана» и другие. К этой работе я пришел не случайно. Все мои рассказы и повести – локальны, а мне захотелось пошире охватить жизнь, чтобы зашумели на моих страницах ветры истории и народные массы, чтобы переворачивались пласты времени и совершались большие протяженные судьбы.
Конечно, я работал не только для «крупномасштабного» кино. Я рад своему участию в таких фильмах, как «Ночной гость», «Самый медленный поезд», «Девочка и эхо», «Дерсу Узала» (премия «Оскар»), «Поздняя встреча»…
Ныне я открыл для себя еще одну интересную область работы: учебное телевидение. Я сделал для него ряд передач, которые сам же и вел, – о Лермонтове, Лескове, С. Т. Аксакове, Иннокентии Анненском, А. Голубкиной, И.-С. Бахе.
Так что же главное в моей литературной работе: рассказы, драматургия, публицистика, критика? Конечно, рассказы. Я и впредь основное внимание намерен отдавать малой прозе.
1986
Ю. М. Нагибин
Рассказы
Зимний дуб
Выпавший за ночь снег замел узкую дорожку, ведущую от Уваровки к школе, и только по слабой, прерывистой тени на ослепительном снежном покрове угадывалось ее направление. Учительница осторожно ставила ногу в маленьком, отороченном мехом ботике, готовая отдернуть ее назад, если снег обманет.
До школы было всего с полкилометра, и учительница лишь накинула на плечи короткую шубку, а голову наскоро повязала легким шерстяным платком. А мороз был крепкий, к тому же еще налетал ветер и, срывая с наста молодой снежок, осыпал ее с ног до головы. Но двадцатичетырехлетней учительнице все это нравилось. Нравилось, что мороз покусывает нос и щеки, что ветер, задувая под шубку, студено охлестывает тело. Отворачиваясь от ветра, она видела позади себя частый след своих остроносых ботиков, похожий на след какого-то зверька, и это ей тоже нравилось.
Свежий, напоенный светом январский денек будил радостные мысли о жизни, о себе. Всего лишь два года, как пришла она сюда со студенческой скамьи, и уже приобрела славу умелого, опытного преподавателя русского языка. И в Уваровке, и в Кузьминках, и в Черном Яру, и в торфогородке, и на конезаводе – всюду ее знают, ценят и называют уважительно: Анна Васильевна.
Над зубчатой стенкой дальнего бора поднялось солнце, густо засинив длинные тени на снегу. Тени сближали самые далекие предметы: верхушка старой церковной колокольни протянулась до крыльца Уваровского сельсовета, сосны правобережного леса легли рядком по скосу левого берега, ветроуказатель школьной метеорологической станции крутился посреди поля, у самых ног Анны Васильевны.
Навстречу через поле шел человек. «А что, если он не захочет уступить дорогу?» – с веселым испугом подумала Анна Васильевна. На тропинке не разминешься, а шагни в сторону – мигом утонешь в снегу. Но про себя-то она знала, что нет в округе человека, который бы не уступил дорогу уваровской учительнице.
Они поравнялись. Это был Фролов, объездчик с конезавода.
– С добрым утром, Анна Васильевна! – Фролов приподнял кубанку над крепкой, коротко стриженной головой.
– Да будет вам! Сейчас же наденьте – такой морозище!..
Фролов, наверно, и сам хотел поскорей нахлобучить кубанку, но теперь нарочно помешкал, желая показать, что мороз ему нипочем. Он был розовый, гладкий, словно только что из бани; полушубок ладно облегал его стройную, легкую фигуру, в руке он держал тонкий, похожий на змейку хлыстик, которым постегивал себя по белому, подвернутому ниже колена валенку.
– Как Леша-то мой, не балует? – почтительно спросил Фролов.
– Конечно, балуется. Все нормальные дети балуются. Лишь бы это не переходило границы, – в сознании своего педагогического опыта ответила Анна Васильевна.
Фролов усмехнулся:
– Лешка у меня смирный, весь в отца!
Он посторонился и, провалившись по колени в снег, стал ростом с пятиклассника. Анна Васильевна кивнула ему сверху вниз и пошла своей дорогой.
Двухэтажное здание школы с широкими окнами, расписанными морозом, стояло близ шоссе, за невысокой оградой. Снег до самого шоссе был подрумянен отсветом его красных стен. Школу поставили на дороге, в стороне от Уваровки, потому что в ней учились ребятишки со всей округи: из окрестных деревень, из конезаводского поселка, из санатория нефтяников и далекого торфогородка. И сейчас по шоссе с двух сторон ручейками стекались к школьным воротам капоры и платочки, картузы и шапочки, ушанки и башлыки.
– Здравствуйте, Анна Васильевна! – звучало ежесекундно, то звонко и ясно, то глухо и чуть слышно из-под шарфов и платков, намотанных до самых глаз.
Первый урок у Анны Васильевны был в пятом «А». Еще не замер пронзительный звонок, возвестивший о начале занятий, как Анна Васильевна вошла в класс. Ребята дружно встали, поздоровались и уселись по своим местам. Тишина наступила не сразу. Хлопали крышки парт, поскрипывали скамейки, кто-то шумно вздыхал, видимо прощаясь с безмятежным настроением утра.
– Сегодня мы продолжим разбор частей речи…
Класс затих. Стало слышно, как по шоссе с мягким шелестом проносятся машины.
Анна Васильевна вспомнила, как волновалась она перед уроком в прошлом году и, словно школьница на экзамене, твердила про себя: «Существительным называется часть речи… существительным называется часть речи…» И еще вспомнила, как ее мучил смешной страх: а вдруг они все-таки не поймут?..
Анна Васильевна улыбнулась воспоминанию, поправила шпильку в тяжелом пучке и ровным, спокойным голосом, чувствуя свое спокойствие, как теплоту во всем теле, начала:
– Именем существительным называется часть речи, которая обозначает предмет. Предметом в грамматике называется все то, о чем можно спросить: кто это или что это? Например: «Кто это?» – «Ученик». Или: «Что это?» – «Книга».
– Можно?
В полуоткрытой двери стояла небольшая фигурка в разношенных валенках, на которых, стаивая, гасли морозные искринки. Круглое, разожженное морозом лицо горело, словно его натерли свеклой, а брови были седыми от инея.
– Ты опять опоздал, Савушкин? – Как большинство молодых учительниц, Анна Васильевна любила быть строгой, но сейчас ее вопрос прозвучал почти жалобно.
Приняв слова учительницы за разрешение войти в класс, Савушкин быстро прошмыгнул на свое место. Анна Васильевна видела, как мальчик сунул клеенчатую сумку в парту, о чем-то спросил соседа, не поворачивая головы, – наверно: «Что она объясняет?..»
Анну Васильевну огорчило опоздание Савушкина, как досадная нескладица, омрачившая хорошо начатый день. На то, что Савушкин опаздывает, ей жаловалась учительница географии, маленькая, сухонькая старушка, похожая на ночную бабочку. Она вообще часто жаловалась – то на шум в классе, то на рассеянность учеников. «Первые уроки так трудны!» – вздыхала старушка. «Да, для тех, кто не умеет держать учеников, не умеет сделать свой урок интересным», – самоуверенно подумала тогда Анна Васильевна и предложила ей поменяться часами. Теперь она чувствовала себя виноватой перед старушкой, достаточно проницательной, чтобы в любезном предложении Анны Васильевны усмотреть вызов и укор…
– Вам все понятно? – обратилась Анна Васильевна к классу.
– Понятно!.. Понятно!.. – хором ответили дети.
– Хорошо. Тогда назовите примеры.
На несколько секунд стало очень тихо, затем кто-то неуверенно произнес:
– Кошка…
– Правильно, – сказала Анна Васильевна, сразу вспомнив, что в прошлом году первой тоже была «кошка».
И тут прорвало:
– Окно!.. Стол!.. Дом!.. Дорога!..
– Правильно, – говорила Анна Васильевна, повторяя называемые ребятами примеры.
Класс радостно забурлил. Анну Васильевну удивляла та радость, с какой ребята называли знакомые им предметы, словно узнавая их в новой, непривычной значительности. Круг примеров все ширился, но первые минуты ребята держались наиболее близких, на ощупь осязаемых предметов: колесо, трактор, колодец, скворечник…
А с задней парты, где сидел толстый Васята, тоненько и настойчиво неслось:
– Гвоздик… гвоздик… гвоздик…
Но вот кто-то робко произнес:
– Город…
– Город – хорошо! – одобрила Анна Васильевна.
И тут полетело:
– Улица… Метро… Трамвай… Кинокартина…
– Довольно, – сказала Анна Васильевна. – Я вижу, вы поняли.
Голоса как-то неохотно смолкли, только толстый Васята все еще бубнил свой непризнанный «гвоздик». И вдруг, словно очнувшись от сна, Савушкин приподнялся над партой и звонко крикнул:
– Зимний дуб!
Ребята засмеялись.
– Тише! – Анна Васильевна стукнула ладонью по столу.
– Зимний дуб! – повторил Савушкин, не замечая ни смеха товарищей, ни окрика учительницы.
Он сказал не так, как другие ученики. Слова вырвались из его души, как признание, как счастливая тайна, которую не в силах удержать переполненное сердце. Не понимая странной его взволнованности, Анна Васильевна сказала, с трудом скрывая раздражение:
– Почему зимний? Просто дуб.
– Просто дуб – что! Зимний дуб – вот это существительное!
– Садись, Савушкин. Вот что значит опаздывать! «Дуб» – имя существительное, а что такое «зимний», мы еще не проходили. Во время большой перемены будь любезен зайти в учительскую.
– Вот тебе и «зимний дуб»! – хихикнул кто-то на задней парте.
Савушкин сел, улыбаясь каким-то своим мыслям и ничуть не тронутый грозными словами учительницы.
«Трудный мальчик», – подумала Анна Васильевна.
Урок продолжался…
– Садись, – сказала Анна Васильевна, когда Савушкин вошел в учительскую.
Мальчик с удовольствием опустился в мягкое кресло и несколько раз качнулся на пружинах.
– Будь добр, объясни, почему ты систематически опаздываешь?
– Просто не знаю, Анна Васильевна. – Он по-взрослому развел руками. – Я за целый час выхожу.
Как трудно доискаться истины в самом пустячном деле! Многие ребята жили гораздо дальше Савушкина, и все же никто из них не тратил больше часа на дорогу.
– Ты живешь в Кузьминках?
– Нет, при санатории.
– И тебе не стыдно говорить, что ты выходишь за час? От санатория до шоссе минут пятнадцать, и по шоссе не больше получаса.
– А я не по шоссе хожу. Я коротким путем, напрямки через лес, – сказал Савушкин, как будто сам немало удивленный этим обстоятельством.
– Напрямик, а не напрямки, – привычно поправила Анна Васильевна.
Ей стало смутно и грустно, как и всегда, когда она сталкивалась с детской ложью. Она молчала, надеясь, что Савушкин скажет: «Простите, Анна Васильевна, я с ребятами в снежки заигрался», или что-нибудь такое же простое и бесхитростное. Но он только смотрел на нее большими серыми глазами, и взгляд его словно говорил: «Вот мы всё и выяснили, чего же тебе еще от меня надо?»
– Печально, Савушкин, очень печально! Придется поговорить с твоими родителями.
– А у меня, Анна Васильевна, только мама, – улыбнулся Савушкин.
Анна Васильевна чуть покраснела. Она вспомнила мать Савушкина, «душевую нянечку», как называл ее сын. Она работала при санаторной водолечебнице. Худая усталая женщина с белыми и обмякшими от горячей воды, будто матерчатыми руками. Одна, без мужа, погибшего в Отечественную войну, она кормила и растила кроме Коли еще троих детей.
Верно, у Савушкиной и без того хватает хлопот. И все же она должна увидеться с ней. Пусть той поначалу будет даже неприятно, но затем она поймет, что не одинока в своей материнской заботе.
– Придется мне сходить к твоей матери.
– Приходите, Анна Васильевна. Вот мама обрадуется!
– К сожалению, мне ее нечем порадовать. Мама с утра работает?
– Нет, она во второй смене, с трех…
– Ну и прекрасно! Я кончаю в два. После уроков ты меня проводишь.
…Тропинка, по которой Савушкин повел Анну Васильевну, начиналась сразу на задах школы. Едва они ступили в лес и тяжко груженные снегом еловые лапы сомкнулись за их спиной, как сразу перенеслись в иной, очарованный мир покоя и беззвучия. Сороки и вороны, перелетая с дерева на дерево, колыхали ветви, сшибали шишки, порой, задев крылом, обламывали хрупкие, сухие прутики. Но ничто не рождало здесь звука.
Кругом белым-бело, деревья до самого малого, чуть приметного сучочка убраны снегом. Лишь в вышине чернеют обдутые ветром макушки рослых плакучих берез, и тонкие веточки кажутся нарисованными тушью на синей глади неба.
Тропинка бежала вдоль ручья, то вровень с ним, покорно следуя всем извивам русла, то, поднимаясь над ручьем, вилась по отвесной круче.
Иногда деревья расступались, открывая солнечные, веселые полянки, перечеркнутые заячьим следом, похожим на часовую цепочку. Попадались и крупные следы в виде трилистника, принадлежавшие какому-то большому зверю. Следы уходили в самую чащобу, в бурелом.
– Сохатый прошел! – словно о добром знакомом, сказал Савушкин, увидев, что Анна Васильевна заинтересовалась следами. – Только вы не бойтесь, – добавил он в ответ на взгляд, брошенный учительницей в глубь леса, – лось – он смирный.
– А ты его видел? – азартно спросила Анна Васильевна.
– Самого?.. Живого?.. – Савушкин вздохнул. – Нет, не привелось. Вот орешки его видел.
– Что?
– Катышки, – застенчиво пояснил Савушкин.
Проскользнув под аркой гнутой ветлы, дорожка вновь сбежала к ручью. Местами ручей был застелен толстым снеговым одеялом, местами закован в чистый ледяной панцирь, а порой среди льда и снега проглядывала темным, недобрым глазком живая вода.
– А почему он не весь замерз? – спросила Анна Васильевна.
– В нем теплые ключи бьют. Вон видите струйку?
Наклонившись над полыньей, Анна Васильевна разглядела тянущуюся со дна тоненькую нитку; не достигая поверхности воды, она лопалась мелкими пузырьками. Этот тонюсенький стебелек с пузырьками был похож на ландыш.
– Тут этих ключей страсть как много, – с увлечением говорил Савушкин. – Ручей-то и под снегом живой…
Он разметал снег, и показалась дегтярно-черная и все же прозрачная вода.
Анна Васильевна заметила, что, падая в воду, снег не таял, напротив – сразу огустевал и провисал в воде студенистыми зеленоватыми водорослями. Это ей так понравилось, что она стала носком ботика сбивать снег в воду, радуясь, когда из большого комка вылеплялась особенно замысловатая фигура. Она вошла во вкус и не сразу заметила, что Савушкин ушел вперед и дожидается ее, усевшись высоко в развилке сука, нависшего над ручьем. Анна Васильевна нагнала Савушкина. Здесь уже кончалось действие теплых ключей, ручей был покрыт пленочно-тонким льдом. По его мрамористой поверхности метались быстрые, легкие тени.
– Смотри, какой лед тонкий, даже течение видно!
– Что вы, Анна Васильевна! Это я сук раскачал, вот и бегает тень…
Анна Васильевна прикусила язык. Пожалуй, здесь, в лесу, ей лучше помалкивать.
Савушкин снова зашагал впереди учительницы, чуть пригнувшись и внимательно поглядывая вокруг себя.
А лес все вел и вел их своими сложными, путаными ходами. Казалось, конца-краю не будет этим деревьям, сугробам, этой тишине и просквоженному солнцем сумраку.
Нежданно вдалеке забрезжила дымчато-голубая щель. Редняк сменил чащу, стало просторно и свежо. И вот уже не щель, а широкий, залитый солнцем просвет возник впереди. Там что-то сверкало, искрилось, роилось ледяными звездами.
Тропинка обогнула куст боярышника, и лес сразу раздался в стороны: посреди поляны в белых сверкающих одеждах, огромный и величественный, как собор, стоял дуб. Казалось, деревья почтительно расступились, чтобы дать старшему собрату развернуться во всей силе. Его нижние ветви шатром раскинулись над поляной. Снег набился в глубокие морщины коры, и толстый, в три обхвата, ствол казался прошитым серебряными нитями. Листва, усохнув по осени, почти не облетела, дуб до самой вершины был покрыт листьями в снежных чехольчиках.
– Так вот он, зимний дуб!
Он весь блестел мириадами крошечных зеркал, и на какой-то миг Анне Васильевне показалось, что ее тысячекратно повторенное изображение глядит на нее с каждой ветки. И дышалось возле дуба как-то особенно легко, словно и в глубоком своем зимнем сне источал он вешний аромат цветения.
Анна Васильевна робко шагнула к дубу, и могучий, великодушный страж леса тихо качнул ей навстречу ветвью. Нисколько не ведая, что творится в душе учительницы, Савушкин возился у подножия дуба, запросто обращаясь со своим старым знакомцем.
– Анна Васильевна, поглядите!..
Он с усилием отвалил глыбу снега, облепленную понизу землей с остатками гниющих трав. Там, в ямке, лежал шарик, обернутый сопревшими паутинно-тонкими листьями. Сквозь листья торчали острые наконечники игл, и Анна Васильевна догадалась, что это еж.
– Вон как укутался! – Савушкин заботливо прикрыл ежа неприхотливым его одеялом.
Затем он раскопал снег у другого корня. Открылся крошечный гротик с бахромой сосулек на своде. В нем сидела коричневая лягушка, будто сделанная из картона; ее жестко растянутая по костяку кожа казалась отлакированной. Савушкин потрогал лягушку, та не шевельнулась.
– Притворяется, – засмеялся Савушкин, – будто мертвая! А дай солнышку поиграть, заскачет ой-ой как!
Он продолжал водить ее по своему мирку. Подножие дуба приютило еще многих постояльцев: жуков, ящериц, козявок. Одни хоронились под корнями, другие забились в трещины коры; отощавшие, словно пустые внутри, они в непробудном сне перемогали зиму. Сильное, переполненное жизнью дерево скопило вокруг себя столько живого тепла, что бедное зверье не могло бы сыскать себе лучшей квартиры. Анна Васильевна с радостным интересом всматривалась в эту неведомую ей, потайную жизнь леса, когда услышала встревоженный возглас Савушкина:
– Ой, мы уже не застанем маму!
Анна Васильевна вздрогнула и поспешно поднесла к глазам часы-браслет – четверть четвертого. У нее было такое чувство, словно она попала в западню. И, мысленно попросив у дуба прощения за свою маленькую человеческую хитрость, она сказала:
– Что ж, Савушкин, это только значит, что короткий путь еще не самый верный. Придется тебе ходить по шоссе.
Савушкин ничего не ответил, только потупил голову.
«Боже мой! – вслед за тем с болью подумала Анна Васильевна. – Можно ли яснее признать свое бессилие?» Ей вспомнился сегодняшний урок и все другие ее уроки: как бедно, сухо и холодно говорила она о слове, о языке, о том, без чего человек нем перед миром, бессилен в чувстве, о языке, который должен быть так же свеж, красив и богат, как щедра и красива жизнь.
И она-то считала себя умелой учительницей! Быть может, и одного шага не сделано ею на том пути, для которого мало целой человеческой жизни. Да и где он лежит, этот путь? Отыскать его не легко и не просто, как ключик от Кощеева ларца. Но в той не понятой ею радости, с какой выкликали ребята «трактор», «колодец», «скворечник», смутно проглянула для нее первая вешка.
– Ну, Савушкин, спасибо тебе за прогулку! Конечно, ты можешь ходить и этой дорожкой.
– Вам спасибо, Анна Васильевна!
Савушкин покраснел. Ему очень хотелось сказать учительнице, что он никогда больше не будет опаздывать, но побоялся соврать. Он поднял воротник курточки, нахлобучил поглубже ушанку:
– Я провожу вас…
– Не нужно, Савушкин, я одна дойду.
Он с сомнением поглядел на учительницу, затем поднял с земли палку и, обломив кривой ее конец, протянул Анне Васильевне:
– Если сохатый наскочит, огрейте его по спине, он и даст деру. А лучше просто замахнитесь – с него хватит! Не то еще обидится и вовсе из лесу уйдет.
– Хорошо, Савушкин, я не буду его бить.
Отойдя недалеко, Анна Васильевна в последний раз оглянулась на дуб, бело-розовый в закатных лучах, и увидела у его подножия небольшую темную фигурку: Савушкин не ушел, он издали охранял свою учительницу. И всей теплотой сердца Анна Васильевна вдруг поняла, что самым удивительным в этом лесу был не зимний дуб, а маленький человек в разношенных валенках, чиненой, небогатой одежке, сын погибшего за Родину солдата и «душевой нянечки», чудесный и загадочный гражданин будущего.
Она помахала ему рукой и тихо двинулась по извилистой тропинке.
Старая черепаха
Вася втянул воздух, округлив ноздри, и до самой глубины его проняло крепким, душным запахом зверя. Он поднял глаза. Над дверью висела небольшая вывеска, на ней пожухлыми от южного солнца красками было выведено: «Зоомагазин». За пыльным стеклом витрины мальчик с трудом разглядел пыльное чучело длинноногой клювастой птицы.
Как плохо мы знаем улицы, по которым ходим изо дня в день! Сколько раз ходил Вася на пляж этой самой улицей, знал там каждый дом, фонарь, каштан, витрину, каждую выщерблину тротуара и выбоину мостовой, и вдруг обнаружилось, что самого главного на этой улице он не приметил.
Но думать об этом не стоит, скорее туда, в этот чудесный, таинственный полумрак…
Мать с привычной покорностью последовала за сыном. Тесный, темный магазин был необитаем, но, словно покинутая берлога, хранил живой, теплый дух недавних жильцов. На прилавке лежала горка сухого рыбьего корма, под потолком висели пустые птичьи клетки, а посреди помещения стоял подсвеченный тусклой электрической лампочкой аквариум, устланный ракушками; длинные, извилистые водоросли, слегка подрагивая, обвивали осклизлый каменный грот. Все это подводное царство было отдано в безраздельное владение жалкому, похожему на кровеносный сосудик мотылю, который тихонько извивался, приклеившись к ребристой поверхности ракушки.
Вася долго стоял у аквариума, словно надеясь, что мертвое великолепие водяного царства вдруг оживет, затем понуро направился в темную глубь магазина. И тут раздался его ликующий вопль:
– Мама, смотри!
Мать сразу все поняла: такой же самозабвенный вскрик предшествовал появлению в доме аквариума с причудливыми рыбками, клеток с певчими птицами, коллекции бабочек, двухколесного велосипеда, ящика со столярными инструментами…
Она подошла к сыну. В углу магазина, на дне выстланного соломой ящика, шевелились две крошечные черепашки. Они были не больше Васиного кулака, удивительно новенькие и чистенькие. Черепашки бесстрашно карабкались по стенам ящика, оскальзывались, падали на дно и снова, проворно двигая светлыми лапками с твердыми коготками, лезли наверх.
– Мама! – проникновенно сказал Вася, он даже не добавил грубого слова «купи».
– Хватит нам возни с Машкой, – устало отозвалась мать.
– Мама, да ты посмотри, какие у них мордочки!
Вася никогда ни в чем не знал отказа, ему все давалось по щучьему велению. Это хорошо в сказке, по для Васи сказка слишком затянулась. Осенью он пойдет в школу. Каково придется ему, когда он откроет, что заклинание утратило всякую силу и жизнь надо брать трудом и терпением? Мать отрицательно покачала головой:
– Нет, три черепахи в доме – это слишком!
– Хорошо, – сказал Вася с вызывающей покорностью. – Если так, давай отдадим Машку, она все равно очень старая.
– Ты же знаешь, это пустые разговоры.
Мальчик обиженно отвернулся от матери и тихо произнес:
– Тебе просто жалко денег…
«Конечно, он маленький и не повинен ни в дурном, ни в хорошем, – думала мать, – надо только объяснить ему, что он не прав». Но вместо спокойных, мудрых слов поучения она сказала резко:
– Довольно! Сейчас же идем отсюда!
Для Васи это было странное утро. На пляже каждый камень представлялся ему маленькой золотистой черепашкой. Морские медузы и водоросли, касавшиеся его ног, когда он плавал у берега, также были черепашками, которые ластились к нему, Васе, и словно напрашивались на дружбу. В своей рассеянности мальчик даже не ощутил обычной радости купания, равнодушно вышел из воды по первому зову матери и медленно побрел за ней следом. По дороге мать купила его любимый розовый виноград и протянула тяжелую гроздь, но Вася оторвал одну только ягоду и ту позабыл съесть. У него не было никаких желаний и мыслей, кроме одной, неотвязной, как наваждение, и, когда они пришли домой, Вася твердо знал, что ему делать.
Днем старая черепаха всегда хоронилась в укромных местах: под платяным шкафом, под диваном, уползала в темный, захламленный чулан. Но сейчас Васе повезло: он сразу обнаружил Машку под своей кроватью.
– Машка! Машка! – позвал он ее, стоя на четвереньках, но темный круглый булыжник долго не подавал никаких признаков жизни.
Наконец в щели между щитками что-то зашевелилось, затем оттуда высунулся словно бы птичий клюв и вслед за ним вся голая, приплюснутая голова с подернутыми роговой пленкой глазами мертвой птицы. По сторонам булыжника отросли куцые лапы. И вот одна передняя лапа медленно, будто раздумывая, поднялась, слегка вывернулась и со слабым стуком опустилась на пол. За ней, столь же медленно, раздумчиво и неуклюже заработала вторая, и минуты через три Машка выползла из-под кровати.
Вася положил на пол кусочек абрикоса. Машка вытянула далеко вперед морщинистую, жилистую шею, обнажив тонкие, также изморщиненные перепонки, какими она прикреплялась к своему панцирю, по-птичьи клюнула дольку абрикоса и разом сглотнула. От второй дольки, предложенной Васей, Машка отвернулась и поползла прочь. В редкие минуты, когда Машке приходила охота двигаться, ее вытаращенные глаза не замечали препятствий, сонным и упрямым шагом, мерно переваливаясь, шла она все вперед и вперед, стремясь в какую-то, ей одной ведомую даль.
Не было на свете более ненужного существа, чем Машка, но и она на что-то годилась: на ней можно было сидеть и даже стоять. Вася потянулся к Машке и прижал ее рукой; под его ладонью она продолжала скрести пол своими раскоряченными лапами. Ее панцирь, состоящий из неровных квадратиков и ромбов, весь словно расшился от старости, на месте швов пролегли глубокие бороздки, и Вася почему-то раздумал на нее садиться. Он поднял Машку с пола и выглянул в окно. Мать лежала в гамаке, ее легкая голова даже не примяла подушки, книга, которую она читала, выпала из ее опущенной вниз руки. Мать спала. Вася спрятал Машку под рубаху и быстро вышел на улицу.
Над поредевшим, полусонным от жары базаром высоко и печально звучал детский голос:
– Черепаха! Продается черепаха!
Васе казалось, что он стоит так уже много-много часов; прямые, жестокие лучи солнца пекли его бедную неприкрытую голову, пот стекал со лба и туманил зрение, каменно-тяжелая Машка больно оттягивала руки. Во всем теле ощущал он томительную, ломящую слабость, его так и тянуло присесть на пыльную землю.
– Черепаха! Продается черепаха!
Вася произносил эти слова все глуше, он словно и боялся и хотел быть услышанным. Но люди, занятые своим делом, равнодушно проходили мимо него; они не видели ничего необычного в том, что для Васи было едва ли не самым трудным испытанием за всю его маленькую жизнь. Если бы вновь очутиться в родном, покинутом мире, где ему так хорошо жилось под верной маминой защитой!
Но едва только Вася допускал себя до этой мысли, как родной дом сразу утрачивал для него всю прелесть, становился немилым и скучным, ведь тогда пришлось бы навсегда отказаться от веселых золотистых черепашек.
– Ого, черепаха! Вот это-то мне и надо!
Вася так углубился в себя, что вздрогнул от неожиданности и чуть не выронил Машку из рук. Перед ним стоял рослый, плечистый человек, видимо портовый грузчик, и с каким-то детским восхищением глядел на старую черепаху.
– Продаешь, малец?
– Да…
– Сколько просишь?
– Девять… – смущенно сказал Вася, припомнив цену, какую в зоомагазине просили за двух черепашек.
– Девять? А меньше не возьмешь?
– Не могу… – прошептал Вася. Ему было очень стыдно.
– Ну, коли не можешь, плачу! У меня, понимаешь, сынишка завтра домой, на Тамбовщину, уезжает, так охота ему что-нибудь эдакое подарить…
Грузчик порылся в карманах и достал две зеленые и одну желтую бумажку.
– Нет у меня с собой девяти, понимаешь, – сказал он озабоченно, – ровно семь.
Вася был в отчаянии, он не знал, чем помочь этому большому и, видимо, доброму человеку. «Никогда-никогда больше не буду я торговать».
– Постой-ка, малец, – нашелся вдруг грузчик, – я тут близко живу, зайдем ко мне, я тебе вынесу деньги!..
И вот они вместе зашагали с базара. Вася был очень счастлив, все так хорошо вышло, он был горд своим первым жизненным свершением, к тому же ему нравилось шагать сейчас рядом с этим сильным и мужественным человеком, как равному с равным. Справа, в прозоре улицы, открылось полуденное море, и на его сверкающем фоне Вася увидел, как железные руки кранов трудятся над маленьким суденышком, стоявшим у причала. Огромные мягкие тюки один за другим спускались с неба на палубу, и мальчику казалось странным, что суденышко не тонет под всем этим грузом. Он хотел было спросить своего спутника, в какие края отплывает пароход, но не успел.
– Вот и пришли, малец. Обожди тут, я мигом!
Вася стоял перед белым одноэтажным домиком, окруженным густо разросшимися кустами акации. Ему показалось странным, что такой большой человек живет в таком маленьком домике, но он тотчас забыл об этом и стал внимательно вглядываться в окна, расположенные по фасаду. Ему очень хотелось увидеть мальчика, которому достанется Машка.
– Эх, жаль, сынишки нет дома, – сказал, появившись, грузчик, – а то познакомились бы. Он у меня самостоятельный, такой вот, как ты, малец. На, принимай монету! Да ты посчитай: денежки счет любят!
– Нет, зачем же… – пробормотал Вася и протянул покупателю Машку.
Тот взял ее в свои большие ладони и приложил к уху, словно часы.
– А она не пустая внутри-то?
Машка, как назло, не показывалась из своего каменного жилища, и Васе даже стало обидно, что она так равнодушно с ним расстается. А грузчик, примостив черепаху против глаз, заглядывал в щель между щитками.
– Нет, вроде что-то там трудится! Ну, бывай здоров, малец, спасибо тебе.
– Вот что, ее зовут Машкой… – вдруг быстро и взволнованно заговорил Вася. – Она очень фрукты любит и молоко тоже пьет; это только считается, что черепахи не пьют молока, а она пьет, правда, пьет…
– Ишь ты, – усмехнулся грузчик, – простая тварь, а туда же!
Он сунул Машку в широкий карман своей куртки и пошел к дому. А Вася растерянно глядел ему вслед. Он хотел еще очень много рассказать о Машке, о ее повадках, капризах и слабостях, о том, что она хорошая и добрая черепаха и что он, Вася, никогда не знал за ней ничего плохого. В носу у него странно пощипывало, но он нахмурил брови, задержал на миг дыхание, и пощипывание прекратилось. Тогда он крепко зажал в кулаке деньги и со всех ног бросился к зоомагазину.
Когда Вася принес домой двух маленьких черепашек и в радостном возбуждении поведал матери о всех своих приключениях, она почему-то огорчилась, но не знала ни что сказать, ни как поступить в этом случае. А раз так, лучше обождать и подумать, ведь дети – такие сложные и трудные люди…
– Да, да, – только и сказала она задумчиво и печально, – милые зверушки.
Вася не заметил, как прошла вторая половина дня. Малыши были на редкость забавные, смелые и любознательные. Они оползали всю комнату, двигаясь кругами навстречу друг другу, а столкнувшись, не сворачивали в сторону, а лезли друг на дружку, стукаясь панцирем о панцирь. Не в пример старой, угрюмой Машке они не стремились забиться в какой-нибудь потайной угол, а если и хоронились порой, то это выглядело как игра в прятки. И привередами они тоже не были: чем бы ни угощал их Вася – яблоками ли, картошкой, виноградом, молоком, котлетой, огурцом, – они все поглощали с охотой и, тараща бусинки глаз, казалось, просили еще и еще.
На ночь Вася уложил их в ящик с песком и поставил на виду, против изголовья своей кровати. Ложась спать, он сказал матери счастливым, усталым, полусонным голосом:
– Знаешь, мама, я так люблю этих черепашек!
– Выходит, старый-то друг не лучше новых двух, – заметила мать, накрывая сына одеялом.
Бывают слова, как будто простые и безобидные, которые, будучи сказаны ко времени, вновь и вновь возникают в памяти и не дают тебе жить. В конце концов, Машка даже и не друг ему, Васе, а просто старая, дряхлая черепаха, и ему вовсе не хочется думать о ней. И все-таки думается ему не о том, какой вот он молодец, что сумел раздобыть этих двух веселых малышей, с которыми так интересно будет завтра играть, а все о той же никудышной Машке. Думается тревожно, нехорошо…
Почему не сказал он тому человеку, что на ночь Машку надо прятать в темноту? А теперь, наверное, зеленый свет месяца бьет в ее старые глаза. И еще не сказал он, что к зиме ей надо устроить пещерку из ватного одеяла, иначе она проснется от своей зимней спячки, как это случилось в первый год ее жизни у них, и тогда она может умереть, потому что в пору спячки черепахи не принимают пищи. Он даже не объяснил толком, чем следует кормить Машку, ведь она такая разборчивая…
Конечно, он может завтра же пойти и все сказать, но захотят ли новые хозяева столько возиться со старой Машкой? Правда, тот человек, кажется, очень добрый, утешал себя Вася, наверное, и сын у него такой же добрый. Но успокоение не приходило. Тогда он натянул одеяло на голову, чтобы скорее уснуть, но перед ним вновь возникли голые, немигающие птичьи глаза Машки, в которых отражался беспощадный зеленый свет месяца.
Вася сбросил одеяло и сел на кровати. Он уже не испытывал ни жалости к Машке, ни раздражения против матери, отказавшейся держать в доме трех черепах. Все это вытеснялось в нем каким-то непонятным, болезненным чувством недовольства собой, обиды на себя. Это чувство было таким большим и незнакомым, что оно не помещалось в Васе, ему нужно было дать выход, и Вася попытался заплакать. Но ничего не получилось. Это горькое, едкое чувство высушило в нем все слезы.
Впервые Васе перестало казаться, что он самый лучший мальчик в мире, достойный иметь самую лучшую маму, самые лучшие игрушки, самые лучшие удовольствия. «Но что я такое сделал? – спрашивал он себя с тоской. – Продал старую, совершенно ненужную мне черепаху». – «Да, она тебе не нужна, – прозвучал ответ, – но ты ей нужен. Все, что есть хорошего на свете, было для тебя, а ты для кого был?» – «Я кормлю птиц и рыб, я меняю им воду». – «Да, пока тебе с ними весело, а не будет весело, ты сделаешь с ними то же, что и с Машкой». – «А почему же нельзя так делать?»
Вася не мог найти ответа, но ответ был в его растревоженном сердце, впервые познавшем простую, но неведомую прежде истину: не только мир существует для тебя, но и ты для мира. И с этим новым чувством возникло в нем то новое неотвратимое веление, название которого – долг – Вася узнает гораздо позднее. И это веление заставило Васю вскочить с кровати и быстро натянуть одежду.
Свет месяца лежал на полу двумя квадратами, перечеркнутыми каждый черным крестом. В тишине отчетливо тикали мамины крошечные ручные часики. Разбудить маму? Нет, сказало Васе его новое, мягкое, горячее сердце, мама устала, и ей так трудно бывает уснуть. Ты сам должен все сделать…
Вася нащупал ящик и достал черепашек, два гладких, тяжелых кругляша, как будто налитых ртутью. Но этого может оказаться мало, а он должен действовать наверняка. Сунув черепашек под рубашку, Вася отправил туда же коробку с новыми оловянными солдатиками, затем подумал, снял с гвоздя ружье и повесил его через плечо.
Выйдя из комнаты, мальчик тихонько притворил за собой дверь. Он и раньше подозревал, что ночью в мире творятся странные дела, и сейчас с каким-то замирающим торжеством сказал себе: «Так я и знал», увидев, что яблоневый садик подкрался почти к самому крыльцу, а флигелек, в котором жили хозяева, отвалился в черную, затененную глубь двора.
По двору носились щенки старой Найды, и каждый щенок катил перед собой черный клубок своей тени. Ласковые и приветливые днем, они не обратили ни малейшего внимания на Васю, занятые своим ночным делом. Только сама Найда, втянув ноздрями Васин запах, глухо заворчала и звякнула цепью. Чувство незнакомой враждебности мира тоскливо щемило сердце мальчика.
Трудным шагом приблизился Вася к деревьям, побеленным луной. Не было ни малейшего ветерка, но все листочки на деревьях шевелились, шорох и слабый скрип стояли над садом, будто деревья сговаривались о чем-то своем, ночном. И Васе вспомнилась его придумка, будто деревья по ночам ходят купаться в море. Он придумал это вполусерьез, удивленный тем, что за все их пребывание в здешнем крае ни разу не выпал дождь, а ведь деревья не могут жить без влаги. Но сейчас эта придумка неприятно охолодила ему спину.
Что-то пронеслось мимо его лица, задев щеку легким трепетанием крыльев. Летучая мышь? Нет, летучая мышь распарывает тьму с такой быстротой, что ее скорее угадываешь, чем видишь. А сейчас он успел заметить за частым биением крыльев толстенькое веретенообразное туловище.
«Мертвая голова!» – догадался Вася и тотчас же увидел ее: большая бабочка, сложив треугольником крылья, уселась на ствол яблоньки, освещенный, как днем. На ее широкой спинке отчетливо рисовался череп с черными пятнами глазниц и щелью рта. Неутомимый ночной летун был в его руках, отныне его коллекция пополнится новым, крупным экземпляром. Вася уже почувствовал, как забьется, щекоча ладонь, накрытая рукой гигантская бабочка. Но полный какого-то нового, бережного отношения ко всему живому, Вася подавил в себе чувство охотника и лишь погладил мизинцем вощеную спинку бражника. Словно доверяя ему, бражник не сорвался в полет, а сонно пошевелил усиками и переполз чуть выше. На своем коротком пути он задел спящего на том же стволе жука. Жук приподнял спинные роговицы, почесал одну о другую задние ножки и, не вступая в спор, – места на всех хватит, – чуть подвинулся, да только неумело: отдавил ножку своей соседке, какой-то длинной сухой козявке. И вот десятки мелких существ заворошились на стволе яблоньки и снова улеглись спать.
Вася с улыбкой наблюдал их сонную кутерьму, он даже не подозревал, что их так много здесь, на этом тонком стволике. Хоронятся, таятся днем, сколько силенок тратят, чтобы уберечься от него, Васи, а сейчас – нате-ка! – разлеглись во всей своей беззащитности. И он мысленно пожелал им спокойной ночи, как старший собрат по жизни.
Вася вышел на улицу спокойным и уверенным шагом сильного и доброго человека, но он еще далеко не стал хозяином ночи. Луна высоко стояла на небе. Залитая ее светом, холодно и странно светилась бледная ширь улицы. А на дальнем ее конце вздымалась глухая черная стена, рассеченная серебряной щелью. «Море!» – вспыхнула догадка. Днем плоское, как вода в блюдце, море стало сейчас на дыбы, грозно нависло над городом. Вася оглянулся на калитку.
«Не смей!» – сказал он себе и заставил себя думать о том, куда и зачем он идет, и думал до тех пор, пока тело его стало послушно не страху, а этой большой и важной мысли…
Возможно, что мать сквозь сон уловила какой-нибудь непривычный шум или почувствовала тревожную пустоту комнаты, в которой больше не было ее сына. Она встала, натянула платье, нащупала босой ногой туфли и подошла к Васиной постели. Одеяло лежало комком, простыня хранила маленькую вдавлину, след его тела. Мать заглянула в черепаший ящик – черепашек не было, и она сразу все поняла. Набросив на плечи плащ, она вышла из дому и быстро зашагала туда, где, по рассказу Васи, находился белый домик с палисадником. Вскоре она увидела впереди фигурку сына.
Вася шел по середине улицы, обсаженной густыми темными каштанами. Он казался таким крошечным на пустынной мостовой, под высокими деревьями, что у нее сжалось сердце, и, чтобы побороть это ненужное сейчас чувство, она стала смотреть на его длинную, будто бы взрослую тень, тень солдата с ружьем за спиной. Она шла и думала о том, что очень трудно вырастить человека, для этого надо глубоко и трудно жить, и какое счастье, если у ее мальчика будет сильное и верное сердце. Мать не окликнула Васю: она решила охранять его издали, чтобы не помешать первому доброму подвигу своего сына…
Мальчики
Подмосковный июльский сад. Раскаленное добела солнце валом валит свой жар на свежепокрашенную крышу дачи с затейливыми башенками по углам, на густую, темную зелень кустов и деревьев, на посмуглевшую от сухотья траву. Завороженные зноем, недвижимы старые клены и молодые дубки, лишь бузина порой вздрагивает всеми своими черными листочками, словно пытаясь стряхнуть сонную одурь. Верно, в плетении ее ветвей хлопочет над своим гнездом какая-то пичужка.
Над клумбой басовито гудит шмель, кузнечик вытачивает тонкий, сухой стрекот; словно уключина медленной плоскодонки, поскрипывает в железных петлях гамак на соседнем участке, и эти мерные, однообразные звуки лишь подчеркивают дремотную тишину дачного послеполудня.
Два мальчика, сидя на огромном поверженном пне, играют в самолет. От души играет только Саша. Он азартно, во весь мах делает быстрые вращательные движения левой рукой – винтом, а правой то и дело хватается за корни пня, изображающие – смотря по надобности – штурвал, приборы, трубки кислородного аппарата. Ведь самолет приближается к Северному полюсу, и у пилота немало забот. А Митя сидит верхом на толстом стволе и ничего не делает. Ему хотелось бы не спеша пережить все перипетии дальнего и дерзкого перелета, но Саша не дает ему времени, и следующие одно за другим события вызывают у Мити какое-то мучительное чувство. К тому еще знойная истома дня действует на него усыпляюще…
– Самолет обледенел! – слышится сурово-взволнованный Сашин голос.
Митя вздрагивает, дремота сразу оставляет его.
– Давай я сколю лед, – говорит он со вздохом.
– Что ты! – восклицает Саша. – Это же технически невозможно! Придется тебе прыгать.
– Куда еще прыгать?
– С парашютом на льдину. Вон, видишь там огромное ледяное поле?
– Ну вижу, – неохотно соглашается Митя. – Выходит, ты один откроешь Северный полюс?
– Сперва один, а потом приду за твоим телом на лыжах. В тебе будут слабые признаки жизни, я взвалю тебя на плечи, и мы еще раз вместе откроем полюс…
С Сашей невозможно спорить: он всегда знает, чего хочет, а Митя теряется в многообразии возможностей и желаний.
И вот Митя покорно слезает с пня.
– Мог бы и упасть… – недовольно говорит Саша и вдруг умолкает.
Внезапно, без видимой причины, мальчики ощутили острое чувство тревоги, разлившейся над безмятежным дачным миром. Почти ничего не изменилось вокруг них, лишь быстрее заскрипел, взвизгнул и стих гамак, какие-то световые пятна сместились на соседних дачах да глухо прихлынул и откатился гул человеческих голосов. И раньше чем мальчиков окликнули с дачи, они знали: случилась беда.
– Ребята! – послышался с террасы голос Митиной бабушки. – Сейчас же домой!
Из стада убежал бешеный бык – это все, что можно было понять в первые минуты из взволнованных пересудов взрослых. Но постепенно мальчики узнали все подробности несчастья.
В стаде ходил большой серый бык. Это был очень сильный, но смирный бык, пока ему не продели железное кольцо в нос. Такое кольцо положено носить каждому быку, но этот почему-то задурил. Когда стадо пригнали на приречную луговину, он стал задирать коров, потом погнался за годовалым бычком. Старший пастух пытался поймать его за веревку, привязанную к кольцу, тогда бык обратился против пастуха. Он сшиб его с ног и стал катать. Пастух притворился мертвым, а мальчик-подпасок, чтобы отвлечь быка, ожег его по ногам бичом. Бык бросился на подпаска, поднял его на рога и швырнул на землю…
Все это видели купавшиеся неподалеку дачники. Наскоро одевшись, они кинулись в поселок. Бык некоторое время постоял, словно в раздумье, затем протяжно заревел и трусцой побежал за ними следом. Теперь он уже в поселке, если только его не поймали.
– Ой, как жалко подпаска! – сказал Саша и так сжал кулаки, что побелели косточки суставов. – Помнишь ты его, Митя?
Еще бы Мите его не помнить! Подпасок заходил однажды к ним на дачу попить воды. Это был дочерна загорелый, крепкий паренек лет четырнадцати. Через плечо у него висел настоящий пастушеский бич, витой из толстых веревок, все утончавшийся и к концу переходивший в крученую волосяную нить. Он дал Мите подержать гладкое, отполированное ладонями кнутовище. Но когда Митя захотел щелкнуть, бич свернулся кольцом и упал у самых его ног. Подпасок снисходительно усмехнулся, взял бич и коротким, резким рывком извлек из него острый, звонкий щелк.
– А ну, попробуй-ка ты, – протянул он бич Саше, – у тебя должно получиться.
Трудно сказать, почему подпасок решил, что у Саши получится, но у Саши действительно получилось: бич затейливой, извилистой змейкой взлетел кверху, короткий рывок вниз и громкий, как выстрел, щелк. Что делать – Саше все удается, вещи с такой охотой открывают ему свои тайны, недоступные Мите!
Уходя, подпасок пожал Сашину руку, а Мите только подмигнул блестящим и круглым, как копейка, глазом. Он шел с небрежным перевальцем, длинный его бич волочился по траве…
Конечно, Мите было сейчас очень жаль подпаска, но это чувство не было таким цельным и определенным, как бы хотелось и какое, верно, испытывал Саша. Мешало какое-то едкое любопытство ко всему событию в целом. Мирное зеленое пастбище, солнце, тишина – ничто не предвещает близкой беды. И вдруг громадный зверь с ревом мчится по полю, разбрасывая во все стороны белые хлопья пены. Вот он опрокидывает навзничь и перекатывает по земле человека – старшего пастуха, – обдавая его своим жарким, горячечным дыханием…
Случись это с ним, Митей, хватило бы у него духу под рогами и копытами свирепого зверя притвориться мертвым?
Тут Митя останавливает бег своего воображения: для полноты картины ему необходимо более отчетливо представить себе облик этого большого серого быка. Он никогда ранее его не встречал. Стадо водили другой улицей; в вечернюю пору до их дачи часто доносилось протяжное мычание, глухой топот, тяжелое дыхание возвращающихся с пастбища коров. Видеть стадо Мите довелось лишь однажды, сквозь сетку начинающегося ливня. Вместе с бабушкой бежал он из лесу, опережая идущую со всех сторон грозу. Там, где находилось стадо, гроза уже началась, дождь мутной стенкой наступал от поймы на дачный поселок. Коровы терпеливо сносили ливень: одни лежали, другие стояли, понурив большие головы, и было в них что-то сиротливое. Если бы он высмотрел тогда среди них серого быка! Но разве можно было представить себе, что в этом кротком стаде родится злодеяние и одно из смутно темнеющих сквозь завесу ливня покорных животных станет источником такой беды.
– Слушай, Митя, какую я штуку придумал!
Звонкий Сашин голос пробудил Митю от его размышлений, словно от глубокого сна. Он был уверен, что никого рядом нет и он совсем-совсем один.
– Да слушай же ты, что я придумал: давай играть в бешеного быка!
Глаза Саши под длинными, загнутыми, как у девочки, ресницами блестели, он весь дышал свежей и бодрой силой. Ну конечно же, Саша прав! И как только сам он, Митя, не догадался: надо устроить охоту на бешеного быка, отомстить за подпаска!..
– Беги за ружьем, ты будешь охотником и убьешь быка! – распорядился Саша.
Пораженный таким невиданным великодушием, Митя преданно взглянул на друга и со всех ног кинулся за ружьем.
Когда он вернулся, Саша уже принял образ быка: на спину набросил источенную молью медвежью шкуру, к голове, над ушами, привязал два фруктовых ножа. Увидев Митю, Саша страшно заревел и тут же забодал диван, комод и затем качалку, опрокинув ее вверх полозьями. Он носился по комнате, как черный вихрь, и Митя невольно поддался очарованию этой стремительной, слепой, нерассуждающей силы. Наконец, опомнившись, он раз, другой и третий разрядил в бешеного быка свое деревянное ружьецо.
– Ты ранен! – кричал Митя. – Я застрелил тебя! Ты убит наповал!
Но бык не принимал эту условную смерть. Все больше свирепея, он обратился наконец против самого охотника. Отступая под его напором, Митя оказался вскоре зажатым в угол между стеной и комодом. Он видел перед собой два блестящих смертоносных рога, склоненную, изготовившуюся к удару голову быка, налитые кровью глаза, белые хлопья пены разлетались с тупой каменной морды…
«Так вот почему Саша сделал меня охотником!» – сказал себе Митя, «умирая», и тут вспомнил, что в пылу борьбы забыл притвориться мертвым.
– Всё, – заявил Саша, отнимая у Мити ружье. – А теперь пойдем узнавать про быка…
Оказалось, что подпасок жив и отделался лишь пустяковой трещиной в ребре. Но то была единственная отрадная новость. Совершив свои первые преступления, бык направился к полустанку. Разогнав своим появлением народ, бык подошел к будочке фотографа и стал тереться о нее боком. Легкая будочка опрокинулась вместе с упрятавшимся в нее фотографом. Бык глянул удивленно, затем подошел к холсту, на котором были намалеваны замок, пальмы и дирижабль в небе, и легонько ткнул его рогами, распоров полотно.
Неизвестно, что бы еще он натворил, но тут из летнего сада подоспел милиционер и открыл стрельбу из револьвера. Возможно, милиционер хотел только пугнуть быка, но тот снова пришел в неистовство. Разметав стоявшие близ полустанка лотки, он ринулся прямо на стрелка, едва успевшего укрыться в здании полустанка…
– Теперь-то быку недолго осталось гулять, – заключил кто-то из взрослых. – Из колхоза прибыли люди, они его враз окоротят.
– А что, они убьют его? – с зажегшимися глазами спросил Саша. – Облаву устроят?
– Как же, по всем воинским правилам…
Послышалось тарахтение мотоцикла, и к даче подкатил парень с охотничьим ружьем за спиной. Подбежав к крыльцу, где столпилось все взрослое население дачи, он велел покрепче запереть ворота и калитку и никому не выходить на улицу. На взволнованные расспросы парень ответил, что быка «будут брать» как раз на этой улице. Засада расположилась в сотне шагов отсюда, там, где улица, сужаясь, переходит в лесную просеку.
– Бык скоро пройдет мимо вас! – Парень сделал под козырек и побежал к мотоциклу.
Легко перекинув ногу через седло, он что-то крутнул, что-то нажал и умчался на своем оглушительно тарахтящем бензиновом коньке. И тотчас по всей даче оглушительно захлопали щеколды, задвижки, ставни, болты, крючки…
– Митя, – каким-то самозабвенным, глубоким голосом произнес Саша, – давай сами убьем быка!
– Из рогатки? – насмешливо отозвался Митя. Ему надоел условный мир, в который с таким упорством тянул его Саша.
– Из хозяйского дробовика, он заряжен…
– Нам же влетит, Саша!
– Пускай влетит!
Саша схватил Митю за руку и увлек за собой. Они оказались у небольшого чуланчика близ кухни, где хозяин дачи хранил свой охотничий инвентарь. Саша толкнул дверку, пошарил в темноте и вытащил старое охотничье ружье. У Мити гулко забилось сердце. Это была уже не игра: грозное, таящее смерть оружие. У него даже не шевельнулось сомнение, можно ли зарядом дроби уложить огромного, могучего зверя.
По шаткой, скрипучей лестнице мальчики поднялись на чердак. Изъеденные жуками-дровосеками наподобие сот, толстые столбы поддерживали двускатный навес, по углам висели серые лохматые тряпки паутины. Чердак глядел на улицу полукруглым окошком с ветхой рамой, заколоченной ржавыми гвоздями. Саша повыбрал из нижнего окошка кусочки треснувшего стекла, просунул ствол наружу и, став на одно колено, примерился к выстрелу.
Митя поймал себя на том, что задерживает дыхание, словно боясь спугнуть напряженную, затаившуюся тишину дачи. Он шумно вдохнул и выдохнул воздух. А улица по-прежнему была пустынна. Уж не избрал ли бык другую дорогу? И тут Митя еле сдержал крик: он увидел быка у самой дачи. Почему-то ему казалось, что бык пойдет серединой улицы, а тот шел по пешеходной дорожке, и хвост его колотил по планкам забора.
Бык был на редкость крупен и статен. Огромная буграстая грудь, провисшая между короткими и крепкими передними ногами, железный загривок, легкий, сухой, весь перетянутый сухожилиями круп, мощные задние ноги. Особенно великолепна была голова: большая, лобастая, умная.
– Стреляй же, стреляй! – горячо зашептал Митя.
Ствол ружья ерзал по подоконнику, словно Саша никак не мог взять быка на мушку.
– Стреляй же! Ну почему же ты не стреляешь?
Он испытывал азартное чувство робкой души, на миг приобщенной к чужому смелому делу.
Саша поднялся с колен. Лицо его было бледно, жалкая, коротенькая улыбочка дергала уголок губ:
– На, стреляй сам.
Митя схватил ружье и стал на Сашино место. По стволу до прорези мушки тянулась тонкая нить солнечного блика, и когда Митя водил стволом, нить упиралась то в твердое, с курчавым волосом междурожье, то в жирный бугор загривка. Став хозяином жизни и смерти быка, мальчик уже не ощущал прежнего нетерпеливого желания покончить с ним. Все оказалось не так-то просто…
Бык, видимо, много перенес за этот день, он вовсе не походил на героя. Ребра его торчали, как ободья на деревянной бочке, от хребта растекался по бокам черный пот, один рог был расщеплен и трухлявился на месте расщепа. Посреди лба у него была красная ссадина, кровь стекала по морде и ноздре, где продето было кольцо, длинная веревка путалась под ногами.
Он то и дело останавливался, нагибал шею, приводя в действие весь сложный аппарат своих мускулов, оглядывался по сторонам и назад. Похоже было, что он не прочь повернуть вспять, и только память о преследователях мешала ему исполнить свое намерение. И тогда он снова, как обреченный, опускал голову и медленно брел вперед…
– А вдруг он вовсе не бешеный? – Это неожиданно для себя сказал Митя и оглянулся на Сашу.
– Я сам об этом подумал, потому и не мог… Понимаешь, он просто ошалел от боли, когда ему продели кольцо! – Резко очерченный рот Саши толчками выбрасывал жар дыхания. – А потом… потом он боролся, он не хотел, чтобы его убивали…
Саша был бледен, и особенно большими казались его влажные черные глаза под страдальчески сломленными бровями.
– Если его убьют, – добавил он тихо, словно про себя, – как же тогда жить дальше…
Гримаса душевной боли сделала красивое лицо Саши по-взрослому выразительным. Митя с завистью глядел на своего друга. Он бы дорого дал, чтобы стать таким же прекрасно-печальным, как Саша! Он знал, что на его собственной плоской роже с приплюснутым носом и растянутой по скулам кожей никак не отражается то, что он чувствует; недаром окружающие всегда ошибаются, весело ему или грустно…
Подавленный, Митя отвернулся от Саши и стал смотреть на улицу.
Бык медленно и понуро, словно тяжелобольной, двигался вдоль забора. Вот он потянулся к траве, растущей у дороги, но тут же вскинул голову, скользнул глазом по тихой, пустынной окрестности, издал короткое одинокое и потерянное мычание и тут же смолк.
Мите представилось, что быку очень хочется заключить мир с людьми, но он не знает, как это сделать. Верно, он согласен и на кольцо, только бы вернуться к своим коровам, слушать тихую жвачку, и самому жевать, и отрыгивать, и снова жевать, размачивая в слюне суховатую, но вкусную июльскую траву. Или, зайдя по брюхо в реку, тянуть холодную воду, тянуть не спеша и небрежно, пусть капли стекают с морды – такого корыта все равно не осушишь, – и чувствовать, как омывают прохладные струи разгоряченные, тяжело опадающие при выдохе бока…
Митя провел рукой по глазам, прогнал короткую слепоту: бык стоял у самых ворот их дачи и, задирая голову, пытался заглянуть во двор. Его черные ноздри раздувались, он жадно втягивал воздух.
– Мы спасем его, Митя! – звонко сказал Саша, и в голосе его была прежняя, покоряющая уверенность. – Мы откроем ему ворота и впустим во двор, а там – пусть только попробуют его тронуть!
Саша еще что-то говорил, торопливо, взахлеб, но Митя уже не слышал его. С ним творилось что-то странное, необычное. Его шаткие, вечно вразброд, вечно в смуте чувства разом слились в нечто большое, сильное, цельное. Этот новый и цельный Митя не знал сейчас ни страха, ни колебаний, он ни в чем не уступал Саше.
Дача была заперта, им оставался один путь – через чердачное окно. Менее чем за минуту мальчики высадили старую раму, которая едва держалась на поржавевших гвоздях. Рядом с окошком приходилась водосточная труба. С узкого карниза Саша легко перебрался на трубу и, обвив ее ногами, заскользил вниз. Вслед за ним, обдирая грудь, ноги и ладони о сухую жесть, помчался Митя. Он упал на землю, подвернул ногу и, прихрамывая, побежал к воротам.
Видно, редко открывались эти дачные ворота. Земля под ними поросла густой травой, разбухшее от сырости бревно-засов плотно втеснилось в железную скобу, и мальчикам никак не удавалось вытолкнуть его. Наконец засов поддался, и, протащив по густой траве створку ворот, они открыли довольно широкую щель.
– Вася! Вася! – ласково позвал Саша.
Почему Саша решил, что быка зовут Васей, неизвестно, но в щели возникла огромная лобастая голова с расщепленным рогом, и бык, наддав лопаткой створку ворот, вошел во двор. Митя попятился. Голубой печальный глаз на мгновение поймал его фигурку в темный кружок зрачка и выбросил, словно сморгнув. Бык валкой трусцой устремился в угол двора. Там, под кустом бузины, стояла бочка с темной, пахучей, зацветшей водой. Верно, бык потому и остановился у их ворот, что учуял воду. Он погрузил морду в бочку и стал жадно пить. Огромные глотки шарами прокатывались по его горлу и звучно ухали в пустоту желудка. Мелкие листочки гнилой зелени облепили ему морду, а он все пил и пил.
– Видишь, – сказал Саша, – разве бешеный бык стал бы пить воду?..
Но Мите не хотелось говорить. Ликующее чувство победы наполняло сердце сильного Мити, отважного Мити, доброго Мити. Он был так занят собой, что даже не заметил, как во дворе появился рослый пожилой рыжебородый человек. Подойдя к быку, человек по-хозяйски положил ему на взгорбок большую ладонь и сказал:
– Что, вволю натешился?
Он потрепал быка по шее, и тот, не переставая пить, отозвался на ласку легким вздрогом кожи. Тогда человек сунул руку в бочку и, все так же поглаживая быка, вынул у него из носа злополучное кольцо. В воротах стояли еще несколько незнакомых людей; несомненно, это была облава.
– А его не застрелят? – с тревогой спросил Саша рыжебородого. – А то…
– Это кто же позволит колхозного быка стрелять? – отозвался тот, опутывая веревкой рога быка.
– Стрелял же милиционер!
– Так то для порядка! – усмехнулся рыжебородый.
Он кончил наматывать веревку и легонько потянул за собой быка. Тот поднял морду, окропив лопухи и травы темными каплями воды, и тяжело, но с приметной охотцей повернулся.
– Спасибо за помощь, ребятки, – сказал рыжебородый. – Сомневались мы, как его взять, – уж больно напуганный. Бывайте здоровеньки! – И, ведя за собой быка, он пошел со двора.
Мальчики остались одни. Саша посмотрел на помрачневшего Митю и громко расхохотался. Митя не понимал, отчего так весело его приятелю. Он чувствовал себя глубоко несчастным, обобранным: у него украли его лучший, его единственный подвиг.
– А все-таки мы не зря старались, правда, Митя? – сказал Саша, перестав смеяться.
Это была подачка, подачка тому маленькому в Мите, что заставляло его сейчас чувствовать себя бедняком. А Саша не нуждался в утешении. Его щедрая душа не могла смутиться тем, что подвиг не удался. Он-то знал, что на его век подвигов хватит.
Атаман
Еще вчера в саду были тюльпаны: нежные красные чашки с притемненным донцем – целая плантация, а сегодня на истоптанных грядках торчали лишь обломанные стебли, алели оборванные или осыпавшиеся лепестки.
– Я понимаю воров, – медленным голосом говорила полная флегматичная хозяйка в пенсне на горбинке красивого хищного носа, удивительно чуждого ее младенчески розовому лицу. – Странно лишь, почему они не сделали этого раньше – тюльпаны уже осыпаются. Но зачем губить их на корню? Это не люди, а какие-то дикие звери! – И она протерла свое пенсне.
Хозяйка ошибалась: тюльпаны были похищены все-таки людьми. Тем же утром, близ полудня, их привел на дачу районный милиционер в белой, влажной под мышками и на груди рубашке и тяжелых запыленных сапогах. Похитители щеголяли в ситцевых брюках и майках-безрукавках, некогда голубых, а ныне без цвета. У одного была черная, блестящая, словно нагуталиненная голова, другой являл совершенного альбиноса: сед, белокож, будто выварен в щелочи, с красными кроличьими глазками. И тому и другому было лет по восемь. Оба сжимали в кулаке букетик пожухших тюльпанов – видно, милиционер, к вящему их позору, не позволил выбросить цветы.
Милиционер снял фуражку и вытер девичьим носовым платком с каемкой потный незагорелый лоб.
– Извиняюсь, конечно! – сказал он набежавшей вмиг дачной ораве. – Кто тут будут хозяева?
Большая, розовая, в платье с рюшками, обмахиваясь томиком Марселя Прево в желтой обложке «Универсальной библиотеки», вперед выплыла хозяйка.
– Вот эти товарищи… – Милиционер кашлянул и смущенно поправился: – Извиняюсь, огольцы оборвали ваш цветник.
– Очень приятно… – рассеянно отозвалась хозяйка и улыбнулась милиционеру из бесконечной дали элегантного мира Прево.
– Интересно, что вы чувствуете на людях, которым причинили такой большой ущерб? – горько спросил милиционер похитителей.
– Ничего, – смиренно отозвался альбинос.
– А вам краснеть надо, стыдиться надо! – рассердился милиционер. – Люди работали, старались, сажали цветы, ухаживали за ними, а вы чужой труд себе присвоили, нетто это порядок?
– Нет… – прошептал альбинос.
И черноголовый решительно подтвердил:
– Нет!
– Ну вот, хорошо, хоть сами поняли, – с облегчением сказал милиционер. – А как было бы вам лучше сделать?
– Самим посадить. – Это сказал альбинос.
– То-то факт, самим!.. Для чего же вы крали цветы? Для продажи?
– Чтоб на окно поставить! – в голос сказали оба.
Милиционер даже растерялся:
– Это кто же надоумил вас так говорить? Ленька, что ли?
– Ага! – наивно подтвердил альбинос.
– Видали? – обратился ко всем дачникам милиционер. – Я их на шоссе взял. Носились за извозчиками и совали седокам букеты, а сейчас нахально врут, что воровали ради домашней красоты. Это все Ленька, настоящий рецидивист!
– А где тот чертов Ленька? – спросил кто-то из дачников.
– Лесом ушел. Его нешто поймаешь! За версту опасность чует. Настоящий рецидивист! – повторил он убежденно, даже с удовольствием, и раскрыл планшет. – Придется акт составить.
Похитители переглянулись, враз сморщили носы и тонко всхлипнули.
– Ну-ну! – сказал милиционер. – Без дураков. Это вас тоже Ленька научил?
Альбинос прервал скулеж.
– Ага! – Он отнюдь не был наивен, как поначалу казалось, просто ему хотелось свалить все на Леньку. – Дяденька, а я и в саду-то не был.
– Как не был?
– Побоялся. Я на дороге ждал.
– Видали! Настоящее ограбление по всем правилам: двое дело делают, третий на стреме. Это, конечно, Ленькина наука!.. Тебя как звать?
– Серенька.
– Сергей, значит, а фамилия?
– Костров.
– Отец где работает?
– Отца у нас нету: от живота помер.
– Вон что! А кто у тебя в семье есть?
– Мамка… – Он подумал и добавил как о чем-то не стоящем упоминания: – Сеструха еще.
– Старшая?
– Какой там – ползунок!
– А тебя как звать? – обратился милиционер к черноголовому.
– Петька… Петр Васильевич Кузин, – ответил тот, заглядывая в планшет милиционеру. – Отца нету, мать на станции работает.
– Постой, Петр Васильевич, не спеши. Отец-то где?
– Ушел, когда я еще маленький был.
– Понятно. Вишь, сам же себя большим считаешь, а ведешь кое-как. Братья, сестры есть?
– Брат Колька.
– Младший?
– Старший.
– Что же он тебя уму-разуму не научит?
– А когда?.. Он в депо учеником, домой редко приходит.
– Про Ленькину семью вы знаете?
– Чего знать-то?.. Он да мать.
– Отец где?
Они заговорили враз, перебивая друг друга:
– У него отец в Гражданскую погиб… На Гражданской войне убили… под этой… как ее?.. – И оба замолчали, не в силах вспомнить, где убили Ленькиного отца.
Не знаю, правда ли это или так подучил дружков говорить многоопытный Ленька, но милиционер поверил им, а может, сделал вид, что верит. Он учинил весь этот как будто строгий, придирчивый допрос, чтобы выгородить ребят, склонить потерпевших к милосердию.
– Безотцовщина! – вздохнул милиционер. – Экая беда, право! Придется матерей штрафовать.
Альбинос снова заныл, а чернявый уронил свою нагуталиненную голову.
– Зачем это? – сказала хозяйка, вновь нехотя вплывая в действительность. – Конечно, нехорошо так варварски уничтожать цветы. Лучше придите, попросите, мы никогда не откажем. Но штрафовать – это, право, лишнее!
Ребята поняли, что помилованы.
– Мы больше не будем! – вскричали они так бодро, что всем стало ясно: будут, за милую душу!..
– Не хочется их отпускать, – стал ломаться милиционер. – Хотя они что – мелюзга. Ленька – главная язва… – И кровожадно наказал помилованным: – Вы предупредите товарища: попадется – пощады не будет!..
Мог ли я думать, что через несколько дней сам приму участие в набеге на соседский сад под водительством неукротимого Леньки?..
Познакомился я с Ленькой случайно – на Уче. Я плыл на хозяйской плоскодонке, неловко орудуя единственным да к тому же обломанным кормовым веслом, когда из воды раздался голос:
– А ну, давай к Акуловской!..
Я успел испугаться, прежде чем обнаружил маленькую, в цыпках, руку, уцепившуюся за корму. Страх сразу прошел, и я разозлился:
– Отчаливай!.. Мне в другую…
– Я что сказал?! К Акуловской, зараза!.. Хуже будет! – в бешенстве закричал невидимый пловец.
Корма чуть опустилась, и над ее краем показалось искаженное яростью, бледное, крапчатое, облепленное мокрыми, со ржавчинкой волосами лицо моего сверстника. Что-то бессознательно тронулось во мне навстречу злобному мальчишке. И еще до того, как я догадался, что это Ленька, мне захотелось подчиняться ему и помогать.
– Ладно, залезай в лодку, – сказал я.
– Греби, сволочь! – И он плеснул в меня водой.
Теперь у меня не оставалось сомнений, что это Ленька. Он, видно, снова скрывается от преследователей и потому не хочет вылезать из воды. Я заработал веслом и быстро отбуксировал его в прибрежный орешник под Акуловой горой. Здесь его уже поджидали знакомые мне Серенька и Петр Васильевич. Они меня тоже узнали и что-то шепнули выбравшемуся на берег атаману. Он глянул через плечо и усмехнулся странно – без улыбки, но ничего не сказал. Приятели вручили ему одежду: латаные-перелатаные штаны, которые называют «ни к селу ни к городу», – на вершок ниже колен, сетку с взрослого мужчины и ботинки. Эти ботинки были до того изношены, что кожа их стала тоньше, мягче и податливее лепестков тюльпанов. Но Ленька с редким достоинством надел «ни к селу ни к городу», заправил в них необъятный подол сетки, обулся и подтянул веревочки, заменявшие шнурки. Он удивительно ловко поместился в своей убогой одежде и выглядел чуть ли не франтом. Это происходило оттого, что он замечательно двигался: мягко, упруго, изящно, и одежда послушно следовала каждому его движению. Его привыкшее ускользать от опасности, хорониться, спасаться тело обладало бесшумной, звериной грацией.
Я покачивался в своей плоскодонке, ребята меня не гнали, и, осмелев, я выбрался на берег и лег рядом с ними на узком песчаном окоеме под орешником. Немного позже я освоился настолько, что рискнул спросить у Леньки насчет его отца: правда ли, он погиб в Гражданскую войну?
– А тебе какое дело? – ответил Ленька высокомерно, и его тонкие синеватые губы повела гримаса отвращения.
– Просто интересно…
– Заткнись!
– Я же по-хорошему спрашиваю…
– Ладно, заткнись! – И он лениво отвернулся.
Поддавшись на кажущееся миролюбие слов и жеста, я рискнул повторить свой вопрос.
Ответ был подобен вспышке молнии: я оглянуться не успел, как Ленька сидел на моей спине и с силой тыкал меня лицом в песок. Крупные песчинки неприятно впивались в кожу, лезли мне в глаза, рот, но боли я не испытывал, лишь удивление, обиду, горечь. Я не пытался освободиться, хотя мог без труда сделать это, сразу почувствовав, что Ленька, ловкий и стремительный, все же слабее меня. Но он был прирожденным вожаком, атаманом, от которого сладко вытерпеть даже несправедливость. Он знал, чего хотел, не колеблясь, брал на себя ответственность, плевал на чужое мнение, не боялся риска, принимал жестокие законы охоты. Я же принадлежал к той подавляющей части человечества, что никогда не знает, чего хочет, ни в коем случае не берет на себя ответственность, вечно испытывает потребность в самооправдании, страшится риска, избегает охотничьих троп, – и я знал свое место.
– Заработал? – злорадно сказал Ленька, слезая с моей спины.
– Ага, плати деньги… – пробормотал я.
Он снова без улыбки, сухо, коротко усмехнулся.
– «Мы буржуев не боимся, пойдем на штыки!» – пропел Серенька-альбиносик, до глубины своей малой души обрадованный унижением беззащитного, как ему казалось, человека, и тонкой, белой, незагорелой альбиносьей ногой лягнул меня в живот.
Альбиносик не принадлежал к Ленькиной породе, был из одного со мной теста, и я не испытывал к нему ни малейшего почтения. Поэтому, сломив его отчаянное, но хилое сопротивление, я подверг его той же экзекуции, которую только что перенес от Леньки. А затем, уже не знаю зачем, угостил пинком Петра Васильевича. Оба преувеличенно, провоцируя Ленькино заступничество, разревелись.
Но Ленька и не думал вступаться, впервые он засмеялся: глухо, отрывисто, похоже на лай. Подобно многим выдающимся деятелям, он радовался унижению своих приближенных.
– А ты, парень, ничего – сойдешь с горчичной! – сказал он мне. – Как звать-то?..
В обратный путь я отправился, осененный высоким Ленькиным доверием, – он предложил мне принять участие в очередном налете на дачный сад…
Эта дача, обнесенная высоким глухим забором, стояла в полукилометре от нас, за булыжным Дмитровским шоссе, в рослом сосняке. Было в ней что-то загадочное и жутковатое. Она казалась необитаемой. Нам нередко доводилось проходить мимо нее во время наших грибных странствий, и ни разу за высоким, в моховой прозелени забором не прозвучала легкая музыка дачной жизни: детские и женские голоса, стук крокетных шаров, удары по волейбольному мячу, просвист и пощелк серсо[2]. Лишь порой, когда мы, обозленные зловещим этим молчанием, начинали колотить палками по забору, откуда-то издалека, словно из-под земли, раздавался тяжелый, медленный собачий лай – так может лаять лишь очень большая, старая, сильная собака, уверенная, что никто не посягнет на охраняемые ею владения. Но и это случалось крайне редко. Обычно нам отвечала такая тишина, что от нее звенело в ушах, и мы начинали сомневаться: звучал ли когда-нибудь тяжелый, медленный, похожий на стариковское откашливание лай, или то была слуховая галлюцинация?
И ни один дымок не всплывал над забором: как будто там не топили кухонной плиты, не палили самовара, не жгли сухой листвы и хвороста…
Но Ленька располагал другими сведениями. Он утверждал, что дача населена невероятными, небывалыми, уму непостижимыми буржуями и что буржуйскую эту семейку обслуживают по меньшей мере десять лбов. Буржуй на все лето нанимает извозчика на «дутиках», и тот живет на даче, чтобы всегда быть под рукой, вместе со своим здоровенным бородатым сыном, состоящим в дворниках; а еще есть кривоглазый сторож, «шеф-кухарь», нянька, присматривающая за буржуйским сыном, и какая-то загадочная «мириканка», обучающая этого гаденыша по-французски. И все это не считая разных «заживалок»…
Я выразил удивление: отчего при таком многолюдстве в саду постоянно царит тишина? Ленька объяснил, что взрослые буржуи редко наведываются на дачу, пащенок их либо пирожные жрет, либо по-французски учится, а остальные все дрыхнут круглые сутки напролет.
– И никогда не просыпаются?
– Днем, чтоб брюхо набить.
Сереньку-альбиносика беспокоила собака.
– Она вокруг вишенья и яблонь по проволоке бегает, – объяснил Ленька, – за цветами не приставлена.
– Нешто нам туда залезть – больно уж высоко! – сомневался Петр Васильевич.
– Я гнилую доску в заборе расшатал, – просто ответил наш предводитель.
Я, конечно, чувствовал, что Ленькиным сведениям не хватает достоверности, все-таки я лучше представлял себе «буржуйскую жизнь», но это меня скорее успокаивало. Я не верил в существование кучера, нанятого на весь сезон с экипажем на «дутиках», и в его бородача сына, равно и в кривого сторожа, «шеф-кухаря» и «мириканку». Старуха нянька, «заживалки» – куда ни шло, но остальное – чушь, плод растравленного Ленькиного воображения. И все же эти причудливые фигуры обрели плоть и кровь, когда ранним росным утром следующего дня мы оказались в их руках.
И я не знаю, почему мы засыпались. Вначале все шло по плану: полусгнившая заборная планка легко уступила Ленькиному нажиму, и в образовавшуюся щель проскользнул Ленька, за ним я, за мной Петр Васильевич. Правда, потом я вспомнил, что Петр Васильевич не совсем проскользнул, он как бы завяз в щели, одной ногой коснувшись вражеской земли, другой оставаясь снаружи. Альбиносик, по обыкновению, стоял на стреме, в стороне шоссе. Попав в сад, мы оказались возле грядок с тюльпанами, дальше виднелась огромная, как курган, клумба, за ней, в глубине сада, высилась притемненная высокими соснами двухэтажная деревянная дача с башенками, террасами и террасками. Особенно я не вглядывался, памятуя наказ: рта не разевать и живее сматываться. И потому, присев на корточки, я принялся обрывать тюльпаны. Мне уже случалось отрясти чужую яблоню, поживиться чужой малиной или смородиной, но никогда еще не приходилось мне рвать чужих цветов. Воспитанный матерью в нежном уважении к цветам, я не мог рвать их кое-как. Я делал это осторожно, чтобы не повредить корня, не помять лепестков. Привычно, бережно-неспешные движения усыпили во мне ощущение беззаконности поступка, опасности, страха перед возмездием. Я вел себя так, словно намеревался преподнести хозяйке дачи красивый букет к утреннему пробуждению. Было тихо, лишь вдалеке мирно побрякивал цепью пес – мы находились с подветренной стороны.
Я не слышал, как метнулся прочь Ленька, как кто-то подошел и стал за моей спиной, погасив своей тенью блеск росы на цветах и травах. Я видел эту тень, но не придал ей значения, исполненный рвения и тихого счастья новой дружбы. Сперва был оглушительный удар по уху, затем ноги мои отделились от земли, окружающий мир заплясал передо мной, а в спину колюче и страшно уперлась борода. Охваченный ни с чем не сравнимым ужасом, я извивался, рыдал, уверяя сперва терзавшего меня бородача, затем многих набежавших людей, что я хороший и честный мальчик, отродясь не залезавший в чужие сады, сын инженера и внук врача.
И этот гадкий, трусливый лепет подействовал: я очутился на земле, и большие грубые руки на моих плечах полегчали, ослабили хватку. И тогда я увидел их всех, как в страшном, но пронзительно-ясном сне, – толстого лысого человека в пижаме, рослую толстую женщину в бордовом стеганом халате, толстого сонного мальчишку, тощую-тощую, пепельноволосую, похожую на мокрого воробья «мириканку», старуху няньку с оплывшим лицом, «заживалок» и всех остальных. И еще я увидел Леньку: он стоял под кустом бузины, потупив ржавую голову и редко взблескивая глазами, у ног его валялись тюльпаны. С двух сторон к нему подступали кучер в плисовых штанах и кривой сторож. Почему Ленька не пытался спастись? Я понял это позже, сложив воедино короткие промельки видения в тьме охватившего меня страха. Сперва Ленька метнулся к забору, но кучеров сын отрезал его от щели, тогда он повернул к калитке, но путь ему заступили кучер и сторож. Он кинулся было в сторону дачи – оттуда уже валила целая толпа. И Ленька не то чтобы сник, сдался – другим противникам он задал бы работу в этом большом, заросшем саду, но э т и м не захотел дать наслаждения травли и победы. Он просто швырнул им себя, как кость.
Два здоровенных мужика кинулись на Леньку, заломили ему руки за спину и подтащили к хозяевам. С ненужной суетой, мешая друг другу, они стащили с него штаны, эти убогие «ни к селу ни к городу». Мне подумалось, что его будут сечь, я рванулся к нему, но бородач сжал, смял меня своими лапищами. Видать, та же догадка пронизала Леньку, он страшно завыл и штопором – к земле – стал вывинчиваться из цепких рук. Сторожу, державшему его за шиворот, больно закрутило пальцы, и он выпустил ворот Ленькиной рубахи; изловчившись, Ленька лягнул кучера в пах и едва не вырвался, но тут на него черной стаей бросились все «заживалки»…
Никто не думал сечь Леньку: за это пришлось бы отвечать. Они придумали куда более жестокую, унизительную, а для них безопасную кару. Кучер и кривой сторож набили Ленькины штаны молодой, светло-зеленой, донельзя стрекучей крапивой, натянули их на Леньку, застегнули и туго-натуго перепоясали старым матросским ремнем. А затем, дав легкий подзатыльник, отпустили на все четыре стороны. Я до сих пор помню, как они все смеялись, когда Ленька двинулся к калитке, с шутовской галантностью распахнутой перед ним кривым сторожем. Томно, в нос, похохатывала хозяйка; неумело, будто в непривычку, вторил ей муж; захлебывался, корчился сынок; истово гоготали кучер с бородатым отпрыском; высмеивал мелкие слезы из кривого глаза сторож; дружно, старательно повизгивали «заживалки»; даже нянька посмеивалась, мотая старой головой; чуть натужно ухмылялась кухарка. Лишь старенький воробышек – «мириканка» не принимала участия в общем хоре, худенькое лицо ее болезненно сморщилось. Но вскоре смех затих. А чего было смеяться? Легкой, свободной, небрежной походкой стройный мальчик уходил по усыпанной красным, крупнозернистым песком дорожке. Если б Ленька корчился, плакал, пытался освободиться от палящей начинки штанов, впивавшейся мириадами крошечных шипов в самую нежную, лишенную защитной огрубелости плоть, если б хоть поежился, хоть почесался разок!.. Но Ленька шел не спеша, будто в штанах у него не крапива, а лепестки тюльпанов; вот он поднял сахарный голыш и швырнул в сороку, сидевшую на островершке ели, вот наподдал носком ботинка старый теннисный мяч. И карателям стало вовсе не смешно, скорее досадно и вроде бы сумрачно. А бородач сорвал стебель крапивы и провел ладонью по листьям – видно, подумал, что это какой-то особый, нестрекучий сорт. Но его таки ожгло, и он выронил крапиву, облизал ладонь большим желто-обметанным языком, и взгляд его стал пасмурен и задумчив.
Отпустили и меня, прочтя какую-то вонючую мораль. Я нагнал Леньку уже за калиткой. Лицо у него было белое, а под глазами как углем намазано. Я сказал:
– Бежим, Ленька!
Он не отозвался. Он шел так же неторопливо, чуть волоча ноги, – наверное, думал, что за ним подглядывают.
Мы перешли булыжное шоссе и, оказавшись за насыпью, потеряли дачу из виду. Я сказал:
– Бежим?
Он опять промолчал. Мы миновали сосновую рощицу, спустились в балку, где протекал пересыхающий в засуху, а сейчас, после затяжных дождей, полный и быстрый ручей. Вода бурлила, завихряясь возле коряг и крупных скользких камней, намывала жирную пену на берег. Ленька снял штаны и стал вытряхивать крапиву. Жутко было глядеть на его воспаленную, багровую, в волдырях кожу.
Ленька вошел в ручей и некоторое время стоял недвижно, предоставляя воде обтекать его тело, потом осторожно растер живот и бедра. Почему-то мне показалось, что купание не принесло ему облегчения. Он вылез, еще раз встряхнул свои штаны, посмотрел их на свет и повыдергивал застрявшие шипы. Лишь после этого он оделся.
– Знаешь, а колючки у крапивы стеклянные, – сообщил я, словно это могло ему помочь.
Ни слова в ответ, я для него просто не существовал. И вдруг я увидел, что Ленька улыбается. Странной и опасной была его улыбка: краешки темных, спекшихся губ туго оттянуты книзу. Он глядел поверх моей головы, поверх леса, в какую-то ему одному ведомую даль: там пылали пожары, гремели выстрелы и, обливаясь кровью, шел в последний, смертный бой его отец.
Эхо
Синегория, берег, пустынный в послеполуденный час, девчонка, возникшая из моря… Этому без малого тридцать лет.
Я искал камешки на диком пляже. Накануне штормило, волны, шипя, переползали пляж до белых стен Приморского санатория. Сейчас море стихло, ушло в свои пределы, обнажив широкую, шоколадную, с синим отливом полосу песка, отделенную от берега валиком гальки. Этот песок, влажный и такой твердый, что на нем не отпечатывался след, был усеян сахарными голышами, зелено-голубыми камнями, гладкими, округлыми стекляшками, похожими на обсосанные леденцы, мертвыми крабами, гнилыми водорослями, издававшими едкий йодистый запах. Я знал, что большая волна выносит на берег ценные камешки, и терпеливо, шаг за шагом обследовал песчаную отмель и свежий намыв гальки.
– Эй, чего на моих трусиках расселся? – раздался тоненький голос.
Я поднял глаза. Надо мной стояла голая девчонка, худая, ребрастая, с тонкими руками и ногами. Длинные мокрые волосы облепили лицо, вода сверкала на ее бледном, почти не тронутом загаром теле, с пупырчатой проголубью от холода.
Девчонка нагнулась, вытащила из-под меня полосатые, желтые с синим трусики, встряхнула и кинула на камни, а сама шлепнулась плашмя на косячок золотого песка и стала подгребать его к бокам.
– Оделась бы хоть… – проворчал я.
– Зачем? Так загорать лучше, – ответила девчонка.
– А тебе не стыдно?
– Мама говорит, у маленьких это не считается. Она не велит мне в трусиках купаться: от этого простужаются. А ей некогда со мной возиться…
Среди темных шершавых камней что-то нежно блеснуло: крошечная чистая слезка. Я вынул из-за пазухи папиросную коробку и присоединил слезку к своей коллекции.
– Ну-ка, покажи!..
Девчонка убрала за уши мокрые волосы, открыв тоненькое, в темных крапинках лицо, зеленые, кошачьи глаза, вздернутый нос и огромный, до ушей, рот, и стала рассматривать камешки.