Рассказ о «красном камне»
Рассказ о «красном камне»
На одном из давних банкетов рядом с виноделом Александром Александровичем Егоровым сидел поэт. Начинающий поэт, мальчишка. Впрочем, рядом с Александром Александровичем все выглядели и чувствовали себя мальчишками. Он был патриарх, глава, мэтр. А поэт, взбудораженный честью соседства, да и самим банкетом, опрокидывал рюмки лихо и вдруг услышал:
— Молодой человек, вы хоть знаете, что пьете?
Смущенный поэт взял в руки бутылку:
— Мускат белый какого-то Красного камня…
Александр Александрович Егоров пожевал губами под седой щеточкой усов, не сдержался:
— В вине этом не меньше поэзии, чем в лучших строчках, от Гомера до наших дней, а вы, не вслушиваясь: «какого-то Красного камня!» Недавно в Крыму? Издалека?
— Сибиряк. Тюменская область. По состоянию здоровья, после фронта, — ответы звучали, будто заполнялась анкета. И было в той анкете что-то, скорее всего слова о фронте, что смягчило винодела.
— Видите ли, молодой человек, суть дела в том, что вино должно напоминать землю, на которой росла лоза, зрела его ягода. Пейте медленно и представляйте те рыжие склоны, на которых только и растет этот мускат. Рыжие склоны с белой известковой галькой — видите? А цикад — слышите? И волна, и лунная дорожка, скажу я вам, тут присутствуют — ощущаете?
Тогда поэт ничего еще в этом роде не умел ни услышать, ни ощутить. Понимал: сладко, ароматно — и все. Головой же кивал потому, что ему приятен был старик в черной академической шапочке. Старик, каких он еще не встречал в свой не замысловатой ребячьей, солдатской, а потом журналистской жизни.
Старик же смотрел на рюмку, поднятую к свету, дразнил:
— Возможно, сирены очаровали Одиссея именно этим вином «какого-то Красного камня», а не песнями. Возможно, сирены были сродни Инге Аркадьевне…
Инга Аркадьевна, на которую кивнул старый винодел, сидела тут же за столом и была большая, молодая, красивая.
Сирены, выплывающие над гладью морской белоснежными плечами, могли быть похожи именно на нее.
Медленным взглядом светлых глаз смотрела она на поэта, пока старик рассказывал смешное: когда на винзаводе останавливается совсем уже отживший свое электромоторчик, девушки во главе с Ингой выбегают на дорогу ловить в свои сети едущего мимо шофера, чтоб исправил поломку…
— И я б не отказался, — усмехнулся поэт, представив себе крутую, в старом асфальте дорогу и Ингу, как она машет белой, молодой рукой. — Только в моторах не разбираюсь.
— Ничего, приезжайте, вручную покрутите. Под «Разлуку» хорошо идет! Или тарпы разгружать — тоже работа. И в тарпах не разбираетесь? А как насчет ослов?
Да, такая библейская, но отнюдь не идиллическая тогда была картина. Семенили по виноградникам ослики, везли на взмокших боках плоские деревянные емкости — тарпы. Полупудовыми «ряжками» подавали мезгу в пресс, таскали по лестницам к бочкам, сложенным в три яруса, «каповки» на восемьдесят литров, спиртовали вино. Полы в подвалах были земляные, а все освещение шло от «летучих мышей».
Сказочным показалось бы тогда нынешнее обилие техники, нынешние подвалы, нынешний, по индустриальному разработанный процесс. Однако и без техники вино, приготовленное в 1946-м, а выпитое на том банкете, было прекрасно. Еще долго о его лимонном, таинственном послевкусии говорил за столом главный винодел «Массандры» Александр Александрович Егоров, а потом, как давно и хорошо известное, бросил:
— Повезло автору. Сколько умов до Инги Аркадьевны вплотную подходило, а взяла в свои руки проблему именно она.
Я думаю, поэт был удивлен, услышав, что автором вина, о котором столько говорил Егоров, была его ровесница, а не какой-нибудь древний грек во времена запредельные. Но тут надо нам с вами уйти с банкета, чтоб я имела возможность объяснить: старый винодел в своей застольной реплике был не точен, когда безоговорочно назвал автором вина одну Ингу Аркадьевну. Над проблемой ароматов «Красного камня» виноделы задумывались давно, а в конце сороковых сам Егоров вместе с химиком виноделом О. А. Селивестровой раскрыл секрет этого муската.
Что же касается Инги Аркадьевны, она разрешила проблему перехода от модели вина к его производству. Хотя в основном технология производства «Красного камня» не отличается от технологии производства других мускатов. Однако тот лунный, а точнее сказать лимонный, привкус в иные годы исчезал, хотя сусло давили строго из кустов винограда, которые росли только на южных склонах холмов возле Артековского завода, не смешивая с другим. Иногда привкус пропадал в устоявшемся вине и потом появлялся снова, иногда его вообще не было.
Инге Аркадьевне удалось установить закономерность его летучих свойств, удалось точно очертить территорию, где росли ягоды, от которых стоило его ждать. Инга Аркадьевна сумела закрепить случайно подмеченное, ввести его в ранг непременного. Шли годы, и вот совсем недавно на одном из конгрессов вин во Франции председатель дегустационной комиссии торжественно обратился к присутствующим:
— Господа, я не знаю, какой стране принадлежит это вино, но его надо пить стоя.
Выпили, вернее, продегустировали стоя, присудили «Гран-при», а потом оказалось: уже второй раз Мускат белый «Красного камня» получает кубок, отличающий лучшие вина. Скажу более: ни одно вино в мире, кроме «Красного камня», не удостоилось этой награды дважды.
Человек, которому больше, чем другим, принадлежит честь создания, Инга Аркадьевна Голокоз, работает старшим виноделом на маленьком, так называемом Артековском заводе, входящем в состав могучего винкомбината «Массандра», уже около тридцати лет. Зовут ее теперь солидно и прозаично: Аркадьевна. Хотя, на мой взгляд, она все еще хороша, и все еще можно представить если не то, как обвораживала она волшебным напитком Одиссея, то, во всяком случае, как длинноногой девчонкой выбегала на шоссе остановить доброго человека, чтоб помог пустить мотор…
Ни добрый человек, ни она сама не знали тогда, что стоят так близко к чуду. Только Егоров и в те времена любил говорить о большом будущем вина, о большом будущем своей ученицы. Правда, о двух кубках, наверное, и он не помышлял.
Итак, теперь ее зовут Аркадьевной и говорят так: «Аркадьевна сказала», «Аркадьевна велела», «Аркадьевна ночей не спит». Ночей Аркадьевна не спит, когда дозревает мускат и надо не упустить момент, поймать тот миг для уборки, когда и сахару в ягодах накопилось больше всего, и не исчез неведомо куда аромат, делающий «Красный камень» именно «Красным камнем», а не обыкновенным, хотя и очень хорошим Мускатом белым десертным.
Кстати, случаются годы, когда «Красного камня» так и не получишь, хоть вся изведись в заботах, по три раза на день поднимайся на виноградники: шли осенние дожди, и мало было солнца, виновата природа, и себя в неудаче корить как будто нечего, а сердце болит… Но в иной сезон лунный, лимонный привкус на фоне других — медовых и розовых — выступает в этом вине резче, слышится явственнее. Как напоминание о тех минутах, когда ты был счастлив тем высшим человеческим счастьем, в котором как бы заключена уже и тоненькая нотка грусти. Потому что известно: счастье преходяще, как, впрочем, и все на этом свете, даже среди кудрявых розовых скал над предвечерним розовым морем.
Для меня мускат, о котором я столько говорила в этом рассказе, имеет еще тот особый смысл, что мое детство прошло рядом с приметной, в ярко-рыжих подпалинах скалой над дорогой из Алушты в Ялту, которая дала вину не всем понятное имя.
И память сердца всякий раз, когда я снова пробую это вино, возвращает мне горячий запах черствой земли, медовый дух цветов держидерева и разомлевших виноградных листьев. В сладкое благоухание июля вплетается цокот цикад; а также шелест того камешка на узкой тропинке, который сорвался из-под моих ног сорок лет назад и все еще не остановился в своем беге.
…Однако окончить этот рассказ я хочу не поэтическими образами, а точной цифрой: в самые урожайные годы «Красного камня» получается со всех виноградников 250000 литров. Это ничтожно мало: несколько больших деревянных чанов — и все. На весь Советский Союз. На весь мир. Так что и стоя, и сидя выпить его можно, если уж особенно повезет. Сувенирную бутылочку «Красного камня» достать также трудно, как, скажем, билет в «Современника», как томик стихов Ахматовой… И то же удовольствие он приносит — духовное.
Что же касается молодого человека, с которым на банкете разговаривал Егоров, так он уже давно не молод и давно понял: поэт может быть ремесленником, и винодел — поэтом.
Читайте также
14.3. Серафимы в красном, Архангелы-князья и ангелы с секирами
14.3. Серафимы в красном, Архангелы-князья и ангелы с секирами
Ещё один чин телохранителей — Серафимы. Их имя означает «пламенеющий» или «горящий» [48], с. 21. В целом возникает следующая картина. На Престоле сидит царь, у престола — механические рыкающие львы, повергающие в
Убийство в Красном Амбаре
Убийство в Красном Амбаре
. Мария Мартен проживала в деревне Полстэд, в Саффолке. Еще до знакомства с Кордером, Мария не отличалась особой добропорядочностью — в частности, родила двух детей вне брака, а потом и третьего ребенка, от Уильяма. Сам Уильям Кордер, сын меcтного
2.4. Ставка Мамая на Красном Холме у Куликова поля
2.4. Ставка Мамая на Красном Холме у Куликова поля
Московский Красный холм, Краснохолмский мост и Краснохолмская набережная, московская Красная площадь.Полезно взять карту Москвы, положить ее перед собой и следить по ней за нашим рассказом.Согласно русским источникам,
О куричьем камне
О куричьем камне
1. Тот камень бывает найден в желудке валеного петуха, коли петух трех лет вален бывает, а после валения только бы жил семь лет, а чем бывает стар, тем будет лучше, а знать потому, как уже в петухе тот камень будет, тогда уже петух ничего не станет пить, а
3. Библейский рассказ о Моисее, сотворившем источник, и мусульманский рассказ об Ибрахиме, из-за которого был сотворен ключ Зам-Зам, — это два варианта одного и того же сюжета
3. Библейский рассказ о Моисее, сотворившем источник, и мусульманский рассказ об Ибрахиме, из-за которого был сотворен ключ Зам-Зам, — это два варианта одного и того же сюжета
Хотя на первый взгляд библейское и мусульманское повествования различны, однако стоит
Чашки в камне
Чашки в камне
Камни-чашечники, т. е. камни с небольшими (как правило, в несколько сантиметров диаметром) чашеобразными углубления, достаточно хорошо изучены и описаны на территориях Прибалтики, Беларуси, Русского Севера, в ряде западноевропейских стран{59}. Как геометрия
Отпечатки на камне
Отпечатки на камне
Еще одним доказательством пребывания на нашей с вами планете гигантов служат следы их ног, отпечатавшиеся в камне во многих местах.Известны подобные отпечатки в Танзании, в американском штате Невада и еще в ряде мест. Ступни оставивших нам «автограф»
14.3. СЕРАФИМЫ В КРАСНОМ, АРХАНГЕЛЫ-КНЯЗЬЯ И АНГЕЛЫ С СЕКИРАМИ
14.3. СЕРАФИМЫ В КРАСНОМ, АРХАНГЕЛЫ-КНЯЗЬЯ И АНГЕЛЫ С СЕКИРАМИ
Еще один чин телохранителей – Серафимы. Их имя означает «пламенеющий» или «горящий» [48], с. 21. В целом возникает следующая картина. На Престоле сидит царь, у престола – механические рыкающие львы, повергающие в
О Владимире-Кавусе Красном Солнышке Стольно-Киевском
О Владимире-Кавусе Красном Солнышке Стольно-Киевском
О Владимире Красное Солнышко сложены былины. Рассмотрим же их. И удивимся. Былинный Владимир абсолютно бесцветен и неинтересен. Правит Владимир в Киеве, занимаясь в основном пирами да отдыхом, устав от пиров. Когда на
Конец флота в Красном море
Конец флота в Красном море
Новости, поступающие из Эритреи с января 1941 года, ясно показывали, что скоро англичане оккупируют эту колонию. По этой причине итальянскому флоту пришлось наконец решать: что же делать с кораблями, базирующимися в Массауа? Эсминцы, эскортные
Меч в камне
Меч в камне
Извлечение меча из камня – один из самых важных эпизодов в артуровском эпосе. Это, на первый взгляд, простое действие открыло королевскую принадлежность юного Артура. В повествовании Мэлори «Смерть Артура» волшебник Мерлин придумал испытание, способное
Легенда о камне
Легенда о камне
Ежегодно 21 июня в день летнего солнцестояния тысячи туристов со всего света собираются на этом гористом плато с единственной целью — увидеть восход небесного светила. И когда первый солнечный луч точно по центру прорезает узкий просвет между двумя
Невеста в красном
Невеста в красном
Старые и новые черты китайской свадьбы
Свадьба знаковое событие в жизни китайца. У них принято считать, что удачно создать семью не менее важно, чем сделать карьеру. А новая семья начинается со свадьбы. Это один из самых древних ритуалов, главные
Депутат в красном пиджаке
Депутат в красном пиджаке
После ухода Медведева в премьер-министры начался скандал с финансированием лекций одного из лидеров «Болотной оппозиции» депутата Ильи Пономарева. Он получил от «Сколково» 750 тысяч долларов за лекции, которые в лучшем случае можно назвать
О «Красном кресте»
О «Красном кресте»
Конференция предлагает всем товарищам на местах приложить все усилия к воссозданию «Красного Креста», столь необходимого для помощи заключенным и
Голубеграмма из Усть-Сысольска
Судьбы писателей не одинаковы. Одним удается с первого раза написать произведения, открывающие перед ними двери литературного Олимпа, другие по нескольку десятков лет умудряются оставаться в рядах скромных середняков, не проникающих дальше олимпийской прихожей. Но от этого литератору не становится менее дорого то, что он сделал на протяжении своего литературного пути. С годами появляется опыт, обостряется глаз, повышаются вкус и требовательность к самому себе. Вместе с тем подчас какой-нибудь пустяк, сделанный много лет назад, сохраняет для автора свою ценность. Вероятно, тут играют роль ассоциации, связанные с этим забытым было пустяком.
Не знаю, как бывает у других, но мне до сих пор дорог небольшой очерк, написанный тридцать лет назад. Он ценен для меня тем, что это мое первое произведение, напечатанное в большом литературном журнале. Вероятно, в очерке нет особых литературных достоинств, но он – важная веха на моем жизненном пути. Очерк мил мне потому, что его я первым увидел в печати; потому, что после его опубликования я получил первые читательские письма; потому, что после его появления редакции впервые обратились ко мне, как к писателю.
А написан он был при таких обстоятельствах.
В один весенний день 1926 года – да простит мне читатель этот трафарет, но день был действительно прекрасен весенним теплом, светом, перезвоном трамваев и гулким цокотом подков на Никольской, где тогда еще не было ни потока автомобилей, ни густой толпы стремящихся в нынешний ГУМ, – в тот весенний день на моем редакционном столе позвонил телефон.
В трубке я узнал голос главного инспектора Гражданской авиации Владимира Михайловича Вишнева.
– Вы живы? – спросил он.
– Пока да.
– И здоровы?
– Кажется…
– Странно, – удивленно проговорил Вишнев, – а у меня на столе лежит молния из Усть-Сысольска. Там поймали почтового голубя с голубеграммой: воздухоплаватели Канищев и Шпанов совершили посадку в тайге и просят помощи. Не знаю, стоит, ли снаряжать спасательную экспедицию на тот свет? Ведь за истекшие полгода волки, наверно, обглодали их кости.
Мы оба рассмеялись. Речь шла о голубеграмме, отправленной Канищевым и мною полгода назад из таежных дебрей Коми.
Мы поговорили с Вишневым о «надежности» голубиной почты и на том расстались. Но в тот же день мне позвонил редактор «Всемирного следопыта» Владимир Алексеевич Попов. Он любил «открывать» писателей и умел подхватывать все, что интересно читателю. Из случайного разговора с Вишневым Попов узнал о голубеграмме. Теперь он просил меня описать свое таежное приключение для читателей «Следопыта». И вот что я тогда написал.
1. Куда мы полетим?
Я был назначен вторым пилотом сферического аэростата «1400», участвовавшего в первых советских воздухоплавательных соревнованиях в свободном полете на продолжительность.
Мой товарищ по полету – первый пилот, профессор Военно-воздушной академии Михаил Николаевич Канищев был не по возрасту грузный, медлительный человек. Последний вечер перед полетом он просидел, угрюмо уставившись дальнозоркими глазами в голубое поле синоптической карты. Вопреки практике и здравому смыслу, он пытался разгадать намерения капризной атмосферы по прихотливо вьющимся линиям изобар. Канищев не был ипохондриком, но за синоптическими картами он становился ворчуном. Прогноз был по обыкновению сбивчив: вечером он противоречил тому, что предсказывали утром, а утром небо наглядно отрицало вечерние утверждения метеорологов. И так без конца. Поэтому Канищев настойчиво пытался сам по карте движений атмосферы представить, в каком направлении понесет нас завтра воздушная стихия. Нам следовало избрать такую высоту и такое направление ветра, чтобы пройти наибольшее расстояние и пробыть в воздухе дольше всех. По-видимому, Канищев, так же как я, не забывал о том, что у нас есть серьезный соперник – экипаж Федосеенко – Ланкман. Правда, аэростат у нас новый, еще ни разу не бывший в полете, и объем его – тысяча четыреста кубических метров позволяет рассчитывать на хороший запас балласта. Но все же… Мало ли всяких неожиданных «но» ждет аэронавта в свободном полете!… Да к тому же мы не можем похвастаться сеткой: старая, взятая с аэростата меньшего объема, она не внушает доверия.
– А знаете, маэстро, – задумчиво заявляет Канищев, – дела-то не блестящи. Ветры самые отвратительные: изо дня в день на северо-восток.
– Бросьте ваше гадание на кофейной гуще. Нагадаете север, а полетим на юг. Меня, откровенно сказать, больше занимает вопрос – сколько продержимся?… А где сядем – не все ли равно? Выходы отовсюду есть. Гадать – только время терять. Идемте-ка лучше на боковую. Завтра чуть свет, – на ноги.
– Валяйте, а я еще разберусь в сводках.
Но, по-видимому, в конце концов и ему надоели замысловатые узоры изобар с беспорядочно смотрящими во все стороны стрелками ветров. Сквозь сомкнутые веки я видел, как он клюет носом над синоптическими картами. Свет в комнате погас, и я услышал возню. Канищев сопел и кряхтел так, словно делал тяжелейшую работу.
Я подумал о неугомонности человеческой натуры. С его комплекцией и сердцем сидеть бы в кабинете и предаваться изучению излюбленной истории воздухоплавания. Ан нет!…
2. Куда мы летим?
День прошел в хлопотах, сумерки уже надвигались, когда приготовления к старту были закончены. С бортов корзины сняты балластные мешки. В самой корзине все уложено в надлежащем порядке, приборы – на рейках, карты и провиант – в сумках по бортам, тяжелый балласт – в мешках на дне корзины.
Рубящий слова голос стартера:
– Дать свободу!… Вынуть поясные!
Восхищенно-растерянные физиономии мальчуганов, тесным кольцом обступивших старт, стали быстро уходить вниз. Сердце у меня екнуло при виде того, как с места в карьер Канищеву приходится травить балласт, чтобы не налететь на мачты радио, некстати выраставшие на нашем пути. Но вот и эти препятствия остались в стороне. Мы были на чистом пути. Внизу, в каких-нибудь двух сотнях метров, лежала Москва, отчетливо кричавшая гудками автомобилей и быстро уходящими шумами трамваев.
В самое сердце столицы врезались своими черными щупальцами пауки железнодорожных узлов. Мы пересекли одну за другой путаницы нескольких станций.
Становилось меньше домов, больше деревьев, тусклой желтоватой листвы, спаленной дымным дыханием заводов, буро-красными коробками обступивших город. Но кончились и они. Свежели деревья. Свободней потянулись к небу их зеленые шапки. Расплывчатые пригороды Москвы утонули в зелени садов. Как браслетом отрезала «пределы города» Окружная дорога. Мы – за границами столицы.
Канищев не отрываясь сидел за приборами, время от времени посылая за борт совок балласта. Над Окружной дорогой он коротко бросил:
– Гайдроп![1]
– Есть гайдроп.
Один за другим уходили за борт аккуратно сложенные витки толстого морского каната. Я должен был сделать это так, чтобы Канищев не заметил толчка, когда гайдроп повиснет на обруче. Фут за футом канат уходил к земле. На руках сразу вздулись кровавые пузыри.
– Гайдроп вытравлен!
Берусь за бортовой журнал. Надо заносить данные каждые пятнадцать минут.
«18 часов 12 минут, высота 200 метров. Курс 29 норд-норд-ост. Температура 14 с половиной выше нуля».
Из гущи деревьев, с желтых прогалин, донесся задорный крик:
– Эй, дядя, садись! Са-а-ди-ись к нам!
Я поглядел вниз, на конец гайдропа. Сверился с компасом: курс 32, и ветер как будто много быстрее, чем по прогнозу. Мы шли со скоростью шестидесяти-семидесяти километров вместо предсказанных жрецами погоды двадцати.
Проплыли над Пушкином.
В стороне осталось Софрино.
В сумерках у станций смешно мельтешили озабоченные дачники.
Массивная фигура Канищева все так же молча торчала в своем углу у приборов. Время от времени он постукивал ногтем по стеклам, разгоняя сонливость стрелок.
Беспредельно далеко и вместе с тем как-то совсем тут, рядом, пылала вечерняя заря. Это были не лучи, а просто темно-розовое зарево, какого не увидишь с земли. Пыль и дым навсегда закрыли там от людей чистоту заката, и люди никогда не видят его в настоящей красе. Если бы они знали, как это здорово! И провожает солнце невероятная, просто неправдоподобная тишина. Такой тоже не бывает на земле.
Быстро тускнел запад. Из багрового он превратился в лиловый. Потом темно-серая мгла затянула все небо. И вот уже почти совершенно темно. Без помощи карманного фонаря невозможно разобраться в показаниях приборов.
Мертвенно-белый луч на минуту выхватил из мрака коробки альтиметра и барографа. И снова все погрузилось в полную чернильного мрака ночь. Только призрачно фосфоресцирует своими черточками циферблат часов. Время от времени прошуршат в своей корзинке почтовые голуби, лениво переворкнувшись во сне.
– Закурим? – спросил Канищев.
Я вынул из сумки банку с монпансье. Это наши «папиросы». Чиркнуть на шаре спичкой – значит наверняка взлететь на воздух. Вероятность пожара – ровно сто процентов.
В десятке километров к норду остались огни Сергеева: небольшая группа мигающих желтых глазков, вкрапленных в черный бархат лесистых далей.
Курс все больше склонялся на ост. Вместо черного бархата лесов, под аэростат подбегала тускло-серая гладь огромного озера. Справа совсем невдалеке бисерным венцом горел Переславль-Залесский.
Полет установился. Можно было закусить. Шли все с той же скоростью под курсом 33-34 норд-норд-ост. Внизу – беспросветная тьма. Изредка промерцает одинокий глазок в какой-нибудь сонной деревушке, и снова черная пустота, нет, ничего.
Под резким глазом фонаря карта, лежащая у меня на коленях, казалась светло-зеленым ковром леса. Лес без конца. Чем дальше к северу, тем зеленее делается карта. Это, может быть, и красиво, но такая красота вовсе не кажется мне привлекательной.
Твердой черной стрелкой вонзалась в поле зелени моя курсовая черта, упиравшаяся прямо в Ростов-Ярославский, он же Великий.
Действительно, через несколько минут впереди на норд-осте ярким пятном вырисовались его редкие огни. Подошли к городу. В нем царила полная тишина.
– Город Ростов!… Город Ростов!…
Но наш рупорный зов остался без ответа. Ростов спал. Только из самого центра, с пятна затененных деревьями ярких фонарей, доносились звуки оркестра. По-видимому, бравурным мотивом запоздалые ростовчане-великие старались отогнать сон. Мирно плескалось о темную набережную озеро. На нем – никакого движения.
В воздухе становилось все свежей. Легкая пена белесоватой мути временами совсем скрывала поверхность земли. Было все труднее определять направление нашего движения. Небесный свод блистал мириадами ярких светил сквозь широкие просветы в облаках, беспорядочно нагроможденных над головой.
Эти окна, в которые, мигая, глядели звезды, делались все меньше. Скоро облака начали набегать на аэростат. Решительно ничего не стало видно, даже самая громада нашего шара скрылась из глаз.
И без того редкие огоньки деревень стали еще реже. Вероятно, их слабый мерцающий свет не мог пробиться сквозь туманную завесу низких облаков.
Те облака, что были пониже, бежали вместе с аэростатом, а верхние густыми тяжелыми массами направляли свой стремительный бег под углом к нашему курсу – почти прямо на север. Из этого Канищев заключил, что нужно всячески избегать увеличения высоты полета. В этом случае нас могло понести к Ледовитому океану. Тогда пришлось бы садиться прежде времени, даже не израсходовав балласта.
Холодная сырость забиралась за воротник. Неприятно зябла спина.
Судя по карте, оставалось рукой подать до Ярославля. Через каких-нибудь полчаса мы убедились в том, что так оно и есть. Прямо на нас шло светло-голубое зарево мерцающих ярославских огней.
Но в чем же дело? Почему вся масса огней не приближается к нам, а как будто уходит куда-то влево? Сверяюсь с компасом и вижу, что ветер резко меняется, курс круто склоняется к осту. Приближаемся к Волге, но вместо того, чтобы ее пересечь, идем вдоль левого берега и даже уклоняемся на зюйд.
Курс быстро перешел на 50, 60, 70 и продолжал склоняться к осту.
– В чем там дело, Николай Николаевич? Что за прелестная улица влево от нас?
– Матушка-Волга, Михаил Николаевич.
Улицей сказочного города-гиганта поблескивали под нами огоньки волжского фарватера. Между бакенами и створами от огонька к огоньку, шлепая колесами, полз пароход. Два ряда горящих огнями палуб отражались в черной воде. Их блики разбегались по зыбящейся от парохода воде. Но и это все осталось на норде. Опять мы оказались в плотной темноте.
Вглядевшись в фосфоресцирующую линейку компасной стрелки, отмечаю курс: уже 95. Снова из-под гайдропа показалась улица волжских огней. На этот раз мы шли ей наперерез и, оставив вправо тусклые огоньки набережной Плеса, опять ушли на норд-ост. Где-то очень далеко на зюйд-зюйд-осте остался утонувший в черноте городок. И снова мы погрузились в непроглядную темень. На этот раз ей нет границ. Небо и горизонт так же черны, как земля.
Таинственной жутью повеяло от донесшихся с земли, из непроглядной мертвой темени, двенадцати длинных-длинных ударов дребезжащего колокола: полночь.
Кругом все та же удивительная тишина. Изредка доносится с черной земли шорох гонимых ветром по лесу лиственных волн.
– Хорошо…
– Хорошо, – шепотом подтверждает, Канищев. – Кто раз полетел, непременно полетит еще.
В полном безмолвии время бежит в темноту.
Делается все свежей. Пора доставать фуфайки.
3. Огни святого Эльма
Среди ночного молчания, такого полного, что невольно говоришь шепотом, где-то далеко, точно за обитой войлоком перегородкой, послышался глухой раскат – как будто бесконечно далеко произошел обвал.
Раскат мягко прокатился по горизонту, перегораживая дорогу аэростату. Это было нешуточное предостережение. Гроза – бич воздухоплавателей: им приходится выбирать между возможным пожаром и немедленной посадкой.
Канищев ничего не сказал. А мне казалось, что обратить его внимание на приближающийся грозовой фронт – значило проявить малодушие: вдруг он только сделал вид, будто не слышал… Так мы оба продолжали молчать.
Ветер крепчал. Тяжелые тучи, несшиеся наперерез аэростату, становились все плотней. Все реже мелькали в облачных прорывах клочки далекого звездного неба. Оно потеряло свою яркость, сделалось плоским, с мутными прозрачно-синими пятнами созвездий.
Единственным выходом было набрать высоту и пройти над грозой. Но этот здравый путь был закрыт. Движение облаков говорило о неблагоприятном для нас – на большой высоте – направлении ветра.
Вот снова басистый раскат впереди. Он уже не такой мягкий и заглушенный. Точно накатывается высоким валом бурный поток. Через две-три минуты еще более сухой и короткий. Ему предшествовал пробежавший по небу неясный светлый блик. Похоже на зарницу. Пока далекую.
– Ваше мнение, маэстро? – спросил Канищев.
Стараюсь угадать его мысль, но голос его безразлично спокоен. Приходится отвечать то, что думаю сам:
– Приготовить парашюты и лететь на той же высоте. Подниматься нет смысла, понесет на чистый норд. Это нас не может устроить.
– Спустите парашюты за борт и приготовьте всю сбрую.
И он снова погрузился в свои приборы, а я занялся парашютами.
Тяжелые желтые сумки в виде перевернутых ведер скоро висели на наружном борту по разным сторонам корзины. «Сбруя», поблескивая карабинами и пряжками, была тщательно расправлена внутри корзины.
Новая яркая вспышка, как ракетой, осветила черную сетку хлынувшего дождя. Голубой огонь, все еще очень далекий, но уже достаточно яркий, высветил весь аэростат и корзину – с темными кружками приборов, с частым переплетом уходящих кверху стропов, с грузной фигурой Канищева.
Стало совсем неуютно от дробно застучавшего по тугой оболочке дождя.
– Может быть, гроза и очень хороша в начале мая, – с благодушной иронией проговорил Канищев, – но в конце сентября – это мерзость… Особенно в нашем положении.
Далеко впереди, просвечивая сквозь сетку дождя, мутным заревом показался большой город. При виде огней людского жилья мысль о грозе стала не такой неприятной.
– Ориентируйтесь! – сказал Канищев, мельком глянув на приборы. – Что это за город? Проследите курс по гайдропу.
Взяв в руку компас, я перегнулся через борт. И тотчас у меня вырвалось восклицание изумления.
– Что случилось? – поспешно спросил Канищев и тоже глянул за борт.
Весь гайдроп лучился бледным голубым светом, словно его густо смазали фосфором. Восьмидесятиметровая стрела, спускающаяся за борт в направлении земли, неслась в окружающей черноте, мерцая голубым ореолом.
Это было так необычайно и так красиво, что оба мы не могли оторваться от неожиданного зрелища. Даже забыли про приборы и курс.
Подняв голову, я увидел, что светятся и клапанный строп и разрывная вожжа. Правда, их свечение казалось менее интенсивным на более светлом, чем земля, фоне аэростата. Творилось что-то необычайное. Я не мог удержаться, чтобы не протянуть руку к стропам, желая проверить себя, и в страхе отдернул ее обратно: концы моих пальцев тоже засветились. Повернувшись к Канищеву, я увидел, что и он уставился на свои руки. Издали было хорошо видно: они излучали мягкий голубоватый свет.
Должен сознаться – мне стало не по себе. Я тщательно обтер руки платком и включил карманный фонарь, чтобы записать показания приборов. Но как только я его погасил и глаза опять привыкли к темноте, снова стал ясно виден странный свет, излучаемый всем такелажем.
– Догадываетесь? – с нескрываемым восторгом спросил Канищев. – Результат электризации атмосферным зарядом. Это явление довольно часто наблюдается в южных морях. Там такое свечение называют огнями святого Эльма. По поверью, всякий корабль, на котором появятся эти таинственные огни, должен… – Тут Канищев осекся и деловым тонем договорил: – Поглядите на землю и скажите что это за группа огней под нами?
– Если судить по широкой реке, то, пожалуй, Кинешма. Но из-за облачности я так запутался, что утверждать не могу, – признался я.
Широкая лента реки тускло блестела внизу, отражая огоньки небольшой прибрежной деревни. Огней было мало. Они располагались на большом расстоянии один от другого, а скоро и вовсе исчезли. Только по крику петухов и редкому лаю собак можно было судить о том, что иногда там, во тьме, проплывали под аэростатом погруженные в сон деревни.
Потом и вовсе не стало слышно деревень. С земли доносилось только однообразное, похожее на шум морского прибоя, шуршание леса. Вероятно, ветер внизу был сильный. Временами казалось, будто деревья шумят совсем рядом. Высокие нотки свиста в ветвях прорывались сквозь монотонный шорох.
Широкая спина Канищева в белой фуфайке загородила от меня доску со слабо мерцающими фосфором приборами. Его жесткий ноготь все постукивал по стеклу, будя стрелки анероидов.
Но вот тьма стала уходить на вест. Делалось холодно-серо. Сквозь серую мглу внизу проступали леса. Черно-зеленая гуща деревьев, подернутая пятнами осенней ржавчины, иногда расступалась, чтобы дать место узенькой светлой прогалине.
Столбик ртути в термометре упал на четыре деления. Перо барографа заметно пошло на снижение. Я исподтишка поглядывал на Канищева: почему он так спокоен?… Неужели его не тревожит стремление аэростата идти все ниже и ниже?… А как же с дальностью полета? Как с Федосеенко и Ланкманом?
4. Враги наши кумулусы
Прошло не больше часа полета в серой предрассветной мути, как из-за горы темных облаков на востоке проглянули ярко-красные лучи. Увы, ненадолго. Сразу же их снова заволокли тяжелые серые тучи.
В 4 часа 16 минут пополуночи день уже полновластно вступил в свои права. После сравнительно теплой ночи мы сразу почувствовали его неприветливые объятия. Легкий холодок стал забираться под воротник тужурки и неприятно щекотать позвонки.
Шум ветра в вершинах леса доносился все более и более явственно. По тому, как под ударами ветра гнулись стволы деревьев, можно было судить о его скорости – по крайней мере метров в двенадцать даже у земли. Здесь, наверху, было больше.
Мало-помалу пейзаж стал несколько разнообразиться деревушками, ютившимися на юру, около узких извилистых речек. Надо было воспользоваться тем, что внизу показалось несколько белых и красных рубах.
– Ка-а-ка-я губе-ерния? – крикнул я в рупор.
– Куды летишь?
Повторяю вопрос:
– Губерния какая?
А они свое:
– Садись к нам! – И зазывно машут шапками.
– Какой уезд?
– Никольской!… Северо-Двинской!…
Никольский уезд, Северо-Двинской губернии?
Значит, курс нанесен за ночь правильно.
Следующий час прошел в борьбе с упорным стремлением аэростата идти к земле.
Дождь нас добивал. Несмотря на взятый при старте большой запас балласта, его оставалось мало. За борт полетели бутылки из-под нарзана. Туда же последовала срезанная взмахом финского ножа низенькая скамейка наше единственное уютное сиденье в корзине. Посоветовавшись, решаем пожертвовать даже парашютами. Но только выброшенные из драгоценного последнего мешка балласта несколько совков песку преодолевают наконец упрямую тягу аэростата к земле.
Под нами один за другим пошли извилистые рукава реки Юга. На земле никогда нельзя себе представить, даже при наличии карты, истинной линии течения такой реки. Она извивается до неправдоподобия прихотливыми изгибами, десятки раз обходя одно и то же место. Подлинный ее рисунок гораздо больше походит на аграмант на рукаве старинного дамского пальто, чем на течение солидной реки.
Скорость полета непрестанно увеличивалась. Под нами настолько быстро пробегали селения, что мы не успевали спросить жителей о месте нахождения. С большим трудом выяснили, что в пятидесяти километрах на норд лежит Великий Устюг.
В подтверждение правильности этого сообщения перед глазами заблестела зеркальной лентой Сухона. В просеке мелькнула долгожданная линия железной дороги. Это – ветка на Котлас. Теперь мы были уверены в правильности ориентировки. Но возникала другая проблема: дальше в направлении полета, на протяжении по крайней мере двухсот километров, на карте не обозначено ни единой деревушки сплошняком идет зеленое пятно леса. А балласта уже почти нет. Протянем ли мы эти двести километров до Вычегды?
– Ну, маэстро, ваше мнение? – вглядываясь в высотомер, спросил Канищев. Протянем?
Вопрос представляется мне праздным. Поэтому мой ответ, звучит, вероятно, не очень любезно:
– Допустим, что нам их не протянуть, – что из этого?
– Вас устраивает посадка на лес?
Пришлось признаться:
– Нет, не устраивает… А в этих местах особенно. Но…
Канищев делает вид, будто не догадывается о тем, что я имею в виду. Я не сразу понял: ему хочется услышать, что я думаю насчет Федосеенко и Ланкмана. А когда понял, то рассмеялся: разве не разумеется само собою, что мы должны тянуть до последней возможности, чего бы это ни стоило. Федосеенко и Лэнкман серьезные соперники!
Канищев, постукивая пухлым пальцем по стеклам, один за другим оглядел все приборы. Потом своими прищуренными глазами, кажущимися вблизи подслеповатыми, а на самом деле зоркими, как хороший бинокль, он оглядел горизонт, небо. Раз и другой посмотрел на северо-восток. Оттуда на нас наступал новый вал – темный, как морской накат в приливе.
– Видите кумулусы[2], в которые мы сейчас влезаем?
Я не был слепым.
– Они нас погубят… – с хрипотцой проворчал Канищев. – Если Федосеенко таких не встретил, все шансы на его стороне.
Я как на личных врагов смотрел на собиравшиеся вокруг нас серые облака и раздумывал над создавшимся положением.
Пока мы советовались, снова мелькнувшая было дуга железной дороги осталась далеко позади. Оба мы облегченно вздохнули: умышленное затягивание привело к нужному результату – садиться уже поздно. Даже если бы мы смалодушничали и решили закончить полет, сделать это нельзя – нужно выжать из аэростата все его возможности.
Внизу глазу было не на чем остановиться. Подернутые желтизной волны лесов тянулись, насколько хватал бинокль. Кое-где среди зарослей мелькали ржавые пятна, утыканные почерневшими стволами сгнивших осин.
Вот показалась еще какая-то река. На большом расстоянии друг от друга по берегу разбросаны черные избы. Веселым пятном выделился белый квадратик монастырской ограды, тесно охватившей церквушку и несколько крошечных келий с зелеными крышами.
Впереди снова не было видно ничего, кроме леса, – бесконечное зелено-желтое море лесов.
Прошел томительный час. Канищев не отрывался от приборов. Из-за его спины я видел, как стрелка альтиметра, несмотря на ободряющее постукивание первого пилота, неуклонно клонится книзу. За какой-нибудь час она сошла с 950 метров на 150 и продолжает падать.
Только бы не дождь! Если его не будет, мы, может быть, еще и дотянем до Усть-Сысольска. Ближе садиться негде.
Вопреки всем доводам разума, в глубине души у меня еще копошилась надежда на то, что нам удастся пролететь дальше, чем Федосеенко. Лишь бы не дождь!
Да, лишь бы не дождь…
А дождь уже громко стучал по оболочке. Нам предстояла неизбежная посадка.
Предательские кумулусы, образовавшиеся под нами два часа тому назад, слезоточили все сильней. Из-за этих слез наш гайдроп уже начал чертить по верхушкам деревьев.
Мой бинокль обшаривает горизонт. Нигде ни единой прогалины. Неужели придется садиться на лес?
Быстро пристропливаю по углам багаж. Срезаю с рейки часы и… не успев засунуть их в карман, кубарем лечу в угол корзины. Гайдроп зацепился за крепкий ствол высоченной сосны. Громкий треск, хруст, и полутораобхватная вековая сосна, дернувшись нам вслед, взлетела над вершинами своих могучих соседок. Один за другим трещали под нами стволы. Пляска совершенно обезумевшей корзины свидетельствовала об усердной лесозаготовительной работе гайдропа.
– До смерти хочется пить, – хрипло пожаловался Канищев.
Я принялся за выполнение трудной задачи: достать из сумки бутылку нарзана и откупорить ее. В бешеных размахах корзины сквозило явное стремление вытряхнуть за борт все содержимое вместе с нами, и все-таки наконец бутылка была у меня в руках. Быть может, это было и очень глупо, но мне почему-то казалось, что если Канящев получит свой нарзан, то мы еще продержимся в воздухе, обойдем нашего сильного конкурента. Теперь можно посмеяться над тем, что я тогда сражался с нарзанной бутылкой, как с препятствием, стоявшим на нашем пути к победе. Но, право, тогда эта борьба, наверно, вовсе не показалась бы смешной самому смешливому человеку. Я мог действовать только одной рукой – вторая была нужна, чтобы держаться за борт и не позволить взбесившемуся аэростату выбросить меня на вершины сосен.
Тот, кто видел в фильмах, как ковбои укрощают мустангов, только что взятых из табуна, может себе приблизительно представите мои ощущения. Разница была лишь в том, что выброшенному из седла наезднику некуда лететь дальше двух метров, отделяющих его от земли, а под нами зияло еще несколько десятков метров, отделявших нас от густых и чертовски неприветливых вершин леса.
Я был уверен, что победил стихию, когда наконец штопор с выдернутой пробкой оказался у меня в руке, а из зажатой между колен бутылки фонтаном бил нарзан.
Канищев стал жадно пить из горлышка, рискуя выбить себе зубы. Рывок корзины, еще более сильный, чем все предыдущие, заставил его выпустить бутылку. Я успел только увидеть, что он широко простер руки, и в следующий миг его большое тело закрыло от меня все. Меня вдавило в угол корзины так, словно на меня наехал шоссейный каток. Эта страшная тяжесть все давила и давила, с сопением, с кряхтеньем. При этом нас катало по дну корзины, швыряло от одного борта к другому. Канищев бранился и делал судорожные усилия подняться, еще крепче наваливаясь на меня своими полутораста килограммами. Только воспользовавшись несколькими секундами затишья, нам удалось разобраться в путанице собственных рук и ног и быстро занять свои места у бортов.
Взгляд вниз сказал все: нескольких минут катания по корзине оказалось достаточно, чтобы положение стало непоправимым. Федосеенко, Ланкман?!. Нет, сейчас приходилось уже считаться только с тем, что аэростат со скоростью экспресса несся над самым лесом. Всего несколько метров отделяли корзину от вершин сосен. Сквозь грохот бури я услышал команду:
– На разрывное!
Усваиваю ее машинально, без раздумья. Руки работают рефлекторно. Всею тяжестью висну на красной вожже разрывного полотнища. Щелкнул карабин.
Напрягаю все силы, чтобы отодрать разрывное. Однако и постарались же его приклеить!
Из-за мелькающих за бортом вершин видна желтая прогалина, поросшая относительно редкими деревьями; по-видимому, на нее и рассчитывает опуститься Канищев.
У меня уже не осталось в запасе ни единой дины, взмокло все тело, а разрыва все не было. Рядом со мной на вожже повис Канищев. Однако даже этого груза оказалось недостаточно, Казалось, выхода нет. Мы бросили разрывное и оба вцепились в клапанный строп. Уже не хлопками, а непрерывным открытием клапана старались избавиться от газа. Но это не было делом одной минуты.
Наша корзина, как погремушка, хлопала по вершинам деревьев. Аэростат, гонимый порывами бури, тянул все дальше от облюбованной прогалины. Наконец у него не осталось сил тащить за собой обмотавшийся вокруг сосен гайдроп.
Аэростат озлобленно забился, не оставляя ни на секунду в покое корзину и вытряхивая из нее остатки содержимого. Ценою ободранных рук мне удалось зачалить клапанный строп за крепкий сук соседней сосны, и мы снова сделали попытку вскрыть разрывное. Все было напрасно. Тогда мы решили переложить эту работу на аэростат и в удобный момент накоротко закрепили за дерево и разрывную. Огромным желтым пузырем оболочка билась в вершинах. Как пушка, громыхала толстая прорезиненная ткань.
Посадка совершена. Я обтер кровь с рук и обессиленный опустился на борт корзины, служивший нам теперь полом, а ее пол стоял отвесно за спиной. Я с удивлением увидел, что все приборы висели на рейках. Только трещины пауками легли на стекла.
– Айда покурить! – благодушно заявил Канищев. – Помогите немного выбрать гайдроп, чтобы приспособить его вместо лестницы. Мы тут по крайней мере на высоте шестого этажа… Да, застряли на редкость неудачно.
Через пять минут грузная фигура Канищева скользнула по гайдропу вниз и, коснувшись почвы, сразу ушла в нее выше колен. Избранная нами для посадки прогалина оказалась болотом.
5. Съесть или выпустить?
Вволю накурившись, Канищев устроился на пеньке и разгладил на коленях намокшую карту.
– Итак, маэстро, идем на северо-запад, пока не выберемся к реке, проговорил он так весело, будто речь шла о воскресной прогулке. Совершенно ясно: держась такого направления, мы выйдем к воде.
Я не разделял его оптимизма.
– До последней минуты в бинокль не было видно реки. Нигде, до самого горизонта.
– Если, конечно, не считать того, что сейчас мы стоим по колено в воде, рассмеялся Канищев. – А дело с провиантом – табак? – продолжал он с необъяснимой веселостью. – Что вы, как завхоз, имеете предъявить?
– Четыре мокрых бутерброда, пачка размокшего печенья, плитка шоколада и полбутылки портвейна, – уныло отвечал я.
– Не густо, маэстро, но надо считать, что в самом худшем случае нам придется идти… не больше восьми суток.
– Да, на восемь дней, судя по карте, можно рассчитывать.
– По скольку же бренной пищи выходит на нос в сутки?
– Четвертинка бутерброда, одна бисквитинка, полдольки шоколада и по глотку портвейна. Да вот с голубями надо решить еще, что делать. Приходит, на мой взгляд, здравая идея: изжарить их.
– Нет, – подумав, решает Канищев, – пока понесем божьих птах. А там будет видно. Итак, маэстро, компас в руки – и айда. Решено: запад-северо-запад. Пошли?
– Пошли!
Но на деле этого решения оказалось недостаточно. Уже через десять шагов дали себя знать упакованные в балластных мешках приборы. Цепляясь за сучья, слезая с плеч, они не давали идти Канищеву, на долю которого выпала эта нагрузка – более легкая, но зато и менее удобная. Через нас эти мешки превратились в его заклятых врагов. Бороться с ними становилось тем труднее, что руки Канищева были заняты корзинкой с голубями.
Так мы шли часа три, кружа между тесно сгрудившимися вокруг нас стволами. Основное направление поминутно терялось. Нужно было обходить глубокие болота или нагромождения бурелома.
Эти три часа нас вполне убедили в том, что путь несравненно более труден, чем мы предполагали. По-видимому, прежде всего нужно было избавиться от громоздкой корзинки с почтовыми голубями.
– Ну-с, маэстро, давайте решать: жарить или выпустить? – спросил Канищев, залезая по локоть в дверцу корзинки.
Я проголосовал за то, чтобы отправить голубей с записками.
– Возражений нет, – согласился Канищев. – Готовьте записки.
На старом скользком стволе поваленной сосны открыли походную канцелярию.
«ГОЛУБЕГРАММА
Срочная.
Доставить немедленно.
К первому телеграфному пункту.
Всякий нашедший должен вручить местным властям для отправки.
Москва, Осоавиахим.
Сели в болоте в треугольнике Сольвычегодск – Яренск – Усть-Сысольск. Думаем, что находимся в районе реки Лупьи или Лалы. Будем идти по компасу на северо-запад или запад-северо-запад. Полдневный паек одного разделили на восемь дней для двоих. Идти очень трудно. Выпускаем обоих голубей.
Канищев, Шпанов.»
Под резиновые браслетки на лапках голубей укрепили патрончики с голубеграммами. Обе птицы дружно проделали первый широкий круг и взяли направление прямо на север. Судя по всему, они пошли на Яренск.
Уверенные в том, что наши птицы достигнут людей и навстречу нам выйдет, помощь, мы пустились в путь.
Но природа была против нас. В первый же день непрестанный дождь успел промочить нас до нитки. Кончилось болото, но зато начался густой бор с непроходимым буреломом. Подчас брала оторопь: мы упирались в гору наваленных друг на друга стволов. Во всех направлениях – горизонтально, наклонно и вертикально – завалом в два человеческих роста лежали двухобхватные великаны, наполовину истлевшие на своем вековом кладбище.
Уютный зеленый мох прикрывал эти нагромождения великанов покойников. Нога проваливалась в труху выше колена. Деревья до того прогнили, что можно было легко растереть их в ладонях. Но их было столько, что на это понадобилась бы вся жизнь.
Мне стало от души жаль грузного Канищева, которому было вдвое труднее моего выбираться из таких западней, но я был бессилен помочь ему.
Перед каждым препятствием он останавливался, и лицо его отражало душевную борьбу. Я видел, что охотнее всего он уселся бы на пенек и принялся за отнятую у меня трубку. Однако, посидев в раздумье, он все же шел на штурм завала. По большей части дело кончалось тем, что он срывался сверху какой-нибудь ослизлой кучи и, посидев и посопев, принимался искать лазейку, в которую мог бы проползти на карачках. Иногда это ему удавалось. Тогда он с кряхтеньем, обдираясь о сучья, вползал в черный туннель, пахнущий мохом и прелой гнилушкой. Проходило пять-десять минут, прежде чем я встречал его, багрового от усилий, на другой стороне завала. Дыхание вырывалось из груди толстяка со свистом, какой издает предохранительный клапан парового котла.
После каждого завала ему приходилось отдыхать. Так с передышками мы шли до сумерек, а к самой темноте попали в западню, из которой от усталости уже не могли выбраться. Со всех сторон из неуютной мокрой темноты на нас глядели беспорядочно навороченные груды стволов; за этим завалом высокие вершины сосен терялись в темном небе. Канищев вымотался. Почерневшими от жажды губами он прохрипел:
– Маэстро, я пас. Давайте ночевать.
Выбрали местечко под стволом высокой сосны. Нарубленный лапник должен был спасти нас от сна в воде. Попытка развести костер не увенчалась успехом. Бились с хворостом, с гнилыми щепками, с берестой – все напрасно. Намокшее дерево с шипением гасло под струями непрестанно плачущего неба.
Усталость взяла свое, и мы оба заснули. Правда, сон не был особенно крепким. Намокшее платье остыло. Холод быстро завладел нашими усталыми телами. Было трудно отогреться под насквозь промокшей шинелью Канищева, а мое бобриковое полупальто служило нам подстилкой.
6. Тайга и сонеты
Чуть забрезжил рассвет, мы были на ногах. Не скажу, чтобы мы выспались, но немыслимо было дольше лежать от трясущего нас озноба. Натянутый на голову резиновый мешок из-под карт перестал создавать иллюзию тепла. Дыхание лишь собиралось на поверхности резины, и холодные капли падали нам на лица.
Решили двигаться в путь. Но сначала поели: по два квадратика шоколада и по глотку портвейна. Канищев взмолился, и я отдал ему половину оставшейся у нас бутылки нарзана.
На этот раз несколько удобнее связали имущество, получилось нечто вроде вьюка.
Сегодня бурелом не казался таким отчаянно непроходимым. Канищев довольно бойко нагибался, чтобы пролезть под стволами, повисшими на сучьях соседних деревьев. Он даже без особенной брани вытягивал ноги из наполненных ржавой водой ям.
Но эта резвость была недолгой. Часа через два мы увидели, что, в сущности говоря, идти по-прежнему непереносимо тяжело.
– Скажите на милость, маэстро, какой леший играл здесь в свайку и нагородил эту чертову прорву стволов? – сетовал Канищев. – Ведь старайся, как лошадь, нарочно такого не наворотишь.
Я не успел подать реплику: ноги скользнули вперед, обгоняя мой ход. Я быстро пополз на спине с косогора, прямо в объятия заросшего камышами болота.
– Ого-го-го! – донеслось сверху. – Куда вас унесло?! Ау!
– Полегче там! – отвечаю. – Я уже съехал этажом ниже.
Но вот мои ноги уперлись в топкий берег. Оказывается, это вовсе не было болото. Желтые листья, пятнистым ковром укрывшие поверхность воды, заметно для глаза двигались. Течение! Река!
– Алло, сюда! – радостно крикнул я наверх.
– Ну что же, одно из двух: это или очень плохо, или очень хорошо, флегматично резюмировал Канищев. – Если нам нужно через нее переправляться – плохо; если можно идти берегом – хорошо. А каково дно? Перейти можно? – осведомился он.
– Судя по всему – тина.
– А направление течения?
Я сверился с компасом.
– Почти строго на норд.
– Не попробовать ли идти по течению? – после некоторого раздумья сказал Канищев. – Вероятно, это один из притоков Лупьи или сама Лупья в натуральную величину… Я почти в восторге!… Вы какого мнения, маэстро?
Я и на этот раз не разделил его восторга.
– Нам ничего другого и не остается, как идти по течению, раз не можем переправиться. И есть ли смысл переправляться, чтобы плутать с компасом по этому проклятому лесу?
– Давайте попробуем. Но только, чур, я уж сначала попью. Напьюсь вволю и наберу с собою воды в бутылку.
Идти по берегу оказалось совершенно невозможно, настолько он зарос и так близко лес подходил к воде. Волей-неволей пришлось уклониться от реки. Снова все в тот же лес. Несколько часов продирались сквозь бурелом. Местами можно было прийти в отчаяние от путаницы полуобгорелых, полусгнивших и цепких, как чертово дерево, коряг. И все же в конце концов мы снова выбрались к берегу. Судя по размерам и по направлению течения, это была уже другая река – шире и медленней прежней. Вероятно, та речка, от которой мы недавно ушли, впадает в эту. Решили идти по течению. Размеры этой новой реки внушали уважение. Если бы мы были в ином настроении, то, вероятно, смогли бы оценить и красоту ее диких берегов.
Из-за серой сетки мелкого дождя на нас неприветливо глядели высокие обрывы. Их песчаные берега потемнели от воды и были завалены все тем же нескончаемым нагромождением поваленных деревьев. В иных местах было темно, как ночью. Но выбора не оставалось. Такой уж оказывалась наша злая участь – подобно медведям продираться напрямик, только вперед.
Ветви деревьев, тесно сгрудившихся на нашем пути, цеплялись за нас, не желая выпускать из своих мокрых объятий. Их гостеприимство не останавливалось перед тем, чтобы в кровь раздирать нам лица, оставлять себе на память клочья нашего платья. Но мы шли, пренебрегая этим жестоким приемом. Иного пути нам не было. Мы шли из последних сил, пока Канищев не опускался в изнеможении на какой-нибудь особенно трудный для преодоления ствол. Тогда поневоле приходилось делать роздых.
Скоро путь стал несколько разнообразней. Круча берега время от времени сменялась небольшими отмелями с жесткой желтой травой – там, где река делала повороты. Отмели были пологи и подходили к самой воде. Мы без труда черпали ее, и одно это было уже большой отрадой посла двух суток выбора между жаждой и питьем из болот.
К вечеру дождь почти перестал. Надо было подумать о ночлеге. И на этот раз счастье, кажется, нам улыбнулось: на одной из отмелей мы наткнулись на серый, по-видимому очень давнишний, стожок сена. Сено было трухлявое, местами совсем черное, затхлое. Оно давно сопрело. Какими судьбами его сюда занесло и как сохранился этот стожок? Вероятно, дровосеки или сплавщики заготовили когда-то, да так и бросили.
Я принялся выкапывать в стоге нору для спанья, пока Канищев разводил костер. Весело взвились к темному небу языки пламени, суля тепло. Как это здорово – согреться и обсушиться перед сном! Не без труда подвешенная над пнем кружка обещала нам нечто вроде горячего чая, правда, без единой порошинки китайской травы. Но разве при достаточной силе воображения мутная вода не может сойти за самый высокосортный чай?
Столбом валил пар от подставленных к огню ног. Платье дымилось, будто горело. А впрочем, быть может, оно и тлело местами, – нам было не до таких пустяков. Мы подбирались к огню так близко, как только терпело лицо. Насладиться теплом! Вот единственное, чего нам хотелось.
Сапоги почти просохли. Но шинель и пальто пропитались водою насквозь – они были безнадежны.
У костра было так уютно, что не хотелось лезть в тесную «спальню».
Лукаво подмигнув, Канищев принялся рыться в своем рюкзаке. Я решил, что меня ждет приятный сюрприз. Интересно, что же он приберег для такого случая, как вечер у яркого костра? Печенье? Кусок колбасы?… А может быть, банку хороших консервов?
Ждать пришлось недолго – Канищев вынул со дна рюкзака плоский сверток в пергаменте. Я понял, что буду пить «чай» аж… с шоколадом!
Хитрый толстяк, подогревая мой аппетит (в чем, право, не было надобности), с нарочитой медлительностью разворачивал пакетик. Вода в кружке уже бурлила. Я бережно снял ее с огня. Кипяток с шоколадом!… С шоколадом!
– Ваша очередь, – сказал я, глотая слюну, – по старшинству.
– Да, я с удовольствием… – ответил он, улыбаясь, и наконец раскрыл бумагу
В руке у него был маленький томик в изящном переплете красного сафьяна. Обрез бронзовел благородной патинной позолоты.
Канищев надел очки и наугад раскрыл томик:
…it is an ever fixed mark,
That looks on tempets, and is never shaken,
It is the star to every wanderinq bark
Whose worth’s unknown, although his height be taken…
Всей жизни цель – любовь повсюду с нами,
Ее не сломят бури никогда,
Она во тьме над утлыми судами
Горит как путеводная звезда…
Голос Канищева звучал все чище. В нем не слышалось теперь ни хрипоты, ни обычной одышки. Он читал наизусть, закрыв томик:
Одна любовь крушенья избегает,
Не изменяя людям до конца…
Щеки Канищева вздрагивали, он держал очки в руке наотмашь, и стекла их при каждом движении вспыхивали, как цветы из багряной фольги. Это было неправдоподобно: тайга, стог сгнившего сена, просыхающие сапоги над костром и… сонеты.
Коль мой пример того не подтверждает,
То на земле никто любви не знает.
Я забыл о вожделенном шоколаде, и кружка стыла на земле. Дождевые капли взрябили в ней воду. Я взял кружку и с церемонным поклоном подал чтецу. Он принял ее, как, вероятно, принимали когда-то кубок менестрели, и, выпятив толстые губы, стал отхлебывать мутную жижу. Она была еще горячая.
Канищев сделал несколько глотков и так же церемонно вернул мне кружку. Я снова поднял ее, и, пока, обжигаясь, тянул кипяток, Канищев прочел еще два или три сонета.
Однако дождь скоро заставил все же Канищева спрятать сафьяновый томик и загнал нас в сенную нору.
Ну что же, в конце концов тут было не так уж плохо. Особенно после ночлегов под открытым плачущим небом. Жаль только, что наш дом так эфирен. Стоило Канищеву повернуться с боку на бок, и из стенки спальни вывалился огромный кусок. А к утру окон стало так много, что спальня вентилировалась лучше, чем надо. И все же убежище оказалось достаточно теплым, чтобы превратить мокрое платье в хороший согревающий компресс. Холод мы почувствовали, только вылезши наружу, чтобы приняться за остатки шоколада и кипяток.
7. Капитан – самозванец и гурман
День начался большим развлечением. Возле крутого берега мы увидели застрявший плот и решили воспользоваться им для плавания вниз по реке.
Канищев отрекомендовался специалистом плотового дела. Приходилось верить на слово. Мы сбросили с плота бревна верхнего ряда, казавшиеся лишними, навалили кучу ветвей, чтобы багаж не проваливался в воду, и, вырубив несколько длинных шестов, отправились в путь. Отплытие ознаменовалось купанием: мы по очереди сорвались в воду и снова промокли до костей.
Но непривычная тяжелая работа с длинной слегой хорошо разогревала. Я едва успевал перебегать с одного борта на другой по команде «капитана», стоявшего на корме и направлявшего ход плота своей жердиной.
Познания Канищева в плотовом деле обнаружились очень скоро: уже через четверть часа мы сидели на коряге, и как-то так странно вышло, что мы засели не носом и не кормой, которые легко было бы снять простым балансированием, а самой серединой. Плот взгромоздился на огромную позеленевшую корягу, загадочно улыбавшуюся нам замшелыми морщинами сквозь рябь воды. Пряди ее зеленой бороды развевались по течению.
– Экая досада! – смущенно бормотал Канищев. – Ведь место-то какое глубокое… Все так хорошо шло… Ну да ладно, давайте с левого борта от себя и вперед… Так, так!… Еще! – весело покрикивал он, входя в роль.
Но по всем его ухваткам я уже разгадал, что этот плотовщик-самозванец имеет самое отдаленное представление о методах управления нашим неуклюжим судном.
Ноги скользили по мокрым бревнам. Слега глубоко уходила в песчаное дно. Наклоняясь к самой воде, я упирался в конец шеста наболевшим плечом.
Неверный шаг, и я полетел вверх тормашками, цепляясь за настал плота, чтобы не выкупаться еще раз на середине реки.
«Капитан» менял распоряжения каждые пять минут. То «слева и вперед», то «справа и назад», и так до тех пор, пока мы окончательно не выбились из сил.
Итак, за несколько часов мы продвинулись всего на полверсты. Теперь мы решили отдохнуть, предоставив течению поработать за нас.
Однако миновал срок отдыха, а плот оставался там, где стоял. Мы снова долго возились с длинными слегами. Коряга цепко держала плот. Ничего не оставалось, как только раздеться и вброд переправиться на берег.
Если бы кто-нибудь мог себе представить, как отвратительно вынужденное купание в этих широтах в начале октября!
Через час мы снова, уже наполовину измотанные борьбой с неподатливой корягой, брели лесом по высокому берегу Лупьи. Шли как можно скорей, чтобы согреться. Но в этот день было как-то особенно тяжело идти. Или, может быть, это так казалось после радостной перспективы спокойного плавания, которую мы себе рисовали, садясь на плот?
Наша обувь, кажется, была согласна с нами: путь был и ей не по силам. Сапог Канищева жадно разинул пасть. Мои ботинки, давно уже превратившиеся в белые скользкие опорки, тоже дышали на ладан, и я с трепетом следил за тем, как предательски жалобно, на манер больной лягушки, на каждом шагу хлюпала подметка. Что я буду делать, когда она отлетит? Босиком идти здесь невозможно.
Если бы еще хоть на часок перестал дождь!
Нам было уже все равно – сухи мы сами или мокры. Хотелось только подсушить багаж – хотя бы для того, чтобы он стал легче. В вате моего полупальто было не меньше полупуда воды. Сняв его на плоту, я уже больше не мог просунуть руки в рукава. Они стали тесны, словно туда напихали набухшей губки. После длительного совещания мы пришли к необходимости бросить его. Прощай, наша ночная подстилка!
К концу дня я настоял на том, чтобы и Канищев облегчил свою ношу. Нужно было идти скорее, а нас очень задерживали приборы. После настоящей ссоры мы бросили психрометр и альтиметр. Сохранили только барограф единственный нелицеприятный свидетель того, сколько времени мы летели, на каких высотах, с какой скоростью, как управляли аэростатом.
Багаж Канищева стал более компактным. Я взял у него все, кроме шинели и барографа. На спине у толстяка остался тюк из пудовой шинели, пристроенный ремешками от брошенных приборов.
Думаю, что вид наш был очень жалок. Но настроение пока оставалось сносным.
Когда я застегнул на груди и спине Канищева сложную систему ремешков, удерживающих поклажу, он удовлетворенно крякнул.
– Вот теперь, маэстро, совсем другой табак! Хотя мою младую грудь в железо заковали, но дышится свободно и легко. Пошли?
И на ходу, помахивая сучковатой палкой, трагически продекламировал, как пускающийся в путь Несчастливцев:
Рука ль моя тебе над гробом строфы сложит
Иль будешь ты в живых, как я сгнию в земле…
Мы шли недолго. Путь нам пересек глубокий овраг. Сползши туда на карачках, мы обнаружили на дне его неширокий, но быстрый и глубокий приток Лупьи.
Темно-коричневая вода была холодна, как лед. Судя по виду, я решил, что она должна быть очень горькой, и удивился, обнаружив, что она приятна для питья. Однако температура делала ее совершенно неприемлемой для переправы в брод. К тому же оказалось, что перейти ручей невозможно и потому, что глубина его не меньше трех аршин.
Два часа убили на устройство двухсаженного моста из нескольких тут же поваленных сосенок.
Переправившись, шли уже в сумерках. От реки поднимался пронизывающий туман.
Стогов, которые мы в тайне надеялись опять найти на отмелях, больше не было видно.
В потемках я провалился в кучу хвороста и, когда выбирался, увидел, что стою в десяти шагах от темного силуэта крошечной, почти игрушечной избушки. Ей не хватало только курьих ножек – точь-в-точь жилище бабы-яги.
Среди толстых тридцатиметровых сосен и елок спрятался дочерна прокопченный сруб охотничьего зимовья. Вместо крыши на жердины был набросан лапник, пересохший до того, что при малейшем прикосновении не только к нему самому, но даже к стенам избушки на нас сыпался дождь иголок. Щит, заменявший дверь, развалился и выпал из колоды.
Осветив нутро избы лучом ручного фонаря, я вполз в полуторааршинное отверстие. Мне представилось нечто до такой степени черное, что далеко не сразу глаз мог различить контуры предметов и даже самой постройки. Потолок, стены, очаг – решительно все было покрыто плотным слоем маслянистой копоти.
Здесь было черно до фантастичности – наверное, как в камере фотоаппарата.
Посредине зимовья стоял небольшой, грубо сложенный очаг. Дым мог выходить только в дверь. Земляной пол до самого порога был залит гнилою водой, черной, как деготь.
Долго я присматривался, пока увидел, что тут не все черно: были и светлые пятна – грибы в углах избы и на переводинах потолка.
Много времени у нас ушло на то, чтобы устроить постель из валежника, прикрытого еловым лапником. Но зато ложе получилось поистине королевское.
Кроме того, решили сегодня как следует просушиться и потому запасли топлива для очага.
Пламя бойко побежало по шипящим веточкам ельника, белый дым веселыми клубами взлетел к потолку и, скопившись там кудрявой сизой подушкой, нехотя потянулся к двери. Сделалось теплей. Мы принялись за ужин: по одному кусочку раскрошившегося печенья на человека.
– Смотрите-ка, маэстро, – мрачно проговорил Канищев, бережно держа в пальцах, уже совершенно черных от прикосновения к окружающим предметам, последний кусочек печенья величиною в почтовую марку, – как странно: даже в бликах огня все черное не делается светлей… Хоть бы покраснело, что ли!… Право, как душа грешника или… могила! – Он повел плечами и насупился: – «Тебя, о смерть, тебя зову я, утомленный…»
– Нет, – прервал я его решительно, – это мне не нравится.
– Не нравится? – Канищев посмотрел на меня удивленно, словно я сказал что-то очень несуразное. Потом поднял взгляд к черному, как адская бездна, потолку.
Ничто не может помешать слиянью
Двух сродных душ. Любовь не есть любовь,
Коль поддается чуждому влиянью,
Коль от разлуки остывает кровь…
Запамятовав продолжение, он было потянулся к своему мешку, где был спрятан сафьяновый томик Шекспира. Но, поглядев на свои черные руки, передумал и, полузакрыв глаза, сосредоточившись, продолжал на память:
Как вянуть будешь ты день ото дня, так будешь
День ото дня цвести ты в отпрыске своем…
…let those whom Nature hath hot made for store…
Кто на земле рожден не для продленья рода,
Уродлив, груб, суров, – тот гибни без следа!
– Это обо мне – смоковнице бесплодной… – Он посмотрел на меня и рассмеялся.
В пляшущих бликах огня он смахивал на провинциального трагика, небрежно загримированного под Отелло.
Не знаю, право, был наш вид смешон или трагичен, – нам было весело. Мы предвкушали ночь, которую сможем проспать под крышей, в тепле и в полной безопасности. Даже сам Михаил Иваныч Топтыгин не был нам страшен: шестивершковые стены хаты служили надежной защитой, а выход загораживался прочно заклиненным пнем.
Но с уютом приходит и особенно острое ощущение недавно перенесенных трудностей. Тело точно оттаивало и начинало нестерпимо болеть. Острее чувствовалась боль в кровоточащих руках.
– Ну-с, маэстро, вы какого мнения? – спросил Канищев, поудобнее подбирая под себя разутые ноги.
– О чем это, позвольте узнать?
– Разве это зимовье не служит указанием на то, что здесь бывал человек? А раз так – наши шансы повышаются. Позавчера – стог, сегодня – зимовье, а завтра, может статься, – деревня. Как полагаете?
– Судя по всему, в зимовье уже невесть сколько времени никто не бывал, ответил я. – А от того, что во время oно здесь жили охотники и, может быть, придут сюда еще когда-нибудь, мне не слаще.
– Говоря откровенно, по-моему, не больше двадцати пяти шансов из ста за то, что мы встретим в этом краю людей… Попробуйте привыкнуть к мысли, что нам придется устраиваться на житье в таком вот зимовье и превращаться в лесных людей. Вон ведь сколько мы видели здесь дичи! Глухари сами лезут в руки. А раз так, значит мы рано или поздно научимся их ловить и получим в наше распоряжение отличное жаркое.
– Хотелось бы только получить это жаркое раньше, чем мы сами превратимся в жаркое для кого-нибудь другого, – вероятно, не очень весело ответил я. – А впрочем, утро вечера мудренее, давайте спать. Ух, черт ее возьми, какая холодная эта шинель!
– Да не будет мне бренное ложе сие смертным одром…
Канищев выколотил трубку и теснее прижался ко мне. Не знаю, долго ли мы дремали. Вероятно, не больше получаса. Нас разбудил удушливый дым, заполнивший избушку. Сырые дрова стали так чадить, что дым клубился над нашими головами, грозя задушить. Кончилось блаженство у очага. Сухих дров не было, значит не было и огня. Пришлось выбросить из очага последние головешки. На память о тепле нам остался только отвратительный угар. Чего доброго, утром от него и вовсе не проснешься.
Утро оказалось для нас еще более ранним, чем все предыдущие. Оставаться в промозглом помещении не было никакой возможности. Холод пронизывал до костей.
Когда мы выползли наружу, стало ясно, почему ночью нас корчило от холода так, что теперь зуб не попадал на зуб. Перед нами высились посеребренные морозом ели. Иней блестел на всём вокруг. Под нашими подошвами трава ломалась и хрустела, с веток деревьев спадали льдинки.
– А знаете, – с неожиданной бодростью воскликнул Канищев, – надо воспользоваться морозом: вероятно, рябина сегодня более приемлема.
И он принялся за рябину. Для меня этот завтрак не был новостью – я уже вторые сутки жевал горько-кислую ягоду.
Тщетно пытаясь преодолеть судорогу, сводившую лицо в такую гримасу, что и у меня-то во рту делалось кисло, Канищев проговорил:
– Интересно бы заглянуть в меню завтрака, который поедают сегодня наши уважаемые конкуренты Федосеенко и Ланкман.
При этих словах он аппетитно причмокнул: он был гурман.
Я знал, что, если сейчас же не отвлеку его мысли от еды, он, как чеховская Сирена, начнет фантазировать по поводу того, что заказал бы сейчас на завтрак, на обед, на ужин, и меня стошнит, как в тайне от него уже стошнило однажды, когда я переел рябины.
8. Трубка мира
Два дня прошли в отчаянной борьбе с буреломом, в проклятиях дождю и взаимных попреках. Я упрекал Канищева в том, что он слишком тихо идет; он твердил, что нельзя так мчаться, когда нет надежды на иную пищу, кроме рябины и брусники. Ко всему прочему, видимо для разнообразия, на нашем пути снова встал приток Лупьи – такой же, как первый, глубокий и быстрый. Снова построили мост. Но на этот раз наша переправа уперлась в крутой и очень высокий песчаный обрыв. В самом начале подъема вам бросились в глаза большие следы на песке.
– Глядите, друг мой Коко, здесь недавно был человек! – обрадовался Канищев. – Ясный след. Молодец-то какой здесь пер! Точно лестницу построил. А комплекция у него была основательная: ишь как промял песок!
– Да! Комплекция преосновательная, – согласился я, заметив, что каждый след лапищи кончается совершенно отчетливым рядом здоровых когтей. – Тут пер ваш тезка – Миша.
– Не хотел бы я повстречаться с ним здесь.
Одолели мы кручу откоса и на следующем роздыхе обнаружили невозместимую утрату: с ременной привязи где-то, видимо в чаще, у меня сорвало топор.
Финский нож Канищева был давно потерян. Мы остались с голыми руками. Силы убывали. Плечи ломило от ремней. Руки болели до такой степени, что с трудом держали палку. Усталость во всем теле дошла до того, что и я перестал уже нагибаться за брусникой.
Этот день стоил нам еще одной большой потери. Мы понесли ее добровольно, но от этого она была еще чувствительней и казалась нам почти преступлением: решили вскрыть барограф, сняли с барабана барограмму, а прибор бросили.
У Канищева стояли слезы на глазах:
– Ведь, по регламенту состязаний, это означает нашу дисквалификацию.
Однако вопрос стоял просто: сидеть с барографом между какими-нибудь гостеприимными стволами, пока зимою не придут люди и не найдут наши скелеты плюс барограф, или, бросив всю лишнюю ношу, все же пытаться найти жилье минус барограф? Ну, а слезы Канищева… Так он же вообще стал немного слезлив. Я уже несколько раз ловил его на том, что он украдкой утирает глаза. Правда, пока только на роздыхе.
Но в том-то и была беда, что роздыхи становились все чаще и длительней. Я мог закрывать глаза на то, что мало-помалу исчезала жизнерадостность моего спутника; я мог делать вид, будто не замечаю, как из тучного, розовощекого, любителя поострить он превращался в апатичного соглашателя, готового на все, что ни предложишь; я даже мог не особенно тревожиться по поводу того, что кожа его стала походить на измятый серый саван, который не по мерке скелету. Но я не имел права не замечать, что Канищеву просто не под силу идти. Это могло означать гибель для нас обоих. И я понимал, что если не поддержать его силы – да, говоря откровенно, и мои тоже, где-то недалеко конец.
На привалах, ставших теперь более затяжными, чем переходы, Канищев, сидя, быстро засыпал. Он был так слаб и, вероятно, так остро нуждался в отдыхе, что однажды не проснулся, даже свалившись с пенька.
По-видимому, наступил тот крайний случай, для которого я берег обойму в своем пистолете. И, оставив спящего я ушел. Впрочем «ушел» – это не совсем точно. Мне нужно было сделать всего лишь несколько шагов, чтобы наткнуться на дичь: большой осенний глухарь рухнул с ветки в двадцати шагах впереди меня. Я выстрелил раз, другой. Было ясно, что мои ослабевшие руки не слишком-то приспособлены для стрельбы по стремительно движущейся цели. Но азарт и обида заставили меня в третий раз нажать на спуск. Увы, третий выстрел был так же безуспешен, как первые два. Со всей доступной моим ослабевшим ногам быстротой я устремился вперед вслед за глухарем. И я его скоро увидел. А может быть, это был совсем другой? С закушенной от досады губой я прицелился и выстрелил еще два раза. Теперь у меня не было ни глухаря, ни пяти патронов, истраченных попусту. Поняв наконец, что нельзя стрелять, когда пистолет едва держится в руке, я, понурив голову, вернулся к Канищеву. Он проснулся и, очевидно, понял, что означали выстрелы: выйдя из чащи, я встретился с его жадным взглядом. Но в руках у меня не было ничего, что можно было есть, – только пистолет с двумя последними патронами.
– Оставьте их на всякий случай, – хмуро сказал Канищев. – Мало ли что…
– Медведь? – спросил я.
– Может быть, и медведь… – ответил он и отвел глаза.
К ночи мы наскоро сложили себе шалаш. Это было зыбкое сооружение из хвороста. Нам нечем было даже нарезать лапника для постели, а наломать его не хватало сил.
Разрезав лезвием бритвы крагу на стертой до крови ноге, я заснул у костра с зажатым в кулаке пистолетом. Канищев вооружился фонарем. Это оружие он считал самым надежным в случае визита медведя.
– Как засвечу в морду, будет версту бежать!
Сегодня небеса нас пожалели. Дождь прекратился. У костра, который мы по очереди поддерживали почти до утра, можно было немного обсохнуть и обогреться. После ночлега в сене эта ночь на высоком обрыве под ясным небом, над самой рекой, темной лентой уходящей в наше неведомое будущее, была первой сносной ночью.
К рассвету мы оба уснули, и костер погас. Как всегда, проснулись от холода.
Странным было ощущение, что не хватает сил подняться с земли. Но оказалось, что дело не только в слабости: одежда крепко примерзла к валежнику, на котором мы лежали, покрылась ледяной коркой и при каждом движении лопалась, как стеклянная.
Поспешно раздули на тлевших под пеплом костра угольках огонь. Скоро отогрели закоченевшие ноги и руки. Но лицо у Канищева почему-то оставалось совсем синим – так по крайней мере оно выглядело под неопрятной порослью бороды.
На завтрак нет ничего. Вокруг – ни одной рябины. Только брусника в изобилии розовеет во мху между деревьями. Она еще не совсем созрела, но ничего лучшего нет. Канищев больше не острит по поводу меню. Он молча опускается на колени и, переползая от кустика к кустику, ртом срывает ягоды.
У меня кружится голова, когда я пробую нагибаться, и потому, отбросив стыд, я следую примеру Канищева: ползаю на четвереньках. Собственно говоря, это только иллюзия еды – ягоды водянисты и ничего, кроме оскомины, не вызывают. Не знаю, сколько нужно их съесть, чтобы насытиться, но чтобы вырвало, теперь их нужно совсем не так много.
И все-таки сегодня седьмой день, как мы идем, и пятый день, как не едим ничего, кроме брусники. Из попытки разделить полдневный паек на восемь дней ничего не вышло. С большим трудом его растянули на два дня. Интересно, сколько же эта машина-человек может двигаться без топлива, на одной воде? На воде и сонетах… Честное слово, интересно!…
Сегодня наша поклажа сделалась еще легче: мы лишились обеих нарзанных бутылок, утопленных Канищевым одна за другой при попытке набрать воду.
Теперь нам не в чем ее держать. Стало легче на целый килограмм, но идти от этого не лучше. Ноги двигаются почти машинально, препятствия кажутся еще труднее и непреодолимее, чем раньше.
Канищев совсем помрачнел. На очередном роздыхе, поборов сонливость, он сказал:
– Вот что, дорогой мой маэстро. Если мы сегодня не встретим жилья или просто людей, дальше я не иду. Надо попробовать раздобыть настоящую пищу. Ведь у нас есть еще два патрона. Поедим, отдохнем день-другой… а там будет видно, что делать.
Мне казалось, что он и сам не хуже меня понимает несбыточность такой мечты. В создавшихся условиях стрельба из пистолета по летящей птице пустая трата зарядов. Осталось одно – идти. Непременно идти.
И мы шли.
Медленно, едва продвигаясь в чаще.
Шли почти без надежды увидеть людей.
Скупо посветившее солнце снова ушло за завесу нудного, мелкого дождика, и мы – в который уж раз – промокли до нитки. Но вот во второй половине дня мы повстречали один за другим несколько стогов. Эти стога были свежее того, прежнего, где мы ночевали. Вероятно, люди приходили сюда летом. На береговой отмели лежало и полусопревшее, еще не собранное сено.
Да, здесь пахло человеком.
Но человека не было.
– Ого-го-го!… Ого-го!…
Лес угрюмо молчал, возвращая нам только эхо.
Канищев присел на пень. Вид у него был уже не просто унылый, как прежде, а донельзя жалкий. Щеки висели, как грязные порожние мешки, и очки не скрывали черных впадин глазниц. Губы совсем посинели.
– Знаете что, маэстро?… Погуляли – и будет.
– Ну, это к черту! Надо идти.
– Идите, если охота, а по мне – лучше помереть, читая хорошие стихи. Вчера я вам говорил о двадцати пяти шансах из ста на встречу с людьми, а сегодня не вижу и пяти.
Посидев на пне, он сполз на землю. Она была пропитана водой и громко чавкнула под ним. Но, казалось, Канищеву это было уже безразлично.
Некоторое время он сидел с закрытыми глазами, прислонившись к пню и закинув голову с полуоткрытым ртом. Он тяжело дышал. Но постепенно дыхание делалось ровней. Он открыл глаза, поглядел на меня и усмехнулся.
– Пожалуй, я прав, – сказал он с невеселой усмешкой. – Помирать – так с музыкой!… А есть ли для человека звуки слаще музыки стиха?… Ежели вы когда-нибудь захотите ею насладиться, возьмите итальянцев, только, конечно, не немцев и не англичан… Шекспира я люблю за мозги… А итальянцы хороши звучанием. Когда вернетесь, найдите у меня в шкафу Петрарку… Попробуйте почитать. Удивительно!…
– Я не знаю итальянского, – ответил я так серьезно, словно только в этом и было сейчас дело.
И в тон мне он так же серьезно продолжал:
– Не беда… Поэзия – не только музыка звучаний. Симфония стиха в лаконичности больших мыслей… Да нет, даже не в лаконичности… Одним словом, послушайте.
Он обнажил голову, и в руках у него опять появился сафьяновый томик Шекспира. Я даже не заметил, когда он успел переложить книжку в шапку. Я думал, что она осталась висеть на сосне вместе со всем, что было в брошенном мешке.
По мере того как Канищев шарил в карманах, лицо его отражало все большее беспокойство.
– А вы знаете, – сказал он печально, – ведь я потерял очки. – И еще раз ощупал карманы. – Увы… – Он протянул мне красный томик: – Откройте-ка страницу сто восьмидесятую… Нет, вероятно, между сто восьмидесятой и сто девяностой… Сонет начинается так: «Моя душа, ядро земли греховной…» Нашли?
Я нашел и продолжил:
Мятежным силам отдаваясь в плен,
Ты изнываешь от нужды духовной…
Но он прервал меня:
– Нет, не нужно… Это, по-моему, неверно… Там есть завет таким, как я. Его сейчас не следовало бы и вспоминать, но все же я хочу его услышать, чтобы еще раз самому себе сказать: нельзя, нельзя уходить из этого мира, не оставив себя в будущем. Любимое дело?… Стихи?… Даже любовь?… Так кажется почти нам всем, а вот когда придешь к такому рубежу… Как это сказано у него:
Достойней прозвучали бы слова:
– Вы посмотрите на моих детей.
Моя былая свежесть в них жива,
В них оправданье старости моей.
И, подумав, продолжал:
– Да, вероятно, в этом подлинный смысл бытия…
Он взял у меня из рук томик и огрызком карандаша поперек первой страницы написал: «Лупья, 7 октября 1925. В последний день пути».
И возвратил мне томик:
– На память… Мне он больше не понадобится.
Он писал без очков, и надпись вышла кривая, с неровными буквами.
Я бережно завернул книжечку в то, что когда-то было носовым платком.
– Спасибо за подарок, но… он перестанет быть мне дорог, если вы не поборете своего дурного настроения… Сегодня мы переночуем здесь, завтра утром…
Вероятно, я не был очень уверен в том, что будет завтра утром. Канищеву легко удалось перебить меня:
– Набейте-ка мне трубку… Кажется, есть еще щепотка табаку. Вот уж воистину будет трубка мира… трубка умиротворения.
9. Все возвратить ты можешь многократно!
Когда я набивал трубку, взгляд мой упал на шапку Канищева, лежавшую у наших ног. В ее подкладку была воткнута игла с намотанной на нее длинной ниткой.
Идея, может быть, и несбыточная, но показавшаяся мне почти гениальной, осенила меня. Я взял эту нитку и сплел втрое, к концу прикрепил загнутую иголку. Я был совершенно уверен, что, привязав эту лесу с крючком к длинному пруту, получу удочку. Поплавок был сделан из сухой сосновой шишки. Для наживки я разжевал кусок бумаги, и со всем этим отправился к реке.
Крючок с приманкой заброшен. Удилище крепко, как самая большая и последняя драгоценность, зажато в дрожащих руках.
Вокруг нет ничего, кроме дремучего леса, брусники и медвежьих следов. Но, вероятно, именно потому, что нет никаких средств перебраться через широкую, быструю реку, она кажется мне рубежом, предательски отгораживающим нас от жилья, от людей, от жизни. Это ощущение так сильно, так реально, что я уже отчетливо вижу на другом берегу вьющийся над макушками елей синеватый дымок костра или избы. Мне чудится даже, что я чувствую тепло этого дыма, слышу его милый запах.
Чтобы отделаться от галлюцинации, с досадой опускаю взгляд на поплавок.
Набираю воду в нашу единственную кружку и с трудом расправляю затекшие ноги. И тут же рука моя, держащая кружку, опускается, вода льется мне на ноги. Я готов закричать от досады. Дымок по-прежнему стоит у меня перед глазами. Только этого не хватало – бредить наяву!… Стиснув зубы, снова наклоняюсь к воде. Но помимо воли взгляд исподтишка следит за дымком. Под ударами ветра его сине-серая струйка волнуется, трепещет, то стремительно взлетает вверх, то стелется над вершинами леса. Отворачиваюсь и лезу вверх по обрыву. Стараюсь думать только о том, чтобы не потерять удочку. Но, взобравшись наверх, я не могу совладать с собою и оглядываюсь. Дым стал еще гуще, он еще веселее навивается к небу. Я не выдерживаю и, к изумлению Канищева, бросив драгоценную удочку, складываю ладони рупором и что есть силы кричу:
– Ого-го!…
Мы не сразу в состоянии оценить все значение того, что на той стороне реки из-за кустов вышел мальчик.
Это не галлюцинация. Это самый реальный живой мальчуган лет десяти с выгоревшими до белизны вихрами волос, в белой рубахе без пояса и коротких, чуть пониже колен, полосатых портах. В этот миг не было, кажется, ничего глупее традиционного изображения ангела – в длинном хитоне, с крыльями за спиной, – но нам казалось, что так, именно так, как этот деревенский мальчик, должен выглядеть добрый ангел-хранитель из русских сказок.
Канищев приподнялся на руках и, так же как я, молча с удивлением глядел на ребенка. И воистину нет границ человеческим странностям: никто из нас не крикнул о том, что мы голодны, что один из нас не может больше двигаться. В один голос, перебивая друг друга, мы закричали:
– Эй, мальчик! Что это за река?
– А Лупья, однако, – ответил мальчик с таким видом, словно говорил с дурачками.
И что же порадовало меня больше всего в этом ответе?…
– Ага, значит ориентировка верна!
– А кто ты, мальчик? – вежливо спросил Канищев.
– Хрестьяне.
– Ты здесь один?
– Не.
– А с кем ты?
– С батей.
– Позови батю.
Мальчик подумал, повернулся и не спеша ушел в лес.
Долго ждем, никто не появляется. Закрадывается страх: не ушел ли паренек совсем? Время идет, страх переходит в настоящее отчаяние. Мы принимаемся звать что есть силы. Но на крики никто не выходит.
Наконец, когда мы совсем осипли, появляется тот, же мальчик.
– Цаво?
– Батю, батю-то позови!
Парень нехотя оборачивается и кричит:
– Тять, а тять!… Однако беглые клицут.
Вышел мужчина в серой домотканой одежде, с топором у пояса. Начался опасливый допрос.
Переговоры кажутся нам нескончаемо долгими. Лесоруб хочет знать о нас все: кто, откуда, зачем, есть ли оружие. Он полон недоверия и опасений. Видно, жизнь в этих далеких лесах не обеспечивает от неприятных встреч. Наконец нам удается убедить его в том, что мы не убежали из лагеря, не имеем никаких дурных намерений, только и мечтаем о том, чтобы поскорее найти каких-нибудь представителей власти. Еще поразмыслив, лесоруб наконец вытаскивает из-за пояса топор и принимается за дело. Одна за другой падают под звенящими ударами елки. Вихрастый паренек проворно освобождает их от ветвей, и через какой-нибудь час готов плот, а еще через полчаса мы сидим на том берегу возле костра Павла Тимофеевича Серавина, крестьянина деревни Ржаницинской. Он пришел сюда накануне косить. Пришел косить? Значит, деревня рядом?… Ну конечно, рукой подать!
– Двенадцать верст напрямки будя.
– А если идти рекой, берегом, как мы шли? – интересуется Канищев.
Серавин подумал.
– Суток, однако, на двое пути хватит.
Канищев качает головой: ему ни за что не дойти.
Павел Тимофеевич говорит много и быстро, но понимаю я мало: путают ухо «ч» вместо «ц», а «ц» вместо «ч». Пока над костром сушится обувь, Канищев расспрашивает Серавина и посвящает меня в историю этих краев:
– Это – самый чистый русский народ, какой, вероятно, у нас сохранился, говорит он уверенно. – Заметьте, здесь никогда не было крепостного права. Полная самостоятельность и независимость всегда отличали этот край. Теперешняя Северо-Двинская губерния, а прежде Вологодская, сохранила черты оригинальной северной культуры.
Все это произносится так, словно договориться именно об этом сейчас важнее всего; словно это кто-то другой, а не он, Канищев, восемь суток ничего не ел, не он собирался умирать на последнем привале.
– Это вы верно, – прислушавшись, отозвался Серавин, – крепостного права здесь не бывало. Однако вот прежде по всей Выцегде сидели Строганы. Их места были. Строганы да монахи… Тут скитов – цто деревьев. Но мы все одно, однако, были вольными, – с гордостью добавил он.
Серавин-отец просушил у костра намокшие онучи и стал обуваться. Глядя на него, начал обуваться и мальчик. Они делали это рачительно, крепко заматывая онучи и обвязывая ремешками от поршней. Потом Серавин оглядел нашу обувь, ничего не сказал, но по тому, как он покачивал головой и цокал языком, можно было судить о недоверии, какое внушали ему наши опорки.
Подумав, он велел сыну вырубить четыре длинных жердины. Назначение их оставалось для нас загадочным до самого того момента, как Серавин построил нас в походный порядок. Первым шел он сам с довольно тяжелой жердиной, которую держал в руках поперек пути, как канатоходцы держут свои балансирные палки. Вторая жердина – поменьше – была дана мальчику для той же цели. Остальные две служили как бы своеобразными перилами, тянувшимися от отца к сыну по правую и левую сторону от нас, грешных. Серавины большой и малый – укрепили эти поручни у себя под мышками таким образом, что Канищев как бы повис на них. Я сделал было попытку занять последнее место в процессии, но Серавину не пришлось тратить много слов, чтобы убедить меня в том, что и мне, хотя я чувствую себя гораздо бодрее Канищева, лучше держаться возле поручней. Для убедительности Серавину было достаточно показать мне открывшуюся за ближайшими деревьями переправу через широчайшее болото: брошенные без всякой крепи жердины, где две рядом, а где и в один ряд. Я понял, что пробалансировать по такому «мосту» будет не легко.
Мы пошли. Отец ловко скользил мягкими поршнями по жердям, за ним, едва передвигая ноги и всею тяжестью повиснув на «поручнях», плелся Канищев.
Скоро я увидел, что за осокой, куда уходил конец того, что я принял за переправу, открывается новое болото, за ним третье – и так без конца-краю, без перемычек суши.
– Велико ли болото-то? – спросил я.
– Да верст с десяток будя, – спокойно ответил Серавин.
Я со страхом подумал о том, как-то пройдут эти десять верст наши спасители, почти неся Канищева.
– А всего до деревни? – спросил я опять.
– Чельных двенадчать, – как ни в чем не бывало бросил замыкавший шествие мальчуган.
Его отец передвигал ноги, не отрывая их от жердей. Я пробовал делать так же, но каблуки то и дело соскальзывали с круглых тонких жердин, к тому же подчас влажных или обомшелых. Колени у меня дрожали от напряжения, и остатки рубахи на спине взмокли от пота. Временами казалось, что я изнемогаю. Не лучше ли признаться в своем бессилии, сесть на жердь и будь, что будет? Но сзади меня слышалось ровное дыхание мальчугана. Мне было мучительно стыдно. Я глотал слезы и, подавляя готовое вырваться рыдание, заставлял израненные, дрожащие, как у старика, ноги двигаться делать шаг, еще и еще…
Вероятно, это было очень трудно, потому что к концу пути я не очень хорошо понимал, что происходит вокруг, и пришел в себя уже на твердой земле, возле избы, услышав хриплую жалобу Канищева:
– Ну и версты же у вас, Павел Тимофеевич!
– Версты – они у нас не меряны. Так ведь, по ходу сцитаем. Может статься, и гаку маненько есть.
– Да на двенадцать-то верст гаку не меньше шести.
– Может, однако, статься.
…Но наконец мы в просторной, светлой избе. Жилье во втором этаже высокого дома. Внизу – кладовые. Хозяйка, куча ребят, недоуменно глазеющих на нас из-за печки, на всем следы домовитой опрятности, того особенного, крестьянского довольства, которое происходит не от избытка, а от бережливости.
Сбросили опорки и лохмотья и сдали хозяйке – сушиться, чиниться. Скоро на столе шумел самовар и сковородка глядела на нас с шестка большими желтыми очами шипящих яиц.
Много рассказывал нам хозяин о том, как живет здесь народ. Не легко дается хлеб человеку. Мало земли. Кругом леса да болота. Сено везут за десятки верст. Зимой идут на лесозаготовки Северолеса. Получают по полтиннику с пятивершкового ствола – с валкой, вывозкой и разделкой на берегу. А за сплочение и сплав – еще по двугривенному. В зиму выходит по двести стволов с человека. Рублей полтораста. Харч свой. Жилье тоже свое. Вот в таких зимовьях, какое попалось нам, и живут.
– Почему же вы не строите в зимовьях настоящих печей, с трубами? – интересуется Канищев. – Ведь дым может просто задушить.
– А простая пецка нам не годицца. Мало тепла от нее. День-деньской по пояс в снегу, а весной во льду вороцаешься. К вецеру, как придешь, тела не цуешь. У пецки простой и просохнуть неможно. А такой вот оцаг, как у нас, жару дает много больше. Ну, Миколай Миколаиц, цайку-то есцо стаканцик?
И хозяин цедит мне из самовара кажется десятый стакан.
Изба набивается полным-полнешенька. В деревне всего восемь дворов, но народу в них не меньше сотни. Мужики – народ все здоровый, степенный.
Разговор ведется серьезный. Расспросы больше о тем – зачем мы летали, да как? Зачем сели в таком медвежьем углу? Удивление общее, что выбрались целы из лесу. Край кишмя кишит, по словам крестьян, медведями.
Еще не так давно грамотными здесь были только те, кто возвращался с военной службы. Зато тут все, большие и малые, знают компас.
– Во, буссоль-то у вас была, это ладно, – говорит большой бородатый мужчина. – А то бы ни в жисть и не выйти вам из лесу.
– А вы давно знаете компас?
– Как себя помним. У нашей артели свой. Старый вот только, деревянный еще. От дедов достался. А без него нельзя.
Газета бывает здесь иногда у хозяйского брата, Зотея Тимофеича.
Ночью простились с хозяевами и в лодке отправились на другую сторону Вычегды, в Сойгу, ждать парохода.
– А когда он здесь ходит? – спросили мы у хозяина.
– Тоцно сказать затруднительно. Вот нынце прошел, к примеру, тот, цто должен был идти третьеводнись. Мозет, завтра пойдет, а мозет, и церез неделю. Да там, в Сойге, подоздете. Там у Якова Ивановича дом не хузе других. И харц он вам предоставит.
Действительно, дом у этого Якова Ивановича оказался преотличный. Мы жили у него четыре дня до парохода. Отсюда же и депешу отправили в Москву – с нарочным на телеграф, за пятнадцать северо-двинских верст.
А потом поплыли по Вычегде на стареньком, скрипучем пароходике. На палубе громоздились зыряне с востроносыми лайками – на Урал за охотой. А в буфете первого класса, куда нас, оборванных и грязных, пустили с явной опаской, заразительно вкусно дымилось в стаканах кофе и разносился запах ветчины, поджаренной с луком.
…Разноцветное поле карты-десятиверстки безобидно глядело на нас зелеными узорами лесов. Все на ней было так просто, ясно и мирно. Моя курсовая черта уверенной черной стрелой упиралась в излучину Лупьи. Всего каких-нибудь пять дюймов, не больше, отделяли место нашей посадки от жилья.
И на этих-то пяти дюймах мы восемь суток боролись с лесными завалами?
Чуднo и даже немного стыдно. А впрочем, плохо подсыхающие ссадины рук и гноящаяся рана на ноге говорят о том, что прогулка была не легкой.
Но дело не в ссадинах. Даже не в пяти предательских дюймах карты, отделявших нас от жизни. Больше всего занимает вопрос: где остальные участники состязаний? Кто пролетел дальше всех? Ох, скорей бы добраться к газетам!
…И вот мы в Москве. Полета нам не засчитали, хотя наш шар прошел немного большее расстояние, чем шар Федосеенко и Ланкмана. По регламенту состязаний, барограф должен был быть представлен жюри в запечатанном виде, а ведь мы принесли только вынутую из прибора барограмму, Поэтому победителями все же признаны Федосеенко и Ланкман. Вполне справедливо, но очень обидно и немножко стыдно. Неужели так-таки и нельзя было не бросить барограф?
– Это вы виноваты, маэстро, – не очень уверенно попрекнул меня Канищев. Если бы не так обо мне заботились, не бросили бы прибор…
Но сейчас же, чтобы загладить этот выпад, он взял меня под руку.
Мы вянем быстро – так же, как растем,
Растем в потомках, в новом урожае…
И тут я достал из кармана и отдал ему сафьяновый томик Шекспира. Это не тот, это мой, но он почти так же хорош, как подаренный мне на берегу Лупьи.
А тот, заветный, на переплете которого остались следы болотной воды и в алый сафьян которого въелась жирная копоть костров? Вот уже тридцать лет стоит он в моем шкафу за стеклом, хранится так, как если бы надпись на первом его листке сделал сам Шекспир. Ведь он был вместе с нами! Да, да, что бы мне ни говорили – он был с нами. Разве это не он мок в болотах, коптился у костров, ел бруснику? И потому никогда не расстанусь я с этой книжечкой. Она как красный камень на дороге моей жизни, камень, у которого я и свернул сюда, в литературу…
Село Медвежье на Вычегде – Москва, 1926.
Примечания
1
Гайдроп – толстый канат длиною 80 метров, выпускаемый за борт для уравновешивания аэростата при посадке.
(обратно)
2
Кумулусы – дождевые облака.
(обратно)
Оглавление
Скала Красный камень (Уфалей, Коркодин)
«Красный» у русского народа означало «красивый», но не в этот раз. Красотой эти скалы вроде не блещут, а название получили, скорее всего, за оттенок камней, из которых состоят. Он не ярко выражен, но просматривается. Хотя видели мы и поярче, например, скалы «Розовый замок» на горе Юрма. Вообще, скал с названием «Красный Камень» в России множество, даже в Уфалее есть, прямо возле вокзала, а именно эти находятся недалеко от станции Коркодин на Уфалейском хребте.
Я давно знал про этот Красный Камень, что путь туда неблизкий, и туристы толпами там не ходят. Но все никак не попадал в эти места по разным причинам. Однажды только, много лет назад, ходил на плотину заброшенную недалеко от Коркодина, и места эти мне запомнились своей глушью и обилием животных, особенно копытных. И вот, наконец, пришло время мне увидеть эти скалы своими глазами.
Я подготовил маршрут, куда включил кроме Красного Камня еще скалы Мшистые в паре километров от него, и лесную избушку «Усадьба Ермака», о которой слышал от других путешественников. Скалы Мшистые — это пока неофициальное название, но я надеюсь приживется, почти все камни мхом заросли. Ну, и так как я фотограф, мне хотелось сделать снимки этих скал, а всем известно, что фотографировать скалы лучше всего весной, пока нет листвы на окрестных деревьях, так лучше видно.
Забегая вперед, скажу, что Красный Камень высотой и интересными формами не отличается, метров 30, а вид с него частично скрыт елками и березами, которые возвышаются над вершиной. Лично мне больше понравилась сама дорога, а то что случилось на второй день, и вовсе было для нас за гранью. Да еще весной эти края — настоящее царство клещей, за день сняли с себя столько, сколько за всю жизнь не видели! Поэтому мы запомним этот поход надолго. Ну и обо всех наших приключениях предлагаю сей рассказ.
На Красный камень сквозь полчища клещей
8, 9 и 10 мая выдались в кои-то веки три выходных дня подряд, и совпало это с хорошей погодой и довольно теплыми ночами, ниже 4 градусов вроде температуру не обещали, а днем вообще 21. Поэтому мы немедленно решили покинуть сумасшедший город, и укрыться в лесах. Александр выбрал маршрут, которым давно уже хотел сходить — Красный Камень, недалеко от станции Коркодин в направлении Верхнего Уфалея. Поездов здесь ходило мало, всего два раза в день, но это ничего. Утренний отходил в 10 часов от вокзала, но мы решили сесть в него на станции Ботаническая, добравшись туда на метро. Так мы избегали нудных процедур досмотра на вокзале. Был небольшой риск, что не будет сидячих мест, но все равно садоводы через несколько станций выйдут…
В метро за 20 минут доехали до Ботаники, там прошли с рюкзаками километр до платформы, и еще минут 20 ждали в тени под козырьком поезд. Народу было много, все с рассадой. Сидячих мест нам хватило, так что ехали с удобством. И вагон попался новый — даже по конструкции. Полки там поднимались немного по-другому (и, кажется, были короче, чем раньше), столик тоже другой формы и с углублениями для стаканов, кондиционер, два туалета — без окон, зато просторные и чистые, даже с горячей водой и туалетной бумагой! И кран нормальный, только очень маленький.
Полки были очень мягкие, и на стене позади тоже мягкая полоска, чтобы спину не давило. Но вот проход в вагон остался таким же узким, как всегда — с груженым велосипедом пройти трудновато будет, даже с рюкзаками тесно. Шел поезд тихо, ровно, внутри было прохладно. 1 час 50 минут прошло незаметно, мы иногда поглядывали в окно, но я чаще дремала. За окном зелени в лесу было намного меньше, чем в городе.
Вышли мы на станции Коркодин, проследовав через соседний вагон — в нашем двери открывать проводник не планировала, перрон короткий. В тамбуре двери между вагонами открывались автоматически, нажатием кнопки. Людей здесь выходило мало, в поселке было пустынно. Дома были разные, но все очень скромные, а часть просто пустые. Только на улице Школьная в центре мы увидели мальчишек с велосипедами у здания детского центра, рядом памятник солдатам…
Мы свернули на дорогу левее, прошли около полутора километров до речки Уфалейки, хотели рядом с ней пообедать. Дорога шла через открытые пространства, пока еще серо-желтые от сухой прошлогодней травы. Кое-где торчали молодые сосенки, вода в речке прозрачная. А переход рядом с бродом образован насыпанными глыбами мрамора (!) Когда-то был мостик, но давно. Мы достали обед, поели курицы с картошкой и огурчиком, и закусили конфетами. Теперь надо было понять, как переправляться на другой берег.
Сначала попытались пройти по осколкам мрамора, но с тяжелыми рюкзаками это оказалась опасная затея — все камни шевелились, и можно было не только упасть в реку, но и ноги переломать. Так что мы решили разуться, закатать штаны, и перейти вброд. Глубина маленькая. Пошли бодренько в воду, дно было твердое, только камушки слегка острые. Но, пройдя буквально три метра, я почувствовала, что ноги просто выворачивает от боли — вода мне показалась ледяной! И я вернулась обратно. Постояла, пока боль прошла, и пошла другим путем — сначала по грязи, а уж потом коротким маршрутом, Александр мне там помог, подал руку, и я успела проскакать до берега. Ну, на берегу, конечно, попрыгала немного с шипением… Мы снова надели кроссовки, и отправились дальше.
Основная дорога уходила налево, там есть недостроенная плотина прямо посреди леса, и несколько уютных карьерчиков. А наша — правее в лес. Она была земляная, и грязная с самого начала. Земля была вся напитана водой после таяния снегов, и ясно, что просохнет еще не скоро. Это было для нас критично, потому что Александр не успел до похода купить новые кроссовки, и пошел в старых, у которых была трещина на подошве, так что ему надо было выбирать самые сухие участки, чтобы не замочить ноги еще в начале пути. А еще он опасался, что намокнув, обувь просто может развалиться, хоть и адидас. Вот такие пироги… Поэтому шли мы осторожно, и не особенно быстро.
Каких-то особых красот пока не было видно. Лес был больше лиственный, еще голенький, и какой-то неряшливый — много хилых деревьев, много упавших, гнилых. Зато цветет множество цветов — синяя медуница, в основном, и немного желтых и белых. Был только участок посаженного людьми ельника, с ровными пушистыми и статными елками, там мы сфотографировались. А потом дорога спустилась в низину, и начались заболоченные, мокрые участки. Я-то в приличной обуви спокойно проходила там, а вот Саше приходилось искать всякие обходы.
И сразу же оправдались мои опасения по поводу клещей — их здесь было ОЧЕНЬ много. Они непрерывно карабкались по нашим штанам, как-то попадали на руки, на футболки, и даже на шею — только успевай отдирать! В одном месте Александру показалось, что он здесь не пройдет, и он побрел искать другой путь. Искал долго, ушел далеко, промочил-таки кроссовки, нацеплял на себя кучу клещей, разодрал руку о ветку… Потом переобулся в сланцы, и по длинной дуге обошел болотину, а я прошла напрямик, по кочкам.
Дальше был кусок дороги поприличнее, а потом снова болотина. И везде нас караулили клещи. Они сидели на траве, а по большей части на кустах на высоте около метра, и у нас скоро уже не было сил и желания их аккуратно снимать травинками — мы просто хватали их пальцами, и выкидывали подальше. Местами мы обходили заболоченные участки по лесу или полю. В одном месте прямо перед нами взлетели из кустов две рыжие торпеды — рябчики. Потом видели двух очень крупных сов — светло-серых, с размахом крыльев не меньше метра. У них где-то рядом было гнездо, и они не улетали далеко. Но сделать фото все равно не удалось, совы садились в мешанину веток, перелетали с места на место.
На горках дорога становилась посуше, получше. Видели мы еще тетерева, на которого я сначала подумала, что это гусь. А уж мелких птичек — не сосчитать. Дроздов великое множество, один прямо из-под ног взлетел! Чуть ли не все ольхи и осинки были погрызены и ободраны лосями, да и помет их постоянно встречается, а также помет косуль. А еще видели странные какушки — длинные, изогнутые, будто сплетенные из травы, и другие, как маленькие гнезда из шерсти. Чье это «добро» — мы так и не поняли.
Мы поднялись на сосновую горку, и там решили сделать короткий привал, как раз часа четыре вечера, можно и по яблоку на полдник съесть, и полежать немного — плечи от рюкзаков с непривычки болели. Потом спустились с горки, видели большой разлив речки Малая Уфалейка, но дорога его обошла справа. И вот в какой-то момент Александр сказал, что наша дорога должна идти по другой стороне ручья, что течет в низине. Спустился он к ручью, посмотрел, можно ли там перейти, и крикнул мне, чтобы я к нему шла. Ручеек оказался узеньким, перешагнуть можно, дно каменистое, вода чуть мутновата, но довольно чистая. Я на всякий случай набрала бутылку.
Мы поднялись к нужной дороге, она поначалу была грязная, но потом снова вышла на горку с сосновым лесом, и стало лучше, даже клещей поменьше. Местами под ольшаником были толстым слоем насыпаны ольховые мягкие сережки. Довольно долго мы шли без особых «затыков», потом в 16.50 снова прилегли на расстеленные куртки отдохнуть. К этому времени мы прошли около 10 км, а всего надо было одолеть 16 с половиной. Солнца на небе уже не было, и это было хорошо, и так идти душно, а так еще жарче было бы. И еще у нас уставали ноги, потому что дорога была чересчур мягкой от прошлогодних листьев и влажной земли, все это проминалось, и ноги проваливались.
Потом мы еще долго топали, и дорога нас уже прилично вымотала — плечи ныли, ноги уже тоже просили пощады. А еще Александр не слишком часто поглядывал в свой навигатор, и прозевал нужный поворот налево. Когда обнаружил промашку, надо было возвращаться примерно полкилометра. На предложение пойти сразу через лес, чтобы срезать, я вежливо, но твердо отказала — сколько там клещей, наверное, не сосчитать никому. Так что пошли обратно по дороге, с трудом нашли старую тропу, местами пропадающую совсем. Вот она нам и была нужна, вела к «избе Ермака».
Чтобы не потерять путь, надо было обладать способностями индейского следопыта… Кстати, мы порадовались, что пока нет травы, потому что если прийти сюда летом — колею эту ни за что не найти. Я-то вообще не понимала, зачем нам туда идти, но, зная страсть Александра к лесным избам, возражать не стала… Колея долго петляла по склонам горы, потом спустилась к тонкому ручейку, и мы его перешли. Дальше были снова петли по березовому лесу, и еще один ручей, побольше, с довольно чистой водой. До избы было уже недалеко. Я спросила, последний ли это ручей у нас на пути? Получив положительный ответ, я слила воду из своей маленькой бутылки в большую, и налила в маленькую воды из ручья, чтобы хоть немного увеличить наши запасы.
Тем временем ноги мои начали протестовать, их то сводило, то в них стреляло, то ступню надавило… А еще от духоты и нагрузки заболела голова. Да к тому же я вспомнила, что сегодня вообще ничего не пила, кроме чашки чая на завтрак, наверное, и обезвоживание давало о себе знать. Но я помалкивала, тихонько мечтая о привале. И еще говорила себе, что больше в сторону Полевского в пеший поход, да еще весной, ни за что не пойду. Леса здесь мне не нравятся, я люблю больше сухие сосновые боры, а уж про клещей вообще молчу! Совершенно не дают расслабиться, только и думаешь, чтобы не тяпнули, осматриваешься каждую минуту и сшибаешь щелбанами.
Александр думал думы о новом рюкзаке — то ли брать, то ли не брать. И усталость ему нашептывала, что не стоит тратить не малые деньги, чтобы потом так мучиться — лучше уж ездить на велосипеде, чем таскаться пешком. Дорога была бесконечной и какой-то однообразной и безрадостной, хотя вроде и цветочки кругом… Было чувство, что мы идем все медленнее. Но вот в 6.20 вечера мы добрались до «Усадьбы Ермака» — за деревьями замаячили деревянные строения.
Усадьба Ермака стояла на вырубленной поляне метров 30 в диаметре, на берегу ручья, где было устроено место, чтобы набирать воду. Если смотреть с дороги, справа туалет, слева — поленница, дальше против часовой стрелки основная изба, баня, и левее бани летний домик или кухня, а может, для гостей. И еще сарай, единственный закрытый на потайной замок, где более ценные вещи хранят, может, генератор… Еще там были летняя кухня со столом и скамейками под навесом, тут же мангал, на столе оставлены растительное масло в бутылке, миски, тарелки… Вообще впечатление, что только вчера здесь были люди — в ямке лежат свежие луковые очистки. К одному дереву прибит писсуар, и рядом стоит старое драное кресло. Бардак везде небольшой. Видно, что весь хлам, какой нашел, хозяин привез сюда.
Дом был открыт, и внутри мы обнаружили две двухэтажные кровати и диван, стол со скатертью, целую упаковку модной газировки «Морс». На стене висел огнетушитель, рукомойник. За баней стоял большой деревянный крест. И, кстати, здесь с меня сняли целых семь (!) клещей. Откуда они брались — не знаю. Вроде и высокой травы нет, и кустов… Как тут отдыхать-то? В завалинке одной из построек был муравейник, и его недавно полили керосином, видно, вывести насекомых хотели. Красоты особой не было, порядка тоже.
Мы сфотографировались с деревенской косой, заглянули в дом и баню, и минут через двадцать пошли дальше, к Красному Камню, до которого осталось три километра. Дорога шла как-то вокруг горы, а не напрямую. И мне показалось, что там все пять километров, так я уже устала. Да еще и в горку идти! По пути видели «офис» — это хозяин избы соорудил в лесу инсталляцию — к наклонному стволу дерева тоже прибит писсуар, рядом стол, кресло, на столе монитор, печатная машинка, телефонный аппарат, рядом прислонены напольные часы… Выглядит диковато, конечно. Потом еще видели кормушку для лосей или косуль — такое корыто на высокой подставке под навесом, куда насыпают то ли овес, то ли соль.
Мы уже метры считали до Красного Камня. В одном месте стояла табличка, что до него 250 метров, но в реальности оказалось 400. Не знаю, как Саша, а я уже шла просто на одной силе воли, и тихо ненавидела окрестные леса. Александр сказал, что в интернете написано, что скалы «появляются неожиданно», и так и вышло. Они как-то незаметно маячили за большой поляной справа от дороги. И самое первое, что бросилось нам в глаза — на камне сидел мужик, рядом стоял квадроцикл. Ну, вот и приехали! Столько топать, чтобы в глухих местах застать квадроциклиста, а он еще, поди, и ночевать останется… Подошла я поближе к скалам — и они меня совсем не впечатлили, не стоят они таких усилий, что мы приложили, чтобы сюда добраться. Видали мы и покруче, и повыше, и поэффектнее гораздо.
Мы поставили рюкзаки, Александр попросил меня достать ужин, а сам пошел искать, где будем ставить палатку. Смотрю — залез на скалы, спугнул там хищную птицу, потом обошел скалы кругом. Довольно долго бродил. Я в это время решила сначала просто посидеть, дать отдых спине и ногам. Потом достала еду — жареную колбасу, хлеб и помидоры. Скоро уже и Александр подошел, и мы стали ужинать. В это время послышался треск моторов, и на поляну приехали еще два квадроцикла.
На обоих агрегатах сидели мужчина и женщина, причем один, крупный такой экземпляр, матерился вовсю, да громко так! Вот, думаю, счастье-то привалило… Если они сядут здесь бухать до ночи — я просто рехнусь, потому что уйти никуда уже не могу, устала. Но на мою удачу они просто немного потусовались на поляне, поболтали с Александром о местных дорогах, а потом собрались и уехали в сторону камня Мшистый. Мы остались одни, доели ужин, и Саша решил еще раз забраться на скалы. Дело в том, что хорошего места под палатку внизу он не нашел, и хотел прикинуть, может, наверху поставить? Там сосны растут, значит, земля есть, может, и место ровное найдется. Было уже 8 часов вечера, так что надо было уже ставить лагерь.
Вернулся он не просто так, а с сувениром — нашел что-то вроде пухового заячьего хвостика. Ну, и заодно принес на себе еще пару клещей. И, кроме того, нашел место для палатки. Объявил, что хочет добавить в наше путешествие немного экстрима и романтики… Я сразу подумала, что потащит на скалу. Подумав, что внизу все равно сыро, мрачно, и клещей тьма, я согласилась. Вот только забираться туда с рюкзаками оказалось совсем непросто — узкие места, под ногами качаются камни, земля иногда едет… Но скалолазанием заниматься не пришлось, забрались наверх относительно спокойно.
Там оказалось, что на единственном ровном месте под палатку кто-то жег костер, и я принялась палкой скидывать вниз угли и пепел. А потом еще попросила Сашу нарезать немного лапника, чтобы застелить это место — не хотелось пачкать дно палатки. Пространства на скале было достаточно, росли несколько сосен, и рядом высилась каменная вершина. Поставили палатку, и Александр поторопил меня с осмотром на клещей, а то солнце обещало скоро сесть, и в сумерках можно не заметить какого-то паразита. На одежде обнаружили двух клещей, избавились от них. Проверенную одежку забросили в палатку, и я даже волосы расчесывала снаружи — вдруг оттуда тоже вытряхнется кровопийца?
Саша мне посоветовал подняться на вершину, посмотреть вокруг. Хоть и прохладно уже было, ну да ничего, я же ненадолго! С верхушки было видно далеко, лесные просторы, и даже какие-то небольшие озерца вдали. Под скалой — поляна в окружении высоких елей и светлых берез. И тут с крайней скалы справа взлетела хищная птица, и стала кружить и кричать — видно, у нее там гнездо, и она ругала меня последними словами. От греха подальше пришлось поскорее спуститься вниз. Я забралась в палатку, а Саша еще стал мыть ноги водой из бутылки, что я набирала на ручье. Да еще опять забрался на вершину, снова напугав птицу.
Потом в палатке еще протерлись влажными салфетками, выпили чаю с печеньем, и легли спать. На улице все еще было довольно светло, и становилось прохладнее. Перед сном я замотала пуховым шарфом поясницу — а то еще промерзнет ночью. Уснули довольно быстро. Не сказать, чтобы замерзли, но прохладненько было, пришлось с головой в спальник залезать. Александру спалось плохо — все тело ныло после дневного перехода. Зато никакого холода он не чувствовал, спальник у него теплый. Да и я тоже теплый взяла, по его совету.
9 мая, в День Победы, мы проснулись довольно бодрые в 6.30 по будильнику. Причем телефон включился сам по себе, и поприветствовал меня в роуминге в Челябинской области. Я выглянула наружу — погода чудесная, солнце светит, уже с утра тепло, птицы поют. Одна синица (гаичка или московка) у самой платки по веткам скачет. Но торопиться никуда не хотелось. Мы решили сделать зарядку, собрать вещи, и спуститься вниз — делать костер и завтракать. Саша еще слазил на вершину, и снова на него накричала возмущенно птица.
Так что сегодня мы сделали зарядку без клещей и комаров. Саша, как обычно, начал меня торопить — ой, скоро солнце будет не с той стороны, фотографировать будет плохо, давай скорее собираться… Я возмутилась, что мне никак не дают отдохнуть без суеты и спешки, и отправила его фотографировать скалы, сказав, что палатку и вещи потихоньку соберу сама. Он ушел, а я еще посидела, полюбовалась на скалы — Красным камень назвали не зря, порода была с розовыми и красноватыми прожилками, иногда даже на родонит похожа. Потом все собрала и сложила по рюкзакам, Саша вернулся, и мы окончили сборы.
Когда пошли спускаться, уже другим путем, обнаружили, что скалы везде посыпаны птичьими перышками, и даже косточками — это семья соколов питается. Внизу мы направились прямиком к большой луже — надо было умыться. Вода там была прозрачная, чистая. По поверхности скользили водомерки. Мы набирали воду кружкой. Затем сделали на дороге костерок, и стали кипятить воду. Я постаралась отгрести все листья и траву в сторону, чтобы не загорелось ничего лишнего. Приходилось следить за костром — дул сильный ветер, и норовил кинуть искры и угольки на сухую траву. Перед уходом мы тщательно загасили огонь, и залили его водой из канавки.
Затем перебрали вещи, отдельно в большой пакет сложили все, что понадобится в прогулке, ведь большие рюкзаки мы хотели спрятать в лесу, чтобы идти налегке. С собой взяли бутылку с водой, все пустые бутылки, полотенце, влажные салфетки и еду на обед. Потом спрятали наши рюкзаки, так, чтобы с дороги их было не видно, взяли пакет, и в 10.30 пошли к Камню Мшистый. Идти было недалеко, километра два, частью по дороге, частью — по лесу. Где-то там еще должен был нам встретиться ручей, где мы планировали помыться и набрать воды. По пути видели множество свежих лосиных следов, обглоданные ими деревья, а также муравейники, явно разоренные медведем. Так что зверья здесь хватает.
Было уже снова жарко, хотелось пить, но нам приходилось пока экономить воду, ее у нас осталось не так много. И неизвестно, можно ли будет пить из ручья. В лесу почти не было подлеска, и потому видно далеко. И, как и вчера, наши кроссовки покрылись желто-зеленой пылью — мы все голову ломали, что это может быть. То ли опавшая листва крошится — не похоже, то ли споры грибов — так тоже, почему так много?
Дорога оказалась вполне приличной, без луж и грязи, обходить ничего не приходилось. Лес кругом не сильно впечатлял красотами, множество поваленных деревьев, но идти было приятно — тепло, свежо, птицы щебечут, цветов много, пахнет хорошо по-весеннему… А на одной березе висело штук шесть шаров, сплетенных из веток, как будто специально, как гнезда чьи-то. Но это такая болезнь у дерева, разрастание веток, в народе так и называется: «ведьмины гнезда».
Примерно через полтора километра увидели относительно широкое пространство, уводящее с дороги влево и вперед, и поняли, что, вероятно, нам туда, и Камень Мшистый там. Пошли по лесу, чуть в горку. Мне приходилось держать пакет с продуктами повыше, чтобы не порвать его о кусты, прошлогоднюю траву и молодые осинки, погрызенные лосями. Концы у них были такие острые, что и руки мне поцарапали. А кроме того, на всех этих высоких растениях поджидали нас клещи. Мы теперь их снимали не со штанов, а уже прямо с маек выше пояса.
И вот, метров через 300 показалась каменная стена темно-серого цвета — Камень Мшистый. Высота всего 2-3 этажа, зато гряда длинная. И сложено все это тонкими каменными слоями, как халва или блинный пирог. Но ничего примечательного, на первый взгляд, в нем нет. Мы решили обойти скалы по кругу — вдруг найдем что-то интересное. Обратная сторона вся была покрыта мхом, отсюда и название — Камень Мшистый. Гряда была метров 150-200, и самые высокие вершинки в центре. На одну мы поднялись, но лес закрывал вид, так что далей мы не узрели. Видели несколько ниш и маленьких неглубоких гротов.
Лазать по этим скалам было довольно опасно — тонкие пласты камня во многих местах откололись и лежали свободно, никак не закрепленные, но присыпанные листвой, так что ты на них наступаешь — а они начинают ехать под ногой, как санки! А кругом лес из осин и ольховника, и такое количество лосиных следов и помета, что просто удивительно… Интересное мы увидели у дальнего края гряды, там мы подошли к скалам совсем близко. Обнаружили маленькую пещерку со сквозным лазом, но, главное, сами камни были необычные — структура странная, и они образовывали площадки, уступы, и все были в круглых выемках, похожих на норки ласточек-береговушек. Диаметр был разным — от 10 до 25 сантиметров. А еще со скал свисал красивый мох и папоротник, наводя на мысли о джунглях…
Обойдя скалы, и вытряхнув мусор из обуви, мы отправились искать еще одну избу, до которой было недалеко, но путь неизвестен, только примерное направление. Мы только знали, что надо пройти через большую вырубку. Шли по лесу, видели большую лужу с совершенно прозрачной водой, и оттуда вытекал небольшой ручеек. Сначала подумали, что это ключ. Но потом посмотрели внимательно — нигде в луже движения воды нет, а вся земля на склоне выше — влажная. Так что это просто собралась талая вода с горы. Александр там умылся, а вот пить мы не стали. Надеялись, что возле избы все равно должен быть ручей питьевой водой.
Вышли мы на вырубку, она была старая, пни и остатки бревен уже давно подгнили, многие просто в труху превратились. Вся земля была взрыта глубокими колеями от лесовозов, и во многих стояла вода, приходилось прыгать через них. Все поросло молодыми елками и кустами, а также ольховником. И везде сидели, радостно потирая лапки, клещи. Сколько мы их здесь с себя сняли, вообще сосчитать невозможно. Вырубка тянулась очень далеко, на целый километр, и вела все вниз. Стояла жара, нам так хотелось пить!
Вот мы приблизились к краю леса, справа шел овражек, и в нем, как мы предполагали, ручей. Еще пара шагов, и мы увидели за деревьями крыши строений, видно, что новых. Заметили колею от машины, и по ней вышли к избе. Это место с первого же взгляда нам понравилось больше, чем «усадьба Ермака». Здесь и поляна была большая, вдоль ручья, и повсюду порядок… С того края поляны, откуда мы вошли, справа стоял приличный туалет, дальше — новый дом с терраской, и в нем даже маленькие пластиковые окошки вставлены, напротив — летняя кухня. Все двери строений были не закрыты, а в баньку так вообще приоткрыты — чтобы сырость не копилась.
Внутри эта летняя банька была обита серебристым изолоном, пол вымощен деревянными кружками-спилами. На печку были накиданы камни. А рядом строилась капитальная баня. И на дальнем краю участка виднелась еще одна, совсем старенькая. Стояла она недалеко от самодельного моста через ручей. По этому мостику аккуратно могла и машина проехать. К ручью от дома вела тропка, у воды обустроена площадка, чтобы можно было подойти набрать. А вода там текла совершенно прозрачная, холодная и на вкус приятная. Мы сразу во всю тару налили запас. А Саша еще и выпил пару кружек, спасаясь от жары.
Потом Александр поснимал территорию — треугольные штабеля досок, сложенных для просушки, напиленные березовые чурбаки, белые цветочки на поляне. Мы дошли до места, где ручей делает поворот налево, и до мостика. За ним начиналась дорога, ведущая через покос со стогами сена к лесу, и Саша отправился туда посмотреть, нельзя ли нам вернуться по ней к Красному Камню, чтобы не тащиться снова по вырубке. Я же вернулась к березовым чурбакам, и накрыла там обед. Местечко было чудесное, кругом синие и белые цветы, и один большой чурбак как раз заменил стол, а на два другие можно было сесть.
Александр вернулся, и сказал, что можно попробовать пойти обратно по дороге, еще, что видел улей для диких пчел высоко на сосне — борть около полутора метров в длину. Стали мы обедать картошкой с курицей, съели по огурчику, закусили козинаками… Отдохнувшие, мы пошли к мостику, чтобы перед дорогой хорошо помыться. Спуск к воде был не самый удобный, но нам хватило, чтобы освежиться. На земле, кстати, и на дне ручья, кругом искрились блестки, как золотинки. Я подняла одну — это был кусочек слюды.
Мы оделись, поставили бутылки с водой в пакеты, и отправились обратно к Красному Камню. Прошли мимо тонких стогов — у каждого в центре отверстие насквозь, чтобы продувало. И углубились в березовый лес. Деревья там были по большей части старые, огромные, а идти приятно — в тени и прохладе. Часто встречались поваленные гиганты, в основном, березы. Было видно на спилах, что они сгнили изнутри и обломились. И иногда деревья ломались на высоте 2-3 метра от земли, и тогда от них оставались стоять столбы. А кое-где вся кора у них была сгрызена лосями.
Оказалось, что дорога идет прямо вдоль вырубки в ту сторону, куда нам надо, и она сухая, не заросшая и не заваленная. Клещей тут было совсем немного. Мы перешли через низинку с лужами, дорога стала забирать левее, но навигатор показал, что скоро она выйдет на ту лесную дорогу, что ведет от Красного Камня. Так и вышло. Было ясно, что километра через три мы придем в пункт назначения. Идти было легче, чем по вырубке, на все равно нелегко — Саша выпил много воды, а я немного натерла ноги. Стояла жара, шли в горку…
Потихоньку дошли до Красного Камня, и там увидели двух мотоциклистов, которые только что подъехали. Мы свернули с дороги в лес, где были спрятаны наши рюкзаки — все осталось цело. Забрав вещи, подошли к большой луже с чистой водой, чтобы сполоснутся перед подъемом на скалы. Там хотели снова поставить палатку, попить чайку, позагорать, отдохнуть, и решить, где будем ночевать.
Поднялись на скалу, увидели там двух парней на вершине и какой-то дымок. Подошли поближе — и офигели! Земля на камнях, на которой стояла сосна, метров на 5 поперек скалы — вся дымилась. Дело в том, что почва здесь была не сырая земля, а спрессованная хвоя и листья, да еще сухие, по консистенции как рыхлый торф. Возможно, кто-то покурив на скале, бросил окурок, или костер тут разожгли, и огонь пошел внутрь этой подстилки. Хорошо, что идти огню было особо некуда, он только смог поджарить корни единственной сосны.
Языков пламени было не много, больше дым. Мы бросили вещи, Саша начал палкой окапывать границу пожара, а я понеслась к луже с бутылкой, котелком и кружкой. Внизу пришлось корячиться при подъеме, чтобы не пролить воду, да еще я уставшая была… Наверху скорее пролила водой основные очаги, а к луже теперь пошел Александр. Я осталась окапывать и забивать язычки пламени палкой — они кое-где появлялись при сильных порывах ветра. Оказалось, весь огонь был под камнями, почва горела не снаружи, а внутри. Вся хвоя, которая опадала с сосны и прессовалась тут годами, тлела, как порох.
Принесенная Сашей вода еще немного помогла загасить очаги, но дым все продолжал идти. Стало ясно, что все прекратится, только когда вечером стихнет ветер. Внизу подъехала машина, УАЗ-батон. Александр пробовал кричать людям со скалы — просил огнетушитель, но мужики были настолько пьяны, что даже не поняли, о чем речь, и вскоре уехали. Ребята на пожар особо внимания не обращали, сделали пару фотографий на скале, да и пошли к своим мотоциклам… Мы уже все пропахли дымом, и глаза сильно щипало, а между камнями все равно был огонь, туда никак не залезть.
Пока Саша в очередной раз ходил за водой, я выпила чаю, и объявила свой план. Это было около пяти часов вечера. Ветер начал потихоньку стихать, дымило все меньше. Оставаться здесь было нельзя — дым не даст спокойно отдохнуть. Так что вариантов было два — заночевать под скалами на Красном Камне, или пойти в обратный путь, и остановиться у ручья. Я была за второй вариант — и вода там есть, и идти наутро до станции придется меньше. Да и помыться не мешает, а то мы все чумазые от пожара.
Александр только не мог понять, про какой ручей я говорю. Я долго объясняла, где именно это, и еще предложила пойти другой дорогой, короткой, не по колеям в лесу. Он согласился. Надели мы рюкзаки, спустились вниз, и потопали по дороге налево. У меня настроение стремилось к нулю — я переживала за ту сосну и красивое место на скале. К тому же ноги устали бродить за день, хотелось полежать, а вместо этого надо еще семь километров топать. Понятно было, что отдохнуть уже не выйдет. Александр как мог, меня отвлекал и утешал.
Мы нашли поворот по дороге, чтобы идти напрямую, а не через «усадьбу Ермака». Хорошо, что дорога была приличная, без засад, хотя и намного менее наезженная. Постепенно дошли до тех мест, где проходили вчера, и стали их узнавать по характерным деревьям, камням. Кстати, встретили того самого дрозда, который вчера вылетел у нас прямо из-под ног с обочины. Но сегодня мы присмотрелись получше, и нашли его гнездо! Прямо у дороги, в траве, а в нем — пять штук маленьких голубых яичек! Надо же, какая рисковая птица… Еще иногда взлетали вспугнутые нами рябчики, а на березе мы видели чье-то большое гнездо.
По пути мы отслеживали трек по навигатору, чтобы не пропустить поворот от ручья. И вот, я узнала место, Александр подтвердил по треку, и мы перешли ручей. Мест, где можно было поставить палатку, здесь было даже несколько. На поляне с низкой травой под соснами, ближе к ручью; и еще прямо на дороге, на колеях. Саше оно понравилось больше — пространство открытое, шишки не валяются, травы почти нет, значит, клещей будет меньше. А к ручью умыться можно и прогуляться эти 20-30 метров.
Около восьми вечера мы поставили палатку, я сходила за дровами, конечно же, принеся с ними и пару клещей, мы развели костер и вскипятили воду, чтобы заварить «Роллтон». Александр ушел мыться, а я еще поставила воду на чай-кофе. Кстати, костер мы тщательно окопали, и пролили землю вокруг как следует, чтобы чего не вышло… Поужинали горячей лапшой с салом, Александр забрался в палатку. Я еще сходила помыться (как хорошо, когда есть вода рядом), и забралась в палатку. Было все еще достаточно светло, сквозь деревья просвечивало зарево заката, щебетали птицы…
Мы немного поразгадывали кроссворд, наговорили на диктофон события дня. Воздух стал холодать. Мы закрыли тент, утеплились и легли спать, все-таки устали в борьбе с пожаром. За сегодняшний день мы протопали 17,5 км. Завтра осталось идти всего 10…
Ночь прошла довольно спокойно, но несколько раз начинал с гудением работать какой-то механизм вдалеке. Похоже было, что едет грузовая машина, но уж больно ровный гул был, да и не приближался… Воздух здесь, в низине, стыл сильнее, чем на горе, так что под утро стало зябко, градуса 4, может. Приходилось нос прятать в спальник, дышать так сложно, и сон получался неглубоким, прерывистым. Не сказать, что мы замерзли, но не сильно комфортно было.
Мой будильник зазвенел в 6 утра, но я его просто выключила, и дальше спать. Потом в 7 утра подал голос Сашин будильник. Я его тоже выключила, но мы уже проснулись. Выходить из палатки сразу не хотелось, солнышко хоть и светило, но пока не грело. Потом я сходила по неотложным делам, как раз и согрелась за этим занятием. Разработали план — делаем зарядку, костер, завтракаем, собираемся и идем на станцию. Пока его осуществляли, отметили, что на нашей дорожке и вокруг палатки совсем нет клещей, всех вчера ликвидировали. А вот когда отходишь подальше, да к реке — там снова они караулят.
Мы подогрели в котелке чай из термоса, съели бутерброды, а пока пили чай — заварили еще термос, на обратный путь. Хотя было еще пол-литра кипяченой холодной воды. Костер мы тщательно залили водой, чтобы чего не случилось, погрузили все в рюкзаки (сильно полегчавшие), и около десяти утра не спеша отправились по дороге к станции. Я, кстати, пошла первая, и поняла, что здесь мы не проходили — какие-то дебри, колеи мокрые, и дальше мостик через Уфалейку. Саша сказал, что надо немного пройти по тропе правее, и вот там мы скоро вышли на нормальную дорогу.
В лесу было хорошо! Солнце светило, птицы вовсю свистели и щебетали, стало жарко. На деревьях за эти два-три дня выросли листочки, трава тоже не отставала, зеленела, пробивалась сквозь сухую. Немного только побаливали наши побитые вчерашними странствиями ноги, но терпимо. Виды нам открывались веселее, чем по пути сюда — там же погода была пасмурная. А при солнышке все, конечно, намного живописнее — и просторы с маленькими группами зеленых нарядных елочек, и светлый березняк под синим небом…
В одном месте мы скинул рюкзаки, оставили их на обочине, и прошли метров 200-300 к берегу Уфалейки. Не сказать, что там болотина — она подсохла, и земля была вполне твердой. Когда-то там был то ли брод, то ли даже мостик, видно было, что часть насыпи продолжается по другому берегу. Речка была узенькая, всего метр, неглубокая, и бежала в канавке из земляных берегов, но дно было песчано-каменистое, твердое. Вода довольно прозрачная и чистая. А вот клещей там много, сидят на высокой траве. Но они с утра были не шибко активные.
Вернулись мы на дорогу, надели рюкзаки и пошли дальше. Видели много старых, очень старых и больших лиственниц, и у некоторых в нижней части ствола было утолщение, как бочка высотой метр, раза в полтора толще ствола. Снова встретили тех крупных сов или филинов, что видели по пути на Красный Камень. И где-то в этих местах нам открылась тайна наших пожелтевших кроссовок — над дорогой низко склонилась береза, и с нее свисали очень красивые, ярко-желтые сережки. Я не удержалась, и их потрогала — а с них вдруг взвилось целое облако желтой пыльцы! Так вот откуда эта цветная пыль! Ветер разносит ее, и равномерно посыпает всю землю в лесу.
Потом мы подошли к тому болоту, которое Александр так долго обходил в прошлый раз. Я высказала предположение, что за два дня в такую жару здесь все как следует подсохло, и он сможет пройти даже в своих дырявых кроссовках, так что он не стал переобуваться в сланцы, а пошел по моим следам, по кочкам, кладя их набок и придавливая ногой.
И мы действительно нормально прошли, и намного быстрее, чем раньше. Тем более, все равно едем домой, даже если промочить ноги, не страшно уже, там все высушим.
Здесь мы видели разную живность — то лягушку, то маленького шустрого тритона, то ящерку, то черного ворона, то зябликов… Вообще, идти сегодня было веселее — и дорога знакома, и грязи меньше стало, и километров не так много топать, и ясно, что успеем к электричке. Прошли тот красивый ельник, и за ним уже через поле видна была речка Уфалейка, и брод через нее. Подошли мы туда, и решили не переходить пока на другой берег. Расположились на полянке у кустов, разделись, подстелили одежду, и улеглись загорать. У нас еще было много времени. Дул прохладный ветерок, было так хорошо! Я даже задремала под шум речки.
Потом мы встали, наговорили на диктофон, я сходила, помыла кроссовки, и стало похоже, что мы с Сашей не вместе ходили — у меня черные, у него — все покрыты желтой пыльцой. Достали еду, пообедали. В большом заливе позади нас крякала утка…
В 13.40 стали уже собираться — скидали все в рюкзаки, и в сланцах перешли речку. За два дня жары вода в ней стала теплее, так что мои ноги выдержали. Когда поднимались к дороге, увидели, что там трясогузка поймала червяка, и его ест, не стесняясь нас совершенно. Александр ее сфотографировал. На другом берегу вытерли ноги, умылись, оделись, намочили головы, чтоб на станции от жары не поплыть. Бросили прощальный взгляд на поля и кромку леса, отметили, что здесь пахнет дымом от лесных пожаров, причем со стороны Екатеринбурга (потом оказалось, что пол-области горит, и в Арамиле, и в Березовском и еще много где). Что делать — ветер и жара… Пошли в сторону станции.
Навстречу нам проехала девочка-подросток на велосипеде, она вежливо поздоровалась. Слева от дороги весь лес, колеи дорог и полянки были залиты водой, видно, снега было немало зимой. Мы уже дошли до кучи опилок у поселка, и тут посмотрели внимательно — а под опилками-то снег! То есть это были кучи снега, и на них просто потом высыпали опилки. В лесах кругом снуют дрозды, а уже в самом поселке мы заметили пару щеглов — такие яркие, нарядные птички.
По пустынным улочкам Школьная и Станционная дошли до станции. Только из одного дома вышел мужчина с сумкой, тоже собрался ехать в город. На платформе стояло несколько лавок, но только над одной был навес. Кто его конструировал — не знаю. Он был так высоко, и такой узкий, что никого не мог защитить ни от дождя, ни от солнца… Постепенно не перрон вышли еще три человека, и мы вместе ждали паровоз минут 20. Я положила поближе термос, воду и пару яблок.
В поезде было всего три вагона, и пассажиров пока было немного, так что место для нас нашлось. Я заняла боковое купе, рюкзаки закинули на вторую полку, и поехали. Смотрели в окно на пробегающие мимо лужайки с сухой травой, деревушки Косой брод, Полдневая, Кладовка… Видели речку Полдневая Чусовая, вода в ней была мутно-коричневой. Чем ближе к Полевскому — тем больше людей заходило в вагон, проводница предупредила, что скоро садоводов набьется выше крыши, и надо будет опускать наш столик, чтобы кто-то сел. А пока мы съели яблоки, я выпила чаю и подремала, положив руки и голову на столик.
Потом и правда вошла уйма народу, мы столик опустили, и с нами присел старичок-садовод. Мы с Сашей коротали время, разгадывая кроссворд. Потом к нам на боковушку подсела старушка, к счастью, очень сухонькая, так что все четверо вошли. Выйти мы решили снова на Ботанической, чтобы не мотаться по вокзалу, а сразу сесть в метро. На платформе мы подождали, пока уйдет электричка, и отправились к метро, удивляясь тому, что в лесу была еще весна, а здесь, в городе, уже лето — большие листья на деревьях, черемуха цветет, источая вкуснейший аромат…
Ну, что сказать, мне это путешествие скорее не понравилось, уж слишком много нервотрепки было, которой на отдыхе я вовсе не рада — переживала из-за полчищ клещей, из-за грязной и неудобной дороги, из-за возгорания, потом из-за необходимости на ночь глядя куда-то тащиться усталым… Нет, я конечно всегда рада увидеть новые места, птиц и зверей, красоты природы… Но в тех местах особых красот как раз и не было, а вот неприятных моментов — сколько угодно!
В конечном итоге, я порадовалась тому, что нас не покусали, мы не поломали на скалах ноги, и не застряли в болоте. Больше всего радовалась за Александра — он так хотел сходить на Красный Камень, так старательно разрабатывал маршрут! Хорошо, что удалось посетить все, что он наметил, даже избу вторую нашли, программа выполнена! Мне больше всего понравилась наша вторая стоянка у ручья, там было так спокойно и мирно…
А вот Александру показалось, что как раз переходы были наиболее интересные и увлекательные! Потому что стоянки были не слишком хорошие, удобные и красивые, как должны быть. На скале — наверх надо было пыхтеть, места мало, и виды не очень. У ручья — клещей дикое количество, да и не слишком живописно. Так что они были лучше, чем все остальные возможные, но только потому, что кругом-то совсем кошмар.
Скалы его не впечатлили, он ожидал от них большего, мы ведь видели и гораздо красивее, выше, больше… Не было в них таинственности какой-то, загадки. И всякие трудности его не сильно напрягли, мы же их преодолели, со всем справились. Прошли мы за эти три дня 42 км (за 1 день — 16,5 км, за 2 день — 17,5 км, за 3 день — 7,5 км). Решили, что в сторону Полевского весной ходить в походы не самый лучший вариант, земля слишком влажная, клещей слишком много. Туда лучше осенью, как раз и березы желтые очень эффектно смотрятся…
Лес в тех краях ему тоже понравился, просто потому, что лес не может быть некрасивым, он должен быть разным, а не только сосновый сухой бор, как мне нравится. И в таких местах мы бываем редко, так что полезно сравнить, и сделать выводы. А вот в переходах Александру было интересно — движение, новые места, он все хотел увидеть лося или косулю… Да и прошли мы немало, получили хорошую нагрузку на ноги, выяснили, что с рюкзаком можем по 15 километров в день спокойно проходить, силы есть еще. Даже преодоление болота понравилось! Ведь там все могло быть гораздо хуже. В общем, настоящее приключение!
Как добраться до скал Красный Камень
Как Вы поняли из рассказа, путь туда не простой, да еще ежели весной, то стада клещей очень обрадуются Вашему появлению. Кстати, возможно Вам будет полезна статья Как защититься от клещей…
Для начала нужно доехать до станции Коркодин, время в пути около двух часов, если из Екатеринбурга. Электричка на Уфалей. Выход из поселка по улице Школьная, сначала налево, потом, после брода с мрамором — направо. В рассказе все написано подробнее.
По прямой до скал 9 км. Но там протекает речка Малая Уфалейка, и вокруг есть несколько болотин, поэтому лучше идти по дороге, которая идет дугой, как бы против часовой стрелки. По ней до скал 15 км. По пути можно заглянуть в избушку, и посмотреть всякие диковинные для леса предметы.
От Красного Камня до Мшистого около двух километров, на карте я его отметил овалом. Если Вы сможете обратно пройти более короткой дорогой, через гору Лиственная, напишите, что там за дорога, есть ли топкие места, ручьи…
Ну а на велосипеде можно ехать из поселка Кладовка по нормальной дороге, которая идет вдоль так называемого водовода, и от одной из насосной станции попробовать дойти до скал Красный Камень. По прямой там три кило, но в лесу прямых дорог не бывает, да еще там речки текут, могут тоже болотины быть в низинах…
Карта нашего похода на скалы Красный Камень
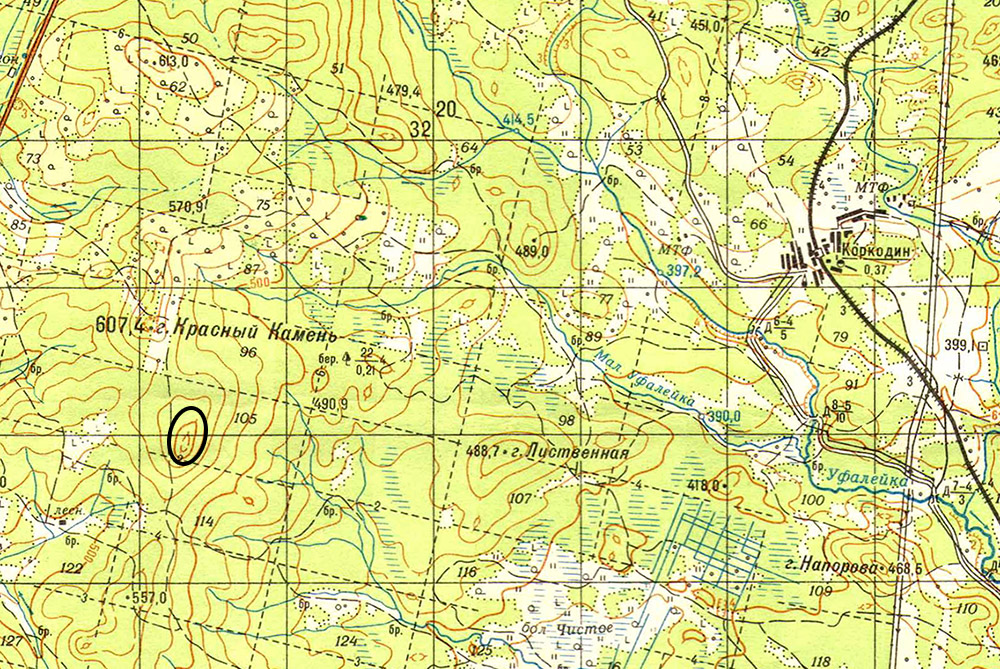
Фотографии с похода на Красный Камень
Еще одна потайная усадьба
Если материал был полезен — поблагодарите автора
или расскажите о нем другим людям в социальных сетях
Если у Вас имеется видеосъемка Вашего путешествия, в нашей студии Вы сможете заказать видеомонтаж увлекательного фильма,
а из фотографий можно сделать музыкальное слайд-шоу.Для тех, кто хочет самостоятельно монтировать свои фильмы, предлагаем обучение видеомонтажу он-лайн
А для начинающих фотографов — обучение по программе Adobe Photoshop
Шарафутдинов Денис
Красный камень
Красный камень
ЗЕС
— Что ты сказал? — удивленно спросил средних лет вояка. — Ты точно видел… ЕГО? — произнес он тихим, басистым голосом, специально выделив последнее слово и уставив на собеседника испытующий взгляд.
Лицо его товарища несколько секунд было напряжено и он, словно покинув этот мир, пытался вспомнить истину, которую он недавно лицезрел.
— Нет, — уверенным голосом произнес он. — Нет сомнения, это точно был он! — Теперь его взгляд был прямым и прожигающим, и смотрел он только на допрашивающего: рослого, мускулистого, плечистого, длинноногого человека, облаченного в черное.
— И я его видел! А мои глаза меня еще никогда не обманывали.
— О, старик! — с насмешкой произнес рядом стоящий парень. У которого был большой выпирающий подбородок и такой же длинный, большой нос. Облаченный в шкуры различных мелких животных, добытых охотой, на его голове особенно выделялась шапка, сшитая из летучих мышей воедино. — Мы все знаем про остроту твоего летающего кинжала… — Улыбнувшись во весь рот, он воткнул глубоко в снег свой крепкий изящный щит, который он все это время держал в руке, прислушиваясь к новостям. -… И не менее острого взгляда, что посылает его в цель. Но признай, время каждого всегда на исходе, и некогда верное, становится уже былым… — Он подошел поближе, и его улыбка стала еще больше, будто растянулась на всем лице, и он медленно, надменно проговорил: —… и старым!
Они стояли: эти двое, сцепившиеся в перепалке и их вожак Фиенд Тень. Последний не вмешивался, дав волю высказать свое мнение обладателю мышиной тряпки на голове. Фиенд и тогда был верен своему прозвищу: сделав незаметный шаг назад, словно уйдя в тень и наблюдая за тем, как оправдается в своем безумии Зес. Он подметил, что слово «старик» для того — это более одобрение, нежели оскорбление.
— Старым!? — Зес ухмыльнулся. — Так значит этим ты решил меня оскорбить? — Глядя на неуклюже висящую шапку из дохлых летучих мышей, он изрек: — И что, по-твоему, я должен сделать в ответ на оскорбления, которые меня не задевают? — Он неспешно прикоснулся руками к поясу висящих ножей, идущих вряд от плеча до ремня.
Улыбка его собеседника исчезла, а взгляд был устремлен на ножи. Паренек поправил свою мышиную шапку и, вернувшись к щиту, вытащил его, потуже закрепив на спине.
— Твои сказанные слова не сулят нам простого дела. — Оглянувшись на всех остальных, он продолжил: — Я, как и все, не хотел бы лежать в луже собственной крови с перегрызенным горлом или оторванными яйцами.
— Я знаю, что я видел, — повторился Зес. — Камень был у ворон, мы наблюдали за ними целый день. Они случайно наткнулись на него, но не обратили на это особого внимания. Как он к ним попал — неизвестно. Мы лишь случайно заметили его у одного молодого растяпы. Этот недотепа отстал от группы, присел посрать. Он пыхтел так яро и громко, что Робетту Быстрому не составило труда подкрасться и перерезать ему глотку, хоть он чутка и испачкался в дерьме. — После этого слова все взвыли от громкого смеха, но он также быстро закончился, как и начался, так как все осознали, что Робетта с ними уже нет. — Да, сукин сын был истинно быстрым и таким же смертельно разящим, но умер он не от руки сраной Вороны. Закончив с глоткой пацана, Робетт нащупал в кармане камень и удостоверился что это Он. — Тут Зес устремил взор на командующего Фиенда и без улыбки продолжил. — Ему бы жить да жить, ух как тот бегал шустро: молния, не иначе. Он метнулся в сторону, но побежал не ко мне. Я уж было подумал, что сосунок обнаглел совсем и почуял легкой наживы для одного себя. Я долго думать не стал, мне, конечно, с моими короткими ногами не до ловкости Робетта Быстрого, но последний стальной поцелуй я бы ему обеспечил, не появись перед ним Оно.
Все слушали рассказ Зеса внимательно, и их негодование было сравни ощущению во время появления Иных. Кого-кого, а их тут ждали в последнюю очередь, и даже их цель не была важнее бегства от встречи с тьмой. Но Зес говорил вовсе не о них, и выпив из бурдюка продолжил:
— Тут раздался рев дикого животного. Робетт испуганно оглянулся и увидел сбоку здоровенную когтистую лапу этого мохнатого ублюдка. Клянусь: такого здорового медведя я не видывал никогда. Неизвестно, что погубило Робетта: его жадность или недостаточно быстрые ноги, а может, виной всему был тот камень. Но ТОГО, за чем мы сюда пришли, я не увидел. Лишь одним ударом медведь разорвал ему все лицо, так сильно, что покажи вам его труп теперь, вы бы не узнали в нем нашего Быстрого. Затем зверюга схватил его за ногу и уволок за собой.
— Он умер? — удивленно произнес сутулый Шейкер и, повернувшись с бревном на плече в сторону Фиенда, заключил: — Мы ожидали, что камень сделает свое дело.
— Он и сделает! — отрезал Тень, размышляя над произошедшим. — Стало быть, воспользоваться им он не успел или же сделал что-то не так.
— Мы все здесь делаем что-то не то, — прошептал обладатель мышиной шапки.
— Куда он его унес? — спросил Тень, поднимая свой лук, который был с него ростом.
— В берлогу, — вздохнул Зес, ожидая этого вопроса. — Я проследил до самой его берлоги, боги были благосклонны к НЕКОТОРЫМ ИЗ НАС, — устало подчеркнул старик. — Поэтому ветер дул в мою сторону. — Дальше слов не последовало, все собрались по примеру командующего и молча выдвинулись.
Половину дня они неспешно продвигались вдоль склона, не создавая много шума. Решив, что выйдут задолго до рассвета, они устроили привал. Все, тихо рассевшись, не разводя огня, принялись грызть свои сухари и терзать пожитки. Еще немного Зес прислушивался к звукам ночи, а потом, сдавшись, оставил на дежурство мышиного любителя, Батриедера. Ему не особо это нравилось, но сам он не мог сомкнуть глаз в ожидании какой-нибудь напасти.
Все знали, кем был Зес, и почти все его сотоварищи по вылазкам не доверяли ему и иногда недолюбливали. Лишь некоторые нехотя шли с ним в разведку. Зес не был трусом, но в открытый бой никогда не вступал: он всегда бил ножом исподтишка и только того, кто уже был ввязан в драку, часто отнимая у своих заслуженную победу в бою. Старый, потрепанный годами мужик с седыми волосами и белою густою бородой, он был мал ростом и упирался лбом в живот самому высокому из пяти здесь находившихся, вожаку Фиенду Тени. Собираясь в поход, Тень не был намерен брать Зеса с собой, однако старый, упершись, все же увязался за ними. Фиенд решил, что острый взор Зеса пригодиться им.
Лишь на третий день Фиенд решился рассказать, зачем они отправились в место, граничащее с владениями ворон:
— Значит так! — отрезал одетый в черное. — Наше дело — найти в местах ниже Вьющегося перевала Красный камень. — Обозначив указательным пальцем важность того, о чем он говорит, он ненадолго замолчал и осмотрел всех окружающих, чтобы увидеть их реакцию и то, как они поведут себя.
Все знали, что за камень собрался искать Тень. Им обычно укоряли непобедимых воинов, которые чудом остались в живых. Люди говорили с ухмылкой: «У тебя случаем нет припрятанного того самого красного камня?», так как считалось, что камень наделен волшебством, уберегающим от смерти.
Фиенд знал, что первым выделится Батриедер. Полусидя-полулежа, тот стругал ножом кусок дерева, вырезая что-то, неизвестное даже ему самому. Медленно, выговаривая каждую букву и смотря только на свою поделку, тот произнес снова те же слова:
— Красный Камень. — Сдерживая нервную улыбку, он все же страшился Фиенда, поэтому и не смел смотреть ему в глаза. — Тень. Носящий одежду ворон в то время, как братья его по другую сторону Стены. Ведет нас к Красному камню. — В одно мгновение, словно переполнившись величием сказанных слов, издав неприятный звук гортанью, он вознамерился плюнуть в сторону, но разум быстро напомнил ему о самосохранении, и он проглотил свою же жидкость.
Решив смягчить напряженную обстановку, Шейкер, сутулистый разведчик в возрасте чуть меньшем, чем Зес, перевел взгляд с надменного, быстро тающего теперь Мышонка, на Фиенда и, приподнявшись с земли, уперся на свое огромное бревно, которое заменяло ему оружие. Всматриваясь в глаза вожака в поисках ответа, он потянул за свою рыжую бороду и спросил:
— Мы правильно тебя понимаем, ты говоришь нам про тот самый камень?
— Именно так, Шейкер, сын Еарта, — коротко ответил Тень, сурово взглянув в сторону по-прежнему уставившегося на свою поделку Батриедера, и продолжил: — Я знаю где он находиться, и он будет принадлежать нам!
Рыжий Шейкер готовил кучу вопросов, но после сказанных слов Фиенда все улетучилось во тьму, и даже пламя костра, недавно колебавшееся на ветру, стало гореть безупречно ровно.
Всех в ту ночь, конечно, терзали мысли: зачем им это все? Но в итоге каждый понимал, что Тень пустых слов на ветер не бросает и облачился он в черное не за зря. Идти на стычку с Ночным Дозором из-за безосновательных сказок не в характере Северян.
— Здесь! — твердо произнес старик, сидящий на корточках и всматривающийся со склона в лес. — Чуть впереди склон резко обрывается, и под ним находится пещера в рост под пару человек, но в ширину лишь для троих, а то и меньше.
Осмотревшись по сторонам, Фиенд долго стоял, смотря вперед, а остальные молча ожидали его команды. Но рыжий, как всегда, нашел возможность выделиться. Поднимая на плечо свое бревно-орудие, он привлек внимание всех, потому что всегда было известно: если Шейкер поднимает бревно, за этим последует дельный вопрос: «Как мы поделим его шкуру?»
Услышав это, все поглядели на его висящие ошметки всякого рода живности, пришитых друг к другу, и к удивлению не обнаружили медвежьих, которых ему недоставало. Поднялся смех.
— Каждому достанется по его храбрости, — порешил Фиенд. — Но голова только тому, кто нанесет решающий удар. — Тут он с презрением взглянул на Зеса, — Но не тебе! — отрезал вожак. — Я не допущу, чтобы ты в последний момент заявил о правах на его голову. — Все остальные одобряюще кивнули в ответ. — Ты останешься здесь и с высоты оповестишь нас обо всем, что покажется тебе странным. Если в этом будет нужда.
Провожая их взглядом, Зес фыркал и ругался себе под нос: «Мои ножи неоднократно спасали их висящие гордые члены, чтобы те могли ссать стоя, как мужики, а не куськом, как бабы». Он прилег на живот и медленно подполз к краю, чтобы лучше увидеть все происходящее внизу. Трое храбрых мужей, обнажив мечи, заготовив луки и бревно, неспешно подошли к пещере. О чем-то договорившись, они скрылись в тени. Зеса терзали сомнения не меньше, чем всех остальных. Выжидая, он молился богам, чтобы те исполнили его волю.
«Интересно, эта шайка справится с диким северным медведем? Дело-то ведь непростое, надо быть на всю голову отчаянным, чтобы провернуть такое ради кусочка необычного камня, дающее бессмертие его владельцу».
Прозвучал длинный, хриплый рев медведя. Вырываясь из пещеры, он устремился в лес.
«Надеюсь, никто не заметит».
Лишь только он подумал об этом, будто только темные боги услышали его зов, из леса вышли Они. Облаченные во все черное, они шли именно в ту сторону.
«Пятеро. Наверное, бродили тут в поисках убийцы своего собрата и по крови вышли на медведя. Да и зачем им этот медведь сдался-то? Постой, старик, причем тут медведь!? Они видели нас! Точнее тех, кто вошел в пещеру! Будут ждать?! Не. Иные их подери, он собираются туда! Быть беде!»
Трое, они стояли по разные стороны от животного и наносили удары, когда удавался момент. Ранее они рассчитывали, что застигнут его спящим, но все произошло наоборот: медведь вынырнул из тени ровно в тот момент, когда они обнаружили останки Робетта или, точнее, его ног, одетых в сапоги, некогда снятые с вороны. Рыжий Шейкер, отвлекая вопящего зверюгу, махал перед ним своим бревном, иногда попадая по камням, под ногами, чтобы привлечь зверя на себя и вывести его ближе к свету. Фиенд, натягивая тетиву, целясь, мгновенно посылал очередную стрелу в шею медведя. А Батриедер тем временем, держа дистанцию, махал перед ним мечом, стараясь не попасть под удар.
Обернувшись к наносящему боль Фиенду, рыча и вопя, медведь встал на задние лапы и стремительно пошел к нему на встречу. Рывком перекувыркнувшись в сторону, Тень избежал удара. Подняв глаза, он увидел у входа в пещеру силуэт человека, стоявшего в трех шагах позади Шейкера.
— Ночной дозор! — выкрикнул Тень, в спешке натягивая тетиву.
Лицо Шейкера ощутило холодок пролетевшей мимо стрелы, но жертвы своей она не настигла. Описав круг вокруг себя с бревном, он сбил с ног нежданного гостя и, обернувшись, глухим финальным ударом раздробил ему затылок.
Все это видели другие братья Дозора, лишь на долю секунды переведя свое внимание на медведе.
— Убить их! — выкрикнул огромный дозорный, держа наготове меч и щит. Он скинул мешающий ему плащ одними лишь плечами и ринулся вперед, громко рявкнув и занеся руку для удара, который предназначался Фиенду.
Тот же, бросив лук ему в ответ, звонко вынул меч и остановил удар, идущий сверху, присев под тяжестью приложенного веса здоровяка, который был в два раза больше самой Тени. Оттягивая удар назад от себя, Фиенд, вырвавшись, оказался сбоку от него и грациозно нанес удар ровно в то место, где щит был опущен от шеи его врага. И мгновения не прошло, как клинок другого дозорного разрубил Тени горло. Хрипя и кашляя, Фиенд выронил свой меч и ухватился за рану, взглянув на стоящего перед ним человека.
Невысокий юркий Ворона держал в руках два изогнутых кинжала, один из которых был испачкан кровью великого Тени. Он схватил его за волосы и произнес над ухом ядовитые слова:
— Дезертир. Брат Ночного дозора. Кто бы ты ни был, ты одел черное. — Вонзив второй клинок в ухо, он провел его вниз до шеи и, откинув голову назад, пнул Фиенда в грудь.
Медведь, не замечая вновь прибывших, пятился в сторону Батриедера. Прихрамывая от стрелы, он слегка оседал. Уловив этот миг, обладатель мышиной шапки всадил меч в шею, но медведь не собирался сдаваться и от острой боли лишь ринулся вперед. Размахивая лапами, он угодил носатому в ногу, разрубив ее до костей.
Разъяренный, рыжий Шейкер, вскрикивая, подзывал к себе остальных. Он держал перед собой дубину и слегка пятился назад. Здоровяк сделал выпад, и первый удар рыжего пришелся на щит. В миг слева от них заблестело острие, которое отсекло руку, державшую дубину. Сутулый рыжий Шейкер, предчувствовал момент кончины и дернулся вперед на здоровяка, который, вконец, отсек ему голову.
Бетриедер, хрипя и сопя, выронив свой меч, упал на задницу и схватился за ногу. Подняв голову, он увидел, как еще одна ворона, держа в руке копье, острием била в лицо медведя. Но последний уже не замечал ничего, а из его шеи, лилась ручьем кровь. На последнем издыхании медведь дернулся вперед и рухнул всем телом на копье, подмяв перед собой и его обладателя. Двое оставшихся дозорных попытались вытащить из-под животного еще живого кричащего копьеносца, но и тут медведь, дернув лапой, зацепил брюхо здоровяку, распоров его.
Пятый же Дозорный, стоя у входа пещеры и не решаясь войти, вглядывался в танец теней. Нервно держа меч в руках, он метался от одного края входа до другого. Он так сильно шумел, что не услышал даже приближения своей собственной смерти. Рухнув с ножом в горле, он и тогда был бесполезен. Он умер, не издав ни звука.
Из пещеры вышли двое. Невысокий, держал здорового с раной в животе, а тот держал в руках свой трофей — голову, некогда носившую шапку из мышиных шкур. На лице отрезанной головы Бетриедера, искажалась последняя недовольная гримаса: выпирающая челюсть была раскрыта, а и из-за редких гнилых зубов вываливался язык.
Не успев понять, как умер трусиха, ворона выронил своего напарника и схватившись за свои кривые клинки, стал оглядываться по сторонам. Вылетев мгновенно, нож вонзился в грудь так глубоко, что жертве было видно лишь рукоять. Выронив и эти два клинка и пытаясь выдернуть нож, дозорный рухнул на землю.
Но здоровяк, словно потеряв свою былую ярость, держась за остатки живота, стал медленно ползти в сторону. Старательно перебирая своею рукой, он производил столько шума, что когда последняя сила воли покинула его, он с надеждой прислушался к окружению.
— Ворона, ворона. Вы так обленились, что каждый ваш шаг становится ясен еще до того, как вы задумаетесь о нем. Когда-нибудь Стена опустеет лишь потому, что мы перережем вас всех. — Подойдя ближе, старик поднял дозорного за плечо и перевернул на живот. — Вы даже не понимаете, зачем вы тут, для чего стережете свою Стену. — Он достал из кармана что-то красное, и наступивший рассвет лучами солнца подчеркнул его красоту.
— Да, — ответил молчавшему вороне старик. — Красный камень. Есть легенда, что он дает второе рождение. Но при этом все забывают, что он также становится и обладателем своего хозяина. И телом, и духом. Нынче у меня есть дела поважнее битвы смертных.
Отбросив умирающее тело и поднявшись на ноги, он принялся глотать камень. Крича и давясь, он проталкивал его внутрь себя. Старик собрал тела, отделил руки и ноги от тел, разложил их по кругу и, усевшись в центр, замер на многие ночи. Прислушиваясь к шепоту сладкого голоса камня.
Ознакомительная версия.
Николай Николаевич Шпанов
Красный камень
Голубеграмма из Усть-Сысольска
Судьбы писателей не одинаковы. Одним удаётся с первого раза написать произведения, открывающие перед ними двери литературного Олимпа, другие по нескольку десятков лет умудряются оставаться в рядах скромных середняков, не проникающих дальше олимпийской прихожей. Но от этого литератору не становится менее дорого то, что он сделал на протяжении своего литературного пути. С годами появляется опыт, обостряется глаз, повышаются вкус и требовательность к самому себе. Вместе с тем подчас какой-нибудь пустяк, сделанный много лет назад, сохраняет для автора свою ценность. Вероятно, тут играют роль ассоциации, связанные с этим забытым было пустяком.
Не знаю, как бывает у других, но мне до сих пор дорог небольшой очерк, написанный тридцать лет назад. Он ценен для меня тем, что это моё первое произведение, напечатанное в большом литературном журнале. Вероятно, в очерке нет особых литературных достоинств, но он — важная веха на моем жизненном пути. Очерк мил мне потому, что его я первым увидел в печати; потому, что после его опубликования я получил первые читательские письма; потому, что после его появления редакции впервые обратились ко мне, как к писателю.
А написан он был при таких обстоятельствах.
В один весенний день 1926 года — да простит мне читатель этот трафарет, но день был действительно прекрасен весенним теплом, светом, перезвоном трамваев и гулким цокотом подков на Никольской, где тогда ещё не было ни потока автомобилей, ни густой толпы стремящихся в нынешний ГУМ, — в тот весенний день на моем редакционном столе позвонил телефон.
В трубке я узнал голос главного инспектора Гражданской авиации Владимира Михайловича Вишнёва.
— Вы живы? — спросил он.
— Пока да.
— И здоровы?
— Кажется…
— Странно, — удивлённо проговорил Вишнёв, — а у меня на столе лежит молния из Усть-Сысольска. Там поймали почтового голубя с голубеграммой: воздухоплаватели Канищев и Шпанов совершили посадку в тайге и просят помощи. Не знаю, стоит, ли снаряжать спасательную экспедицию на тот свет? Ведь за истёкшие полгода волки, наверно, обглодали их кости.
Мы оба рассмеялись. Речь шла о голубеграмме, отправленной Канищевым и мною полгода назад из таёжных дебрей Коми.
Мы поговорили с Вишнёвым о «надёжности» голубиной почты и на том расстались. Но в тот же день мне позвонил редактор «Всемирного следопыта» Владимир Алексеевич Попов. Он любил «открывать» писателей и умел подхватывать всё, что интересно читателю. Из случайного разговора с Вишнёвым Попов узнал о голубеграмме. Теперь он просил меня описать своё таёжное приключение для читателей «Следопыта». И вот что я тогда написал.
1. Куда мы полетим?
Я был назначен вторым пилотом сферического аэростата «1400», участвовавшего в первых советских воздухоплавательных соревнованиях в свободном полёте на продолжительность.
Мой товарищ по полёту — первый пилот, профессор Военно-воздушной академии Михаил Николаевич Канищев был не по возрасту грузный, медлительный человек.
Последний вечер перед полётом он просидел, угрюмо уставившись дальнозоркими глазами в голубое поле синоптической карты. Вопреки практике и здравому смыслу, он пытался разгадать намерения капризной атмосферы по прихотливо вьющимся линиям изобар. Канищев не был ипохондриком, но за синоптическими картами он становился ворчуном. Прогноз был по обыкновению сбивчив: вечером он противоречил тому, что предсказывали утром, а утром небо наглядно отрицало вечерние утверждения метеорологов. И так без конца. Поэтому Канищев настойчиво пытался сам по карте движений атмосферы представить, в каком направлении понесёт нас завтра воздушная стихия. Нам следовало избрать такую высоту и такое направление ветра, чтобы пройти наибольшее расстояние и пробыть в воздухе дольше всех. По-видимому, Канищев, так же как я, не забывал о том, что у нас есть серьёзный соперник — экипаж Федосеенко — Ланкман. Правда, аэростат у нас новый, ещё ни разу не бывший в полёте, и объём его — тысяча четыреста кубических метров — позволяет рассчитывать на хороший запас балласта. Но все же… Мало ли всяких неожиданных «но» ждёт аэронавта в свободном полёте!.. Да к тому же мы не можем похвастаться сеткой: старая, взятая с аэростата меньшего объёма, она не внушает доверия.
— А знаете, маэстро, — задумчиво заявляет Канищев, — дела-то не блестящи. Ветры самые отвратительные: изо дня в день на северо-восток.
— Бросьте ваше гадание на кофейной гуще. Нагадаете север, а полетим на юг. Меня, откровенно сказать, больше занимает вопрос — сколько продержимся?.. А где сядем — не все ли равно? Выходы отовсюду есть. Гадать — только время терять. Идёмте-ка лучше на боковую. Завтра чуть свет, — на ноги.
— Валяйте, а я ещё разберусь в сводках.
Но, по-видимому, в конце концов и ему надоели замысловатые узоры изобар с беспорядочно смотрящими во все стороны стрелками ветров. Сквозь сомкнутые веки я видел, как он клюёт носом над синоптическими картами. Свет в комнате погас, и я услышал возню. Канищев сопел и кряхтел так, словно делал тяжелейшую работу.
Я подумал о неугомонности человеческой натуры. С его комплекцией и сердцем сидеть бы в кабинете и предаваться изучению излюбленной истории воздухоплавания. Ан нет!..
2. Куда мы летим?
День прошёл в хлопотах, сумерки уже надвигались, когда приготовления к старту были закончены. С бортов корзины сняты балластные мешки. В самой корзине все уложено в надлежащем порядке, приборы — на рейках, карты и провиант — в сумках по бортам, тяжёлый балласт — в мешках на дне корзины.
Рубящий слова голос стартера:
— Дать свободу!.. Вынуть поясные!
Восхищённо-растерянные физиономии мальчуганов, тесным кольцом обступивших старт, стали быстро уходить вниз. Сердце у меня ёкнуло при виде того, как с места в карьер Канищеву приходится травить балласт, чтобы не налететь на мачты радио, некстати выраставшие на нашем пути. Но вот и эти препятствия остались в стороне. Мы были на чистом пути. Внизу, в каких-нибудь двух сотнях метров, лежала Москва, отчётливо кричавшая гудками автомобилей и быстро уходящими шумами трамваев.
В самое сердце столицы врезались своими чёрными щупальцами пауки железнодорожных узлов. Мы пересекли одну за другой путаницы нескольких станций.
Становилось меньше домов, больше деревьев, тусклой желтоватой листвы, спалённой дымным дыханием заводов, буро-красными коробками обступивших город. Но кончились и они. Свежели деревья. Свободней потянулись к небу их зеленые шапки. Расплывчатые пригороды Москвы утонули в зелени садов. Как браслетом отрезала «пределы города» Окружная дорога. Мы — за границами столицы.
Канищев не отрываясь сидел за приборами, время от времени посылая за борт совок балласта. Над Окружной дорогой он коротко бросил:
— Гайдроп! [1]
— Есть гайдроп.
Один за другим уходили за борт аккуратно сложенные витки толстого морского каната. Я должен был сделать это так, чтобы Канищев не заметил толчка, когда гайдроп повиснет на обруче. Фут за футом канат уходил к земле. На руках сразу вздулись кровавые пузыри.
— Гайдроп вытравлен!
Берусь за бортовой журнал. Надо заносить данные каждые пятнадцать минут.
«18 часов 12 минут, высота 200 метров . Курс 29 норд-норд-ост. Температура 14 с половиной выше нуля».
Из гущи деревьев, с жёлтых прогалин, донёсся задорный крик:
— Эй, дядя, садись! Са-а-ди-ись к нам!
Я поглядел вниз, на конец гайдропа. Сверился с компасом: курс 32, и ветер как будто много быстрее, чем по прогнозу. Мы шли со скоростью шестидесяти — семидесяти километров вместо предсказанных жрецами погоды двадцати.
Красный камень и руины средневековой крепости
Контакты
пос. Краснокаменка
Проезд: пос. Краснокаменка, 5 км от Гурзуфа.
Описание
В Крыму есть множество природных уголков, которые признаны памятниками природы. Одним из них является «Красный камень», известный также под названиями Кизил-Кая или Гелин-Кая – огромная скала, расположенная на окраине Ялтинского заповедника, недалеко от Гурзуфа. Она является популярной туристической достопримечательностью, которая ежегодно собирает возле себя большое количество отдыхающих.
Природное чудо Гурзуфской котловины
Эта уникальная природная достопримечательность выглядит как огромный валун, словно прилетевший из космоса. На самом деле Красный камень является так называемым «отторженцем» – частью скалы, которая откололась от главной Крымской горной гряды и медленно сползает к морю. Красный камень – это скала с плоской вершиной и вертикальными стенами, высотой порядка семидесяти метров от поверхности земли и четыреста тридцать метров над уровнем моря. Поперечный размер скалы внизу составляет не менее ста тридцати метров. Учёные утверждают, что скорость сползания скалы такова, что через двести тысяч лет эта глыба уже будет находиться в водах Чёрного моря. Конечно, для нас этот временной период является непостижимым, однако по меркам геологии и истории Земли можно сказать, что Красный камень съезжает на лёгких глинах, словно на санках со снежной горки. Своё название эта природная достопримечательность получила за свой цвет.
Стены скалы составляет мраморовидный известняк розово-жёлтого оттенка, а плоская вершина и вовсе красная. Особо впечатляюще выглядит скала во время рассветов или закатов, когда она вся окрашивается в различные красные оттенки.
Цветовые контрасты в это время очень чёткие и от этого она смотрится ещё более живописной. Рядом с Красным камнем находится чудесное озеро. Очень красиво здесь весной, когда по его берегам на фоне зелёной травы зацветают алые маки.
Легенды Красного камня
Эту уникальную природную достопримечательность называют ещё Скала невесты и связывают это название с существующей легендой. Однажды молодая девушка спешила на гнедом коне на встречу со своим женихом. Однако его коварная мать, которая была злой колдуньей, напустила свои чары на красавицу и превратила её вместе с конём в большую скалу. Так с тех давних пор и стоит эта заколдованная Скала несчастной невесты. По другой легенде, молодая девушка взобралась на скалу, спасаясь от преследования. Однако видя, что спрятаться не удастся, она просто бросилась вниз с вершины высокой вертикальной скалы. По счастливой случайности или божьему провидению падение оказалось удачным, и девушка осталась невредимой. В честь этого знаменательного события местные жители построили на этом месте монастырь.
По другой версии этой легенды девушке удалось спрятаться на вершине горы. С тех пор по настоящее время она обитает там и ждёт своего избранника, с которым готова разделись любовь и хранимые в недрах скалы сокровища.
Если смотреть на огромную каменную глыбу с северо-запада, то её гигантский обрыв по своим очертаниям напоминает многометровый профиль вождя какого-то индейского племени. А ещё говорят, что внутри этой огромной скалы есть тайная пещера, где в годы войны скрывались партизаны, правда, современных подтверждений этому нет. Сколько ещё загадок и тайн хранит это природное чудо, можно только догадываться.
Палаточный отдых
Красный камень имеет только одну сравнительно пологую сторону – это северная часть с достаточно крутой тропинкой, которая в древности была дорогой. По ней не без сложностей, но зато без соответствующей подготовки и необходимого снаряжения можно подняться на его вершину. Остальные стены со всех трёх сторон вертикальные, поэтому пользуются неизменной популярностью у скалолазов, которые не ищут лёгких путей и приезжают сюда, чтобы отточить своё мастерство. Удобно, что рядом находится озеро с прохладной водой, которое питается от подземных источников, с западной стороны Красный камень омывает речушка Путамиш, а с восточной – источник с чистой ледяной водой.
Альпинисты и просто пешие туристы разбивают здесь палаточные городки, поэтому побыть наедине с этим природным чудом крайне сложно.
Разве что на вершине, где каждого поднявшегося на скалу ждёт ещё один сюрприз – руины древней крепости Гелин-Кая – исара, построенного в тринадцатом-четырнадцатом веках.
Средневековый исар Гелин-Кая
Сегодня остатки древнего укрепления, занимающего вершину, составляют порядка ста двадцати метров в длину и до пятидесяти метров в ширину. Виды с вершины скалы просто изумительные: вся Гурзуфская котловина между горой Аю-Даг и Никитским мысом как на ладони, приморская полоса с чудесными парками и большими виноградниками, живописные панорамные виды на главную Крымскую гряду. От этих природных пейзажей просто невозможно оторваться. Плоская вершина скалы разделена разломом на две части и практически лишена растительности. Тут можно встретить всего лишь колючий можжевельник, несколько кустов шиповника, траву и множество камней.
Небольшая, но практически неприступная крепость была построена в период генуэзской колонизации Крыма. Она выполняла задачи сторожевого пункта и контролировала пути из степных районов Крыма к южному побережью.
В крепости была квадратная в плане башня высотой десять метров. Она занимала господствующее положение, особенно над северной частью укрепления, и решала не только оборонительные, боевые задачи, но и выполняла дозорные функции. Если внимательно присмотреться к руинам, то можно увидеть сохранившийся угол этой башни, высотой превышающей человеческий рост. Построена она была из бутового камня, скреплённого известковым раствором. Кроме башни, проход на плато заграждала довольно мощная оборонительная стена тридцать метров длиной и полтора метра шириной. Об её размерах свидетельствуют несколько рядов каменной кладки, которые сохранились до наших дней. Анализ руин показывает, что древние военные архитекторы и строители, оценив уникальный рельеф местности, пошли от обратного: вначале расположили башню, затем укреплённый проход и после него – главную крепостную стену с воротами. То есть получили этакую крепость наизнанку, где всё было сделано очень основательно и рационально. Единственное, что оказалось не под силу строителям крепости, так это обеспечение водой. Её частично собирали с черепичных крыш, а в основном доставляли в бурдюках, создавая запас в больших пифосах.
Очевидно, что при всей неприступности исара, его малые размеры, небольшой гарнизон и известные проблемы с водой делали укрепление не жизнестойким при продолжительной осаде.
При этом просуществовало укрепление вплоть до времён Крымского ханства. Сегодня руины древнего исара представляют собой отдельные камни, подрубки на скалах и фрагменты черепичной кровли.
В южной части Красного камня ранее находилась небольшая церквушка и другие постройки. В настоящее время на месте церкви установлен крест. Археологами найдены здесь части керамических изделий греко-византийской эпохи шестого-десятого веков: амфоры, куски кровельной черепицы, обломки глазурованных чашек и мисок, кувшины, части пифосов. На самом деле находок немного, но они дают достаточное представление о жизни и деятельности человека в этих местах в средние века.
О вине
Ещё одно достопримечательностью этой местности является превосходное вино – «Мускат белый», которое получают из винограда местных виноградников, раскинувшихся вокруг скалы. О качестве этого вина говорит тот факт, что на престижных конкурсах оно получило восемнадцать золотых медалей, его дважды признавали мировым вином No1 и присуждали соответствующие кубки Гран-При.
Мускат высоко ценила сама королева Англии Елизавета II, которой в шестидесятых годах прошлого столетия ежегодно отправлялась двухсотлитровая бочка этого солнечного напитка.
Добраться до Красного камня с руинами древней крепости просто. Достаточно доехать до посёлка Краснокаменка. Скала видна отовсюду, идти к ней не более пятнадцати минут и случайно пройти мимо просто невозможно.
Красный камень и руины средневековой крепости видео
Контакты
Добавить свой отзыв
Мускатель
В живописном уголке южного берега Крыма, в одном из самых романтичных курортов – Гурзуфе, расположен…
от 4 000 руб. за ночь
Бесплатный интернет
Холодильник
Бар/Ресторан
Бассейн
Трансфер
Парковка
Сейф
Мечта
На берегу Чёрного моря, в одной из самых живописных бухт южного берега Крыма, среди громадных кедров…
от 1 800 руб. за ночь
Бесплатный интернет
Парковка
Трансфер
Холодильник
Сейф
Море
Богема
Прямо в центре старого Гурзуфа с его колоритными кривыми улочками расположен пансионат «Богема», наз…
от 2 000 руб. за ночь
Бесплатный интернет
Трансфер
Бассейн
Бар/Ресторан
Холодильник
Сейф
Море
Казацкий дом «Есаул-Гурзуф»
«Есаул-Гурзуф» — это комфортабельный 2-х этажный коттедж, расположившийся в од…
Парковка
Холодильник
Осталось 2 последних мест









