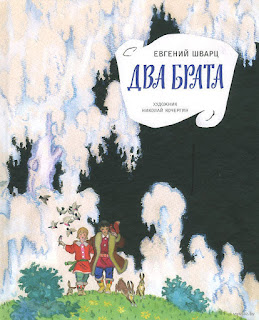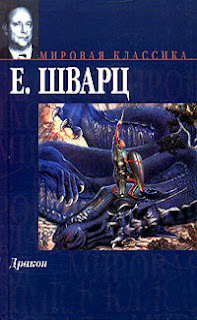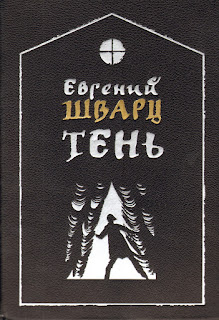Шварц Евгений Львович – выдающийся русский советский драматург, сказочник, сценарист и прозаик, который создал 25 пьес. Однако не все его произведения были изданы при жизни. Ему принадлежат такие известные пьесы как «Дракон», «Обыкновенное чудо», «Тень» и т.д.
Полностью отдавая всего себя — так работал Шварц Евгений Львович. Краткая биография для детей будет интересна тем, что, благодаря его сценариям, появились такие шедевры кино как «Золушка», «Дон Кихот», «Первоклассница» и многие другие. Он резко повернул свою профессиональную судьбу от юриста к драматургу и писателю, и не жалел о сделанном никогда, но об этом чуть позже.
Шварц Евгений Львович: биография
Будущий писатель родился в Казани в 21 октября 1896 года в семье православного еврея Льва Борисовича Шварца и Марии Федоровны Щелковой, они оба были медицинскими работниками. Лев Борисович закончил Казанский медицинский университет, в котором он и познакомился со своей будущей женой Марией Федоровной, посещавшей в то время акушерские курсы. В 1895 году они поженились. В этом же году Лев Борисович стал православным христианином в Казанской Михайло-Архангельской церкви.
Вскоре у них и родился маленький Шварц Евгений Львович. Биография дальше указывает на то, что его семья переехала из Казани в Армавир.
Аресты и ссылки отца
Хоть и был Лев Шварц из числа «неблагонадежных» студентов, однако он хорошо закончил учебу в университете и в 1898 г. уехал в город Дмитров. И в этом же году он был арестован за подозрение в антиправительственной пропаганде. Его семья была выслана в Армавир, потом Ахтырь и Майкоп. Однако это был не единственный эпизод разбирательств с представителями власти, еще будут аресты и ссылки.
Но на его маленьком сыне события, связанные с политическими пристастиями отца, почти не отразятся. Евгения тоже крестили в православной церкви, и поэтому он всегда считал себя к русским. Православие для него было равно принадлежности к русской национальности, и он никак себя от нее не отделял.
Детство
Именно в Майкопе провел свое детство и юность Шварц Евгений Львович. Краткая биография писателя свидетельствует, что о том времени он вспоминал с особой теплотой и нежностью.
В 1914 году он поступил в университет им. Шанявского в Москве на юридический факультет. Но через пару лет понял, что это не его призвание и решил посвятить себя литературе и театру.
Революция и гражданская война
Когда в 1917 году Шварц пошел на военную службу, тут же случилась революция, и Евгений попал в добровольческую армию. В битве за Екатеринодар он получил сильную контузию, и его демобилизовали. Это ранение не прошло для писателя бесследно, потом всю жизнь его сопровождал тремор рук.
После демобилизации Шварц Евгений Львович (краткая биография которого предоставлена вашему вниманию) не на миг не забывает о своей мечте. Он становится студентом Ростовского университета. Работая в «Театральной мастерской», он знакомится с Николаем Олейниковым, который чуть позже станет его лучшим другом и соавтором.
Театральная работа
В 1921 году Шварц Евгений Львович со своим театром, в котором он работал, приехал в Петроград на гастроли. Критики отмечали его великолепные актерские задатки. Но и это он решил оставить и стал секретарем у детского писателя Корнея Ивановича Чуковского, которому он помогал в многочисленных литературных вопросах.
А дальше, в 1923-1924 гг., Шварц Евгений Львович работал над фельетонами для печатных изданий города Донецка под псевдонимом Дед Сарай.
После, в 1924 году, он опять вернулся в Ленинград, в редакцию Госиздата, где помогал молодым авторам найти свои пути в писательском искустве. Шварц также учавствовал в создании детских юмористических журналов «Еж» и «Чиж». Писал туда стихи и рассказы, общался с группами ОБЭРИУ.
Литературное творчество
Первой работой, которая принесла Евгению Шварцу успех, стала пьеса «Ундервуд», написанная в 1929 г. В 1934 г., подвергшись уговорам Н. Акимова, он создал первую сатирическую пьесу «Похождение Гогенштауфена».
В 1940 году была написана драма «Тень», которая представляла собой политическую сатиру, но она недолго пробыла на сцене — ее просто убрали из репертуара. Во время этого спектакля хохот стоял неимоверный, но потом в головах зрителей были горькие раздумья.
После этого Евгений Шварц работал над несколькими реалистичными, на современные темы, произведениями. В годы Второй мировой в эвакуации он проживал в Кирове и Сталинабаде. Там он создавал свой шедевр «Дракон», который попал в классификацию вредной сказки и, как и другие драматические работы, не имел долгого века на сцене.
После ряда таких провалов драматург шутил с друзьями, что, может быть, ему написать пьесу об Иване Грозном и назвать ее «Дядя Ваня»?
Только после смерти Сталина благодаря усилиям Ольги Берггольц, которая высоко ценила творчество Шварца, свет увидел его первый сборник произведений.
Шварц Евгений Львович: интересные факты
Писатель с детства отличался остроумием и фантазией. Многочисленные фото Шварца Евгения Львовича показывают нам солидное и серьезное выражение лица, но почти всегда с очень милой и по-детски наивной улыбкой.
Один из его современников вспоминал, что в те времена, когда писатель работал в журналах «Чиж» и «Еж», помещение шестого этажа Госиздата на Невском 28 ежедневно сотрясалось от хохота. Это Шварц и Олейников веселили коллег своими шутками. Им нужна была аудитория, и они ее нашли.
Первая книга стихов для детей знаменитого писателя вышла в 1925 г. — «Рассказ старой скрипки». Затем были изданы пьесы «Клад», «Приключения Гогенштауфена», переложения и переделки сюжетов Перро и Андерсена: «Голый король», «Свинопас» (1934), «Красная шапочка» (1937), «Снежная королева» (1938), «Тень» (1940), «Обыкновенное чудо» (1954).
Свобода
С наступлением настоящей свободы его пьесы сказки начали ставить за границей — в Германии, Израиле, США, Польше, Чехословакии и т.д. Наш современник режиссер Марк Захаров создал великолепный фильм «Обыкновенное чудо».
Зрители и читатели не устают восторгаться смелым полетом мысли писателя и его раскованностью, а когда-то это был «эзопов язык». Шварц восторгался и даже завидовал Пикассо, который был независим во взглядах, внутренне свободен и поэтому творил все, что хотел.
После смерти мэтра была издана его «Телефонная книга», где он записывал свои воспоминания о людях в алфавитном порядке. Эти мемуары необыкновенно интересны, ведь в них запечатлена эпоха 20-50-х, это его «вытоптанное поле» жизни.
В них Шварц не выступает как всепрощающий добряк, в своих воспоминаниях он предельно искренен и свободен. Здесь чувствуется некая беспощадность и изощренность, колкости и насмешки сыплются одна за другой. Его главным принципом было — смотреть фактам прямо в лицо и не уходить от них.
Любимые женщины
В молодости он долго ухаживал за Гаяне Халаджевой — будущей женой, но она не поддавалась, так как он был сказочно нищ, хотя и обещал ей золотые горы как настоящий сказочник. Второй женой была Екатерина Ивановна. Перед смертью, а умирал он очень тяжело, он пытался обмануть судьбу и даже подписался на полное собрание сочинений Чарльза Диккенса, однако умер задолго до выпуска последнего тома.
Скончался Шварц Евгений Львович 15 января 1958 года. Его похоронили на Богословском кладбище в Ленинграде. О талантливом писателе было снято несколько биографических документальных фильмов.
Текущая страница: 22 (всего у книги 66 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
22 сентября
Ближе к весне я вдруг стал брать у Марьи Гавриловны Петрожицкой уроки музыки. Вышло это из-за «Grillen» Шумана. (Вот когда я полюбил эту пьесу, а не годом раньше.) Дав Леле Соловьевой разбирать эту вещь, Марья Гавриловна сказала, что вряд ли она кому-нибудь из слушателей будет нравиться. Узнав, что я влюбился в эту вещь, Марья Гавриловна решила, что мне следует учиться музыке. Наши согласились. И вот я стал учиться.
23 сентября
И к моему величайшему удивлению, я оказался музыкальным – так по крайней мере утверждала Марья Гавриловна. Ученье пошло с неожиданной быстротой. Инструмента у нас еще не было, но Варя Соловьева, взявшая надо мною шефство, не давала мне «повернуть в конюшню», как впоследствии, много лет спустя, определил эту мою склонность Корней Чуковский. Она ловила меня на улице, один раз сняла с забора, через который я перелезал, убегая от нее, и с упорным, неподвижным лицом вела к роялю. И я сидел и играл упражнения тогда обязательного у всех учительниц Ганона. И какого-то Шпиндлера. Первая вещь, которую сыграл я по нотам, был его «Крестьянский танец». Месяца через полтора разбирал я уже «Fur Elise» Бетховена, потом «Сольфеджио» Филиппа Эмануэля Баха. И, ко всеобщему удивлению, с этой последней вещью Марья Гавриловна выпустила меня на ежегодном концерте своих учеников весной 14 года. Приняли меня весело и добродушно – я играл после малышей, – долго хлопали и удивлялись, какие успехи сделал я за два месяца. И я впитывал эти похвалы с особенной жадностью после московского безразличия. Квартира дедушки ликвидировалась после смерти бабушки. И нам прислали рояль, тот самый рояль, на котором я играл спичечными коробками, когда мне было шесть лет.
24 сентября
Теперь я начинаю играть упражнения и гаммы дома. Папа доволен тем, что у меня обнаружились какие-то таланты. Итак, я занимаюсь латынью и музыкой. Я не один. Московская жизнь кажется мне сном – таков внешний ход моей жизни от зимних каникул до весны. Четырнадцатый год мы встретили весело, ходили ряжеными по знакомым. Помню, что были у Шаповаловых, у Оськиных. Я был одет маркизом, мне напудрили волосы, и все говорили, что это мне идет. И Милочка была со мною ласковее обычного. Потом снова отошла от меня, как бы уснула, потом опять стала чуть ласковее. Вот это и являлось для меня настоящей жизнью.
27 сентября
Итак, приближалась весна 1914 года. Как я вижу теперь, Юрка Соколов появился в Майкопе очень рано. Теперь мне кажется, что по причинам денежного характера он не дожил второго семестра в Петербурге. Это при тогдашней предметной системе в университете было возможно, экзамены разрешалось сдавать и осенью. Во всяком случае, приехал он много раньше Сергея. Мы встречались часто; почти все время, говоря точнее, проводил я либо у них дома, либо на участке. Говоря точнее, мы скорее почти не расставались. Юрка рисовал, а я валялся на диване в той самой комнате, где прошло столько дней моего детства. Валялся и читал. Либо мы разговаривали о том мире, в который входили. После долгих колебаний показал я Юрке свое стихотворение «Четыре раба», скрыв, что оно мое. А когда он сказал, что в стихотворении «что-то есть», я назвал автора с такой охотой, что Юрка улыбнулся. И с тех пор я все свои стихи показывал ему. И он обсуждал каждое мое стихотворение со своей обычной повадкой, начиная или собираясь начать говорить – и откладывая, пока мысль не находила наиболее точного выражения. И я обижался, если он ругал меня, и отчаянно, но не слишком уверенно спорил и полностью соглашался с ним, когда проходила обида. К этому времени у меня была теория, объясняющая необыкновенную неуклюжесть моих стихов. Я услышал где-то еще одну строчку, на этот раз Верлена: «Музыка прежде всего», – и стал доказывать, что это верно[255]255
Французский поэт Поль Верлен музыку слова, музыкальность стиха выдвигал в поэзии на первое место (см. его стихотворение «Искусство поэзии» («Art poetique»), ставшее впоследствии манифестом поэтов-символистов.).
[Закрыть]
. Но музыка не в аллитерации и не в звуках – тут стихам за музыкой никогда не угнаться. Музыка – в содержании. А та музыка, за которую сражаются сегодня («лила, лила, качала два тельно-алые стекла»)[256]256
Строка из стихотворения Ф. К. Сологуба.
[Закрыть]
, гибельна и не нужна. Юрка принял эту теорию не без интереса. Итак, у меня было уже два читателя: Милочка и Юрка, а от всех остальных я скрывал свои стихи, как самую большую тайну. Только в одной области был я скрытен еще более – в любви. Ни одному человеку не рассказывал я о своих любовных радостях и бедах и очень удивлялся, когда читал юмористические рассуждения о влюбленных, всем надоедающих своими излияниями. И сверстники мои, рассказывающие в подробностях о своих связях с женщинами, тоже были непонятны мне. Связи мои не были любовными, но и о них молчал я как убитый. Мной с первой встречи овладело чувство прелести тайны в этой части моей жизни («никто не знает, что мы делаем»). Итак, приближалась весна 1914 года, и я после Москвы наслаждался жизнью среди друзей, на юге, в маленьком, с детства понятном городе. Начались выпускные экзамены. И мне пришлось подналечь на занятия. И вот пришел ясный, совсем летний день, когда мы поехали в Армавир сдавать латынь. Нас было четверо: Жоржик Истаманов, Гостищев, Левка Камрас и я. Дорога была еще новая, нестрогая. На середине пути машинист взял нас на паровоз.
28 сентября
И, стоя рядом перед грудью паровоза, мы мчались через кубанские степные знакомые места и чувствовали себя до того свободными, и счастливыми, и беспечными!
2 октября
Утром пошли мы на экзамен. Присутствовали на нем латинист, хмурый и нескладный, и инспектор – черный, моложавый, легкий. Был еще третий – забыл кто. Латинист сказал сердито, раздавая нам листки для перевода с латинского на русский: «Если что не поймете, меня спрашивайте». Я имел глупость подумать, что и так все понимаю, отчего едва не провалился. Читая мой перевод, латинист только кряхтел и пробормотал в конце: «Говорил вам, спрашивайте меня». Спас меня устный экзамен.
3 октября
Зарядили дожди. Мы все сидели дома, играли на рояле, слушали граммофон. Среди пластинок была одна – Толстой читал отрывок из «Круга чтения», кажется. Я все заводил ее, и этот голос живого человека, старческий и слабый, мучил меня. Он никак не сливался с моим представлением о Толстом. Толстой был вне нашего мира, в мире воображаемом, что ли, а голос-то был из обычного, ежедневного мира.
8 октября
У Фреев, в маленьком флигеле во дворе дома Родичевых, на меня вдруг повеяло мюнхенским ветром. Комплекты «Симплициссимуса»[257]257
«Симплициссимус» (простодушнейший – лат.) – немецкий сатирический иллюстрированный еженедельник. Издавался в Мюнхене с 1896 по 1942 г.
[Закрыть]
и еще каких-то чисто мюнхенских журналов, рисунки, изображающие карнавал, рисунки стилизованные, рисунки с резкими контурами. Толя Фрей рассказывал об академии, о том, что Мюнхен – немецкие Афины, о том, как Штук[258]258
Штук Франц фон (1863–1928) – немецкий художник, скульптор, представитель стиля «модерн».
[Закрыть]
знаменит в городе. Они вызвали его, насвистывая условную мелодию, на балкон. Штук вышел, увидел, что это незнакомые студенты, но не рассердился, а засмеялся. Эта мелодия была условным знаком близких друзей. Все это мне и нравилось и нет. И у Юрки, как выяснилось из наших бесконечных разговоров, было тоже ощущение, что это все-таки не настоящее. Да, прелестна карикатура в одном из журналов. Называлась она «Сила привычки». Только что умерший бородатый бельгийский король Леопольд приказывает апостолу Петру, который от удивления роняет ключи от райских дверей: «Eine Zimmer mit zwei Betten»[259]259
Одна комната с двумя постелями (нем.).
[Закрыть]
. Великолепны карикатуры «Симплициссимуса» на Вильгельма – открытие памятника там, где лошадь его оставила навоз. Но вот стилизованный барельеф, где бородатые люди с нарочито толстыми икрами, – он должен быть гармоничным и лаконичным, как в Древней Греции, а вызывает раздражение. Должен признаться, что у меня, упорно неграмотного парня, раздражение усиливается тем, что в барельефе мне чудится профессорское высокомерие.
10 октября
Утром получил письмо от сестры Бориса Степановича Житкова. Готовится издание сборника его памяти. Поручено это дело ей, и она просит меня принять участие, написать о Борисе воспоминания. И я в некотором смятении. Я помню о нем очень многое. Точнее, он занимал в моей жизни большое место – но что об этом расскажешь? Очень многое тут не скажется. А что скажется – пригодится ли?[260]260
В сборник «Жизнь и творчество Б. С. Житкова» (М., 1955) воспоминания Шварца не вошли. Были опубликованы: Вопросы литературы, 1987, № 2.
[Закрыть]
11 октября
Что же я могу написать о Борисе Степановиче? Услышал я о нем впервые от Маршака. Я вернулся из Артемовска, из второй своей поездки во «Всесоюзную кочегарку»[261]261
Весной 1924 г. Шварц несколько месяцев провел в Артемовске, работал в газете, заведовал информационным отделом, заказывал художникам карикатуры и делал к ним стихотворные подписи.
[Закрыть]
. В журнале «Воробей» появилась первая моя вещь «Рассказ старой балалайки». Маршак рекомендовал меня в «Радугу». Там я сделал стихотворные подписи к рисункам и появились книжки «Вороненок» и «Война Петрушки и Степки Растрепки».[262]262
В издательстве «Радуга» вышли следующие книжки для детей со стихотворными подписями Шварца к рисункам В. М. Конашевича, А. Ф. Пахомова, А. А. Радакова и др.: в 1925 г. – «Вороненок» и «Война Петрушки и Степки Растрепки», в 1926 г. – «Шарики» и «Рынок», в 1927 г. – «Прятки», в 1929 г. – «Петька-петух – деревенский пастух».
[Закрыть]
Был я полон двумя вечными своими чувствами: недовольством собой и уверенностью, что все будет хорошо. Нет, не хорошо, а великолепно, волшебно. Не в литературном, а в настоящем смысле этого слова, я был уверен, что вот-вот начнутся чудеса, великое счастье. Оба эти чувства – недовольство собой и ожидание чуда – делали меня: первое – легким, уступчивым и покладистым, второе – веселым, радостным и праздничным. Никого я тогда не осуждал – так ужасала меня собственная лень и пустота. И всех любил от избытка счастья. И вот Самуил Яковлевич мне сказал, что появился новый удивительный писатель: Борис Житков. Ему сорок один год («Однако», – подумал я). Он до сих пор не писал. Он и моряк – штурман дальнего плавания, и инженер – кончил Политехнический институт, и так хорошо владеет французским языком, что, когда начинал писать, ему легче было формулировать особенно трудные мысли по-французски, чем по-русски. Он разошелся с семьей (с женой и двумя детьми) и женился на некоей турчанке по происхождению, в которую был влюблен еще студентом. Теперь это уж немолодая женщина-врач, окулист. Поселились они вместе на Петроградской стороне, начали жизнь заново. Он пишет и учится играть на скрипке, а она на рояле. И она удивительный человек, все понимающий. Гимназию кончил он в Одессе, вместе с Корнеем Чуковским, и, попав в Ленинград, свою рукопись принес ему, но тот ничего не сделал. Тогда Маршак заставил Житкова писать по-новому.
12 октября
Целыми ночами сидели они, вырабатывая новый житковский язык, создавая новую прозу, и Маршак с восторгом говорил, повторял всюду об удивительном, почти гениальном даре Житкова, который обнаружился, едва понял тот, как прост путь, которым художник выражает себя. Он избавился от литературности, от «переводности» – то есть от безразличного языка, особенно ощутимого в переводных книгах. «Воздух словно звоном набит!» – восторженно восклицал Маршак. Так Житков описывал ночную тишину. По всем этим рассказам представлял я себе седого и угрюмого великана (о физической силе и о силе характера его тоже много рассказывал Маршак). Без особенного удивления увидел я, что Житков совсем не похож на мое представление о нем. В комнату вошел небольшой человек, показавшийся мне коротконогим, лысый со лба, но с длинными волосами, с острым носом, туманным взглядом. Со мной он заговорил приветливо, было это, кажется, у Маршака дома, а главное, как равный. Я не ощущал его как старшего, потому что он сам себя так не понимал. Да, я почувствовал к нему уважение, но не то, несколько парализующее, как рядовой к генералу, школьник к директору. Я теперь не могу вспомнить, как скоро это вышло, но я стал бывать у них дома на Матвеевской, 2, на углу Большого на Петроградской стороне. Мы перешли на ты. И всегда с ним было легко: да, он был неуступчив, резок, смел, силен, – но не ощущалось в нем ни признака того окаменения, которое свойственно старшим. Какое там окаменение – он был все время в движении, и заносило его иной раз, как машину на повороте, и попадал он не на тот путь. Какое там окаменение: он жил, как все мы, и это сближало его с нами. Когда мы только что познакомились, дружба его с Маршаком казалась нерушимой. Всюду появлялись они вместе – оба коротенькие, оба решительные и разительно непохожие друг на друга. Оба с завидной для меня энергией работали.
13 октября
Вернувшись из Донбасса и начав работать секретарем редакции тогдашнего журнала «Ленинград» (издававшегося «Ленинградской правдой»), я часто видел, как тесная кучка людей, человек в пятнадцать, окружая письменный стол в левом углу комнаты (а мы работали в правом), титанически, надрываясь, напрягая все силы, сооружала – не могу найти другого слова – очередной номер тоненького детского журнала «Воробей». Я ни разу, кажется, не досидел до конца очередных работ, но ни Маршак, ни в особенности Житков не теряли высоты, не ослабляли напряжения. Если Маршак иной раз позволял себе закашляться, схватившись за сердце, или, глухо охнув, уронить голову на грудь, то Житков и на миг не давал себе воли. Улыбаясь особым своим оскалом, то с отвращением и насмешкой, то вдохновенно, он искал все новые повороты и решения и часто, к гордости Маршака, находил нужное слово. Именно – слово. Журнал строился слово за словом. Посторонний зритель не всегда замечал, чем одно слово лучше другого, но тут и Маршак и Житков умели объяснить невежде, кто прав. Маршак неясной, но воистину вдохновенной речью с Шекспиром, Гомером и Библией, а Житков насмешкой, тоже не всегда понятной сразу, но убийственной. Желая уничтожить слово неточное, сладкое, ханжеское, он, двигая своими короткими бедрами и вертя плечами, произносил нарочито фальшивым голосом: «Вот как сеет мужичок». И мы его понимали. Да, в те дни оба они были вдохновенны и, главное, ясны, особенно Житков был вдохновен и сурово праздничен, как старый боевой капитан в бою. И Маршак любил говорить о Житкове с восторгом и даже умилением: «Вот как повернулась жизнь у человека! Сказка, волшебство. Вот и слава у него уже настоящая начинается: тот-то сказал о нем так-то, а другой этак-то». И договорил: «А семья, а дом, а жена».
14 октября
«А как скромно и разумно живет Житков – курит махорку! Не меняй жизнь, если будешь много зарабатывать! Живи, как жил. А то затянет тебя в колесо!» – говорил мне Маршак с искренним ужасом перед колесом, которое видел вблизи когда-то, а я слушал с интересом, как будто предостерегал меня путешественник от жары, какая бывает в Сахаре. Я в жизни своей не был богат, да и Маршак сам только повидал, что это такое. Повидал он как следует, вблизи, и что такое прежняя литературная среда. «Ты не представляешь, что это за волки. Что теперешняя брань – вот тогда умели бить по самолюбию!» И Маршак из тех времен вынес умение держаться в бою. «Надо, чтобы тебя боялись!» Я не верил, к сожалению, этому совету, а Борис Степанович в нем и не нуждался. Он с восторгом лез в драку и держал людей, которых считал чужими, в страхе. Сразу угадывалось: этот кусается. Оба коротенькие, храбрые, энергичные, они с честью дрались за настоящую детскую литературу и в пылу борьбы считали ее единственной. «Когда у меня есть время, я могу халтурить во взрослой литературе», – сказал однажды Маршак. А выросший в атмосфере этой борьбы Золотовский[263]263
Золотовский Константин Дмитриевич (р. 1904) – детский писатель.
[Закрыть]
пожаловался (правда, несколько лет спустя): «Какому-то Каверину дали квартиру, а мне отказали». После «Воробья» Житков и Маршак стали работать в детском отделе Госиздата. Поставили они себя там строго, никому не спускали и ездили драться в Москву. Борьба вдохновляла их, все им удавалось, даже чудеса. Как-то по дороге из Москвы Маршак предложил соседке, что угадает ее имя и отчество. И угадал. Тогда Житков угадал имя и отчество другой их попутчицы. Они рассказывали нам об этом, смеясь, но и гордясь. Знай наших! Поехал я с ними смотреть дачу в Сиверскую, и чуть успел поезд отойти, как оба уже сцепились из-за места с желтеньким гражданином чиновничьего вида и всю душу вложили в эту ссору. Они кипели от избытка сил.
15 октября
Однажды пришли они в детский отдел возбужденные, опьяненные – поссорились со Шкловским. «Его так отчитал Борис, – умилялся Маршак, – что это будет ему хорошим уроком». За что влетело Шкловскому, понять было трудно. Угадывалось: за то, что чужой. «Вот я придумал тему, дарю ее вам: радиоприемник на металлическом зубе». Эта фраза Шкловского больше всего возмущала Житкова, и он все повторял ее неестественным голосом, передразнивая: «Дарю ее вам!» Через некоторое время сам пострадавший зашел в отдел. Был Шкловский мастер ссориться, привычен к диспутам, рассердившись, как правило, умнел, а тут, видно, несколько растерялся. Сидел на подоконнике нахохлившись, если так можно сказать о человеке лысом, и доказывал Маршаку и Житкову, что они поступили с ним нехорошо. Замятину, который зашел за ним, Шкловский наивно пожаловался: «Житков говорит, что я не остроумен. Разве это верно?» И Замятин покачал головой со своей сдержанной европейской повадкой и ответил: «Никак не могу с этим согласиться». И, подумав, добавил: «Уж скорее можно обвинить вас в недержании остроумия». И, почувствовав, видимо, что и его добротная репутация тут ему не защита, удалился не торопясь и увел с собой Шкловского. Да, Замятин раздражал наших бойцов, и репутация его (инженер, преподаватель политехникума, один из строителей ледохода «Ленин», в прошлом большевик, а ныне неустрашимый фрондер и сверх всего этого писатель, славящийся отличным русским языком) не признавалась нами. Он был чужой. И Маршак рассказывал сердито, как однажды ночью на Моховой, он слышал, Замятин громко разговаривал с дамой по-английски. «Как английский дворник!» И русский язык Замятина со всеми его орнаментами не признавался у нас. Да, это было не переводно, но холодно, поддельно, не народно.
Приходит время рассказать, как поссорились и разошлись Маршак с Житковым. И не хочется. И тяжело, и очень сложно, и темно.
16 октября
Я боюсь вспоминать о событиях роковых. О таких, которые при возникновении своем казались мелкими, нелепыми, а оказались необратимыми. Расхождения, возникавшие между Маршаком и Житковым, вначале выглядели ужасно забавными, а в конце концов оказались просто ужасными. Непримиримость и нетерпимость обоих наших учителей шла на пользу делу, пока обращена была на врагов великой детской литературы. Но вот осколки собственных снарядов стали валиться внутрь крепости. И зашибать своих. И этого нужно было ждать. И Житков и Маршак были несмирные люди. И уж слишком готовые к бою всегда, при любых обстоятельствах. Однажды, после очередного приезда из Москвы, Маршак пожаловался угрюмо, что они поссорились в вагоне со школьниками. С целым классом, который возвращался из экскурсии в Москву. Это был, кажется, единственный бой, который проиграли наши борцы! «Я забыл, что с целым классом никогда нельзя связываться», – сказал Маршак, как всегда, частный случай возвышая до явления, что покоряло меня в те дни. А Житков вообще промолчал об этой проигранной битве. И вот пришли дни, когда друзья стали ворчать друг на друга. Борис Степанович впервые за сорок лет был окружен доброжелательством. На него просто любовались. Каждое слово его ловили. Но нет, он не был создан для подобной сладости. В те годы в институте Герцена профессорствовала Ольга Иеронимовна Капица, мать знаменитого физика, и начинала свою научную деятельность Екатерина Петровна Привалова. Первая тогда занималась детским фольклором, а вторая работала в детской библиотеке института, богатейшей и единственной в Союзе по количеству детских книг и журналов, собираемых чуть ли не с XVIII века. Ольга Иеронимовна, благостная, добрая, полная, и Екатерина Петровна, и тогда и теперь похожая на умную, нескладную и не слишком счастливую бестужевку, дружили с нами.
17 октября
Немногочисленные детские писатели тех дней собирались часто в детской библиотеке такой же тесной кучкой вокруг стола, как в «Новом Робинзоне». Только стол тут был круглый и стоял посреди комнаты. У всего здания института был вид как бы полуобморочный, он еще не вполне ожил, не был освоен на всем своем огромном пространстве. Опечатанные шкафы в коридорах, бесконечные переходы, закопченные, сырые, с забитыми окнами и запертыми висячими замками дверьми. На всем еще лежал отпечаток голодного и холодного 18/19 года. Руководство Герценовского института само, видимо, побаивалось своего богатства. Во всяком случае, редчайшую детскую библиотеку свою руководители несколько раз порывались закрыть и вывезти вон, но каждый раз Маршак и Житков со всеми живыми людьми института поднимали шум на весь Союз, клеймили позором чиновников от просвещения, перепуганных и растерявшихся, ненавидящих свое собственное дело. И они, чиновники, отступали, ворча. В те дни мрачные противники антропоморфизма и сказки, утверждавшие, что и без сказок ребенок с огромным трудом постигает мир, захватили ключевые позиции педагогики. Детскую литературу провозгласили они довеском к учебнику. Они отменили табуретки в детских садах, ибо таковые приучают к индивидуализму, и заменили их скамеечками. Изъяли кукол, ибо они гипертрофируют материнское чувство, и заменили их куклами, имеющими целевое назначение: например, толстыми и страшными попами, которые должны были возбуждать в детях антирелигиозные чувства. Пожилые теоретики эти были самоуверенны. Их не беспокоило, что девочки в детских садах укачивали и укладывали спать и мыли в ванночках безобразных священников, движимые слепым и неистребимым материнским инстинктом. Ведь ребенка любят не за красоту. Вскоре непоколебимые теоретики потребовали, чтобы рукописи детских писателей посылались в Москву до их напечатания в ГУС, в Государственный ученый совет. Вот что делалось вокруг детской литературы. Я рассказываю об этом, чтобы стало ясно, как редки и как нужны были такие педагоги, как Привалова, Капица и немногие другие живые люди, затерявшиеся в сырых просторах Герценовского института.
«Писать свободно» — это была давняя мечта Евгения Шварца. Но именно так у него не получалось
Он родился 9 (21) октября 1896 года в Казани. Умер 15 января 1958-го в Ленинграде. А теперь обо всем этом подробнее.
Детство Шварца прошло в Майкопе. Отец — врач, с типичной фамилией Шварц, еврей. Мать — акушерка, из рода Шелковых. Отец попроще, погрубее, попрямолинейнее; мать по характеру мягче, гибче и вообще одареннее. Эту борьбу двух начал Евгений Шварц ощущал в себе постоянно.
Из воспоминаний детства — посещение цирка и первая влюбленность в девочку-циркачку, крутящую сальто на арене. А потом Московский университет и учеба на юридическом факультете. Но быть юристом скучно, а актером — заманчиво. И Шварц с 1917 по 1921 годы актерствовал в полулюбительских труппах. Высокий, красивый, с «римским профилем», с печальными глазами на удлиненном «блоковском» лице. Герой-любовник? Увы, не тот характер. И вскоре Шварц понял, что лучше писать для сцены, чем лицедействовать самому.
Шварц с юности отличался остроумием и фантазией. Обосновался в Питере, работал в детских журналах «Еж» и «Чиж». Один из современников вспоминает: «Детский отдел помещался на шестом этаже Госиздата, занимавшего дом бывшей компании «Зингер», Невский, 28, и весь этот этаж ежедневно в течение всех служебных часов сотрясался от хохота. Шутникам нужна подходящая аудитория, а у Шварца и Олейникова аудитория была превосходнейшая».
Шварц водил дружбу с обэриутами*, Серапионовыми братьями**, с Введенским и Хармсом и был всеобщим любимцем. Ольга Форш запечатлела его образ в своем романе «Сумасшедший корабль» под именем Гени Чорна. Конец 20-х годов — счастливое время: все петербуржцы-ленинградцы были молоды, красивы, талантливы и еще не испытывали гнета власти и пресса цензуры. Многим казалось, что можно взять и взлететь. Это уже потом им подрезали крылья, а некоторых и поставили к стенке.
Первая книга Евгения Шварца «Рассказ старой скрипки» — сборник стихов, адресованных детям, вышла в 1925 году. Дебют был отмечен тепло, а писательница Александра Бруштейн призналась: «Ну и хорошо. А то рассказываешь: Женя Шварц, Женя Шварц, а на вопрос, что он сделал, ответить-то и нечего». И вот сборник. Далее последовали сказки, одну из них, «Ундервуд», поставил в 1929 году ленинградский ТЮЗ. Затем появились пьесы «Клад», «Приключения Гогенштауфена» и переделки-переложения сюжетов Андерсена и Перро: «Принцесса и свинопас», «Голый король» (1934), «Красная шапочка» (1937), «Снежная королева» (1938), «Тень» (1940).
Своим путеводителем Шварц выбрал датского сказочника Андерсена, который в свою очередь шел по пути, проложенному немецким писателем Адельбертом Шамиссо. Сюжет может быть похожим, да смыслы и акценты разные. Недаром Шварц в качестве эпиграфа к своей «Тени» привел слова Андерсена: «Чужой сюжет как бы вошел в мою плоть и кровь, я пересоздал его и тогда только выпустил в свет».
Андерсеновские сюжеты у Шварца получились жестче, ближе к реалиям жизни. Старые-престарые герои — Золушка, Снежная Королева, Баба-Яга, капризная принцесса, глупый король, злой советник — обрели новые черты и легко вписались в контекст современной эпохи. Причем Шварц одел их в прекрасные стилистические одежды, и оттого многие реплики вошли в разговорный язык.
«Детей надо баловать, — говорит Атаманша в «Снежной королеве», — тогда из них вырастают настоящие разбойники». «Вы думаете, это так просто — любить людей», — вздыхает Ланцелот. «Единственный способ избавиться от драконов, — это иметь своего собственного дракона», — уверяет Шарлемань («Дракон»). «Посмотрите на все сквозь пальцы, — советует Доктор, осматривая Ученого («Тень»), — махните на все рукой. Еще раз».
В 1940 году Николай Акимов поставил «Тень». Талант автора соединился с талантом режиссера-постановщика. Акимов придумал немало декораций и мизансцен в духе иронии Шварца. К примеру, балконы дворца поддерживали классические кариатиды, но не руками-плечами, как принято, а увесистыми румяными задами. Хохот стоял на спектаклях «Тени», но вслед за смехом в зрителей вползали и горькие раздумья: что делать с тенью, как избавиться от нее? А финальная реплика ученого Христиана Теодора: «Аннунциата, в путь!» звучала грибоедовским парафразом: «Карету мне, карету!» Вон из страны сказок! Но в целом «Тень» благополучно прошла по театральным подмосткам, а вот «Дракон» вызвал резкое неприятие.
«Дракон» — вершина творческого достижения Евгения Шварца. Он закончил пьесу в 1944 году, работал тщательно, кропотливо, создал аж три варианта. Герой — странствующий рыцарь Ланцелот — побеждает ужасного Дракона, а потом спустя годы возвращается вновь и, увидев одни осколки от былой победы, печально говорит: «Работа предстоит мелкая. Хуже вышивания. В каждом из них придется убить дракона». Ольга Берггольц позднее писала:
А Вас ли уж не драконили
разные господа
разными беззакониями
без смысла и без суда.
Но в самые тяжелые годы
от сказочника-поэта
мы столько слышали свободы,
сколько видели света.
А уж как драконили «Дракона»! Пьеса была принята Акимовым к постановке в Ленинградском театре комедии. Во время московских гастролей состоялись две генеральные репетиции и один открытый спектакль 4 августа 1944 года, после чего грянул гром: «Дракон» был снят со сцены и запрещен. Три головы Дракона, по представлению Акимова, должны были обозначать злейших врагов (война ведь еще шла!) — Гитлера, Геббельса и Риббентропа. А зритель увидел в Драконе Сталина! Шварц так ярко выписал образ вождя-диктатора (Сталин, Гитлер — какая разница!), что зрители, узнав державные повадки, задрожали от страха. Недаром позднее Шварц признался дочери: «Надо же! Писал про Гитлера, а получилось про нас».
В 1962 году «Дракон» был восстановлен Акимовым и снова был с треском снят. На это раз ассоциации были с очередным вождем-правителем, с Никитой Хрущевым. Дракон — это грубая и жесткая тоталитарная власть. Никакой свободы народу. Права человека? Какая чушь! Только полное подчинение власти, труд и восхваление вождя! Убить Дракона — это покушение на саму власть! И пусть у Шварца была всего лишь сказка, но ее классифицировали как «вредную сказку». Вредную и опасную. Шварц был в отчаянии и шутил с друзьями: «А не написать ли мне пьесу про Ивана Грозного под названием «Дядя Ваня»»?
«Больно думать, — писал Корней Чуковский вдове писателя, — что Евгений Львович так и не увидел своего «Дракона» в печати. Он был не просто «талантливый драматург», он был — для меня — гениален. Право же, это не фраза, это я ощущаю всем своим многоопытным сердцем…»
«Голого короля» Шварц закончил в 1934 году, а поставлен он был уже после смерти автора, в 1960-м, в театре «Современник». Актеры прекрасно изображали рабскую льстивость к королю и министру, да так, что сидевшая на премьере в театре министр культуры СССР Екатерина Фурцева хохотала до слез, что не помешало ей на следующее утро запретить спектакль. Оно и понятно: «Голый король» подрывал основы власти. И у Шварца, и в жизни она была одинаковая: чванливая, тупая и никчемная, но постоянно разбухающая от своего величия.
Потом, когда пришла настоящая свобода, пьесы-сказки Евгения Шварца зашагали по сценам многих театров. Их ставили и ставят в Германии, США, Израиле, Польше, Чехословакии и во многих других странах. Шварц оказался и кинематографичен. И это доказал Марк Захаров, поставив прекрасный фильм «Обыкновенное чудо». Современные зрители и читатели Евгения Львовича восторгаются раскованностью его мысли, смелым полетом, но это сегодня, а когда-то это был всего лишь «эзопов язык», проскальзывавший сквозь прорехи и препоны цензуры. В декабре 1956 года Шварц посетил выставку Пабло Пикассо и был изумлен: «Он делает то, что хочет». И страшно позавидовал независимости Пикассо от власти, его внутренней свободе.
«Писать свободно» — это была давняя мечта Евгения Шварца. Но именно так у него не получалось, и он горько сетовал в дневнике, что ему «не пишется».
После смерти Евгения Львовича он был издан, сначала в усеченном виде, а в 1990 году — в полном, озаглавленном «Живу беспокойно…» В дневник входит так называемая «Телефонная книга», где воспоминания о людях следуют в том порядке, в каком Шварц вносил их в свою алфавитную телефонную книгу. Эти мемуарные заметки удивительны: это не сведение счетов со своими недругами и врагами, это не горькие истины друзьям, это запечатленная эпоха, «вытоптанное поле», где пришлось жить современникам в 20‑50-х годах. В дневнике Шварц предстает «отнюдь не всепрощающим добряком», как выразился Каверин. Просто он в своих воспоминаниях был предельно раскован, отсюда изощренность и беспощадность стиля изложения, и колкости, и злость, и насмешка. Шварц приучал себя, в отличие от своих современников, к «умению смотреть фактам в глаза», не уходить от них, смотреть не под ноги, а прямо в лицо.
Запись о Каверине: «Прямая-прямая асфальтированная Венина дорога». О другом писателе: «Волосы, как пакля, выцветшие не то от перекиси, не то от внутренних ядов». Точные, разящие, отточенные фразы. Свои первые записи Шварц уничтожил в 1926 году. С 1950 года приучил себя к ежедневным записям. Примечательно, что в них нет слов «арест» или «репрессии», вместо этого говорится иносказательно: «вдруг исчез». В целом дневник получился то печальным, то грустным, то смешным, в зависимости от событий и персонажей в нем, судит он больше себя, чем других.
В конце августа 1957-го, в предчувствии ухода, Евгений Шварц написал:
«… Все перекладываю то, что написал за мою жизнь. Настоящей ответственной книги в прозе так и не сделал… Я мало требовал от людей, но, как все подобные люди, мало и давал. Я никого не предал, не оклеветал, даже в самые трудные годы выгораживал, как мог, попавших в беду. Это значок второй степени и только. Это не подвиг. И, перебирая свою жизнь, ни на чем не могу успокоиться и порадоваться… Дал ли я кому-нибудь счастья?..»
Дал ли Шварц кому-нибудь счастья? В молодые годы он долго ухаживал за будущей своей женой Гаяне Халаджевой — никак она не поддавалась на его ухаживания. Да и предложить красавице молодой человек тогда ничего не мог, ибо был сказочно нищ. Но он сулил своей возлюбленной золотые горы (натура ведь сказочная, волшебная) и говорил, что выполнит любое ее желание. Она игриво спросила: а в Дон прыгнешь? Он немедленно перескочил парапет и сиганул в Дон как был — в пальто, шапке и галошах. И брак был заключен не на небесах, а в синеве Дона. Гаяне — это первая жена. Вторая — Екатерина Ивановна. «Настоящее счастье, со всем безумием и горечью…» — как написал Шварц.
Умирал Евгений Львович тяжело. Пытался переиграть судьбу и подписался на 30-томное собрание сочинений Чарлза Диккенса. Но умер задолго до выхода последнего тома.
Напрасно Евгений Львович так сурово оценивал то, что он сделал. Он сделал немало, его сказочные персонажи тоже поучаствовали в штурме советской Бастилии. Но абсурд жизни таков, что вместо одних драконов появились другие, потирающие руки, ибо главный Дракон сказал Ланцелоту сущую правду: «… Оставляю тебе прожженные души, дырявые души, мертвые души…» Они, эти души, и сегодня припадают к сапогам Сталина, раболепно извиваясь в любви к нему. Человеческая глупость и зло неистребимы, и это прекрасно понимал «волшебник» Шварц. Лично он не питал никаких иллюзий.
В его замечательном сказочно-реалистическом «Драконе» сын бургомистра Генрих говорит: «Меня так учили!» На что тут же последовала мгновенная реакция: «Да, учили! Но почему ты, мерзавец, был первым учеником?!»
Евгений Шварц всю жизнь страдал от «первых учеников».
* ОБЭРИУ (Объединение реального искусства, 1928‑1931), литературная группа. В нее входили писатели И. Бахтерев, А. Введенский, К. Вагинов, Н. Заболоцкий, Д. Хармс, Б. Левин.
** «Серапионовы братья», — литературная группа, возникшая в 1921 в Петрограде при издательстве «Всемирная литература». В группу входили Вс. Иванов, М. Слонимский, М. Зощенко, В. Каверин, Н. Никитин, К. Федин, Л. Лунц, Н. Тихонов, Е. Полонская, И. Груздев. Название «С. б.» — от одноимённой книги немецкого романтика Э. Т. А. Гофмана.
http://litrossia.ru/2014/49/09231.html
ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ: «МЕНЯ ГОСПОДЬ БЛАГОСЛОВИЛ ИДТИ»
Он появился на свет осенью – 21 октября 1896 года и умер зимой – 15 января 1958 года. Между этим датами – жизнь: странная, беспокойная, наполненная мистическими событиями. Жизнь сказочника, драматурга, поэта.
Старинная пишущая машинка «Corona» – чёрные полированные бока, золотистые клавиши. Она хранится сейчас в Сернурском историко-литературном музее Республики Марий Эл. Вот её описание: «Машинка в футляре для переноски. Клавиши круглые, поверхность жёлтого цвета, расположены в три ряда. На щитке каретки – фирменный знак предприятия овальной формы. Машинка первоначально принадлежала известному театральному деятелю, народному артисту Н.П. Акимову, который продал её известному драматургу Е.Л. Шварцу. В 1946 году Шварц подарил машинку Н.А. Заболоцкому».
Очевидно, именно на этой машинке была напечатана в 1938 году самая зимняя сказка на свете – пьеса «Снежная Королева».
Все мы видели фильмы, снятые по сценариям Шварца: «Сказка о потерянном времени», «Золушка», «Обыкновенное чудо», «Первоклассница».
Он знал, что будет писателем, уже в раннем детстве; в пять лет на вопрос матери: «Кем ты хочешь стать?», ответил: «Романистом». (От волнения маленький Женя забыл более простое слово: «писатель».)
Шварца мистически влекли белые, нелинованные листы бумаги; проводя волнистые линии, воображал, что пишет роман.
Отец его – Лев Борисович Шварц (1874–1940) был врачом, мать – Мария Фёдоровна Шелкова (1874–1941) – акушеркой.
Отношения между родственниками со стороны матери и отца будущего писателя были сложными, оказали сильное влияние на формирование его личности и творчества.
Из дневников Евгения Шварца: «Рязань и Екатеринодар, мамина родня и папина родня, они и думали, и чувствовали, и говорили по-разному, и даже сны видели разные, как же могли они договориться? …отец… был человек сильный и простой… Участвовал… в любительских спектаклях. Играл на скрипке. Пел. Рослый, стройный, красивый человек, он нравился женщинам и любил бывать на людях. Мать была много талантливее и по-русски сложная и замкнутая… для простого и блестящего отца моего наш дом, сложный и невесёлый, был тесен и тяжёл».
Шварц был глубоко верующим человеком. Интересны воспоминания о первом причастии в церкви. «Когда бабушка узнала, что я ещё не причащался никогда, она очень рассердилась на маму и повела меня в храм. И когда я принял причастие, то почувствовал то, чего никогда не переживал до сих пор. Я сказал бабушке, что причастие прошло по всем моим жилочкам, до самых ног. Бабушка сказала, что так и полагается. Но, много спустя, я узнал, что дома она плакала. Она увидела, что я дрожал в церкви, – значит, Святой Дух сошёл на меня».
Меня Господь благословил идти,
Брести велел, не думая о цели.
Он петь меня благословил в пути,
Чтоб спутники мои повеселели.
Иду, бреду, но не гляжу вокруг,
Чтоб не нарушить Божье повеленье,
Чтоб не завыть по-волчьи вместо пенья,
Чтоб сердца стук не замер в страхе вдруг.
Я человек. А даже соловей,
Зажмурившись, поёт в глуши своей.
После окончания в 1912 году реального училища родители настояли на поступлении в Московский университет на юридический факультет. Учёба давалась Шварцу туго, и через два года, отправив родителям телеграмму «Римское право умирает, но не сдаётся», он вернулся домой.
Почти по дням свою жизнь описал в дневниках-мемуарах, но существует загадочный пробел в пять лет. Лишь одно пишет он об этом периоде: «Мне не хочется рассказывать о тех годах, куда меня несло, туда я и плыл, пока несчастья не привели меня в себя».
Только через столетие выяснились обстоятельства, которые Евгений Шварц тщательно скрывал всю свою жизнь. В 1916 году, закончив военное училище в Москве, он поступил в распоряжение Кавказского военного округа. Прапорщик Евгений Шварц служил в Добровольческой армии. В марте 1918 года – оказался в эпицентре самых драматичных событий гражданской войны. Участвовал в знаменитом «Ледяном походе» генерала Корнилова, ставшем символом белого движения. Там он получил тяжёлую контузию, следствием которой было дрожание рук, которое мешало ему в работе всю последующую жизнь. Каким образом ему удалось скрыть этот факт своей биографии – загадка…
Демобилизованный после ранения, Шварц поступил в университет Ростова-на-Дону, но учился там недолго. Он и его брат Антон, поступили в театр «Передвижная мастерская». Евгений влюбился в актрису этого театра Гаяну Халаджиеву. Он добивался красавицы армянских кровей целый год; до тех пор, когда он прыгнул в ледяную воду ноябрьской реки прямо в одежде.Она спросила: «А в Дон вы прыгнете?» После этого поступка – не устояла, вышла за него замуж.
В октябре 1921 года артисты театра, среди которых был Евгений Шварц, приехали в Петербург. К сожалению, вскоре театр был ликвидирован в связи с отсутствием сборов. Шварц перебивался как мог: грузил уголь, подрабатывал на железной дороге, играл в загородном театре, пел в хоре. Первая его книга «Рассказ старой скрипки» – сборник стихов, адресованных детям, вышла в 1925 году. В 1928 году он работает в редколлегии детского журнала «Ёж». Знакомится с М.Зощенко, Д.Хармсом.
Очень забавно одно из его стихотворений той поры:
Шёл по дорожке хорошенький щенок,
Нёс в правой ножке песочный пирожок
Своей невесте, возлюбленной своей,
Чтоб с нею вместе сожрать его скорей.
Вдруг выбегает Наган Наганыч Гад,
И приказает ступать ему назад,
И отымает подарок дорогой,
И ударяет счастливчика ногой.
Нет! Невозможен такой худой конец!
Выну из ножен я Меч-Кладенец.
Раз! – И умирает Наган Наганыч Гад,
А щенок визжает: «Спасибо, очень рад!
Писатель мучительно ищет своё место в литературе и не может найти. К тому же, проблемы усугубляются тяжёлыми отношениями с женой.
Вскоре он знакомится с Екатериной Ивановной Обух. Это – любовь, которая приходит сразу, неожиданно и навсегда. Из-за этого чувства Шварц оставляет семью. Вот что писал об этом К.И. Чуковский: «…он никогда не умел противостоять любви, потому что был слабый человек. Он совершал решительные поступки именно потому, что чувствовал свою слабость. Полюбив Ганю, он прыгнул с набережной в Дон. Полюбив Екатерину Ивановну, он оставил Ганю и новорождённую дочь. В течение долгого времени он знал, что ему предстоит нанести Гане чудовищный удар, неизбежность этого так страшила его, что он всё откладывал и откладывал, ничем себя не выдавая, и удар, нанесённый внезапно, ничем не подготовленный, оказался вдвое страшнее».
Шварц прожил с Екатериной Ивановной 30 лет – до конца жизни, и всегда был влюблён в неё. «Настоящее счастье, со всем безумием и горечью…» Дневник: «…в лето 29 года, переменившее всю мою жизнь… жил я напряжено и несчастливо и так счастливо… В те дни я, уклончивый и ленивый и боящийся боли, пошёл против себя самого силою любви. Я сломал старую свою жизнь и начал новую. И в ясности особенной, и как одержимый, как в бреду. Всё это было так не похоже на меня, что я всё время думал, что умру. И в самом деле старая жизнь моя осенью умерла окончательно – я переехал к Катюше… Да и в самом деле я старый, прежний умирал, чтобы медленно-медленно начать жить. До тех лет я не жил». Это ей он посвятил свой гимн любви – пьесу «Обыкновенное чудо». «Я думаю, дело заключалось в могучей её женственности, простоте и силе её чувств. Вокруг неё всё как бы оживало – и комната, и вещи, и цветы светились под её материнскими руками».
1929 год Евгений Львович называет самым счастливым годом в своей жизни. 22 сентября проходит с огромным успехом премьера его первой пьесы «Ундервуд», и, вопреки приговору врачей, у Екатерины Ивановны должен родиться ребёнок. (Незадолго до встречи со Шварцем она потеряла трёхлетнего сына, даже пыталась покончить жизнь самоубийством, ведь врачи сказали, что больше детей у неё не будет никогда.) Но уже в декабре случается несчастье. «В июне 1930 года ждали ребёнка, а окончилось всё бедой – потерян ребёнок…»
В марте 1941 года Шварца посещает видение. Из дневников: «Комната набитая дьяволами, мужского и женского пола, вполне человекоподобными. Особенно противен крошечный слабый старичок, пытающийся беззубыми дёснами укусить меня в колено – по своему росту. Я отталкиваю его, он бежит в угол. Становится выше. Я усилием воли просыпаюсь, но вижу, что угол комнаты переполнен всё теми же голыми чудовищами. Всё повторяется. Старик снова кусает моё колено. Я просыпаюсь в третий раз. И чудовища по-прежнему тут. Старик шатается, как пьяный, двигаясь ко мне. В руках его нож. Это уж слишком…»
Запись от января 1943 года: «Бог поставил меня свидетелем многих бед. Видел я, как люди переставали быть людьми от страха. Видел, как погибали целые города. Видел, как убивали. Видел, как продавали. Видел, как ложь убила правду везде, даже в самой глубине человеческих душ. Лгали пьяные. Лгали в бреду. Лгали самим себе. Видел самое страшное – как люди научились забывать… Бог поставил меня свидетелем многих бед, но не дал мне силы. И поэтому я вышел из всех бед жизни. Но душа – искалечена. Я не боюсь смерти, но людей боюсь – вот в чём моя душевная болезнь. А кто стал бояться людей, тот уже не судья им и даже не свидетель в том Суде, который всё же будет когда-нибудь. Когда начнётся суд, бедный трус подумает: с моим терпением и молчанием я соучастник, а не свидетель и не судья. Когда-то молчал, потому что мне грозит смерть, как же я смею кричать теперь? И всё, что он мог рассказать, погибнет. Неужели всё, что я могу рассказать – погибнет? Нет, если я поставлю себя в один ряд и с виновными и с обвинителями и не буду судить и не буду свидетельствовать за или против, а вспоминать и, сдерживая трепет и страх, – говорить».
В 1944 году Евгений Шварц написал пьесу «Дракон». Как потом он говорил своей дочери: «Писал про Гитлера, а получилось – про нас». Алексей Герман: «У него так тряслись руки, что он подпись свою не мог поставить. А при этом, в первые дни войны, пошёл записываться добровольцем», а когда в войска его не берут, он с Екатериной Ивановной каждую ночь тушит на крыше зажигалки. Они ходят всегда вдвоём на эти дежурства – чтобы если уж бомба, то вместе умереть.
В конце августа 1957-го, незадолго до смерти, Шварц написал: «…Всё перекладываю то, что написал за мою жизнь. Настоящей ответственной книги в прозе так и не сделал… Я мало требовал от людей, но, как все подобные люди, мало и давал. Я никого не предал, не оклеветал, даже в самые трудные годы выгораживал, как мог, попавших в беду. Это значок второй степени и только. Это не подвиг. И, перебирая свою жизнь, ни на чём не могу успокоиться и порадоваться… Дал ли я кому-нибудь счастья?..»
За несколько дней до смерти, умирающий Евгений Львович попросил карандаш и бумагу, чтобы написать о бабочке. Писатель не бредил. Его мучила мысль о том, что он умрёт, не успев рассказать о многом, и, прежде всего, о простой белой бабочке-капустнице… К нему вдруг пришли слова, как она летала. Это очень важно – найти нужное слово.
15 января 1958 года Снежная королева (по датским легендам – Ледяная Дева – предвестник смерти) заглянула в окно… мёртвые бабочки-снежинки кружились в своём страшном танце…
…Снег укрыл пушистым одеялом холмик на кладбище. Вскоре на нём встанет мраморный крест с надписью «Шварц Евгений Львович 1896–1958».
Через пять лет рядом появится могила жены – Екатерины Ивановны. Она не смогла жить без любимого; приведя в порядок записи Шварца и подготовив его собрание сочинений, приняла смертельную дозу лекарства.
Нет. Весь я не умру. Лечу, лечу.
Меня тревожит солнце в три обхвата
И тень оранжевая. Нет, здесь быть я не хочу!
Домой хочу. Туда, где я бывал когда-то.
И через мир чужой врываюсь я
В знакомый лес с берёзами, дубами,
И, отдохнув, я пью ожившими губами
Божественную радость бытия.
Наталья ЭСТЕВАН,
г.ТУЛОН,
Франция
21 октября – 120 лет замечательному отечественному
сказочнику, писателю, драматургу Евгению Львовичу Шварцу (1896 – 1958).
Ещё при жизни сказочника назвали одним из лучших драматургов
века, а после смерти имя его стало символом детства, добра и любви. Им написаны
с детства всеми любимые «Сказка о потерянном времени», «Два клёна»,
фильмы-сказки «Золушка» и «Марья-искусница», «Снежная королева», «Обыкновенное
чудо»… Его пьесы и фильмы давно разошлись на цитаты: «Я не волшебник, я
только учусь», «Детей надо баловать — тогда из них вырастают настоящие
разбойники», «Связи связями, но надо же и совесть иметь», «Какое сказочное
свинство!». Мы вырастаем на его сказках и пьесах, но что нам известно об
авторе? А ведь в его жизни до сих пор многое не прозрачно и загадочно… Шварц
при жизни почти не имел врагов, не был репрессирован, зато имел славу, успех у
женщин, детей, автомобиль, прекрасную квартиру в Ленинграде, пусть и убогую, но
собственную дачу в Комарово, деньги на счёте, не имел долгов и умер в своей
постели! Всё это можно считать настоящим советским «обыкновенным чудом»,
случившимся с необыкновенным и не очень советским писателем и человеком во
времена совсем не сказочные, переполненные какой-то небывалой жестокостью,
почти сказочной глупостью и бесчеловечностью.
Меня Господь благословил идти,
Брести велел, не думая о цели.
Он петь меня благословил в пути,
Чтоб спутники мои повеселели.
Иду, бреду, но не гляжу вокруг,
Чтоб не нарушить божье повеленье,
Чтоб не завыть по-волчьи вместо пенья,
Чтоб сердца стук не замер в страхе вдруг.
Я человек. А даже соловей,
Зажмурившись, поёт в глуши своей.
Евгений Шварц
 |
| Е. Л. Шварц. 1899. Екатеринодар |
Евгений Шварц родился 21 октября 1896 года в Казани в семье
врача. Его отец, Лев Борисович Шварц (1874–1940), был родом из Екатеринодара.
За излишнее увлечение революционными идеями вместе со своей женой, Марией
Федоровной Шелковой (1875–1942), курсисткой акушерских курсов родом из Рязани,
был сослан из холодной Казани, в которой он учился, и где родился Женя, в тёплый
город Майкоп. Темпераментный красавец Лев Шварц играл на скрипке, пел,
занимался чем-то подпольно-политическим, но главное — играл в любительском
театре. «Отец был сильный и простой. Участвовал в
любительских спектаклях. Играл на скрипке. Пел. И расхаживал по дому в римской
тоге. Рослый, стройный, красивый человек, он нравился женщинам и любил бывать
на людях. Мать была много талантливей и по-русски сложная и замкнутая…»
Все современники, а позже и сам Евгений Львович в один голос утверждали, что на
любительской сцене она была ещё талантливее отца — по-настоящему одаренная
самобытная актриса.
Казань была для Шварца только тем, что рассказывали о городе
родители, то есть, сказкой с мечетями и церквами, базарами и широким трактом.
Самой Казани Шварцу так и не удалось увидеть, родителей постоянно переводили из
одной больницы в другую, и детство Евгения было полно самых разных впечатлений.
Дмитров, где мальчик только научился ходить и самостоятельно кушать, сменился
на Армавир. Раннее детство Евгения Шварца прошло в переездах: в дневниках он
вспоминает Екатеринодар, Дмитров, Ахтыри, Рязань… «Это были
<…> разновременные наезды в родной город отца в промежутки между разными
его службами до Майкопа».
 |
| Семья. 1906 г, Майкоп. Справа от Е. Л. Шварца – его брат Валентин |
С раннего детства Женя признавал только те выдуманные
истории, которые имели счастливый финал. Наотрез отказывался дочитывать книжку, заподозрив, что она может
кончиться грустно. Впервые
слушая про Дюймовочку, он с ужасным криком заткнул себе уши и не дал маме
дочитать, потому что слишком боялся плохого конца. Мама пользовалась этим в
педагогических целях: едва Женя садился за еду, она начинала импровизировать
сказку. И к середине тарелки герои непременно оказывались на утлом суденышке в
бушующем море. А дальше
будущему сказочнику предъявлялся ультиматум: «Доедай всё до конца! Если хоть
что-нибудь останется на твоей тарелке, они там все на судне утопнут в море!» И
несчастный Женя подчищал свою тарелку до полного сияния, только чтобы все у
всех и всегда кончалось хорошо. Уже в детстве он умел видеть жизнь как череду
забавных или грустных историй. Согласно многим источникам, характер у мальчика
был сложный. В нём странным образом сочетались открытость и ранимость,
скрытность и болезненная обидчивость. В три года научился читать, ещё раньше –
мечтать, и, обладая развитым воображением, выдумывал различные истории, иногда
пугая самого себя до полусмерти. Однажды мама спросила пятилетнего Женю, кем он
станет, когда вырастет? «Я от застенчивости лёг на ковёр,
повалялся у маминых ног и ответил полушёпотом: «Романистом». В смятении своём я
забыл, что существует более простое слово – «писатель». Но я не сомневался, что
буду писателем»… Женя вырос ярким, веселым и начитанным мальчиком.
 |
| Е. Л. Шварц 1911 г. Майкоп |
В Майкопе, о котором Евгений Шварц всю жизнь вспоминал с
любовью, прошли детство и юность писателя. Именно «майкопская» юность привнесла
в произведения Шварца какую-то неуловимую ностальгию по неизведанному. Именно
здесь, на Кавказе, имеющем самобытную культуру с массой легенд, сказаний и
флером Востока, он учился создавать собственные истории. Евгений, крещёный, как
и его родители, в православие, считал себя русским. Когда началась первая
мировая война, как истинно русский патриот, тайком от родителей подал
документы, чтобы поступить в военное училище. И вот в 1914 году вдруг «выяснилось, что я православный, рождённый русской женщиной, стало
быть, по всем документам – русский, в военное училище поступить могу только с
Высочайшего разрешения, так как отец у меня – еврей». Для
Высочайшего разрешения несовершеннолетнему юноше требовалось согласие
родителей, а согласия они не дали.
Евгений окончил реальное училище, потом решил поступить в
главный Университет страны. Москва манила его своими перспективами, к тому же
постоянные переезды, а точнее ссылки отца, делали юношу все более
чувствительным к несправедливости. В юности Шварц решил, что должен стать
юристом. В 1914 году поступил на юридический факультет Московского народного
университета имени А. Л. Шанявского, но проучившись там два года, решительно
отказался от профессии юриста. «В девятьсот пятнадцатом году на юридическом факультете московского
университета я сдавал профессору такому-то римское право. Я сдавал его очень
старательно и упорно, но, увы, как я ни бился, юрист из меня не получался. И на
другое утро в Майкоп, где проживали тогда мои родители, полетела гордая и
печальная телеграмма: «Римское право умирает, но не сдаётся!»…» Так Шварц пополнил список
сказочников – неудавшихся юристов: Шарль Перро, братья Гримм и Эрнст Теодор
Амадей Гофман.
Почти по дням свою жизнь он описал в
дневниках-мемуарах, но существует загадочный пробел в пять лет. Лишь одно пишет
он об этом периоде: «Мне не хочется рассказывать о тех годах,
куда меня несло, туда я и плыл, пока несчастья не привели меня в себя». Только
через столетие выяснились обстоятельства, которые Евгений Шварц тщательно
скрывал всю свою жизнь. Весной 1917 года Шварц
был призван в армию. В апреле 1917 находился в запасном батальоне в Царицыне,
откуда его должны были перевести в числе других студентов в военное училище в
Москву. С августа 1917 года юнкер в Москве. В 1917 году Шварц переезжает в
Ростов-на-Дону, там его застаёт революция, а вслед за ней – гражданская война,
которая именно в этих краях как раз и начиналась. Поступил в Добровольческую
армию, участвовал в «Ледяном походе» Корнилова. При взятии Екатеринодара
получил контузию, последствиями которой, тремором рук, мучился всю оставшуюся
жизнь. Казачество не
поднялось, штурм Екатеринодара провалился, Корнилов погиб, Шварц вернулся
домой. Как он воевал, не брал ли пленных и что там случилось с его зубами, не
узнает никто и никогда. Неизвестно даже, ушел ли он добровольцем или был
призван насильно. Но даже не это главное. Как сумел Шварц скрыть этот факт своей
биографии, сочинив взамен историю с продотрядом?! В годы, когда и намека на
классово чуждых предков в седьмом колене хватало, чтобы сгинуть безвозвратно,
Евгений Шварц служил в детском отделе Госиздата. И ведь не сидел в тени —
печатался, ставился, выступал, был на виду и слуху. Как не увидел никто? Не
вспомнил? Не донес?
 |
| Е Л. Шварц с родителями М. Ф. и Л. Б. и братом В. Л. Шварцами. 1917 г |
После поступил в университет в Ростове-на-Дону, где начал
работать в «Театральной мастерской». В рецензиях на спектакли «Театральной
мастерской» критики отмечали его выдающиеся пластические и голосовые данные.
Шварцу прочили блестящее актёрское будущее как неординарному актёру. Женя, как
звали его товарищи, в эти годы был остер, наблюдателен, худ до крайности и
держался в «Мастерской» на «характерных» ролях. В великие актеры он не
стремился, зато обожал развлекать друзей и коллег комическими «номерами».
Вспоминают, как он «показывал собачий суд» – лаял, тявкал и скулил на разные
голоса, изображая судью и свидетелей, прокурора и адвоката, секретаря и
подсудимого. Он играл в пьесе Велемира Хлебникова с многозначительным названием
«Ошибка смерти», играл скромную роль кого-то из гостей, зато один раз в
присутствии самого автора. В трагедии Пушкина, «Моцарт и Сальери» Шварц
старался по мере слабых сил изобразить из себя Сальери.
В местном театре он познакомился со своей первой женой и в
1920 году решил жениться. Николай Чуковский вспоминал: «Первая
жена его была актриса Гаянэ Халаджиева, по сцене Холодова, в просторечии –
Ганя, маленькая женщина, шумная, экспансивная, очень славная. Она долго
противилась ухаживаниям Шварца, долго не соглашалась выйти за него. Однажды, в
конце ноября, поздно вечером, шли они в Ростове по берегу Дона, и он уверял её,
что по первому слову выполнит любое её желание.
– А если я скажу: прыгни в Дон? –
спросила она.
Он немедленно перескочил через парапет и
прыгнул с набережной в Дон, как был – в пальто, в шапке, в калошах. Она подняла
крик, и его вытащили. Этот прыжок убедил её – она вышла за него замуж». Очень традиционная семья
Гаянэ потребовала, чтобы будущий родственник непременно вошел в лоно армянской,
грегорианской церкви. После чего в паспорте его довольно долгое время
значилось: «Шварц Евгений Львович, армянин». «Увы, – вспоминал потом
Евгений Львович, – наш брак оказался неудачен, потому, наверное, что совершился
не на небесах, а в воде ледяного Дона».
В октябре 1921 года вместе с актёрами ростовской Театральной
мастерской Евгений Шварц со своей молодой женой приехал в Петроград на
гастроли. Театральная общественность Петрограда и пресса приветливо приняли
молодой театр. Но театр сборов не делал и скоро прогорел. Шварцы остались в
Петрограде, работали в театре на Бородинке. Меньше чем через год не было в Питере литературного общества или
кружка, в котором не знали бы Женю Шварца и не ждали бы его с распростертыми
объятиями. Высокий, статный, светлоглазый красавец-блондин с классическим
римским профилем, которого совсем уж невероятным образом не портило даже
отсутствие двух передних зубов. Наоборот, добавляло ему не то ребячливого
озорства, не то сурового мужества. Он
грузил уголь в порту, работал продавцом в книжном магазине на Литейном.Шварц
был известен во всех литературных обществах и тусовках Петрограда-Ленинграда
как замечательный «устный писатель», блистательный рассказчик-импровизатор. Он изумительно каламбурил,
сыпал шутками, над которыми надрывали животы самые записные остряки из числа
питерских литераторов (в их числе и Зощенко, и Хармс!), но умудрялся никого не
обидеть. Даже когда высказывал на обсуждениях после читки свое мнение о только
что прозвучавших стихах или прозе. Обычно в столь же уморительно-смешной форме,
но при этом еще и глубоко и точно. Если затевался диспут, ни у кого не
возникало вопроса, кто будет ведущим. А если уж зрело застолье, то никому и в
голову не приходило задуматься, кого назначить тамадой. Двадцати пяти лет от
роду Евгений Шварц решительно покорил весь литературный Петроград. Он даже угодил в этом качестве в персонажи
появившейся в 1931 году повести писательницы Ольги Форш «Сумасшедший корабль»
под именем Геня Чорн: Это был «…импровизатор-конферансье,
обладавший даром легендарного Крысолова, который, как известно, возымел такую
власть над ребятами, что, дудя на легкой дудочке, вывел весь их мелкий народ из
немецкого города заодно с крысами. Сейчас он вознес римский свой профиль над
сценой…».
Шварц стал часто бывать у Николая Чуковского, и Корней
Чуковский взял его к себе в секретари. Он подружился с «Серапионовыми братьями»
и обэриутами. Ему разрешалось присутствовать на их еженедельных собраниях, а
это была честь, которой удостаивались немногие. Из серапионов особенно
подружился с Зощенко и Слонимским. Весной 1923 года Шварц решил побывать у
родителей на Донбассе и предложил своему другу М. Слонимскому ехать с ним.
Шварц работал фельетонистом в провинциальной газете «Всесоюзная кочегарка»
(тогда выходила в г. Артёмовск Донецкой обл.), где судьба его свела с Николаем
Олейниковым, ставшим впоследствии близким другом и соавтором. Там в 1923 году,
по инициативе Михаила Слонимского, Евгений с Николаем выпустили первый номер
журнала «Забой» (ныне «Донбасс»). Когда выход нового журнала наладился, и
состав сотрудников определился, Шварц вернулся в Петроград.
С 1924 года Шварц жил в Ленинграде. В 1925-м стал секретарем
журнала «Ленинград». Работал в детской редакции Госиздата под руководством
Самуила Маршака. Одной из главных его обязанностей была помощь дебютантам,
многие из которых вспоминали о том, что Шварц отличался редкой способностью
развивать и дополнять чужие замыслы. Детская редакция Госиздата могла гордиться
невероятной интуицией Шварца на талантливых новичков. Именно с рекомендации
Евгения Львовича начали свой творческий путь многие детские писатели. В эти
годы Шварц был близок к группе ОБЭРИУ. Николай Чуковский: «В
конце двадцатых годов в Ленинграде образовалось новое литературное объединение
– обэриуты. Не помню, как расшифровывалось это составное слово. О – это,
вероятно, общество, ре – это, вероятно, реалистическое, но что означали
остальные составляющие – сейчас установить не могу. Обэриутами стали Хармс,
Александр Введенский, Олейников, Николай Заболоцкий, Леонид Савельев и
некоторые другие. Не знаю, вступил ли в обэриуты Шварц, – может быть, и не
вступил. Насмешливость мешала ему уверовать в какое-нибудь одно литературное
знамя. Но, конечно, он был с обэриутами очень близок, чему способствовала его
старая дружба с Олейниковым и новая, очень прочная дружба с Заболоцким, – дружба,
сохранившаяся до конца жизни». Как
и многие обэриуты, он писал детские рассказы и стихи для журналов «Чиж» и «Ёж».
Николай Чуковский: «При Детском отделе издавались два журнала
– «Чиж» и «Ёж». «Чиж» – для совсем маленьких, «Ёж» – для детей постарше.
Конечно, Маршак, руководивший всем Детским отделом, руководил и этими
журналами. Однако до журналов у него руки не всегда доходили, и настоящими
хозяевами «Чижа» и «Ежа» оказались Шварц и Олейников. Никогда в России, ни до,
ни после, не было таких искренне веселых, истинно литературных, детски озорных
детских журналов. Особенно хорош был «Чиж», – каждый номер его блистал
превосходными картинками, уморительными рассказами, отточенными, неожиданными,
блистательными стихами».
Писательская биография великого сказочника складывалась без
сказочной лёгкости. Печататься Шварц начал в провинциальной прессе. Впервые
обзавёлся псевдонимом, стал называться Щуром. (Щур – это древнеславянское
обозначение домового и некоей певчей птицы). Под этой фамилией в журнале «Воробей»
в 1924 году появился «Рассказ Старой Балалайки». «Балалайку» заметил Маршак и
похвалил Мандельштам. На следующий год у Шварца вышло сразу несколько детских
книжек «Воробей», «Война Петрушки и Стёпки-растрёпки», «Лагерь» и «Шарики», а,
кроме того, и первая книжка детских стихов «Рассказ старой скрипки».
Первая семейная лодка Шварца разбилась о быт, а также о
разность характеров. У
них уже подрастала дочка Наташа, Шварц перестал разгружать уголь, потому что
начал писать и печататься, а Гаянэ приняли в труппу БДТ, и вся их питерская
жизнь налаживалась на глазах. На каком-то очередном литературном сборище Вениамин Каверин, познакомил его со своим
братом Александром, композитором, приобретшим широкую известность под
псевдонимом Ручьёв. Шварц с первого взгляда влюбился в его красавицу-жену
Екатерину Ивановну. Тяжелые
золотые косы вокруг гордой головы, холодные глаза, небрежное «очень приятно».
Через пять минут общения она хохотала.
Но для того, чтобы соединиться, обоим пришлось сломать то, что у них
сложилось до встречи. Евгению Львовичу это было особенно трудно, так как он
оставил жену и дочку. Через
полгода Шварц ушёл из собственной семьи. После объяснения с первой женой Гаянэ,
для которой его уход году был полнейшей неожиданностью, у него началась нервная
болезнь, выражавшаяся в непрерывной и усиливающейся с годами тряске рук. Шварц позже напишет в своих
дневниках: «…в лето 29 года, переменившее всю мою
жизнь …жил я напряжено и несчастливо и так счастливо… В те дни я, уклончивый и
ленивый и боящийся боли, пошел против себя самого силою любви. Я сломал старую
свою жизнь и начал новую. И в ясности особенной, и как одержимый, как в бреду.
Всё это было так не похоже на меня, что я всё время думал, что умру. И в самом
деле старая жизнь моя осенью умерла окончательно – я переехал к Катюше… Да и в
самом деле я старый, прежний умирал, чтобы медленно–медленно начать жить. До
тех лет я не жил».
В 1929 году Шварц написал свою первую пьесу «Ундервуд», её
поставили в ТЮЗе. Сюжет её был прост – студент Нырков получил для срочной
работы на дому пишущую машинку «Ундервуд», жулики решили её украсть, а пионерка
Маруся помешала им. Комедию поставили в Театре юного зрителя, и тотчас
разразился скандал. Специалисты по воспитанию детей, так называемые педологи,
возмутились тем, что на сцену «потихоньку протащили сказку», безусловно вредную
для подрастающего поколения. Ведь спекулянтка Варварка оказалась бабой-ягой, и
в подручных у нее нечистая сила, – разве можно показывать это советским детям?
На защиту «Ундервуда» встали театральные критики и комсомольская газета
«Смена», спектакль оставили в репертуаре, однако околотеатральные «деятели»
насторожились. Поэтому в пьесе «Клад», поставленной в 1933 году, Шварц прячет
фантастику поглубже в подтекст, а на первый план выводит «новую, советскую
действительность»: герои находят в горах Кавказа медный рудник, имеющий
огромную ценность для народного хозяйства, а заодно спасают девочку, помогают
взрослым осознать их ошибки, разоблачают суеверия…
В 1934 году режиссер Н.Акимов уговорил драматурга попробовать
свои силы в комедийной драматургии для взрослых. В результате появилась пьеса
«Похождения Гогенштауфена» – сатирическое произведение со сказочными
элементами. Действие пьесы происходило в самом обыкновенном советском
учреждении, где служат обыкновенные «реалистические» люди. Мелкий служащий
награждается комически-несообразной «средневековой» фамилией,
чиновница-бюрократка Упырёва оказывается злой колдуньей, а уборщица Кофейкина –
доброй волшебницей.
Вся первая половина тридцатых годов ушла у него на поиски
жанра, который дал бы ему возможность свободно выражать свои мысли, свое
понимание мира. Николай Чуковский: «Евгений Львович был
писатель, очень поздно «себя нашедший». Первые десять лет его жизни в
литературе заполнены проблемами, попытками, мечтами, домашними стишками,
редакционной работой. О том, что путь этот лежит через театр, он долго не
догадывался. Он шёл ощупью, он искал, почти не пытаясь печататься. Искал он
упорно и нервно, скрывая от всех свои поиски. У него была отличная защита своей
внутренней жизни от посторонних взглядов – юмор. От всего, по-настоящему его
волнующего, он всегда отшучивался. Он казался бодрым шутником, вполне довольным
своей долей. А между тем у него была одна мечта – высказать себя в литературе.
Ему хотелось передать людям свою радость, свою боль. Он не представлял себе
своей жизни вне литературы». В 1934 году Евгений Львович Шварц вошёл
в Союз писателей СССР.
Первой его настоящей сказкой для сцены была «Красная
Шапочка». Сделал он её талантливо, мило, но очень робко. На премьере «Красной
Шапочки», которая состоялась в ленинградском ТЮЗе в 1937 году, всем показалось,
что это какая-то «не такая» детская сказка. Прямо в первом действии Красная
Шапочка почему-то говорила: «Я волка не боюсь… Я ничего не боюсь». А когда
через два года все увидели «Снежную королеву», стало ясно, что все эти смешные
вороны и маленькие разбойницы какие-то уж очень умные. С 1934 года в столе у
Шварца лежал «Голый король», который в сюжете своем «перепутывает» три
знаменитых андерсеновских сказки. Великий Акимов попросил автора дать Театру
Комедии пьесу на современную тему. Шварц увлекся объединением сказочных
мотивов, получилась пьеса «Принцесса и свинопас». Вместо обычной нормальной
советской пьесы Шварц создал как бы сказку – в меру наивную и добрую, но при
этом – столь изощрённо остроумную, печальную и глубокую, что её тотчас после
блистательной премьеры в 1934 году пришлось запретить. Только тридцать лет
спустя пьесу под новым названием «Голый король» увидели зрители московского
театра «Современник». Запоздалый успех доказал прочность и жизнеспособность
этой пьесы.
Надзор за писателем и его творчеством оставался по-прежнему
строгим. Следующая пьеса «Тень», написанная, как и
некоторые другие пьесы Шварца, по мотивам сказок Андерсена, не получила той
известности, как предыдущие произведения Шварца. «Тень», поставленная
Николаем Акимовым в Театре комедии в 1940-м, несколько месяцев собирала
аншлаги, прежде чем спохватилась цензура. Пьеса была снята с показа, кто-то из
цензоров увидел в ней некий политический сарказм на советскую власть. В сказке,
как будто списанной с действительности 30 – 40-х годов, от ученого
отворачиваются друзья, его предает невеста, но он не желает унижаться перед
своей тенью, и за это его казнят. По счастью, ученого воскресили, и он вместе с
преданной Аннунциатой покинул эту страну.
 |
| Е. Л. Шварц на репетиции спектакля «Тень» в Ленинградском театре комедии |
Незадолго до Великой Отечественной войны Шварц написал пьесы
«Брат и сестра» о спасении детей со льдины и «Наше гостеприимство» о
бдительности советских людей накануне войны. Начало войны застало Евгения
Львовича на посту комментатора ленинградского радиоцентра. Он первым среди
ленинградских литераторов откликнулся пером на фашистское нашествие: уже в
конце июня или в начале июля 1941 года работал в соавторстве с М.М.Зощенко над
сатирической пьесой-памфлетом «Под липами Берлина», поставленной в
Ленинградском театре Комедии в 1941 году. Негодный к строевой, он все равно
собрался на фронт, уверяя, что «в армии не только стреляют из винтовки». Шварц
попытался записаться в народное ополчение, но его забраковали на медосмотре.
Осенние и зимние месяцы 1941 года он оставался в блокадном
Ленинграде, пока ему не стало совсем плохо. В блокадную зиму 1941-го он говорил писательнице Вере Кетлинской: «У нас с вами есть одно преимущество – видеть людей в такой ситуации,
когда выворачивается наизнанку вся их суть». Спустя
год он напишет в дневнике: «Бог поставил меня
свидетелем многих бед. Видел я, как люди переставали быть людьми от страха…
Видел, как ложь убила правду везде, даже в глубине человеческих душ». Евгений Шварц
пережил наиболее тяжёлые месяцы ленинградской блокады. За годы войны он создал
несколько лирических пьес: «Одна ночь» в 1942 году – о защитниках блокадного
Ленинграда, «Далёкий край» в 1942 году – об эвакуированных детях. Позже он
считал лучшим своим сочинением драму «Одна ночь» – о том, как переживали
блокаду самые обычные, простые ленинградцы. При жизни Шварца она так и не была
поставлена из-за того, что в ней якобы не хватало «героического начала». Это
трагическая и светлая пьеса о том, как мать прорывается в Ленинград сквозь
кольцо блокады, чтобы спасти умирающую от голода дочь, не понравилась
театральным цензорам. Евгений Шварц награждён медалями «За оборону Ленинграда»
и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Режиссер Акимов уговорил друга выехать из осажденного города
в эвакуацию. Шварц оказался в Кирове, а Театр комедии на пяти самолетах
«Дуглас» переместился на Урал, затем на Кавказ, потом в столицу Таджикистана
Сталинабад (Душанбе). Едва устроившись на новом месте, Акимов разыскал Шварца и
вытребовал его в Душанбе на вакантную должность заведующего литературной частью
театра. «Конечно, пост завлита не очень ему подходил,
особенно в полной изоляции от драматургов, разбросанных по всей стране этим
летом 1943 года, но в штатном расписании театра не было должности «души
театра», на которую он по существу должен был бы быть зачисленным»,
– писал знаменитый режиссер. Фактически завлит исполнял обязанности заместителя
директора. Отъезжая в Москву по делам, Акимов оставлял труппу на попечение
Евгения Львовича. Конечно, руководящий работник из Шварца был так себе, но и
артисты, и прочие сотрудники театра уважали и любили его, поэтому старались
«крепить дисциплину».
Он старался легко относиться к трудностям. Легкомыслие
помогало ему всегда. Когда в кировской эвакуации он первым делом выменял все
свои вещи на еду – масло, мёд и свинину, – эту еду в ту же ночь украли из
кухни, где Шварцы держали её за отсутствием холодильника. Жена Шварца, Катерина
Ивановна, сочла это катастрофой и впала в отчаяние. Шварц, казалось, словно и
не заметил ничего: «Живы, это главное». Шварцу были свойственны совсем уж загадочные приступы безразличия.
Самый яркий пришелся на 1943 год. Пережившие несколько месяцев блокады,
эвакуированные из Ленинграда и едва-едва пришедшие в себя, Шварц с женой сидели
без копейки. И в этот самый момент пришло письмо. Центральный детский театр
предлагал Шварцу очень выгодный договор. От Евгения Львовича требовалось одно —
отправить ответ со словом «да». Он порадовался письму. Потом пожалел, что денег
придется ждать еще долго: пока дойдет его ответ, да пока заключат договор. На
этом основании не ответил в тот же день. На следующий день как-то не дошли
руки. На третий день он о письме забыл. Нашел его под ворохом бумаг дней через
десять и только что не убил себя от гнева и стыда. Договор так и остался
незаключенным.
Здесь, в Душанбе, в 1943 г. Шварц дописал «Дракона». Все
прекрасно понимали, что это «про фашизм», Главрепертком принял пьесу без единой
поправки, театр приступил к репетициям. Однако в 1944 году бдительные чиновники
запретили постановку. Спектакль был снят с репертуара сразу после премьеры в
Ленинградском театре комедии. Пьесу отчаянно защищали Акимов, Погодин, Образцов, Эренбург. Доказывая
инстанциям, что дракон — это фашизм, а бургомистр — Америка, мечтающая его
победить руками Ланцелота — СССР и присвоить все лавры себе. Инстанции кивали,
но требовали серьезной переделки. Разумеется, Шварц ничего не переделал. Но за
ним же никто и не пришел! Содержание
пьесы не сводилось к победе доброго рыцаря Ланцелота над злым правителем
Драконом. Могущество Дракона было основано на том, что он сумел «вывихнуть
людские души», поэтому сразу после его смерти началась борьба за власть между
его приспешниками, а народ по-прежнему довольствовался своим убогим
существованием. Николай Чуковский: «Его пьесы начинаются с
блистательной демонстрации зла и глупости во всем их позоре и кончаются
торжеством добра, ума и любви. И хотя пьесы его – сказки, и действие их
происходит в выдуманных королевствах, зло и добро в них – не отвлеченные, не
абстрактные понятия. В 1943 году он написал сказку «Дракон» – на мой взгляд, лучшую пьесу свою. Потрясающую конкретность и
реалистичность придают ей замечательно точно написанные образы персонажей,
только благодаря которым и могли существовать диктатуры, – трусов, стяжателей,
обывателей, подлецов и карьеристов. Разумеется, как все сказки на свете,
«Дракон» Шварца кончается победой добра и справедливости». Читатель и зритель Шварца запомнит — нельзя
поддаваться драконам. И еще: противостоять Злу трудно, но отступать перед ним —
подло. Труднее же всего бороться с драконом в человеческой душе, со Злом,
которое в нас самих. Пьеса оставалась под запретом до 1962 года.
В последнее время Шварца всё чаще называют Ланцелотом. Но ни
характером, ни поступками своими Шварц не походил на своего героя. Настоящий
Шварц знал и неуверенность в собственных силах, и страх. Это сейчас пьеса
«Дракон» воспринимается как сатира на Сталина, на тоталитарный строй. На самом
же деле смеяться над Сталиным Шварц никогда не решился бы. Это обстоятельство,
возможно, и позволило ему создать гениальную пьесу не про Сталина, а про
человеческую натуру, в которой заложено нечто такое, что делает возможным
существование тоталитаризма. В сказке Ланцелот в открытом бою спасает и свою
возлюбленную, и весь город. А что мог сделать Евгений Шварц? Сжав зубы, он
молчал, когда в пасти Дракона исчезли один за другим его ближайшие друзья –
Николай Олейников, Николай Заболоцкий, Даниил Хармс. Кошмар 30-х годов воспринимался
им как нечто мистическое, похожее на козни Дракона. Но он никогда не называл
зло добром, не учил ни классовой, ни какой-нибудь другой ненависти. В расстрельные тридцатые и
сороковые Евгений Львович не боялся открыто дружить с академиком Владимиром
Ивановичем Смирновым, знаменитым математиком, ездившим каждую субботу из
Комарова в Никольский Морской собор к всенощной; с большим почтением отзывался
об архиепископе Крымском и Симферопольском Луке (Войно-Ясенецком), ныне
прославленном в лике святителей.
Для театра кукол Шварц написал пьесу «Сказка о потерянном
времени», поставленную в 1940 году. Потом были «Сказка о храбром солдате»,
поставленная в 1946 году и «Сто друзей», поставленная в 1948 году. По его
сценариям были сняты фильмы «Золушка» в 1947 году, «Первоклассница» в 1948 году
и другие фильмы. В них все было авторское – от написания до постановки, поэтому
драматург Евгений Шварц даже более известен, чем писатель или актёр. После
войны общественное положение драматурга было нелёгким. Об этом свидетельствовала
его «Автобиография», написанная в 1949 году и изданная в 1982 году в Париже.
В 1944 году Евгений Львович Шварц начинает работу над самым
личным произведением, сочинение которого заняло десять лет. Пьеса постоянно
переиначивалась и переименовывалась; сохранились варианты названия: «Медведь»,
«Веселый волшебник», «Послушный волшебник», «Безумный бородач», «Непослушный
волшебник»… В конце концов, придумался изящный оксюморон – «Обыкновенное
чудо». Итак, один волшебник женился, остепенился и занялся
хозяйством. Но как ты волшебника ни корми, — его всё тянет к чудесам,
превращениям, приключениям. В этой сказке под масками Волшебника и его жены
впервые неприкрыто проглянули автобиографические черты, что подтверждалось и
характером Волшебника, и посвящением пьесы Екатерине Ивановне Шварц. В
Волшебнике узнается он сам, в жене волшебника – Катя. В «Обыкновенном чуде»
ярко видна ностальгия по молодости, всё подчинено любви вечной и конечности
жизненного пути. Мораль проста и прекрасна: великие, сильные и чистые чувства
творят чудеса. Премьера спектакля в Театре-студии киноактера состоялась в 1956
году, лишь за два года до смерти Шварца. Он успел увидеть огромный успех
собственной сказки.
«Обыкновенное чудо» он посвятил своей второй жене. Он прожил
с ней тридцать лет, постоянно терзаясь сомнениями, любит ли она его. В 1937
году эти сомнения достигли небывалой остроты – он постоянно подозревал жену в
изменах. Тем не менее, Екатерина Ивановна любила Шварца всю жизнь, и опасения
его были напрасны. Она покончила с собой через два года после его смерти.
Именно к ней были обращены его последние слова: «Катя, спаси меня». Он был
уверен, что она может спасти его от чего угодно, – и не без основания:
внутренней силе и цельности этой женщины мог позавидовать иной мужчина. После
ареста Заболоцкого в 1938 году именно Екатерина Ивановна спасла другую Катю,
жену Николая Алексеевича, и его детей. Весь послевоенный быт Шварца – часто
скудный – держался на ней же. В пятьдесят лет он уже с трудом мог поднести
вилку ко рту. Врачи ничего не могли с этим сделать. Она любила его не за пьесы
– и это он, как ни странно, ценил особенно.
В его пьесах усилились лирический элемент, внимание к
психологическим и бытовым подробностям жизни современного человека. Это
особенно проявилось в
последнем большом произведении Шварца – «Повести о молодых супругах» в 1958 году, Она о настоящей любви.
Обычно романтические сюжеты заканчиваются примерно так: «И, наконец, они
встретились и поженились. Ура!». Шварц заглянул дальше брачной церемонии и
затронул «проблему сосуществования». Иначе говоря: «А
знаете ли, что брак – не только белое платье и праздничный стол, а каждодневное
преодоление «своего плохого» ради «хорошего общего»?».
Сказочных пьес у Шварца было немного, но славу ему принесли
именно они. Николай Павлович Акимов, руководитель знаменитого Ленинградского
театра комедии и неустанный постановщик Шварца написал так: «…нашелся
все-таки волшебник, который, сохранив власть над детьми, сумел покорить и
взрослых, вернул нам, бывшим детям, магическое очарование простых сказочных
героев — злых драконов и говорящих котов. Волшебник, ковер-самолет которого по
вечерам поднимает сразу тысячу взрослых серьезных людей и мигом уносит их за
тридевять земель в утерянный, казалось, мир — в мир сказки… На наше счастье,
он оказался не просто волшебником, а добрым и умным волшебником, и, проделав
путешествие в его сказочный мир, мы всегда возвращаемся, поняв что-то, чего не
понимали, подумав о многом таком, о чем всегда не хватало времени подумать, и
немного более склонные к хорошим поступкам, чем обычно». Пожалуй, о
сказочной драматургии Евгения Львовича Шварца лучше не скажешь.
Представить себе его полное собрание сочинений
невозможно. Пьесы-сказки Шварца, конечно, знают все. Но они разве что сотая
часть. «Пишу все, кроме стихов и доносов», — говорил Чехов, любимый писатель
Шварца. Шварц сделал исключение только для доносов. И умудрялся никогда не
халтурить, радуясь удачной подписи под картинкой не меньше, чем гениальным
афоризмам в «Драконе» или «Обыкновенном чуде». Он писал стихи, и очень хорошие, сочинял фельетоны, рассказики,
сказки, смешные подписи под смешными картинками для замечательных детских
журналов «Чиж» и «Ёж», сатирические обозрения для Аркадия Райкина и кукольные
пьесы для Сергея Образцова, сценарии для детского классика Роу и взрослого классика Козинцева,
либретто для балетов и репризы для цирка, писал мемуары, стесняясь самого этого
слова и называя их «сокращенным» словечком «ме». После смерти писателя обнаружился огромный
том замечательных, беспощадных, точных и пронзительных воспоминаний и мемуаров.
А какие письма он писал своей второй жене, Екатерине Ивановне, и друзьям! Шварц
никогда не считал себя великим писателем. Мысль о том, что его письма хоть
когда-нибудь будут опубликованы, не приходила ему в голову. Но если вы
прочитаете письма Шварца, то увидите, что по своим чисто художественным
достоинствам они совсем не уступают эпистолярному наследию даже такого мастера
этого жанра, как Чехов. «Мрачные мысли запрещены. Запрещены
навсегда и на всю жизнь». Это что? Реплика из пьесы? Нет, это строка
из сугубо частного письма к жене.
Долгое время Шварц считал, что как писатель он не состоялся,
даже писателем никогда себя не называл. Он стеснялся. Он был уверен: «Вслух можно сказать: я член Союза писателей, потому что это есть
факт, удостоверяемый членским билетом, подписью и печатью. А писатель — слишком
высокое слово...». В пятьдесят лет он уверял друзей, что только ещё
созревает для настоящей литературы. В ответ на похвалы его юмору и стилю
признавался, что писать пока учится, и ради выработки стиля заполнял своими
огромными дрожащими буквами по странице толстой конторской книги ежедневно.
Вписывал он туда главным образом воспоминания, занимающие ровно половину его
четырехтомника, и литературные портреты, объединенные позже в цикл «Телефонная
книжка». Цель ведения «Телефонной книжки» Шварц определил в ней же самой: «Я пишу о живых людях, которых рассматриваю по мере сил подробно и
точно, словно явление природы. Мне страшно с недавних пор, что люди сложнейшего
времени, под его давлением принимавшие или не принимавшие сложнейшие формы,
менявшиеся незаметно для себя или упорно не замечавшие перемен вокруг –
исчезнут… Мне кажется, что любое живое лицо – это историческое лицо… Вот я
и пишу, называя имена и фамилии исторических лиц». Дневниковые
записи, которые Шварц вел в 1955–1956-х годах, стали основой его «Телефонной
книжки» – уникальной формы мемуаров, изобретенной им самим. Телефонная книжка,
полностью опубликованная в 1997 году – это миниатюрные портреты современников,
с которыми сводила Шварца творческая судьба, а также меткие характеристики
всевозможных советских учреждений – творческих союзов, издательств, театров,
вокзалов и прочего. Серьезнее этой книги, занимающей более семисот страниц,
трудно что-нибудь представить.
Илья Эренбург охарактеризовал Шварца как «чудесного
писателя, нежного к человеку и злого ко всему, что мешает ему жить».
Вениамин Каверин называл его «личностью исключительной по
иронии, уму, доброте и благородству». Леонид Пантелеев вспоминал: «Я вдруг увидел Шварца вплотную, заглянул ему поглубже в глаза и
понял, что он не просто милый, обаятельный человек, не просто добрый малый, а
что он человек огромного таланта, человек думающий и страдающий… Был ли он
добрым? Да, несомненно, он был человек очень добрый. Но добряком (толстым
добряком), каким он мог показаться не очень внимательному наблюдателю, Евгений
Львович никогда не был. Он умел сердиться (хотя умел и сдерживать себя). Умел
невзлюбить и даже возненавидеть подлеца, нехорошего человека и просто человека,
обидевшего его (хотя умел, когда нужно, заставить себя и простить обиду)».
Евгений Львович всю жизнь был окружен друзьями и
приятелями, которых притягивал к себе подобно магниту. Многие вспоминали о том, с какой добротой Шварц относился к людям. В 1920-х подбирал
беспризорников и с помощью Маршака устраивал в детские дома. Когда был
репрессирован Заболоцкий, Шварц, сам постоянно нуждавшийся в деньгах,
поддерживал материально жену поэта и двоих его детей. С 1946-го помогал
попавшему в опалу Михаилу Зощенко, от которого тогда отвернулись многие. В 1950
году, в разгар «борьбы с формализмом и космополитизмом», из Ленинградского
университета выгнали литературоведа, профессора Бориса Эйхенбаума, и Шварц
вместе с писателем Михаилом Козаковым (отцом артиста и режиссера Михаила
Козакова), драматургом Израилем Меттером (автором сценария фильма «Ко мне,
Мухтар!») и актером Игорем Горбачевым приносили безработному ученому сумки с
продуктами. Он старался помочь всем, кто в этом нуждался.
«Пьесы его широко шли, пользовались
успехом, но богатства он не нажил, да и не стремился к нему… Но больше всего
уходило на помощь тем, кто в этом нуждался. Если денег не было, а человек
просил, Евгений Львович одевался и шел занимать у приятеля. А потом приходил
черёд брать и для себя, на хозяйство, на текущие расходы, брать часто по
мелочам, «до получки», до очередной выплаты авторских в Управлении по охране
авторских прав» (Леонид Пантелеев). Материальная сторона жизни
Шварца практически не занимала. Он бесконечно одалживал всем нуждающимся, даже
если для этого сам вынужден был брать у кого-то в долг! Отказывался от выгодных
предложений, если крупного гонорара надо было ждать, предпочитая маленькие
деньги, но сразу. Вдохновенно транжирил полученное на пустяки, если у него не
успевали тут же, у окошечка очередной кассы, попросить взаймы. И все же Шварцы
вовсе не голодали. То ли закон перехода
количества в качество отрабатывал свое, то ли благая воля свыше, но гонорары,
потиражные, постановочные и прочие выплаты неуклонно настигали Евгения
Львовича. Так что его жена даже смогла позволить себе увлечься
коллекционированием старинного английского фарфора. Покупая ей в подарок
очередную вещицу, Шварц радовался как дитя. А сам он обзавелся вообще
неслыханной по тем временам роскошью — машиной. Поездить на которой, правда,
так толком и не успел.
Евгения Шварца обожали женщины, дети и домашние
животные. Лучших доказательств того, что Шварц был хорошим человеком, не
придумать. И, хотя это обстоятельство еще не гарантирует счастья, хороший
человек Евгений Шварц прожил очень счастливую жизнь. Он не мог не стать
сказочником. Хотя скорее он просто был им с самого начала. Не зря же дети висли
на нем гроздьями, где бы он ни появился, задолго до того, как Шварц начал
писать сказки. Он умел играть с детьми. Не давя и не унижая, просто быть
равным. А еще он умел разговаривать с животными. В конце сороковых жил у Шварца
кот, который не только ходил в туалет на унитаз, но и спускал за собой воду.
Друзья, завсегдатаи домов творчества, зубоскалили, что этому и иных членов
Союза советских писателей обучить не удается. А случайно оказавшийся в гостях у
Шварца известный дрессировщик едва не хлопнулся в обморок. Он отказывался
верить своим глазам, настаивая, что кошки не поддаются такой дрессировке в
принципе! Дрессировке, может, и не поддаются, но если попросит сказочник…
Бессмысленная
радость бытия.
Иду по
улице с поднятой головою.
И, щурясь,
вижу и не вижу я
Толпу,
дома и сквер с кустами и травою.
Я вынужден
поверить, что умру.
И я
спокойно и достойно представляю,
Как нагло
входит смерть в мою нору,
Как
сиротеет стол, как я без жалоб погибаю.
Нет. Весь
я не умру. Лечу, лечу.
Меня
тревожит солнце в три обхвата
И тень
оранжевая. Нет, здесь быть я не хочу!
Домой
хочу. Туда, где я бывал когда-то.
И через
мир чужой врываюсь я
В знакомый
лес с березами, дубами,
И,
отдохнув, я пью ожившими губами
Божественную
радость бытия.
Николай Чуковский: «Шварц был воспитан на
русской литературе, любил ее до неистовства, и весь его душевный мир был создан
ею. Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Лесков и, главное, Чехов были не
только учителями его, но ежедневными спутниками, руководителями в каждом
поступке. Ими определялись его вкусы, его мнения, его нравственные требования к
себе, к окружающим, к своему времени. От них он унаследовал свой юмор –
удивительно русский, конкретный, основанный на очень точном знании быта»…
Евгений Шварц читал всё подряд, начиная от классической литературы и заканчивая
трудами по физике. Притом он буквально «глотал» книги, мог прочесть полновесный
роман за одну ночь, если текст его увлекал. Леонид Пантелеев: «Читал
он колоссально много, и я всегда удивлялся, когда он успевает это делать. Читал
быстро: вечером возьмёт у тебя книгу или рукопись, а утром, глядишь, уже идет
возвращать. Конечно, я говорю о хорошей книге. Плохих он не читал, бросал на
второй странице, даже если книга эта была авторским даром близкого ему
человека. Круг чтения его был тоже очень широк. Перечитывал классиков, следил
за современной прозой, выписывал «Иностранную литературу», любил сказки,
приключения, путешествия, мемуары, читал книги по философии, по биологии,
социологии, современной физике»…
Леонид Пантелеев: «Очень любил он Чапека. Много раз (и
ещё задолго до того, как начал писать для Козинцева своего пленительного «Дон
Кихота») читал и перечитывал Сервантеса. Но самой глубокой его привязанностью,
самой большой любовью был и остаётся до последнего дня Антон Павлович Чехов. На
первый взгляд это может показаться удивительным: ведь то, что делал Шварц, было
так непохоже, так далеко от чеховских традиций. И, тем не менее, Чехов был его
любимым писателем. По многу раз читал он и рассказы Чехова, и пьесы, и письма,
и записные книжки…Чехов был для него, как, впрочем, и для многих из нас,
образцом не только как художник, но и как человек. С какой гордостью, с какой сыновней
или братской нежностью перечитывал Евгений Львович известное «учительное»
письмо молодого Чехова, адресованное старшему брату Александру… Евгений Львович
сам был того же склада, он был человек очень большого благородства, но так же,
как и Чехов, умел прятать истинное своё лицо под маской шутки, иногда
грубоватой. Всю жизнь он воспитывал себя». Шварц писал: «Я люблю Чехова. Мало сказать люблю – я не верю, что люди, которые
его не любят, настоящие люди. Когда при мне восхищаются Чеховым, я испытываю такое
удовольствие, будто речь идет о близком, лично мне близком человеке. И в этой
любви не последнюю роль играет сознание, что писать так, как Чехов, его
манерой, для меня немыслимо. Его дар органичен, естественно, только ему. А у
меня он вызывает ощущение чуда. Как он мог так писать?»
Талантливые люди живут на свете недолго. Они или «сгорают»
от обилия идей, которые хотят выполнить, или судьба не дает им времени, и
потому они торопятся жить. Евгений Шварц не просто жил, а «впитывал» в себя
каждую минуту. Чем старше он становился, тем быстрее работал, тем
требовательней становился к своим произведениям, но тем меньше писал. После
пятидесяти Евгений Львович стал еще более придирчив к своим произведениям, и
если бы была возможность, то он заново переписал бы «Золушку» и «Обыкновенное
чудо». И при этом даже самую легкую критику своих пьес Шварц воспринимал
чрезмерно болезненно, доходило порой до заболеваний. В декабре 1954 года на
Съезде советских писателей Борис Полевой обвинил Шварца в «отрыве формы от
содержания». Народный артист СССР Михаил Жаров подлил масла в огонь, пройдясь
вдоль и поперек по «Обыкновенному чуду» и не увидев в нем упоминания о
«выдающейся роли советского народа в строительстве счастья на земле». И лишь
Ольга Берггольц назвала Шварца на этом съезде самобытным, своеобразным и
гуманным талантом. А в 1956-м был издан первый сборник его пьес; по ним снова
начали ставить спектакли – и в СССР, и за рубежом. Даже наградили орденом
Трудового Красного Знамени. Невозможно оказалось пройти мимо такого действительно
народного автора.
 |
| Е. Л. Шварц. Последняя фотография. 1957 г. Ленинград |
Здоровье сказочника было, увы, не таким уж сказочным. Шварц
перенёс несколько инфарктов. В августе 1957 года, за полгода до смерти,
писатель подвел итоги своей жизни следующим, совсем неутешительным и
несправедливым образом: «Настоящей ответственной книги в
прозе так и не сделал. Я мало требовал от людей, но как все подобные люди, мало
и давал. Я никого не предал, не оклеветал, даже в самые трудные годы,
выгораживал, как мог, попавших в беду. Но это был значок второй степени. Это не
подвиг. И перебирая свою жизнь, ни на чем не могу успокоиться и порадоваться.
Дал ли я кому-нибудь счастья?…». (Е.Шварц. Дневники.)
Я прожил
жизнь свою неправо,
Уклончиво,
едва дыша,
И вот —
позорно моложава
Моя
лукавая душа.
Ровесники
окаменели,
И как не
каменеть, когда
Живого
места нет на теле,
Надежд на
отдых нет следа.
А я все
боли убегаю
Да лгу
себе, что я в раю.
Я все на
дудочке играю
Да тихо
песенки пою.
Упрекам
внемлю и не внемлю.
Все так.
Но твердо знаю я:
Недаром
послана на землю
Ты, легкая
душа моя.
«Слава храбрецам, которые осмеливаются
любить, зная, что всему этому придет конец. Слава безумцам, которые живут, как
будто они бессмертны, — смерть иной раз отступает от них», —
написал он в «Обыкновенном чуде». Смерть все же не отступила, прорвавшись к
нему двумя тяжелыми инфарктами один за другим. Перед смертью он исповедовался и
причастился. Напутствовал его известный ленинградский священник протоиерей
Евгений Амбарцумов. Умер Евгений Шварц в
Ленинграде 15 января 1958 года. Над могилой Шварца на Невской дорожке Богословского кладбища
возвышается белый мраморный крест. Когда у вдовы Шварца Екатерины Ивановны
спрашивали: «Что вы делаете?!» и «Почему крест?», – она громко отвечала: «Потому что Женя был верующий!..».
«Как жаль, что он унёс с собой в могилу
тайну чудесного сказочника – певца любви, дружбы и человеческой доброты»
(Юрий Слонимский, историк театра, драматург). Земная жизнь сказочника окончилась. Но
сказка его жизни продолжается. Его сказки смотрят и читают и дети, и взрослые.
Они по-прежнему актуальны. И при этом по-настоящему человечны.
«В советской литературе проработал он лет
тридцать пять, но только к концу этого периода стали понимать, как значительно,
важно, своеобразно и неповторимо все, что он делает. Сначала это понимали только
несколько человек, да и то не в полную меру. Потом это стали понимать довольно
многие. И с каждым годом становится все яснее, что он был одним из
замечательнейших писателей России». (Николай
Чуковский, писатель и переводчик).После смерти
Шварца Корней Иванович заметил в своём «Дневнике»: «Больно
думать, что Евгений Львович так и не увидел своего «Дракона» в печати. Он был
не просто талантливый драматург, он был – для меня – гениален. Право же, это не
фраза, это я ощущаю всем своим многоопытным сердцем».
Наверное, ушедший в возрасте 61 года Шварц не успел многого.
Но на главное – подарить людям сказку и волшебство – у него хватило времени. Он
стал автором более чем 25 пьес, примерно 15 сценариев, нескольких рассказов.
Всего у Шварца при жизни вышло огромное по нынешним меркам число книг — около
шестидесяти, общим тиражом более двух миллионов экземпляров. По его сценариям
поставлены фильмы «Первоклассница», «Золушка», «Дон-Кихот», «Убить дракона»,
«Обыкновенное чудо», «Тень» в которых снимались актёры Эраст Гарин, Янина
Жеймо, Фаина Раневская, Николай Черкасов, Юрий Толубеев, Евгений Леонов, Олег
Янковский, Александр Абдулов и многие другие… Отдельная страница истории
отечественного кинематографа – фильмы Марка Захарова с замечательным актерским
ансамблем и точными типажами.
В 1978 году в Австрии был снят телефильм «Die
verzauberten Brüder» («Заколдованные братья») по пьесе Шварца «Два клёна». Когда-то великий русский режиссёр Николай Павлович Акимов, первый
и единственный поставивший на сцене своего легендарного Театра Комедии все
лучшие пьесы Евгения Львовича, заметил, что у пьес его друга «такая
же судьба, как у цветов, морского прибоя и других даров природы: их любят все,
независимо от возраста». Пьесы Евгения Шварца ставят и сегодня в
современных театрах. Всеми любимые сказки «Золушка» и «Марья-искусница», фильмы
«Первоклассница», «Дон-Кихот» до сих пор показывают по телевидению, и дети с
удовольствием смотрят добрые и нежные сказки. Они стоят того, чтобы показать их
современным детям вместо десятка американских мультфильмов. А пьесы «Дракон» и
«Тень», несомненно, достойны внимания всех взрослых. Хороши сочинения Шварца и
в книге. Многие реплики шварцевских героев вошли в разговорный русский язык на
правах анонимных, как бы народных пословиц, поговорок, афоризмов и выражений.
Нельзя сказать, что творчество Шварца сейчас
пользуется массовым спросом и вызывает повышенный интерес – притом, что изданы
его четырехтомник и однотомник с дневниками, статьями и письмами и юношескими
стихами. В Шварце видят всего лишь сказочника, который когда-то сеял «разумное,
доброе, вечное», но безнадежно отстал от проблем нынешней жизни. Такой взгляд
несправедлив. Шварц способен сказать современному человеку – особенно
думающему, ищущему – очень многое. На протяжении всего своего творчества, в
собственных повестях и пьесах, в пьесах-сказках по мотивам произведений
Андерсена, Евгений Львович предлагал людям вникнуть в смысл жизни, увидеть суть
и, пока не поздно, уничтожить ростки зла в своих душах. И как в жизни, в сказках Шварца великодушие, честность, смелость
противостоят лжи и жестокости, лицемерию и фанатизму, подлости и трусости.
Хочется подробнее остановиться на детских книжках. У Евгения
Шварца идеальные, гениальные и мудрые сказки со смыслом. Лёгким языком, с
мягким юмором он говорит об очень глубоких вещах.
В нашей семье одна из самых любимых сказок
— «Два брата» (1945). Это настоящая волшебная сказка,
проникновенная и искренняя, которая несет добро в детские сердца. Обязательно
прочитайте её с детьми. Она о семье, о дружбе, взаимопомощи, любви к ближнему.
Шварц раскрывает отношения родных людей в семье и призывает беречь, любить и
никогда не бросать своих родных и близких. На её примере можно показать детям,
как нужно относиться друг к другу в семье, как важно взаимное уважение,
доверие. Ненавязчивая, без морализации сказка про двух братьев с непростыми
отношениями, про добро и любовь, которые побеждают, несмотря на трудности, про
помощь и взаимовыручку, про то, как нужно самому исправлять совершенные ошибки.
В настоящее время многие уделяют огромное количество времени своему личному
пространству, не обращая внимания на близких людей. Обиды, ссоры отдаляют
родных друг от друга, делая их чужими. Шварц учит детей правильному отношению
не только друг к другу, но и к своим родителям. Слушаться их во всем и не
расстраивать — это должно быть заветом любой семьи. Эту сказку полезно читать
не только детям, но и родителям. О том, как надо воспитывать детей – братьев и
сестёр, чтобы они росли именно друзьями, не обузой, а опорой.
В преддверии Нового года родители двух мальчиков уезжают в
город за праздничными угощениями и подарками. Два брата, Старший и Младший,
остались дома. Поначалу Старший ухаживал за Младшим, заботился о нем, но под
вечер зачитался интересной книгой, а когда младшему стало скучно, и он попросил
с ним поиграть, Старший грубо крикнул «Оставь меня в покое» и вытолкал малыша
во двор на мороз. Когда он одумался, мальчик исчез. Когда вернулись родители,
отец от горя принял решение — пусть старший отправляется на поиски младшего.
Страшная история, но дети должны её прочитать, чтобы знали, что не каждый их
проступок можно простить, что за свои поступки нужно уметь отвечать, а ошибки –
исправлять. Только доброта и храбрость Старшего помогли братьям воссоединиться
и научиться ценить друг друга. И всё хорошо заканчивается. А мораль сказки
остаётся на всю жизнь! Что такое ответственность? Что следует за жестокими и
несправедливыми поступками? Как надо вести себя с младшими, с более слабыми?
Что будет, если навредить кому-то, кто от тебя зависит? Как добрые поступки
могут помочь справиться с трудностями?
Повесть «Первоклассница» (1948) была написана Евгением Шварцем
достаточно давно. Это добрая и смешная история о первокласснице Марусе,
рассказанная от ее имени. Несмотря на то, что описываемые события происходили
давно и повествование в книге ведется от имени девочки, мальчикам тоже будут
интересны, близки и понятны переживания Маруси и ситуации из ее жизни. С того
времени изменилось очень многое: исчезло разделение на мужские и женские гимназии,
на смену перьевым ручкам и чернилам пришли удобные авторучки, не оставляющие
клякс, ученикам не нужно учиться вначале красиво и правильно писать карандашом,
чтобы заслужить право писать ручкой с чернилами, в больших городах
первоклассники гуляют и ходят в школу не сами, а в сопровождении взрослых,
изменились парты, школьная форма, название страны и многое другое. Но, тем не
менее, чувства и волнение современных будущих первоклассников остаются такими
же, поэтому книга совершенно не потеряла актуальности и в наше время.
Маруся — девочка активная и решительная. Во дворе уже все
дети записались в школу, а ее маме некогда, и Маруся сама идет записываться,
взяв из дома все документы. А с каким волнением и нетерпением ждет Маруся 1
сентября, как боится проспать! Вскакивает, проверяет будильник, думает, что он
сломан, и принимает последний трамвай за первый. В первый день занятий дети
реагируют на новый этап своей жизни по-разному: Верочка забилась в угол и
плачет – боится оставаться без мамы, а Маруся смело просит маму не заходить за
ней и идет домой после уроков сама. Очень интересно читать о том, как
уважительно и тактично разговаривает с девочками учитель, как успокаивает их,
знакомит со школой и школьными правилами. А сколько интересного еще будет дальше!
Не только обучение письму, чтению и счету, но и умение строить отношения с
одноклассницами и соседским мальчиком Сережей, общение с которым раньше всегда
заканчивалось дракой, и первое дежурство, и первая отметка, и подготовка к
празднику, и новогодние каникулы, и поездка за город за вербой для классного
уголка живой природы, чтобы порадовать Анну Ивановну, и отличное окончание
первого класса, несмотря на не самые лучшие результаты в классе в начале
обучения.
«Сказка о потерянном времени»
написана ещё в 1940 году, но не потеряла своей актуальности. Ведь и в наши дни
многие не умеют ценить время, растрачивая его понапрасну на всякие пустяки.
Особенно современные дети – компьютерные игры, пустая болтовня, тусовки и
неумение себя занять. Герои книги, мальчики и девочки, маленькие лентяи и
бездельники, тоже теряли понапрасну время. И вот однажды четыре
злых волшебника решили вернуть себе молодость. Оказалось, дело это нехитрое.
Достаточно найти нескольких юных лентяев и воспользоваться бездарно
растраченным ими временем. И
вот свершилось колдовство – мальчики и девочки стали старичками, а старые
волшебники помолодели. Злые
волшебники забрали потерянное зря время. Ребята, которые не ценили время,
превратились в стариков и старушек. И в то же время у детей оставался шанс
вернуть время назад. Сказка учит ценить то, что имеешь, потому что, утеряв
необходимое, можешь лишиться шанса вернуть утраченное.
Сказка учит тому, что не нужно откладывать на
завтрашний день то, что возможно сделать сегодня. Нужно ценить каждую минуту,
каждые час, день, иначе жизнь пролетит очень быстро и можно не заметить, как
состаритесь и ничего не успеете сделать. Нужно научиться правильно
распоряжаться своим временем. Когда дети столкнулись с
жизненными вопросами, поняли, что те, кто стар, уже мудр, чего-то добился в
жизни, а они могли так и остаться неучами, растерять всех друзей, все прелести
школьной поры и молодой жизни. Им пришлось бороться за то, чтобы вернуть себе
украденные годы. Конец у сказки поучительный и добрый: пришлось детям найти
друг друга и успеть к полночи добежать до лесной избушки, перевести стрелки
назад. Школьники вернули свою молодость и получили настоящий урок для
дальнейшей жизни. Писатель хотел сказать нам, что люди учатся на своих ошибках,
иногда цена за них непомерно велика. Поэтому стоит обдумывать свои поступки и
делать полезные, нужные вещи, не распыляясь по мелочам. Правильно распоряжаться
своим временем крайне важно, иначе мы никогда ничего не успеем. Главная мысль
сказки: «…ты помни: человек, который понапрасну теряет время,
сам не замечает, как стареет».
А ведь ещё есть чудесная добрая пьеса «Два клёна», рассказ
«Приключения Шуры и Маруси», сказки «Новые приключения кота в сапогах» и
«Рассеянный волшебник»… В последней его сказке «Обыкновенное чудо» звучат такие
слова: « Сказка рассказывается не для того, чтобы скрыть, а
для того, чтобы открыть, сказать во всю силу, во весь голос то, что думаешь». Если
поймешь авторский замысел, услышишь его голос, только тогда «мысли
можно воспитать. Их можно заставить поумнеть. А от умных мыслей будут и умные
правильные поступки».
Евгению Львовичу Шварцу в день
шестидесятилетия
Не
только в день этот праздничный,
В
будни не позабуду:
Живёт
между нами сказочник,
Обыкновенное
Чудо.
И
сказочна его доля,
И
вовсе не шестьдесят
Лет
ему — много более!
Века́-то
летят, летят…
Он
ведь из мира древнейшего,
Из
недр человеческих грёз
Своё
волшебство вернейшее,
Слово
своё нежнейшее
К
нашим сердцам пронёс.
К
нашим сердцам, закованным
В
лёд (тяжелей брони!),
Че́стным
путём, рискованным
Дошёл,
растопил,
приник.
Но
в самые тёмные годы
От
сказочника-поэта
Мы
столько вдохнули свободы,
Столько
видали света.
Поэзия
— не стареется.
Сказка
— не «отстаёт».
Сердце
о сказку греется,
Тайной
её живёт.
Есть
множество лживых сказок, —
Нам
ли не знать про это!
Но
не лгала ни разу
Мудрая
сказка поэта.
Ни
словом, ни помышлением
Она
не лгала, суровая.
Спокойно
готова к гонениям,
К
народной славе готовая.
Мы
день твой с отрадой празднуем,
Нам
день твой и труд — ответ,
Что
к людям любовь — это правда.
А
меры для правды нет.
Ольга Берггольц
 |
| О. Ф. Берггольц и Е. Л. Шварц. 1956-1957 гг. Комарово |
Марк Захаров считал, что Шварц спрогнозировал всё, что с
нами будет: «К сожалению, я не был лично знаком с прекрасным
человеком и литератором, ироничным философом Евгением Львовичем Шварцем.
Шестидесятники поздно оценили Шварца и не сразу подняли его на щит… В середине
семидесятых на «Мосфильме» мне предложили поставить «Обыкновенное чудо». Нужно
сказать, что я видел спектакль по этой пьесе Шварца в Театре сатиры и как-то не
проникся (не то что, скажем, после знаменитой постановки «Голого короля» в
«Современнике»). Но мне уж очень захотелось снять свой фильм. И я придумал, что
Волшебник (которого потом замечательно сыграл Олег Янковский) – это драматург,
творец, литератор. Он пишет пьесу, как жизнь. Или жизнь, как пьесу. Это его
творческий акт. Таким образом, волшебством оказывалось само творчество… В
перестройку же я решил вернуться к «Дракону», которого когда-то, еще в конце
оттепели, поставил в студенческом театре МГУ. Это великая пьеса. Шварц своим
памфлетом так глубоко вклинился в нацистское сознание, что оказался на
сопредельной территории – большевистской, коммунистической (после него тот же
путь проделал Ромм в «Обыкновенном фашизме»). А потом на драматурга снизошло
какое-то особое вдохновение. Он в своей пьесе прикоснулся чуть ли не ко всем
нашим (и не только нашим) болячкам и химерам. А в образе и судьбе бургомистра
спрогнозировал все, что с нами будет… Когда долго живешь под драконом, меняется
химия мозга, люди зомбированы на много лет вперёд. А если посмотреть шире, то
дракон – это не только тоталитаризм. У каждого общества есть свои драконы. И в
сегодняшнем столкновении цивилизаций их тоже нетрудно найти и вычленить в
каждой из сторон».
«Есть мнение, что Евгений Шварц будет
первым из немногих советских драматургов, оставшихся в нашей литературе вне
зависимости от того, какой на улице политический строй». (Вера
Камша, писательница)
Экранизации произведений Е.Л.Шварца
художественные фильмы —
Дон Кихот. Сцен. Е.Шварца. Реж. Г.Козинцев. Комп. К.Караев.
СССР, 1957. В ролях: Н.Черкасов, Ю.Толубеев, С.Бирман, Г.Вицин, Б.Фрейндлих,
Л.Вертинская, Г.Волчек, О.Викландт и др.
Золушка. Сцен. Е.Шварца. Реж. Н.Кошеверова, М.Шапиро. Комп.
А.Спадавеккиа. СССР, 1947. В ролях: Я.Жеймо, А.Консовский, Э.Гарин,
В.Меркурьев, Ф.Раневская, Е.Юнгер, В.Мясникова и др.
Каин XVIII. Сцен. Е.Шварца, Н.Эрдмана. Реж. Н.Кошеверова,
М.Шапиро. Комп. А.Спадавеккиа. СССР, 1963. В ролях: Э.Гарин, Л.Сухаревская,
Ю.Любимов, М.Жаров, А.Демьяненко, Р.Зеленая, Б.Фрейндлих, М.Глузский, Г.Вицин,
Б.Чирков и др.
Марья-искусница. По пьесе «Царь-Водокрут». Сцен. Е.Шварца.
Реж. А.Роу. Комп. А.Волконский. СССР, 1959. В ролях: М.Кузнецов, Н.Мышкова,
Витя Перевалов, А.Кубацкий, Г.Милляр, В.Алтайская и др.
Первоклассница. Реж. И.Фрэз. СССР, 1948. В ролях: Наташа
Защипина, Т.Макарова и др.
Обыкновенное чудо. Авт. сцен. и реж. Э.Гарин, Х.Локшина.
Комп. Б.Чайковский, Л.Рапопорт. СССР, 1964. В ролях: Э.Гарин, А.Консовский,
О.Видов, Г.Георгиу, В.Караваева, Е.Весник, Г.Милляр и др.
Обыкновенное чудо. Телефильм. В 2-х сер. Авт. сцен. и реж.
М.Захаров. Комп. Г.Гладков. СССР, 1978. В ролях: О.Янковский, Е.Леонов,
А.Миронов, И.Купченко, Е.Симонова, А.Абдулов, В.Ларионов, Ю.Соломин,
Е.Васильева и др.
Сказка о потерянном времени. Реж. А.Птушко. Комп. И.Морозов.
СССР, 1964. В ролях: О.Анофриев, Л.Шагалова, Р.Зеленая, С.Крамаров,
С.Мартинсон, Г.Вицин, И.Мурзаева, В.Телегина и др.
Сказка о потерянном времени. Музыкально-кукольный
фильм-спектакль. Реж. Д.Генденштейн. СССР, 1990.
Снежная королева. Сцен. Е.Шварца. Реж. Г.Казанский. Комп.
Н.Симонян. СССР, 1966. В ролях: В.Никитенко, Лена Проклова, Слава Цюпа,
Е.Мельникова, Е.Леонов, Н.Боярский, О.Викландт и др.
Тень. Реж. Н.Кошеверова. Комп. А.Эшпай. СССР, 1971. В ролях:
О.Даль, М.Неелова, А.Вертинская, Л.Гурченко, А.Миронов, В.Этуш, З.Гердт,
С.Филиппов, Г.Вицин и др.
Тень, или Может быть, все обойдется. Реж. М.Козаков. Комп.
В.Дашкевич. СССР, 1991. В ролях: К.Райкин, М.Неелова, М.Дюжева, А.Лазарев,
В.Невинный, С.Мишулин, Ю.Волынцев, М.Козаков и др.
Убить дракона. Сцен. М.Захарова, Г.Горина. Реж. М.Захаров.
Комп. Г.Гладков. СССР-ФРГ, 1988. В ролях: А.Абдулов, О.Янковский, Е.Леонов,
В.Тихонов, А.Захарова, А.Збруев, С.Фарада и др.
мультипликационный фильм
Два клена. СССР. Роли озвучивают: В.Васильева, Л.Ахеджакова
и др.
Произведения
«Ундервуд» – пьеса в 3-х действиях – 1928
«Пустяки» – пьеса для кукольного театра – 1932
«Клад» – сказка в 3-х действиях – 1934
«Принцесса и свинопас» – 1934
«Голый король» – сказка в 2-х действиях – 1934
«Похождения Гогенштауфена» – пьеса, 1934
«Красная шапочка» – сказка в 3-х действиях – 1936
«Снежная королева» – сказка в 4-х действиях на
Андерсеновские темы – 1939
Кукольный город» – пьеса для кукольного театра – 1939
«Тень» – сказка в 3-х действиях – 1940
«Сказка о потерянном времени» – «пьеса для кукольного
театра» в 3-х действиях – 1940
«Брат и сестра» – 1940
«Наше гостеприимство» – 1941
«Под липами Берлина» (совместно с М. М. Зощенко) –
антифашистская пьеса-памфлет – 1941
«Далёкий край» – 1942
«Одна ночь» – пьеса в 3-х действиях – 1943
«Дракон» – сказка в 3-х действиях – 1944
«Сказка о храбром солдате» – пьеса для кукольного театра –
1946
«Сто друзей» – пьеса для кукольного театра – 1948
«Два клёна» – сказка в 3-х действиях – 1953
«Обыкновенное чудо» – сказка в 3-х действиях, 1956 (редакция
под названием «Медведь» написана в 1954, но не опубликована).
«Повесть о молодых супругах» / «Первый год» – пьеса в 3-х
действиях – 1957
Сценарии
1930 – Настоящие охотники. Автор надписей
1931 – Товарный 717. Немой фильм. Соавтор В. Петров.
Режиссёр Н. И. Лебедев.
1934 – Разбудите Леночку (среднеметражный, в соавторстве с Н.
Олейниковым)
1936 – На отдыхе (в соавторстве с Н. Олейниковым)
1936 – Леночка и виноград (среднеметражный, в соавторстве с
Н. М. Олейниковым)
1938 – Доктор Айболит
1945 – Зимняя сказка (в соавторстве с И. Ивановым-Вано), –
мультипликационный, на музыку П. И. Чайковского
1947 – Золушка (сценарий 1945 года)
1948 – Первоклассница
1957 – Дон-Кихот
1959 – Марья-искусница
1963 – Каин XVIII (сценарий 1947 года, по сказке «Два
друга», – в соавторстве с Н. Р. Эрдманом)
1966 – Снежная королева
Другие произведения
«Рассказ старой балалайки», 1925
«Два брата» (сказка)
«Новые приключения кота в сапогах» (сказка)
«Первоклассница» (повесть), 1949
«Приключения Шуры и Маруси» (рассказ)
«Рассеянный волшебник» (сказка)
«Сказка о потерянном времени» (сказка)
Стихи (1920-е – 1950-е гг.)
«Чужая девочка» (рассказ)
Мемуары. Париж, 1982
Дневники (опубликованы в 1989 г.)
Цитаты и крылатые выражения из произведений Шварца:
Вы так невинны, что можете сказать совершенно страшные вещи
(«Голый король»).
Вся наша национальная система, все традиции держатся на
непоколебимых дураках («Голый король»).
Пышность – великая опора трона! («Голый король»)
Разумный кот только с третьего раза слушается, таков наш
обычай («Два клёна»).
Поймаешь одного человечка на крючок – сейчас же и другие
следом потянутся. На выручку («Два клёна»).
Не в росте сила, а в храбрости («Два клёна»).
Снежная королева
Детей надо баловать — тогда из них вырастают настоящие
разбойники.
Что враги сделают нам, пока сердца наши горячи? Да ничего!
Сегодня вы скажете, что деньги ничего не стоят, завтра — что
богатые и почтенные люди ничего не стоят…
Ладно! Я: а) – отомщу, б) – скоро отомщу и в) – страшно
отомщу.
Есть вещи более сильные, чем деньги.
Хорошие люди всегда побеждают, в конце концов… Но некоторые
из них иногда погибают, не дождавшись победы.
Обыкновенное чудо
Нищие, безоружные люди сбрасывают королей с престола из
любви к ближнему. Из любви к родине солдаты попирают смерть ногами, и та бежит
без оглядки. Мудрецы поднимаются на небо и ныряют в самый ад – из любви к
истине. Землю перестраивают из любви к прекрасному.
Давайте принимать жизнь такой, как она есть. Дождики
дождиками, но бывают и чудеса, и удивительные превращения, и утешительные сны.
Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что
всему этому придет конец. Слава безумцам, которые живут себе, как будто они
бессмертны.
Именно свои влюблённым кажутся особенно чужими. Всё
переменилось, а свои остались такими, как были.
Все люди свиньи, только одни в этом признаются, а другие
ломаются.
Иногда нашалишь — а потом все исправишь. А иной раз щелк — и
нет пути назад!
Быть настоящим человеком — очень нелегко.
Ты не любил её, иначе великая сила безрассудства охватила бы
тебя.
Подходить слишком близко к влюблённым, когда они ссорятся,
смертельно опасно.
Когда
душили его жену, он стоял рядом и все время повторял: «Ну потерпи, может,
обойдется!»
И в трагических концах есть свое величие. Они заставляют
задуматься оставшихся в живых.
Любите, любите друг друга, да и всех нас заодно, не
остывайте, не отступайте — и вы будете так счастливы, что это просто чудо!
Вы меня так обидели, что я все равно отомщу вам. Я докажу,
что вы мне безразличны. Умру, а докажу.
Когда теряешь одного из друзей, то остальным на время
прощаешь всё…
Говорить о любви правду так страшно и так трудно, что я
разучилась это делать раз и навсегда. Я говорю о любви то, чего от меня ждут.
Ничему и никому не верить – это смерть. Всё понимать – это
тоже смерть. А безразличие – хуже смерти.
Отвечать самому, не сваливая вину на ближних, за все свои
подлости и глупости – выше человеческих сил!
Другой свалил бы вину за свои подлости на товарища, на
начальство, на соседей, на жену. А я валю на предков, как на покойников. Им всё
равно, а мне полегче.
Будете мешать – оставлю без завтрака.
По крайнему моему разумению, старшие не должны вмешиваться в
любовные дела детей, если это хорошие дети, конечно.
Чем больше я на них наживаюсь, тем больше ненавижу.
Бороться за свою славу – что может быть утомительнее.
Он разбудил во мне тётю, которую каждый мог убедить в чём
угодно.
То ли мне хочется музыки и цветов, то ли зарезать
кого-нибудь.
Стыдно убивать героев для того, чтобы растрогать холодных и
расшевелить равнодушных.
Золушка
Я давно наказала бы их, но у них такие большие связи! Они
никого не любят, ни о чем не думают, ничего не умеют, ничего не делают, а
ухитряются жить лучше даже, чем некоторые настоящие феи.
Очень вредно не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь.
Ухожу, к чёрту, к дьяволу, в монастырь!
Какое сказочное свинство!
Когда-нибудь спросят: а что ты можешь, так сказать,
предъявить? И никакие связи не помогут тебе сделать ножку маленькой, душу –
большой, а сердце – справедливым.
У меня столько связей, что можно с ума сойти от усталости,
поддерживая их.
Я работаю как лошадь. Я бегаю, хлопочу, очаровываю,
ходатайствую, требую, настаиваю.
Слово короля – золотое слово.
Мне так надоело самой себе дарить подарки в день рождения и
на праздники!
Добрые люди, где же вы? Добрые люди, а добрые люди!
Мы, настоящие феи, до того впечатлительны, что стареем и
молодеем так же легко, как вы, люди, краснеете и бледнеете. Горе старит нас, а
радость – молодит.
Связи связями, но надо же и совесть иметь.
Верность, благородство, умение любить. Обожаю, обожаю эти
волшебные чувства, которым никогда, никогда не придет конец.
У меня бывали дни, когда я так уставала, что мне даже во сне
снилось, будто я хочу спать!
Неужели не дождаться мне веселья и радости? Ведь так и
заболеть можно.
Эх, жалко — королевство маловато, разгуляться негде! Ну
ничего! Я поссорюсь с соседями!
Я не волшебник, я ещё только учусь.
Любовь помогает нам делать настоящие чудеса.
Мне так хочется, чтобы люди заметили, что я за существо, но
только непременно сами. Без всяких просьб и хлопот с моей стороны.
Старые друзья — это, конечно, штука хорошая, но их уж ничем
не удивишь!
Не делайте реверансы на ступеньках — это очень опасно!
Дракон
Единственный способ избавиться от драконов — это иметь
своего собственного…
Все мы запутались в своей собственной паутине.
Деревья и те вздыхают, когда их рубят.
Жалеть друг друга тоже можно. Не бойтесь! Жалейте друг
друга. Жалейте — и вы будете счастливы! Честное слово, это правда, чистая
правда, самая чистая правда, какая есть на земле.
Вы думаете, это так просто — любить людей? Ведь собаки
великолепно знают, что за народ их хозяева. Плачут, а любят.
Ведь он все-таки лучше, чем Дракон. У него есть руки, ноги,
а чешуи нету. Ведь все-таки он хоть и президент, а человек.
Не надо размышлять. Это слишком страшно.
В Черных горах, недалеко от хижины дровосека, есть огромная
пещера. И в пещере этой лежит книга, жалобная книга, исписанная почти до конца.
К ней никто не прикасается, но страница за страницей прибавляется к написанным
прежним, прибавляется каждый день. Кто пишет? Мир! Записаны, записаны все
преступления преступников, все несчастья страдающих напрасно.
— Но позвольте! Если глубоко рассмотреть, то я лично ни в
чем не виноват. Меня так учили.
— Всех учили. Но зачем ты оказался первым учеником, скотина
такая?
Лучшее
украшение девушки — скромность и прозрачное платьице.
Очень хорошо. Я думал погибнуть с честью, но победить – это
куда лучше.
Каждая собака прыгает как безумная, когда её спустишь с
цепи, а потом сама бежит в конуру.
Когда тебе тепло и мягко, мудрее дремать и помалкивать.
Меня утешает, что я оставляю тебе прожжённые души, дырявые
души, мёртвые души.
Из-за слабости нашей гибли самые сильные, самые добрые,
самые нетерпеливые. Камни и те поумнели бы. А мы всё-таки люди.
Разорвите паутину, в которой вы все запутались.
— Я начал завидовать рабам. Они всё знают заранее. У них
твёрдые убеждения. Наверное, потому что у них нет выбора. А рыцарь… Рыцарь
всегда на распутье дорог.
«— Мы ещё не обсудили условия поединка.
— Мы давно уже убиваем без всяких условий. Новое время —
новое веяние»
Три раза я был ранен смертельно, и как раз теми, кого
насильно спасал.
Самое печальное в этой истории и есть то, что они улыбаются.
Тень
Человеческие души, любезный, очень живучи. Разрубишь тело
пополам – человек околеет. А душу разорвёшь – станет послушней, и только.
Люди не знают теневой стороны вещей, а именно в тени, в
полумраке, в глубине и таится то, что придаёт остроту нашим чувствам.
А взрослые — осторожный народ. Они прекрасно знают, что
многие сказки кончаются печально.
Неужели войдёт в моду – быть хорошим человеком? Ведь это так
хлопотливо!
Это вечный спутник принцессы, тайный советник. Его сердце
стучит ровно, как маятник, его советы меняются в соответствии с требованиями
времени, и даёт он их шепотом. Ведь недаром он тайный. И если советы тайного
советника оказываются гибельными, он от них начисто отрекается впоследствии. Он
утверждает, что его просто не расслышали, и это очень практично с его стороны.
Слушайте, люди ужасны, когда воюешь с ними. А если жить с
ними в мире, то может показаться, что они ничего себе.
Человека легче всего съесть, когда он болен или уехал
отдыхать. Ведь тогда он сам не знает, кто его съел, и с ним можно сохранить
прекраснейшие отношения.
Не обращайте внимания на то, что я улыбаюсь. В нашем кругу,
в кругу настоящих людей, всегда улыбаются на всякий случай. Ведь тогда, что бы
ты ни сказал, можно повернуть и так и эдак.
Да, он здоров. Но дела его идут плохо. И пойдут еще хуже,
пока он не научится смотреть на мир сквозь пальцы, пока он не махнёт на все
рукой, пока он не овладеет искусством пожимать плечами.
Нет на свете более чувствительного организма, чем деловые
круги.
Шантажиста мы разоблачили бы, вора поймали бы, ловкача и
хитреца перехитрили бы, а этот… Поступки простых и честных людей иногда так
загадочны!
В каждом человеке есть что-то живое. Надо его за живое
задеть — и всё тут.
Он поправился. Слышите вы все: он поступал как безумец, шёл
прямо, не сворачивая, он был казнён – и вот он жив, жив, как никто из вас.
Сытость в острой форме внезапно овладевает даже достойными
людьми. Человек честным путём заработал много денег. И вдруг у него появляется
зловещий симптом: особый, беспокойный, голодный взгляд обеспеченного человека.
Тут ему и конец. Отныне он бесплоден, слеп и жесток.
Всё тихо. Народ ликует.
Это галстук более чем модный. Он войдёт в моду только через
две недели.
Настоящие воспитанные люди просто не замечают поступков
невоспитанных людей.
Потерять голову в такой важный момент! Болван! И ещё при
всех! Пошёл бы к себе в кабинет и там терял бы что угодно!
У нас, у деловых людей, в минуту настоящей опасности на
ногах вырастают крылья.
Хотелось
бы познакомить Вас с заметками Дмитрия Быкова о Евгении Шварце:
1. Как все гении, Евгений Шварц оставил нам точное самоописание, и
даже не одно. Первое — ставший знаменитым с его легкой руки оксюморон
«Обыкновенное чудо»: в его сказках не происходит почти ничего собственно
чудесного. Больше того — он старается спрятать чудеса за сцену или над сценой:
никто не видит, как Ланцелот побеждает Дракона. Этого быть не может, и лучше
этого даже не воображать. В «Золушке», «Дон-Кихоте» и самом «Обыкновенном чуде»
нет почти ничего волшебного — в «Чуде» даже Волшебник почти не творит чудес,
если не считать марширующих цыплят с усами.
Шварц — такое же простое и очевидное чудо, как его герои,
как его язык, как простые реплики его пьес, заставляющие блаженно рыдать; его
тридцатилетнее творчество, его шестидесятидвухлетнее присутствие среди нас, его
советских соотечественников,— непредставимо, ему неоткуда было взяться. А с
другой стороны — что может быть естественней, чем сказочник в аду? Где еще быть
святому, как не на передовой в борьбе добра со злом? Шварца нельзя себе
представить в советском социуме — но что может быть естественней, органичней,
чем его улыбка, чем его воздушно-толстая, легкая, похожая на шар Монгольфьера
широкая фигура?
Невозможно представить себе, что кто-то в 1938 году в СССР
написал «Снежную королеву». Но теперь представьте себе, что этой пьесы когда-то
не было. Ведь этого не может быть, да? Ведь без неё мы все были бы не мы? Ведь
без сочинений этого сказочника, вечно числившегося маргиналом, существовавшего
словно из милости — несколько поколений выросли бы другими; из драматургов XX
века никто так не повлиял на зрителя! Кто во времена Погодина, Арбузова,
Корнейчука мог допустить всерьёз, что этот автор шести сказочных пьес будет
самым цитируемым театральным писателем своего времени, что его реплики
разойдутся на пословицы, что его будут ставить всегда, а титулованных
современников забудут, как и звали? Но вот поди ж ты — Шварц, которого при
перечислении главных драматургов СССР читатели вспомнили бы в последнюю
очередь, оказался единственным из современников, чьё искусство живо и
победительно. Чудо? Да. Обыкновенное? Проще не бывает.
И еще один его автопортрет, тоже, думаю,
бессознательный — он вообще себя не очень-то сознавал, рефлексии у него мало,
за что он всю жизнь и корил себя. Пытался писать прозу, загонял себя в
традиционные жанры — но и в дневниковой прозе, в портретах из «Телефонной
книжки» у него выходили всё такие же сказки, такие же воздушные персонажи. У
него там описан сын соседа-дирижёра. Этот мальчик с букетом незабудок пришёл
однажды на дачу к другим соседям, а у тех собака в будке. Собака залаяла, и
мальчик не растерялся — он бросил в неё букетом! Это всё, что у него было.
Шварц бросил в двадцатый век своим букетом, добрый отважный
мальчик из любящей семьи. И пока будут на свете люди, говорящие и читающие на
русском языке,— будут читать и цитировать Шварца, относившегося к себе так
несерьёзно. Но это не следует принимать за скромность и недооценку — цену-то
себе он знал, просто не приписывал себе главной заслуги. Шварц — голос
человечности среди тотально бесчеловечного, почти безлюдного, железного мира.
Он не ставил себе это в заслугу потому, что отлично понимал: выбора-то у него
не было. Он вообще принадлежал к счастливейшему меньшинству, у которого нет
рефлексии: мог быть только таким, никаким больше. Его нельзя было заставить
жить, писать, действовать иначе. До какого-то предела он терпел и смирялся, а дальше
— вот что ты будешь делать?— начинался героизм без выбора. Толстый счастливый
шар, надутый самым чистым воздухом; храбрец, не сознающий собственной
храбрости,— ибо иного пути у него нет.
2. Собственный голос, записанный на плёнку, показался Шварцу чужим —
наглым каким-то. И думается, такой же наглой показалась бы ему собственная его
биография, изложенная беспристрастно. Казалось бы, Шварц, часто
сентиментальный, мухи не обидевший,— и вдруг такая бурная, с множеством событий
судьба, причем события не только общественные, зависящие от страшной русской
истории XX века, а самый что ни на есть личный выбор. «Плыл по течению» — часто
пишет он о себе в дневниках, а в стихах признается, что жил словно с
полузакрытыми глазами — «ведь даже соловей зажмурившись поёт в глуши своей» —
но глаза-то он закрывал как раз на то, что мешало жить. А потому и совершал
поступки — в то время как другие, по слову Пастернака, «покупали себе правоту
неправотою времени». Ведь что такое, в сущности, сказка? В ней может не быть ничего
волшебного. Сказочно внимание к главному, пренебрежение второстепенным. В
сказке, фантастике, во всех этих якобы инфантильных, а на деле высших жанрах на
первый план выходит то, ради чего человек живёт, а всё, что мешает ему жить:
быт, страх, подспудные соображения, всё, что считается атрибутами взрослого
мира, исчезает. Сказочного рыцаря не могут выгнать с работы, объявить ему
выговор по партийной линии, его не мучает квартирный вопрос. Его могут только
убить, и это с ним иногда происходит.
Жизнь Шварца, сына крещёного еврея и русской дворянки,
происходит в сказочных категориях — смертельная любовь, риск, подвиг. У него
нет двусмысленной славы подпольного автора, потому что все его пьесы и сценарии
либо триумфально идут и делаются классикой, как «Золушка», либо запрещаются
намертво, как «Дракон» (с которым, однако, все желающие могут ознакомиться в
театральных библиотеках — его Репертуарный комитет издал полутысячным тиражом,
хоть и на правах рукописи, а с 1956 года он и в книги входил). И вот еще парадокс
— «Дракона» в сорок третьем чуть было не поставили, а когда потребовали
поправок, Шварц и их обернул на пользу пьесе, подробно расписав Бургомистра.
Имелось в виду, что Бургомистр — это США, пытающиеся примазаться к победе
нашего Ланцелота. При Хрущёве «Дракона» опять запретили, уже в постановке
Захарова, в студенческом театре МГУ — там Бургомистр был вылитый Никита.
Обещанный парадокс в том, что во времена Драконов Шварц еще может существовать,
но во времена Бургомистров он невыносимо раздражает власть; «Снежную королеву»
ставят, «Красную Шапочку» — само собой, а «Тень», «Дракон», «Голый король»
(кроме знаменитого спектакля «Современника») существуют в полузапрещённом виде,
экранизацию все той же «Тени» показывают редко, и я отчетливо помню зал кинотеатра
«Литва» на Мичуринском, где эту «Тень» с Далем году в 1977-м крутят на детском
сеансе в десять утра, и зал полон битком. Потому что больше её смотреть негде.
Сегодня едва ли не самый известный факт его биографии —
участие в Ледовом походе Корнилова, где он оказался добровольцем и был тяжело
контужен при штурме Екатеринодара; отсюда и тремор рук, которым он мучился всю
жизнь,— хотя многие знавшие его ещё по Ленинграду двадцатых никакого тремора не
замечали, а начался он у него якобы в 1929 году, после ухода от жены, и тут уж
никто не разберётся, кто прав, потому что медицинских документов нет. Он
действительно в семнадцатом году был юнкером и вспоминал 29 лет спустя:
«Неожиданная радость до слёз, которую я испытал в 17 году. Я, которого не без
основания упрекал отец в безразличии к политике! Это было несомненное
предчувствие бедствий, что предстоит пережить всему народу. Безотчётное, но
сильное и неотвратимое. И оно вдруг стало исчезать, когда дела как будто еще
ухудшились». Такое же облегчение он испытал, когда в июле сорок первого начал
работать на радио. Больше всего Шварц ненавидел ситуации, когда непонятно, что
делать. Он потому и рвался на фронт в сорок первом, когда ему было уже сорок
пять. На фронте, записывает он, легче, чем в Ленинграде: на фронте люди что-то
делают, знают свое место, а Ленинград, отравленный трупным ядом, только
умирает. Вот так же и осенью семнадцатого, «когда дела как будто еще
ухудшились», он понял, что делать,— и оказался в корниловском ополчении.
Решительность эта — когда кончается неопределённость и
знаешь наконец, как себя вести,— сказывалась у него во всём, он называл её
легкостью, это вообще у него самое хвалебное слово. Лёгким человеком называет
себя Ланцелот, вечно воюющий рыцарь, которого заносит в самые разные несчастные
города. Легки все люди, которых он любовно описывает в дневниках. Лёгкость —
это не отсутствие трагедии, отнюдь нет; это именно решимость, мгновенность,
отказ от долгой рефлексии. Когда надо — поступай, как надо. С этой абсолютной
лёгкостью они всей своей ростовской «Театральной мастерской» поехали в
Петроград по приглашению Гумилёва. Он буквально за два месяца до смерти был в
Ростове. От Юрия Анненкова Гумилёв знал о постановке своей «Гондлы», которую ни
до, ни после никто не мог поставить как следует. Сезон был окончен, из всей
труппы он застал человек десять. «Я автор «Гондлы»«,— сказал он и попросил если
не сыграть, так хоть прочитать по ролям отрывки из пьесы. Ему все очень
понравилось, он прекрасно ладил с молодыми и немедленно их сорганизовал: «Нечего
здесь киснуть, вам надо ехать в Петроград». «Клянитесь, что вы нас не забудете
там!» — потребовала самая хорошенькая, Гаянэ Холодова (Хайладжиева), та самая,
в которую был влюблён Шварц. Гумилёв поднял руку и сказал: «Клянусь!» И не
забыл бы, если бы дожил до их переезда.
В Петрограде они играли примерно год, потом театр распался.
Холодова решила остаться, а с ней и Шварц. Они уже были женаты. Он уговаривал
её очень долго, особенно знаменит и пересказывается во всех биографиях эпизод с
прыжком в Дон: «Я для тебя всё сделаю!» — «А в Дон прыгнешь?» — а дело
происходит ранней весной. И он прыгнул, в пальто и шапке-ушанке. Лучше бы он,
вероятно, не прыгал, потому что ничего хорошего из этого брака не вышло: в
Петрограде Холодова стала понемногу превращаться в домашнюю тираншу вроде
мачехи из шварцевской «Золушки». Какой из Шварца был кормилец семьи —
представить трудно, поскольку врождённое его легкомыслие только усиливалось от
безнадёжности ситуации: как вспоминал Евгений Петров в недописанной книге о
своем друге Ильфе, ирония тогда была у молодых господствующим мировоззрением,
поскольку других основ у жизни не было. Чем безнадёжней все становилось, тем
громче они хохотали. Отец Шварца, врач, к этому времени переехал из Майкопа в
Бахмут. Приехав к нему в гости с новым другом, «серапионом» Михаилом
Слонимским, Шварц познакомился с местным журналистом Николаем Олейниковым, с
которым они в отношениях дружбы-вражды просуществовали до самой олейниковской
гибели. Олейников высмеивал все и вся, это вам не мягкая усмешка Шварца. В
Ленинграде Олейников сошелся с обэриутами, Шварц тоже дружил с ними, хотя
участвовать в их застольях не любил: эта среда была для него жестковата. Он и в
юморе своём не абсурдист, Шварц — человек во всем, защитник и манифестант
именно человеческого. А Хармс, Олейников, Друскин, даже и Заболоцкий отчасти,
все время пытаются вырваться за человеческое, перепрыгивают его пределы.
Заболоцкий утверждал, что женщины не могут любить цветы, ибо
не понимают бескорыстной красоты. Олейников утверждал, что женщины куры. А
Шварц в 1929-м влюбился, да так, что вся его жизнь переломалась: тоже поступок,
как будто совсем не вяжущийся с его обликом,— он увёл жену у приятеля и сам
ушёл от Холодовой, которая вдобавок только что родила. А получилось так, что
Вениамин Каверин познакомил Шварца со своим братом, композитором Александром
Зильбером. Была у этого брата красавица-жена, Катерина Ивановна, и у нее с
Женей Шварцем (он так и был для всех Женей к 33 годам) начался роман.
Солидности в Шварце не было никакой, хотя вышли уже первые
книги детских стихов-раешников, и работал он в Детгизе, выпуская знаменитые
«Еж» и «Чиж». Он успел побывать литературным секретарём Чуковского,
газетчиком-фельетонистом, сочинителем стихотворных театральных сказок, но
гениальность его ни в чём еще не проявлялась — разве что окружала всю его
высокую и тощую тогда фигуру некоей солнечной аурой, ощутимой для всех, кто
вообще мог что-то ощущать. И она решилась уйти от мужа — Шварц вспоминал, что
если и был когда-то счастлив, то разве что в двадцать девятом.
Шварц был из тех, кто в конце тридцатых не так боялся, как
прочие. Он понимал, что вокруг ад, и у него не было вечного диссонанса, от
которого сходили с ума другие: может, так надо? Может, все происходящее
правильно? Я теперь, пожив в России последних тринадцати лет, с особенной
отчётливостью вижу, что народ ее ничем не хуже других, но гораздо внушаемей: у
него меньше тех бесспорных нравственных опор, которые позволяли бы всякий раз
не впадать в новую крайность. Он легко позволяет себя убедить, что так и надо.
И вот Шварц спас свое душевное здоровье главным образом тем, что у него-то была
врождённая внутренняя чистота, абсолютное чутьё на человечность и такое же
абсолютное неприятие бесчеловечности, так что он не мог, подобно нам
сегодняшним, внушить себе: всё идет как надо, страна так хочет, страна так
выбрала… Когда он видел перед собой бесчеловечность, в нем против его воли
закипала ненависть — и писал он об этой ярости с предельной откровенностью: «В
добротном пальто, с воротником под котик и в такой же шапке-кубанке возвышался
Ваня-собственник, где бы он ни работал, Ваня-людоед, Ваня — участник
единственной войны, которую понимал: всех против всех. По правилам этой войны
прямые схватки допускаются в виде исключения. Выйдя с вокзала, никогда больше
не увидел я Ваню и его спутника. Во всяком случае, в таком конкретном их
воплощении. Чувствуя необыкновенную легкость и наслаждаясь мыслью, что жизнь
продолжается, двинулся я обратно к вагону. И опять увидел деревья, и
обыкновенных людей, и склады, похожие на замок». Стоило уйти от бесчеловечности
— и опять пошла сказка: обыкновенные люди, которые чудеснее всего, и склады
вроде древнего замка. Стоит нечисти убраться с пути — и мысль Шварца
расправляется, дышит, творит.
Он настаивал, чтобы его записали в ополчение. Сказал
поразившую врачей фразу «Вы не смеете мне отказать!» — и явился на призывной
пункт с ложкой и кружкой, но тут даже его решимости оказалось недостаточно: с
таким тремором он не удержал бы винтовку, и возраст у него был непризывной. Его
прикомандировали к Радиокомитету, и здесь снова начались чудеса шварцевской
храбрости: ходил с Берггольц по улицам во время обстрела, хохоча, издеваясь над
сверхчеловеческой методичностью, с которой стреляли по городу! Вспоминая это
время в дневнике, он ясней всего формулирует собственное кредо: глупый, слепой
XIX век! Он ненавидел мещанский уют, считал его плоской рутиной, мечтал
преодолеть человека — и вот преодолел, а ведь сверхчеловек этот оказался еще
пошлее, еще рутиннее любого мещанина! Эта немецкая механистичность — она не
сверхчеловечна, а дочеловечна… Можно спорить, конечно, о том, прав или не
прав был XIX век в своей тоске по новой эволюционной ступени — и можно ли
считать, что коммунизм или фашизм лишь скомпрометировали эту тоску. Однако правильней
будет сказать, что и Шварц ничуть не апологет мещанства, мещанин — это скорей
его страшный Ваня-людоед, человек, пренебрежительно относящийся к
эвакуированным, еле живым ленинградцам. А сам Шварц и его герои — это, пожалуй,
другой вариант сверхчеловечности, самопожертвование и отвага высшей пробы.
Сверхчеловек — не Дракон и не Тень, а Ланцелот; сверхчеловек — Заболоцкий и его
жена, спасающая детей во время блокады и эвакуации.
3. Невозможно не плакать над некоторыми шварцевскими репликами,
потому что в них есть детский пафос прямого высказывания: мы столько себе
напридумывали, чтобы не быть людьми, чтобы выпрыгнуть из этого унизительного
состояния!— но можно, оказывается, быть просто людьми. Можно просто сказать:
«Куда вы пойдёте, туда и я пойду. Когда вы умрёте, тогда и я умру». Эти слова
говорил он сам Кате, эти слова говорит у него Медведь, признаваясь в любви
Принцессе, и лучше никак сказать нельзя. Когда у него Ланцелот при каждой новой
подробности драконьего могущества говорит «Прелестно!» — это спасительный
кислород среди сплошной углекислоты. Он был остроумный человек, да, воспитанный
той средой «мальчиков и девочек» начала века, о которой и Пастернак написал
главный свой роман; он был театральный человек, отлично чувствующий ритм
спектакля,— но остроумия и театральности мало было бы для «Дракона» и
«Обыкновенного чуда». А вот «любовь к ребёнку — ведь это же ничего? Это можно?»
Или: «Всех учили. Но зачем ты был первым учеником, скотина?» Или: «Я не упрекаю
вас — видите, какая я стала смирная? Только не оставляйте меня». Этого не
сделаешь ни остроумием, ни чувством театра — это освобожденная, вырвавшаяся
наружу человечность.
Надо было быть Шварцем, унаследовавшим от отца
исключительную твёрдость натуры и гордую посадку головы, чтобы не слушать советов,
которые ему давали профессионалы. Профессионализм гению не нужен, потому что
вещи, которые он делает, ещё не стали профессией; Шварц первым у нас угадал
великую символистскую драматургию второй половины века, он был первым предтечей
Ионеско и Дюренматта, он возродил сказку до Толкиена — и никто не мог ему
ничего посоветовать, потому что он этот жанр философской сказки заново изобрёл,
совершив подвиг, подобный андерсеновскому. Ведь и Андерсена бранили за
сентиментальность, и жестокость, и слишком щедрые аллюзии на современность,
чего не должно быть в сказке. Но Андерсен писал, как хотел, и стал классиком,
потому что классик — не тот, кто слушается правил, а тот, кто их создаёт.
Сколько всего выслушал Шварц от коллег по поводу третьего акта «Обыкновенного
чуда»! Им казалось, что там мало действия. А там не должно быть действия,
потому что смерть там подходит очень близко и всё замирает; ведь третий акт там
лучший, сильнейший, весь не отсюда — потому что отступают уже решительно все
условности. В третьем акте там есть грозный покой человека, преодолевшего всё.
Когда Иван Поповски поставил «Чудо» — с новыми блистательными номерами Кима и
Гладкова — на Дубровке, и этот спектакль держался год, и я бегал на него
бесконечно, даже не пытаясь понять, как это сделано, а просто наслаждаясь
чистейшим воздухом театральности,— я не видел буквально ни одного человека,
который бы с этого третьего акта не выходил с мокрыми глазами. Легко быть
высокомерным относительно таких чудес, чересчур обыкновенных,— ведь душа вообще
так дурновкусна, почти неприлична! Но что поделаешь — без неё получается мир
«Дракона».
Шварц — лёгкие русской литературы, просторные, чистые,
наполненные кислородом лёгкие, и герои его — лёгкие люди, и слёзы, которые льёт
его зритель,— лёгкие, счастливые слёзы. Но плачет он потому, что вещи, которые
столько раз пытались объявить безвкусными, бессмысленными и побеждёнными,—
оказывается, живы и побеждают неизвестным науке способом.
В Кирове, где Шварц был в эвакуации, мне предложили
экскурсию по любому маршруту — я выбрал местный театр и его музей. Там мне
показали драгоценную реликвию — единственный автограф Шварца, сохранившийся в
городе, где писал он «Одну ночь» и «Дракона». Это роспись в гонорарной
ведомости, он там числился полгода завлитом. Роспись, рукопись, инскрипт — не
пустой звук, они транслируют чужую личность лучше любого портрета. И я видел
это крупное, дрожащее, восклицательное «ЕШварц» во всю графу. Что-то вроде
дрожащего крика: «Я Шварц!» — дрожу и кричу.
«Разные люди бывают на свете: кузнецы, повара, доктора, школьники, учителя, кучера, актеры, сторожа. А я вот — сказочник. И все — и актеры, и учителя, и кузнецы, и доктора, и повара, и сказочники — все мы работаем, и все мы люди нужные, необходимые, очень хорошие люди». Эти слова героя пьесы «Снежная королева» полностью применимы к ее автору, Евгению Львовичу Шварцу, который талантливо, честно и самоотверженно работал в литературе несколько десятилетий.
Имя известного писателя всегда окружено легендой. Есть легенда и о Евгении Шварце (1896-1958): человек, который постоянно весел, мастер красного словца, завсегдатай всех богемных вечеринок Ленинграда. Очень часто Шварца называли Ланцелотом. Легенда проста, а жизнь сложна, и в ней «все замечательно и великолепно перепутано» (Е.Шварц). Биография его складывалась отнюдь не легендарно. От рассыпаемых в общении острот до прославленных каламбуров его пьес он прошел долгий и непростой путь. По его собственному выражению, он «подходил к литературе на цыпочках». Долго не решался печататься. Шварц был широко известен в Петрограде в качестве «устного писателя» — блестящего рассказчика и импровизатора. И даже такой проницательный критик, как Корней Чуковский, общавшийся с ним в ту пору почти ежедневно, не угадал «в этом остряке и балагуре…будущего автора таких замечательных сатир и комедий, как «Обыкновенное чудо», «Тень», «Голый король», «Дракон».
Начал печататься Шварц в провинциальной прессе под псевдонимом Щур. В 1923г. Евгений Львович уехал на Донбасс, где работал над фельетонами для печатных изданий Донецка. И только после того, как его фельетоны получили одобрение коллег и снискали популярность у читателей, решился на публикацию в столице.
Так в 1924г. в журнале «Воробей» появилась его детская сказка «Рассказ старой балалайки», которая получила одобрение Маршака, ее похвалил Мандельштам.

Пьеса Шварца «Ундервуд», в которой реальные характеры и ситуации переплетаются со сказочными, была поставлена Ленинградским ТЮЗом. Так детский писатель стал детским драматургом. Впоследствии судьба Шварца как детского драматурга сложилась довольно удачно. Его «Красная шапочка» и «Снежная королева» шли во многих ТЮЗах страны, а в кукольных театрах ставились «Пустяки», «Красная шапочка и Серый волк», «Кукольный город».
Первой пьесой, принесшей Шварцу всемирную известность в будущем, стал «Голый король»(1934). Шварц создал сказку, которая при всей своей, как и положено сказке – наивности, оказалась не проще и не глупее своего времени, на своем сказочном языке говорила о тех самых проблемах, над которыми задумывались крупнейшие художники века. В 1940г. создана пьеса «Тень», в 1943г. – «Дракон».
Первый постановщик «Дракона» Николай Акимов вспоминает, как некий чиновник от искусства запретил постановку пьесы, ибо усмотрел в ней намек на советскую действительность. Сам Шварц постоянно говорил о том, что его сказки не аллегории, а персонажи говорят не эзоповым языком. Он писал для всех. Всегда старался выразить мысль словами простыми и доходчивыми. Маленький, а иногда и большой читатель, и зритель верили шварцевским героям и не сомневались в их правоте. Потому что каждое слово, будь то прописная истина или блестящий каламбур «обеспечивалось» личностью автора и подкреплялось доверием к нему. Он сам был простодушен, как Ученый («Тень»), мудр, как Сказочник («Снежная королева»), порой смел, как Ланцелот, а порой растерян и беспомощен, как Шарлемань («Дракон»).



Именно в качестве блестящего сказочника и драматурга и знает Шварца наш современный читатель. Если, вдруг, и найдется человек, которому покажется, что он не знает кто такой Евгений Львович Шварц и не знаком с его творчеством – то переубедить такого «незнайку» можно очень просто – нужно произнести волшебные слова: «Снип-снап-снурре, пурре-базелюрре!» И в ответ услышите: «Да это же «Снежная королева» Андерсена!» Верно, но не совсем. Слов «пурре-базелюрре!» нет в сказке великого Андерсена. Нет в ней и образа сказочника, и образа мрачного Советника с его коронной фразой, что он «а) отомстит, б) скоро отомстит и в) страшно отомстит». А крылатые выражения: «Я не волшебник, я только учусь», «Какое сказочное свинство!» не спешите приписывать Шарлю Перро. Вспоминая эти фразы из фильмов «Золушка» и «Снежная королева», мы забываем о том, что они снимались по сценариям Е.Шварца, изрядно обогатившего и преобразившего эти классические сюжеты. «Сказка о потерянном времени» про малолетних разгильдяев, которые превратились в старичков – собственное произведение Шварца.

А всеми нами любимый фильм по мотивам этой сказки – дело рук режиссера А.Птушко. «Обыкновенное чудо», и «Убить дракона» — тоже произведения Шварца, которые благодаря режиссеру Марку Захарову стали известны и очень популярны.
Безусловно, истинным украшением сказок Евгения Шварца является простой и очень изысканный юмор, основанный на очень точном знании быта, всегда тайно грустный и всегда многозначительный. Давайте вместе с вами вспомним популярные цитаты из его волшебных сказок:
Я три дня гналась за вами, чтобы сказать вам, как вы мне безразличны.
Ах, я любила его когда-то, а таких людей я потом ужасно ненавижу.
Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны, я чертовски привлекателен – чего же тут время терять?
То, что вы называете любовью, — это немного неприлично, довольно смешно и очень приятно.
Вы первый встречный мой — я ваша навсегда.
Если хочешь указать на ошибки, то сначала похвали, мерзавец.
Палача отняли, жандармов отняли… пугают… Свиньи вы, а не верноподданные!
Доктор тоже человек, у него свои слабости: он жить хочет.
Зачем я его только слушал? Разбудил во мне тётю, которую каждый мог убедить в чём угодно. Бедняжка восемнадцать раз была замужем, не считая лёгких увлечений.
Остались только чувства тонкие, едва определимые: то ли музыки и цветов хочется, то ли зарезать кого-нибудь.
По крайнему моему разумению, взрослые не должны вмешиваться в любовные дела детей.
Будете мешать, оставлю без обеда. Кстати, ко всем относится.
— А кто у нас муж?
— Волшебник…
— Предупреждать надо. Был неправ, вспылил. Но теперь считаю своё предложение безобразной ошибкой, раскаиваюсь, прошу дать возможность загладить, искупить. Всё, ушёл.
Слушайте, люди ужасны, когда воюешь с ними. А если жить с ними в мире, то может показаться, что они ничего себе.
Человек из мертвого камня сделает статую – и годится потом, если работа удалась. А поди-ка из живого сделай более живое. Вот это работа!
Человек, который понапрасну теряет время, сам не знает, как стареет.
Единственный способ избавиться от дракона – это иметь своего собственного.
Ах, сколько треволнений, сколько забот. Нет, быть в отчаянии – это гораздо приятнее. Дремлешь и ничего не ждешь.
Когда тебе тепло и мягко, мудрее дремать и помалкивать, мой милейший.
Иногда лучше потратить немножко времени, чтобы потом его сберечь.
Детей надо баловать — тогда из них вырастают настоящие разбойники.
Давайте принимать жизнь такой как она есть. Дождики дождиками, но бывают и чудеса, и удивительные превращения, и утешительные сны.
Я не волшебник. Я только учусь. Но ради тех, кого люблю, я способен на любые чудеса.
Сказка рассказывается не для того, чтобы скрыть, а для того, чтобы открыть, сказать во всю силу, во весь голос, что думаешь.
Ничему и никому не верить это смерть. Все понимать – это тоже смерть. А безразличие хуже смерти.
Когда-нибудь спросят, а что ты можешь, так сказать, предъявить? И никакие связи не помогут тебе сделать ножку маленькой, а душу – большой, а сердце – справедливым.
Любите, любите друг друга, да и всех нас заодно, не остывайте, не отступайте — и вы будете так счастливы, что это просто чудо!
Давайте вместе с вами окунемся в мир волшебных сказок Евгения Шварца, где мы можем встретить короля-самодура, который обвиняет в своем самодурстве «дурную наследственность», и министра-администратора, которому должен весь королевский двор, и злую мачеху, которая грозит королю своими «знакомствами» и сетует на то, что «королевство маленькое – негде развернуться». Здесь людоед вполне может работать оценщиком в ломбарде, а принцесса может появиться на соседнем балконе.