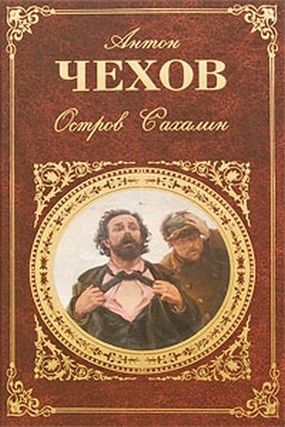
Остров Сахалин (из путевых заметок)
- Полный текст
- I. Г. Николаевск-на-Амуре. – Пароход «Байкал». – Мыс Пронге и вход в Лиман. – Сахалин полуостров. – Лаперуз, Браутон, Крузенштерн и Невельской. – Японские исследователи. – Мыс Джаоре. – Татарский берег. – Де-Кастри.
- II. Краткая география. – Прибытие в Северный Сахалин. – Пожар. – Пристань. – В Слободке. – Обед у г. Л. – Знакомства. – Ген. Кононович. – Приезд генерал-губернатора. – Обед и иллюминация.
- III. Перепись. – Содержание статистических карточек. – О чем я спрашивал, и как отвечали мне. – Изба и ее жильцы. – Мнения ссыльных о переписи.
- IV. Река Дуйка. – Александровская долина. – Слободка Александровка. – Бродяга Красивый. – Александровский пост. – Его прошлое. – Юрты. – Сахалинский Париж.
- V. Александровская ссыльнокаторжная тюрьма. – Общие камеры. – Кандальные. – Золотая Ручка. – Отхожие места. – Майдан. – Каторжные работы в Александровске. – Прислуга. – Мастерские.
- VI. Рассказ Егора
- VII. Маяк. – Корсаковское. – Коллекция д-ра П. И. Супруненко. – Метеорологическая станция. – Климат Александровского округа. – Ново-Михайловка. – Потемкин. – Экс-палач Терский. – Красный Яр. – Бутаково.
- VIII. Река Аркай. – Арковский кордон. – Первое, Второе и Третье Арково. – Арковская долина. – Селения по западному побережью: Мгачи, Танги, Хоэ, Трамбаус, Виахты и Ванги. – Туннель. – Кабельный домик. – Дуэ. – Казармы для семейных. – Дуйская тюрьма. – Каменноугольные копи. – Воеводская тюрьма. – Прикованные к тачкам.
- IX. Тымь, или Тыми. – Лейт. Бошняк. – Поляков. – Верхний Армудан. – Нижний Армудан. – Дербинское. – Прогулка по Тыми. – Усково. – Цыгане. – Прогулка по тайге. – Воскресенское.
- Х. Рыковское. – Здешняя тюрьма. – Метеорологическая станция М. Н. Галкина-Враского. – Палево. – Микрюков. – Вальзы и Лонгари. – Мало-Тымово. – Андрее-Ивановское.
- XI. Проектированный округ. – Каменный век. – Была ли вольная колонизация? – Гиляки. – Их численный состав, наружность, сложение, пища, одежда, жилища, гигиеническая обстановка. – Их характер. – Попытки к их обрусению. – Орочи.
- XII. Мой отъезд на юг. – Жизнерадостная дама. – Западный берег. – Течения. – Маука. – Крильон. – Анива. – Корсаковский пост. – Новые знакомства. – Норд-ост. – Климат Южного Сахалина. – Корсаковская тюрьма. – Пожарный обоз.
- XIII. Поро-ан-Томари. – Муравьевский пост. – Первая, Вторая и Третья Падь. – Соловьевка. – Лютога. – Голый мыс. – Мицулька. – Лиственничное. – Хомутовка. – Большая Елань. – Владимировка. – Ферма или фирма. – Луговое. – Поповские Юрты. – Березники. – Кресты. – Большое и Малое Такоэ. – Галкино-Враское. – Дубки. – Найбучи. – Море.
- XIV. Тарайка. – Вольные поселенцы. – Их неудачи. – Айно, границы их распространения, численный состав, наружность, пища, одежда, жилища, их нравы. – Японцы. – Кусун-Котан. – Японское консульство.
- XV. Хозяева-каторжные. – Перечисление в поселенцы. – Выбор мест под новые селения. – Домообзаводство. – Половинщики. – Перечисление в крестьяне. – Переселение крестьян из ссыльных на материк. – Жизнь в селениях. – Близость тюрьмы. – Состав населения по месту рождения и по сословиям. – Сельские власти.
- XVI. Состав ссыльного населения по полам. – Женский вопрос. – Каторжные женщины и поселки. – Сожители и сожительницы. – Женщины свободного состояния.
- XVII. Состав населения по возрастам. – Семейное положение ссыльных. – Браки. – Рождаемость. – Сахалинские дети.
- XVIII. Занятия ссыльных. – Сельское хозяйство. – Охота. – Рыболовство. – Периодическая рыба: кета и сельдь. – Тюремные ловли. – Мастерства.
- XIX. Пища ссыльных. – Что и как едят арестанты. – Одежда. – Церковь. – Школа. – Грамотность.
- XX. Свободное население. – Нижние чины местных воинских команд. – Надзиратели. – Интеллигенция.
- XXI. Нравственность ссыльного населения. – Преступность. – Следствие и суд. – Наказания. – Розги и плети. – Смертная казнь.
- XXII. Беглые на Сахалине. – Причины побегов. – Состав беглых по происхождению, разрядам и проч.
- XXIII. Болезненность и смертность ссыльного населения. – Медицинская организация. – Лазарет в Александровске.
- Примечания
I. Г. Николаевск-на-Амуре. – Пароход «Байкал». – Мыс Пронге и вход в Лиман. – Сахалин полуостров. – Лаперуз, Браутон, Крузенштерн и Невельской. – Японские исследователи. – Мыс Джаоре. – Татарский берег. – Де-Кастри.
5 июля 1890 г. я прибыл на пароходе в г. Николаевск, один из самых восточных пунктов нашего отечества. Амур здесь очень широк, до моря осталось только 27 верст; место величественное и красивое, но воспоминания о прошлом этого края, рассказы спутников о лютой зиме и о не менее лютых местных нравах, близость каторги и самый вид заброшенного, вымирающего города совершенно отнимают охоту любоваться пейзажем.
Николаевск был основан не так давно, в 1850 г., известным Геннадием Невельским, и это едва ли не единственное светлое место в истории города. В пятидесятые и шестидесятые годы, когда по Амуру, не щадя солдат, арестантов и переселенцев, насаждали культуру, в Николаевске имели свое пребывание чиновники, управлявшие краем, наезжало сюда много всяких русских и иностранных авантюристов, селились поселенцы, прельщаемые необычайным изобилием рыбы и зверя, и, по-видимому, город не был чужд человеческих интересов, так как был даже случай, что один заезжий ученый нашел нужным и возможным прочесть здесь в клубе публичную лекцию. Теперь же почти половина домов покинута своими хозяевами, полуразрушена, и темные окна без рам глядят на вас, как глазные впадины черепа. Обыватели ведут сонную, пьяную жизнь и вообще живут впроголодь, чем бог послал. Пробавляются поставками рыбы на Сахалин, золотым хищничеством, эксплуатацией инородцев, продажей понтов, то есть оленьих рогов, из которых китайцы приготовляют возбудительные пилюли. На пути от Хабаровки до Николаевска мне приходилось встречать немало контрабандистов; здесь они не скрывают своей профессии. Один из них, показывавший мне золотой песок и пару понтов, сказал мне с гордостью: «И мой отец был контрабандист!» Эксплуатация инородцев, кроме обычного спаивания, одурачения и т. п., выражается иногда в оригинальной форме. Так, николаевский купец Иванов, ныне покойный, каждое лето ездил на Сахалин и брал там с гиляков дань, а неисправных плательщиков истязал и вешал.
Гостиницы в городе нет. В общественном собрании мне позволили отдохнуть после обеда в зале с низким потолком – тут зимою, говорят, даются балы; на вопрос же мой, где я могу переночевать, только пожали плечами. Делать нечего, пришлось две ночи провести на пароходе; когда же он ушел назад в Хабаровку, я очутился как рак на мели: камо пойду? Багаж мой на пристани; я хожу по берегу и не знаю, что с собой делать. Как раз против города, в двух-трех верстах от берега, стоит пароход «Байкал», на котором я пойду в Татарский пролив, но говорят, что он отойдет дня через четыре или пять, не раньше, хотя на его мачте уже развевается отходный флаг. Разве взять и поехать на «Байкал»? Но неловко: пожалуй, не пустят, – скажут, рано. Подул ветер, Амур нахмурился и заволновался, как море. Становится тоскливо. Иду в собрание, долго обедаю там и слушаю, как за соседним столом говорят о золоте, о понтах, о фокуснике, приезжавшем в Николаевск, о каком-то японце, дергающем зубы не щипцами, а просто пальцами. Если внимательно и долго прислушиваться, то, боже мой, как далека здешняя жизнь от России! Начиная с балыка из кеты, которым закусывают здесь водку, и кончая разговорами, во всем чувствуется что-то свое собственное, не русское. Пока я плыл по Амуру, у меня было такое чувство, как будто я не в России, а где-то в Патагонии или Техасе; не говоря уже об оригинальной, не русской природе, мне всё время казалось, что склад нашей русской жизни совершенно чужд коренным амурцам, что Пушкин и Гоголь тут непонятны и потому не нужны, наша история скучна и мы, приезжие из России, кажемся иностранцами. В отношении религиозном и политическом я замечал здесь полнейшее равнодушие. Священники, которых я видел на Амуре, едят в пост скоромное, и, между прочим, про одного из них, в белом шёлковом кафтане, мне рассказывали, что он занимается золотым хищничеством, соперничая со своими духовными чадами. Если хотите заставить амурца скучать и зевать, то заговорите с ним о политике, о русском правительстве, о русском искусстве. И нравственность здесь какая-то особенная, не наша. Рыцарское обращение с женщиной возводится почти в культ и в то же время не считается предосудительным уступить за деньги приятелю свою жену; или вот еще лучше: с одной стороны, отсутствие сословных предрассудков – здесь и с ссыльным держат себя, как с ровней, а с другой – не грех подстрелить в лесу китайца-бродягу, как собаку, или даже поохотиться тайком на горбачиков.
Но буду продолжать о себе. Не найдя приюта, я под вечер решился отправиться на «Байкал». Но тут новая беда: развело порядочную зыбь, и лодочники-гиляки не соглашаются везти ни за какие деньги. Опять я хожу по берегу и не знаю, что с собой делать. Между тем уже заходит солнце, и волны на Амуре темнеют. На этом и на том берегу неистово воют гиляцкие собаки. И зачем я сюда поехал? – спрашиваю я себя, и мое путешествие представляется мне крайне легкомысленным. И мысль, что каторга уже близка, что через несколько дней я высажусь на сахалинскую почву, не имея с собой ни одного рекомендательного письма, что меня могут попросить уехать обратно, – эта мысль неприятно волнует меня. Но вот наконец два гиляка соглашаются везти меня за рубль, и на лодке, сбитой из трех досок, я благополучно достигаю «Байкала».
Это пароход морского типа средней величины, купец, показавшийся мне после байкальских и амурских пароходов довольно сносным. Он совершает рейсы между Николаевском, Владивостоком и японскими портами, возит почту, солдат, арестантов, пассажиров и грузы, главным образом казенные; по контракту, заключенному с казной, которая платит ему солидную субсидию, он обязан несколько раз в течение лета заходить на Сахалин: в Александровский пост и в южный Корсаковский. Тариф очень высокий, какого, вероятно, нет нигде в свете. Колонизация, которая прежде всего требует свободы и легкости передвижения, и высокие тарифы – это уж совсем непонятно. Кают-компания и каюты на «Байкале» тесны, но чисты и обставлены вполне по-европейски; есть пианино. Прислуга тут – китайцы с длинными косами, их называют по-английски – бой. Повар тоже китаец, но кухня у него русская, хотя все кушанья бывают горьки от пряного кери и пахнут какими-то духами, вроде корилопсиса.
Начитавшись о бурях и льдах Татарского пролива, я ожидал встретить на «Байкале» китобоев с хриплыми голосами, брызгающих при разговоре табачною жвачкой, в действительности же нашел людей вполне интеллигентных. Командир парохода г. Л., уроженец западного края, плавает в северных морях уже более 30 лет и прошел их вдоль и поперек. На своем веку он видел много чудес, много знает и рассказывает интересно. Покружив полжизни около Камчатки и Курильских островов, он, пожалуй, с большим правом, чем Отелло, мог бы говорить о «бесплоднейших пустынях, страшных безднах, утесах неприступных». Я обязан ему многими сведениями, пригодившимися мне для этих записок. У него три помощника: г. Б., племянник известного астронома Б., и два шведа – Иван Мартыныч и Иван Вениаминыч, добрые и приветливые люди.
8 июля, перед обедом, «Байкал» снялся с якоря. С нами шли сотни три солдат под командой офицера и несколько арестантов. Одного арестанта сопровождала пятилетняя девочка, его дочь, которая, когда он поднимался по трапу, держалась за его кандалы. Была, между прочим, одна каторжная, обращавшая на себя внимание тем, что за нею добровольно следовал на каторгу ее муж.[1] Кроме меня и офицера, было еще несколько классных пассажиров обоего пола и, между прочим, даже одна баронесса. Читатель пусть не удивляется такому изобилию интеллигентных людей здесь, в пустыне. По Амуру и в Приморской области интеллигенция при небольшом вообще населении составляет немалый процент, и ее здесь относительно больше, чем в любой русской губернии. На Амуре есть город, где одних лишь генералов, военных и штатских, насчитывают 16. Теперь их там, быть может, еще больше.
День был тихий и ясный. На палубе жарко, в каютах душно; в воде +18°. Такую погоду хоть Черному морю впору. На правом берегу горел лес; сплошная зеленая масса выбрасывала из себя багровое пламя; клубы дыма слились в длинную, черную, неподвижную полосу, которая висит над лесом… Пожар громадный, но кругом тишина и спокойствие, никому нет дела до того, что гибнут леса. Очевидно, зеленое богатство принадлежит здесь одному только богу.
После обеда, часов в шесть, мы уже были у мыса Пронге. Тут кончается Азия, и можно было бы сказать, что в этом месте Амур впадает в Великий океан, если бы поперек не стоял о. Сахалин. Перед глазами широко расстилается Лиман, впереди чуть видна туманная полоса – это каторжный остров; налево, теряясь в собственных извилинах, исчезает во мгле берег, уходящий в неведомый север. Кажется, что тут конец света и что дальше уже некуда плыть. Душой овладевает чувство, какое, вероятно, испытывал Одиссей, когда плавал по незнакомому морю и смутно предчувствовал встречи с необыкновенными существами. И в самом деле, справа, при самом повороте в Лиман, где на отмели приютилась гиляцкая деревушка, на двух лодках несутся к нам какие-то странные существа, вопят на непонятном языке и чем-то машут. Трудно понять, что у них в руках, но когда они подплывают поближе, я различаю серых птиц.
– Это они хотят продать нам битых гусей, – объясняет кто-то.
Поворачиваем направо. На всем нашем пути поставлены знаки, показывающие фарватер. Командир не сходит с мостика, и механик не выходит из машины; «Байкал» начинает идти всё тише и тише и идет точно ощупью. Осторожность нужна большая, так как здесь нетрудно сесть на мель. Пароход сидит 12 1/2 местами же ему приходится идти 14 фут., и был даже момент, когда нам послышалось, как он прополз килем по песку. Вот этот-то мелкий фарватер и особенная картина, какую дают вместе Татарский и Сахалинский берега, послужили главною причиной тому, что Сахалин долго считали в Европе полуостровом. В 1787 г., в июне, известный французский мореплаватель, граф Лаперуз, высадился на западном берегу Сахалина, выше 48°, и говорил тут с туземцами. Судя по описанию, которое он оставил, на берегу застал он не одних только живших здесь айно, но и приехавших к ним торговать гиляков, людей бывалых, хорошо знакомых и с Сахалином и с Татарским берегом. Чертя на песке, они объяснили ему, что земля, на которой они живут, есть остров и что остров этот отделяется от материка и Иессо (Японии) проливами.[2] Затем, плывя дальше на север вдоль западного берега, он рассчитывал, что найдет выход из Северо-Японского моря в Охотское и тем значительно сократит свой путь в Камчатку; но чем выше подвигался он, тем пролив становился всё мельче и мельче. Глубина уменьшалась через каждую милю на одну сажень. Плыл он к северу до тех пор, пока ему позволяли размеры его корабля, и, дойдя до глубины 9 сажен, остановился. Постепенное равномерное повышение дна и то, что в проливе течение было почти незаметно, привели его к убеждению, что он находится не в проливе, а в заливе и что, стало быть, Сахалин соединен с материком перешейком. В де-Кастри у него еще раз происходило совещание с гиляками. Когда он начертил им на бумаге остров, отделенный от материка, то один из них взял у него карандаш и, проведя через пролив черту, пояснил, что через этот перешеек гилякам приходится иногда перетаскивать свои лодки и что на нем даже растет трава, – так понял Лаперуз. Это еще крепче убедило его, что Сахалин – полуостров.[3] Девятью годами позже его в Татарском проливе был англичанин В. Браутон (Broughton). Судно у него было небольшое, сидевшее в воде не глубже 9 фут., так что ему удалось пройти несколько выше Лаперуза. Остановившись на глубине двух сажен, он послал к северу для промера своего помощника; этот на пути своем встречал среди мелей глубины, но они постепенно уменьшались и приводили его то к сахалинскому берегу, то к низменным песчаным берегам другой стороны, и при этом получалась такая картина, как будто оба берега сливались; казалось, залив оканчивался здесь и никакого прохода не было. Таким образом, и Браутон должен был заключить то же самое, что Лаперуз.
Наш знаменитый Крузенштерн, исследовавший берега острова в 1805 г., впал в ту же ошибку. Плыл он к Сахалину уже с предвзятою мыслью, так как пользовался картою Лаперуза. Он прошел вдоль восточного берега и, обогнув северные мысы Сахалина, вступил в самый пролив, держась направления с севера на юг, и, казалось, был уже совсем близок к разрешению загадки, но постепенное уменьшение глубины до 3 1/2 сажен, удельный вес воды, а главное, предвзятая мысль заставили и его признать существование перешейка, которого он не видел. Но его все-таки точил червь сомнения. «Весьма вероятно, – пишет он, – что Сахалин был некогда, а может быть, еще в недавние времена, островом». Возвращался он назад, по-видимому, с неспокойною душой: когда в Китае впервые попались ему на глаза записки Браутона, то он «обрадовался немало».[4] Ошибка была исправлена в 1849 году Невельским. Авторитет его предшественников, однако, был еще так велик, что когда он донес о своих открытиях в Петербург, то ему не поверили, сочли его поступок дерзким и подлежащим наказанию и «заключили» его разжаловать, и неизвестно, к чему бы это повело, если бы не заступничество самого государя, который нашел его поступок молодецким, благородным и патриотическим.[5] Это был энергический, горячего темперамента человек, образованный, самоотверженный, гуманный, до мозга костей проникнутый идеей и преданный ей фанатически, чистый нравственно. Один из знавших его пишет: «Более честного человека мне не случалось встречать». На восточном побережье и на Сахалине он сделал себе блестящую карьеру в какие-нибудь пять лет, но потерял дочь, которая умерла от голода, состарился, состарилась и потеряла здоровье его жена, «молоденькая, хорошенькая и приветливая женщина», переносившая все лишения геройски.[6] Чтобы покончить с вопросом о перешейке и полуострове, считаю не лишним сообщить еще некоторые подробности. В 1710 г. пекинскими миссионерами, по поручению китайского императора, была начертана карта Татарии; при составлении ее миссионеры пользовались японскими картами, и это очевидно, так как в то время о проходимости Лаперузова и Татарского проливов могло быть известно только японцам. Она была прислана во Францию и стала известною, потому что вошла в атлас географа д’Анвилля.[7] Эта карта послужила поводом к небольшому недоразумению, которому Сахалин обязан своим названием. У западного берега Сахалина, как раз против устья Амура, на карте есть надпись, сделанная миссионерами: «Saghalien-angahata», что по-монгольски значит «скалы черной реки». Это название относилось, вероятно, к какому-либо утесу или мысу у устья Амура, во Франции же поняли иначе и отнесли к самому острову. Отсюда и название Сахалин, удержанное Крузенштерном и для русских карт. У японцев Сахалин называли Карафто или Карафту, что значит китайский остров.
Работы японцев попадали в Европу или слишком поздно, когда в них уже не нуждались, или же подвергались неудачным поправкам. На карте миссионеров Сахалин имел вид острова, но д’Анвилль отнесся к ней с недоверием и положил между островом и материком перешеек. Японцы первые стали исследовать Сахалин, начиная с 1613 г., но в Европе придавали этому так мало значения, что когда впоследствии русские и японцы решали вопрос о том, кому принадлежит Сахалин, то о праве первого исследования говорили и писали только одни русские.[8] Давно уже на очереди новое, возможно тщательное исследование берегов Татарии и Сахалина. Теперешние карты неудовлетворительны, что видно хотя бы из того, что суда, военные и коммерческие, часто садятся на мель и на камни, гораздо чаще, чем об этом пишут в газетах. Благодаря, главным образом, плохим картам командиры судов здесь очень осторожны, мнительны и нервны. Командир «Байкала» не доверяет официальной карте и смотрит в свою собственную, которую сам чертит и исправляет во время плавания.
Чтобы не сесть на мель, г. Л. не решился плыть ночью, и мы после захода солнца бросили якорь у мыса Джаоре. На самом мысу, на горе, стоит одиноко избушка, в которой живет морской офицер г. Б., ставящий знаки на фарватере и имеющий надзор за ними, а за избушкой непроходимая дремучая тайга. Командир послал г. Б. свежего мяса; я воспользовался этим случаем и поплыл на шлюпке к берегу. Вместо пристани куча больших скользких камней, по которым пришлось прыгать, а на гору к избе ведет ряд ступеней из бревнышек, врытых в землю почти отвесно, так что, поднимаясь, надо крепко держаться руками. Но какой ужас! Пока я взбирался на гору и подходил к избе, меня окружали тучи комаров, буквально тучи, было темно от них, лицо и руки мои жгло, и не было возможности защищаться. Я думаю, что если здесь остаться ночевать под открытым небом, не окружив себя кострами, то можно погибнуть или, по меньшей мере, сойти с ума.
Изба разделяется сенями на две половины: налево живут матросы, направо – офицер с семьей. Хозяина дома не было. Я застал изящно одетую, интеллигентную даму, его жену, и двух дочерей, маленьких девочек, искусанных комарами. В комнатах все стены покрыты еловою зеленью, окна затянуты марлей, пахнет дымом, но комары, несмотря ни на что, все-таки есть и жалят бедных девочек. В комнате обстановка не богатая, лагерная, но в убранстве чувствуется что-то милое, вкусное. На стене висят этюды и, между прочим, женская головка, набросанная карандашом. Оказывается, что г. Б. – художник.
– Хорошо ли вам тут живется? – спрашиваю я даму.
– Хорошо, да вот только комары.
Свежему мясу она не обрадовалась; по ее словам, она и дети давно уже привыкли к солонине и свежего мяса не любят.
– Впрочем, вчера варили форелей, – добавила она.
Провожал меня до шлюпки угрюмый матрос, который, как будто догадавшись, о чем мне хочется спросить его, вздохнул и сказал:
– По доброй воле сюда не заедешь!
На другой день рано утром пошли дальше при совершенно тихой и теплой погоде. Татарский берег горист и изобилует пиками, то есть острыми, коническими вершинами. Он слегка подернут синеватою мглой: это дым от далеких лесных пожаров, который здесь, как говорят, бывает иногда так густ, что становится опасен для моряков не меньше, чем туман. Если бы птица полетела напрямик с моря через горы, то, наверное, не встретила бы ни одного жилья, ни одной живой души на расстоянии пятисот верст и больше… Берег весело зеленеет на солнце и, по-видимому, прекрасно обходится без человека. В шесть часов были в самом узком месте пролива, между мысами Погоби и Лазарева, и очень близко видели оба берега, в восемь проходили мимо Шапки Невельского – так называется гора с бугром на вершине, похожим на шапку. Утро было яркое, блестящее, и наслаждение, которое я испытывал, усиливалось еще от гордого сознания, что я вижу эти берега.
Во втором часу вошли в бухту де-Кастри. Это единственное место, где могут во время бури укрываться суда, плавающие по проливу, и не будь ее, судоходство у сахалинских берегов, которые сплошь негостеприимны, было бы немыслимо.[9] Даже есть такое выражение: «удирать в де-Кастри». Бухта прекрасная и устроена природой точно по заказу. Это круглый пруд, версты три в диаметре, с высокими берегами, защищающими от ветров, с нешироким выходом в море. Если судить по наружному виду, то бухта идеальная, но, увы! – это только кажется так; семь месяцев в году она бывает покрыта льдом, мало защищена от восточного ветра и так мелка, что пароходы бросают якорь в двух верстах от берега. Выход в море сторожат три острова, или, вернее, рифа, придающие бухте своеобразную красоту; один из них назван Устричным: очень крупные и жирные устрицы водятся на его подводной части.
На берегу несколько домиков и церковь. Это Александровский пост. Тут живут начальник поста, его делопроизводитель и телеграфисты. Один местный чиновник, приезжавший к нам на пароход обедать, скучный и скучающий господин, много говорил за обедом, много пил и рассказал нам старый анекдот про гусей, которые, наевшись ягод из-под наливки и опьяневши, были приняты за мертвых, ощипаны и выброшены вон и потом, проспавшись, голые вернулись домой; при этом чиновник побожился, что история с гусями происходила в де-Кастри в его собственном дворе. Священника при церкви нет, и он, когда нужно, приезжает из Мариинска. Хорошая погода бывает здесь очень редко, так же как в Николаевске. Говорят, что весною этого года здесь работала промерная экспедиция и во весь май было только три солнечных дня. Извольте работать без солнца!
На рейде мы застали военные суда «Бобр» и «Тунгус» и две миноноски. Вспоминается и еще одна подробность: едва мы бросили якорь, как потемнело небо, собралась гроза и вода приняла необыкновенный, ярко-зеленый цвет. «Байкалу» предстояло выгрузить четыре тысячи пудов казенного груза, и потому остались в де-Кастри ночевать. Чтобы скоротать время, я и механик удили с палубы рыбу, и нам попадались очень крупные, толстоголовые бычки, каких мне не приходилось ловить ни в Черном, ни в Азовском море. Попадалась и камбала.
Выгружают здесь пароходы всегда томительно долго, с раздражением и порчей крови. Впрочем, это горькая участь всех наших восточных портов. В де-Кастри выгружают на небольшие баржи-шаланды, которые могут приставать к берегу только во время прилива и потому нагруженные часто садятся на мель; случается, что благодаря этому пароход простаивает из-за какой-нибудь сотни мешков муки весь промежуток времени между отливом и приливом. В Николаевске беспорядков еще больше. Там, стоя на палубе «Байкала», я видел, как буксирный пароход, тащивший большую баржу с двумя сотнями солдат, утерял свой буксирный канат; баржу понесло течением по рейду, и она пошла прямо на якорную цепь парусного судна, стоявшего недалеко от нас. Мы с замиранием сердца ждали, что вот еще один момент и баржа будет перерезана цепью, но, к счастью, добрые люди вовремя перехватили канат, и солдаты отделались одним только испугом.
Страница 1 из 10
I
Г. Николаевск-на-Амуре. — Пароход «Байкал». — Мыс Пронге и вход в Лиман. — Сахалин полуостров. — Лаперуз, Браутон, Крузенштерн и Невельской. — Японские исследователи. — Мыс Джаоре. — Татарский берег. — Де-Кастри.

Николаевск был основан не так давно, в 1850 г., известным Геннадием Невельским {1}, и это едва ли не единственное светлое место в истории города. В пятидесятые и шестидесятые годы, когда по Амуру, не щадя солдат, арестантов и переселенцев, насаждали культуру, в Николаевске имели свое пребывание чиновники, управлявшие краем, наезжало сюда много всяких русских и иностранных авантюристов, селились поселенцы, прельщаемые необычайным изобилием рыбы и зверя, и, по-видимому, город не был чужд человеческих интересов, так как был даже случай, что один заезжий ученый нашел нужным и возможным прочесть здесь в клубе публичную лекцию {2}. Теперь же почти половина домов покинута своими хозяевами, полуразрушена, и темные окна без рам глядят на вас, как глазные впадины черепа. Обыватели ведут сонную, пьяную жизнь и вообще живут впроголодь, чем бог послал. Пробавляются поставками рыбы на Сахалин, золотым хищничеством, эксплуатацией инородцев, продажей понтов, то есть оленьих рогов, из которых китайцы приготовляют возбудительные пилюли. На пути от Хабаровки {3} до Николаевска мне приходилось встречать немало контрабандистов; здесь они не скрывают своей профессии. Один из них, показывавший мне золотой песок и пару понтов, сказал мне с гордостью: «И мой отец был контрабандист!» Эксплуатация инородцев, кроме обычного спаивания, одурачения и т.п., выражается иногда в оригинальной форме. Так, николаевский купец Иванов, ныне покойный, каждое лето ездил на Сахалин и брал там с гиляков дань, а неисправных плательщиков истязал и вешал.
Гостиницы в городе нет. В общественном собрании мне позволили отдохнуть после обеда в зале с низким потолком — тут зимою, говорят, даются балы; на вопрос же мой, где я могу переночевать, только пожали плечами. Делать нечего, пришлось две ночи провести на пароходе; когда же он ушел назад в Хабаровку, я очутился как рак на мели: камо пойду? Багаж мой на пристани; я хожу по берегу и не знаю, что с собой делать. Как раз против города, в двух-трех верстах от берега, стоит пароход «Байкал», на котором я пойду в Татарский пролив, но говорят, что он отойдет дня через четыре или пять, не раньше, хотя на его мачте уже развевается отходный флаг. Разве взять и поехать на «Байкал»? Но неловко: пожалуй, не пустят, — скажут, рано. Подул ветер, Амур нахмурился и заволновался, как море. Становится тоскливо. Иду в собрание, долго обедаю там и слушаю, как за соседним столом говорят о золоте, о понтах, о фокуснике, приезжавшем в Николаевск, о каком-то японце, дергающем зубы не щипцами, а просто пальцами. Если внимательно и долго прислушиваться, то, боже мой, как далека здешняя жизнь от России! Начиная с балыка из кеты, которым закусывают здесь водку, и кончая разговорами, во всем чувствуется что-то свое собственное, не русское. Пока я плыл по Амуру, у меня было такое чувство, как будто я не в России, а где-то в Патагонии или Техасе; не говоря уже об оригинальной, не русской природе, мне все время казалось, что склад нашей русской жизни совершенно чужд коренным амурцам, что Пушкин и Гоголь тут непонятны и потому не нужны, наша история скучна И мы, приезжие из России, кажемся иностранцами. В отношении религиозном и политическом я замечал здесь полнейшее равнодушие. Священники, которых я видел на Амуре, едят в пост скоромное, и, между прочим, про одного из них, в белом шелковом кафтане, мне рассказывали, что он занимается золотым хищничеством, соперничая со своими духовными чадами. Если хотите заставить амурца скучать и зевать, то заговорите с ним о политике, о русском правительстве, о русском искусстве. И нравственность здесь какая-то особенная, не наша. Рыцарское обращение с женщиной возводится почти в культ и в то же время не считается предосудительным уступить за деньги приятелю свою жену; или вот еще лучше: с одной стороны, отсутствие сословных предрассудков — здесь и с ссыльным держат себя, как с ровней, а с другой — не грех подстрелить в лесу китайца-бродягу, как собаку, или даже поохотиться тайком на горбачиков.
Но буду продолжать о себе. Не найдя приюта, я под вечер решился отправиться на «Байкал». Но тут новая беда: развело порядочную зыбь, и лодочники-гиляки не соглашаются везти ни за какие деньги. Опять я хожу по берегу и не знаю, что с собой делать. Между тем уже заходит солнце, и волны на Амуре темнеют. На этом и на том берегу неистово воют гиляцкие собаки. И зачем я сюда поехал? — спрашиваю я себя, и мое путешествие представляется мне крайне легкомысленным. И мысль, что каторга уже близка, что через несколько дней я высажусь на сахалинскую почву, не имея с собой ни одного рекомендательного письма, что меня могут попросить уехать обратно, — эта мысль неприятно волнует меня. Но вот наконец два гиляка соглашаются везти меня за рубль, и на лодке, сбитой из трех досок, я благополучно достигаю «Байкала».
Это пароход морского типа средней величины, купец, показавшийся мне после байкальских и амурских пароходов довольно сносным. Он совершает рейсы между Николаевском, Владивостоком и японскими портами, возит почту, солдат, арестантов, пассажиров и грузы, главным образом казенные; по контракту, заключенному с казной, которая платит ему солидную субсидию, он обязан несколько раз в течение лета заходить на Сахалин: в Александровский пост и в южный Корсаковский. Тариф очень высокий, какого, вероятно, нет нигде в свете. Колонизация, которая прежде всего требует свободы и легкости передвижения, и высокие тарифы это уж совсем Непонятно. Кают-компания и каюты на «Байкале» тесны, но чисты и обставлены вполне по-европейски; есть пианино. Прислуга тут — китайцы с длинными косами, их называют по-английски — бой. Повар тоже китаец, но кухня у него русская, хотя все кушанья бывают горьки от пряного кери и пахнут какими-то духами, вроде корилопсиса.
Начитавшись о бурях и льдах Татарского пролива, я ожидал встретить на «Байкале» китобоев с хриплыми голосами, брызгающих при разговоре табачною жвачкой, в действительности же нашел людей вполне интеллигентных. Командир парохода г. Л. {4}, уроженец западного края, плавает в северных морях уже более 30 лет и прошел их вдоль и поперек. На своем веку он видел много чудес, много знает и рассказывает интересно. Покружив полжизни около Камчатки и Курильских островов, он, пожалуй, с большим правом, чем Отелло, мог бы говорить о «бесплоднейших пустынях, страшных безднах, утесах неприступных» {5}. Я обязан ему многими сведениями, пригодившимися мне для этих записок. У него три помощника: г. Б., племянник известного астронома Б., и два шведа — Иван Мартыныч и Иван Вениаминыч {6}, добрые и приветливые люди.
8 июля, перед обедом, «Байкал» снялся с якоря. С нами шли сотни три солдат под командой офицера и несколько арестантов. Одного арестанта сопровождала пятилетняя девочка, его дочь, которая, когда он поднимался по трапу, держалась за его кандалы. Была, между прочим, одна каторжная, обращавшая на себя внимание тем, что за нею добровольно следовал на каторгу ее муж {7}. Кроме меня и офицера, было еще несколько классных пассажиров обоего пола и, между прочим, даже одна баронесса. Читатель пусть не удивляется такому изобилию интеллигентных людей здесь, в пустыне. По Амуру и в Приморской области интеллигенция при небольшом вообще населении составляет немалый процент, и ее здесь относительно больше, чем в любой русской губернии. На Амуре есть город, где одних лишь генералов, военных и штатских, насчитывают 16. Теперь их там, быть может, еще больше.
День был тихий и ясный. На палубе жарко, в каютах душно; в воде +18o. Такую погоду хоть Черному морю впору. На правом берегу горел лес; сплошная зеленая масса выбрасывала из себя багровое пламя; клубы дыма слились в длинную, черную, неподвижную полосу, которая висит над лесом… Пожар громадный, но кругом тишина и спокойствие, никому нет дела до того, что гибнут леса. Очевидно, зеленое богатство принадлежит здесь одному только богу.
После обеда, часов в шесть, мы уже были у мыса Пронге. Тут кончается Азия, и можно было бы сказать, что в этом месте Амур впадает в Великий океан, если бы поперек не стоял о. Сахалин. Перед глазами широко расстилается Лиман, впереди чуть видна туманная полоса — это каторжный остров; налево, теряясь в собственных извилинах, исчезает во мгле берег, уходящий в неведомый север. Кажется, что тут конец света и что дальше уже некуда плыть. Душой овладевает чувство, какое, вероятно, испытывал Одиссей, когда плавал по незнакомому морю и смутно предчувствовал встречи с необыкновенными существами. И в самом деле, справа, при самом повороте в Лиман, где на отмели приютилась гиляцкая деревушка, на двух лодках несутся к нам какие-то странные существа, вопят на непонятном языке и чем-то машут. Трудно понять, что у них в руках, но когда они подплывают поближе, я различаю серых птиц.
— Это они хотят продать нам битых гусей, — объясняет кто-то.
Поворачиваем направо. На всем нашем пути поставлены знаки, показывающие фарватер. Командир не сходит с мостика, и механик не выходит из машины; «Байкал» начинает идти все тише и тише и идет точно ощупью. Осторожность нужна большая, так как здесь нетрудно сесть на мель. Пароход сидит 121/2, местами же ему приходится идти 14 фут., и был даже момент, когда нам послышалось, как он прополз килем по песку. Вот этот-то мелкий фарватер и особенная картина, какую дают вместе Татарский и Сахалинский берега, послужили главною причиной тому, что Сахалин долго считали в Европе полуостровом. В 1787 г., в июне, известный французский мореплаватель, граф Лаперуз {8}, высадился на западном берегу Сахалина, выше 48o, и говорил тут с туземцами. Судя по описанию, которое он оставил, на берегу застал он не одних только живших здесь айно, но и приехавших к ним торговать гиляков, людей бывалых, хорошо знакомых и с Сахалином и с Татарским берегом. Чертя на песке, они объяснили ему, что земля, на которой они живут, есть остров и что остров этот отделяется от материка и Иессо (Японии) проливами {9}. Затем, плывя дальше на север вдоль западного берега, он рассчитывал, что найдет выход из Северо-Японского моря в Охотское и тем значительно сократит свой путь в Камчатку; но чем выше подвигался он, тем пролив становился все мельче и мельче. Глубина уменьшалась через каждую милю на одну сажень. Плыл он к северу до тех пор, пока ему позволяли размеры его корабля, и, дойдя до глубины 9 сажен, остановился. Постепенно равномерное повышение дна и то, что в проливе течение было почти незаметно, привели его к убеждению, что он находится не в проливе, а в заливе и что, стало быть, Сахалин соединен с материком перешейком. В де-Кастри у него еще раз происходило совещание с гиляками. Когда он начертил им на бумаге остров, отделенный от материка, то один из них взял у него карандаш и, проведя через пролив черту, пояснил, что через этот перешеек гилякам приходится иногда перетаскивать свои лодки и что на нем даже растет трава, — так понял Лаперуз. Это еще крепче убедило его, что Сахалин — полуостров {10}.
Девятью годами позже его в Татарском проливе был англичанин В. Браутон (Broughton). Судно у него было небольшое, сидевшее в воде не глубже 9 фут., так что ему удалось пройти несколько выше Лаперуза. Остановившись на глубине двух сажен, он послал к северу для промера своего помощника; этот на пути своем встречал среди мелей глубины, но они постепенно уменьшались и приводили его то к сахалинскому берегу, то к низменным песчаным берегам другой стороны, и при этом получалась такая картина, как будто оба берега сливались; казалось, залив оканчивался здесь и никакого прохода не было. Таким образом, и Браутон должен был заключить то же самое, что Лаперуз.
Наш знаменитый Крузенштерн {11}, исследовавший берега острова в 1805 г., впал в ту же ошибку. Плыл он к Сахалину уже с предвзятою мыслью, так как пользовался картою Лаперуза. Он прошел вдоль восточного берега, и, обогнув северные мысы Сахалина, вступил в самый пролив, держась направления с севера на юг, и, казалось, был уже совсем близок к разрешению загадки, но постепенное уменьшение глубины до 3 1/2 сажен, удельный вес воды, а главное, предвзятая мысль заставили и его признать существование перешейка, которого он не видел. Но его все-таки точил червь сомнения. «Весьма вероятно, — пишет он, — что Сахалин был некогда, а может быть, еще в недавние времена, островом». Возвращался он назад, по-видимому, с неспокойною душой: когда в Китае впервые попались ему на глаза записки Браутона, то он «обрадовался немало» {12}.
Ошибка была исправлена в 1849 году Невельским. Авторитет его предшественников, однако, был еще так велик, что когда он донес о своих открытиях в Петербург, то ему не поверили, сочли его поступок дерзким и подлежащим наказанию и «заключили» его разжаловать, и неизвестно, к чему бы это повело, если бы не заступничество самого государя {13}, который нашел его поступок молодецким, благородным и патриотическим {14}. Это был энергический, горячего темперамента человек, образованный, самоотверженный, гуманный, до мозга костей проникнутый идеей и преданный ей фанатически, чистый нравственно. Один из знавших его пишет: «Более честного человека мне не случалось встречать». На восточном побережье и на Сахалине он сделал себе блестящую карьеру в какие-нибудь пять лет, но потерял дочь, которая умерла от голода, состарился, состарилась и потеряла здоровье его жена, «молоденькая, хорошенькая и приветливая женщина», переносившая все лишения геройски {15}.
Чтобы покончить с вопросом о перешейке и полуострове, считаю не лишним сообщить еще некоторые подробности. В 1710 г. пекинскими миссионерами, по поручению китайского императора, была начертана карта Татарии; при составлении ее миссионеры пользовались японскими картами, и это очевидно, так как в то время о проходимости Лаперузова и Татарского проливов могло быть известно только японцам. Она была прислана во Францию и стала известною, потому что вошла в атлас географа д’Анвилля {16}. Эта карта послужила поводом к небольшому недоразумению, которому Сахалин обязан своим названием. У западного берега Сахалина, как раз против устья Амура, на карте есть надпись, сделанная миссионерами: «Saghalien-angahalа», что по-монгольски значит «скалы черной реки». Это название относилось, вероятно, к какому-либо утесу или мысу у устья Амура, во Франции же поняли иначе и отнесли к самому острову. Отсюда и название Сахалин, удержанное Крузенштерном и для русских карт. У японцев Сахалин называли Карафто или Карафту, что значит китайский остров.
Работы японцев попадали в Европу или слишком поздно, когда в них уже не нуждались, или же подвергались неудачным поправкам. На карте миссионеров Сахалин имел вид острова, но д’Анвилль отнесся к ней с недоверием и положил между островом и материком перешеек. Японцы первые стали исследовать Сахалин, начиная с 1613 г., но в Европе придавали этому так мало значения, что когда впоследствии русские и японцы решали вопрос о том, кому принадлежит Сахалин, то о праве первого исследования говорили и писали только одни русские {17}.
Давно уже на очереди новое, возможно тщательное исследование берегов Татарии и Сахалина. Теперешние карты неудовлетворительны, что видно хотя бы из того, что суда, военные и коммерческие, часто садятся на мель и на камни, гораздо чаще, чем об этом пишут в газетах. Благодаря, главным образом, плохим картам командиры судов здесь очень осторожны, мнительны и нервны. Командир «Байкала» не доверяет официальной карте и смотрит в свою собственную, которую сам чертит и исправляет во время плавания.
Чтобы не сесть на мель, г. Л. не решился плыть ночью, и мы после захода солнца бросили якорь у мыса Джаоре. На самом мысу, на горе, стоит одиноко избушка, в которой живет морской офицер г. Б., ставящий знаки на фарватере и имеющий надзор за ними, а за избушкой непроходимая дремучая тайга. Командир послал г. Б. свежего мяса; я воспользовался этим случаем и поплыл на шлюпке к берегу. Вместо пристани куча больших скользких камней, по которым пришлось прыгать, а на гору к избе ведет ряд ступеней из бревнышек, врытых в землю почти отвесно, так что, поднимаясь, надо крепко держаться руками. Но какой ужас! Пока я взбирался на гору и подходил к избе, меня окружали тучи комаров, буквально тучи, было темно от них, лицо и руки мои жгло, и не было возможности защищаться. Я думаю, что если здесь остаться ночевать под открытым небом, не окружив себя кострами, то можно погибнуть или, по меньшей мере, сойти с ума.
Изба разделяется сенями на две половины: налево живут матросы, направо — офицер с семьей. Хозяина дома не было. Я застал изящно одетую, интеллигентную даму, его жену, и двух дочерей, маленьких девочек, искусанных комарами. В комнатах все стены покрыты еловою зеленью, окна затянуты марлей, пахнет дымом, но комары, несмотря ни на что, все-таки есть и жалят бедных девочек. В комнате обстановка не богатая, лагерная, но в убранстве чувствуется что-то милое, вкусное. На стене висят этюды и, между прочим, женская головка, набросанная карандашом. Оказывается, что г. Б. — художник.
— Хорошо ли вам тут живется? — спрашиваю я даму.
— Хорошо, да вот только комары.
Свежему мясу она не обрадовалась; по ее словам, она и дети давно уже привыкли к солонине и свежего мяса не любят.
— Впрочем, вчера варили форелей, — добавила она.
Провожал меня до шлюпки угрюмый матрос, который, как будто догадавшись, о чем мне хочется спросить его, вздохнул и сказал:
— По доброй воле сюда не заедешь!
На другой день рано утром пошли дальше при совершенно тихой и теплой погоде. Татарский берег горист и изобилует пиками, то есть острыми, коническими вершинами. Он слегка подернут синеватою мглой: это дым от далеких лесных пожаров, который здесь, как говорят, бывает иногда так густ, что становится опасен для моряков не меньше, чем туман. Если бы птица полетела напрямик с моря через горы, то, наверное, не встретила бы ни одного жилья, ни одной живой души на расстоянии пятисот верст и больше… Берег весело зеленеет на солнце и, по-видимому, прекрасно обходится без человека. В шесть часов были в самом узком месте пролива, между мысами Погоби и Лазарева, и очень близко видели оба берега, в восемь проходили мимо Шапки Невельского — так называется гора с бугром на вершине, похожим на шапку. Утро было яркое, блестящее, и наслаждение, которое я испытывал, усиливалось еще от гордого сознания, что я вижу эти берега.
Во втором часу вошли в бухту де-Кастри. Это единственное место, где могут во время бури укрываться суда, плавающие по проливу, и не будь ее, судоходство у сахалинских берегов, которые сплошь негостеприимны, было бы немыслимо {18}. Даже есть такое выражение: «удирать в де-Кастри». Бухта прекрасная и устроена природой точно по заказу. Это круглый пруд, версты три в диаметре, с высокими берегами, защищающими от ветров, с нешироким выходом в море. Если судить по наружному виду, то бухта идеальная, но, увы! — это только кажется так; семь месяцев в году она бывает покрыта льдом, мало защищена от восточного ветра и так мелка, что пароходы бросают якорь в двух верстах от берега. Выход в море сторожат три острова, или, вернее, рифа, придающие бухте своеобразную красоту; один из них назван Устричным: очень крупные и жирные устрицы водятся на его подводной части.
На берегу несколько домиков и церковь. Это Александровский пост. Тут живут начальник поста, его делопроизводитель и телеграфисты. Один местный чиновник, приезжавший к нам на пароход обедать, скучный и скучающий господин, много говорил за обедом, много пил и рассказал нам старый анекдот про гусей, которые, наевшись ягод из-под наливки и опьяневши, были приняты за мертвых, ощипаны и выброшены вон и потом, проспавшись, голые вернулись домой; при этом чиновник побожился, что история с гусями происходила в де-Кастри в его собственном дворе. Священника при церкви нет, и он, когда нужно, приезжает из Мариинска. Хорошая погода бывает здесь очень редко, так же как в Николаевске. Говорят, что весною этого года здесь работала промерная экспедиция и во весь май было только три солнечных дня. Извольте работать без солнца!
На рейде мы застали военные суда «Бобр» и «Тунгус» и две миноноски. Вспоминается и еще одна подробность: едва мы бросили якорь, как потемнело небо, собралась гроза и вода приняла необыкновенный, ярко-зеленый цвет. «Байкалу» предстояло выгрузить четыре тысячи пудов казенного груза, и потому остались в де-Кастри ночевать. Чтобы скоротать время, я и механик удили с палубы рыбу, и нам попадались очень крупные, толстоголовые бычки, каких мне не приходилось ловить ни в Черном, ни в Азовском море. Попадалась и камбала.
Выгружают здесь пароходы всегда томительно долго, с раздражением и порчей крови. Впрочем, это горькая участь всех наших восточных портов. В де-Кастри выгружают на небольшие баржи-шаланды, которые могут приставать к берегу только во время прилива и потому нагруженные часто садятся на мель; случается, что благодаря этому пароход простаивает из-за какой-нибудь сотни мешков муки весь промежуток времени между отливом и приливом. В Николаевске беспорядков еще больше. Там, стоя на палубе «Байкала», я видел, как буксирный пароход, тащивший большую баржу с двумя сотнями солдат, утерял свой буксирный канат; баржу понесло течением по рейду, и она пошла прямо на якорную цепь парусного судна, стоявшего недалеко от нас. Мы с замиранием сердца ждали, что вот еще один момент и баржа будет перерезана цепью, но, к счастью, добрые люди вовремя перехватили канат, и солдаты отделались одним только испугом.
Сноски к первой главе
1 Невельской Геннадий Иванович (1813-1876) — русский адмирал, начальник Амурской экспедиции 1849-1855 гг., автор многократно цитируемой Чеховым книги «Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России. 1849-1855 гг…» (СПб., 1878).
2 …один заезжий ученый… публичную лекцию. — Имеется в виду академик Ф.Б. Шмидт (1832-1908), известный русский ботаник, геолог, палеонтолог; прочел в Николаевске две лекции о новых путешествиях и исследованиях на Амуре и Сахалине.
3 На пути от Хабаровки… — Город Хабаровск до октября 1893 г. назывался Хабаровка.
4 Командир парохода г. Л. — Пароходом «Байкал», на котором плыл Чехов, командовал Павел Густавович Лемошевский.
5 …Отелло… мог бы говорить о «…утесах неприступных». — Чехов цитирует трагедию В. Шекспира в переводе П.И. Вейнберга (изд. Суворина, СПб., 1886), акт. I, сцена 3.
6 У него три помощника: г. Б., племянник известного астронома Б. и два шведа — Иван Мартыныч и Иван Вениаминыч — г. Б. — Бредихин Ипполит Петрович, племянник директора Пулковской обсерватории Ф.А. Бредихина (1831-1904); Иван Mapтынович Эриксон — старший офицер «Байкала», состоял с Чеховым в переписке, последовавшей за их сахалинским знакомством; Иван Яковлевич (а не Вениаминович, как у Чехова) Аулин; некоторые сведения о нем сообщил Чехову И.М. Эриксон: «Аулин Иван Яковлевич… перешел в ту же осень, т.е. в 1890 г., командиром немецкого парохода «Аугустус»… и плавал на нем до весны 92 года… Он здоров и комик, как и раньше, по-русски говорит уже довольно сносно в как финляндец ужасный русофил» (ГБЛ, отдел рукописей).
7 На амурских пароходах и «Байкале» арестанты помещаются на палубе вместе с пассажирами III класса. Однажды, выйдя на рассвете прогуляться на бак, я увидел, как солдаты, женщины, дети, два китайца и арестанты в кандалах крепко спали, прижавшись друг к другу; их покрывала роса, и было прохладно. Конвойный стоял среди этой кучи тел, держась обеими руками за ружье, и тоже спал.
8 …французский мореплаватель, граф Лаперуз — Жак Франсуа Лаперуз (1741-1788) совершил несколько морских путешествий, среди которых наиболее известно кругосветное плавание 1785-1788 гг., во время которого он исследовал в числе прочего Камчатку и Сахалин; в честь Лаперуза назван пролив, отделяющий Сахалин от японского острова Хоккайдо.
9 Лаперуз пишет, что свой остров они называли Чоко, но, вероятно, название это гиляки относили к чему-нибудь другому, и он их не понял. На карте нашего Крашенинникова [Крашенинников Степан Петрович (1711-1755) — путешественник, академик, сподвижник М.В. Ломоносова, участник второй Камчатской экспедиции.] (1752 г.) на западной берегу Сахалина показана река Чуха. Не имеет ли эта Чуха чего-нибудь общего с Чоко? Кстати сказать, Лаперуз пишет, что, рисуя остров и называя его Чоко, гиляк нарисовал и речку. Чоко переводится словом «мы».
10 Тут кстати привести одно наблюдение Невельского: туземцы проводят обыкновенно между берегами черту для того, чтобы показать, что от берега к берегу можно проплыть на лодке, то есть что существует между берегами пролив.
11 Крузенштерн Иван Федорович (1770-1846) — выдающийся русский мореплаватель и общественный деятель, адмирал, почетный член Петербургской Академии наук, член-учредитель Русского географического общества. В 1802 г. был назначен начальником первой русской кругосветной экспедиции 1803-1806 гг., исследовавшей Сахалин, Камчатку, Курильские острова и Японию. В 1809-1812 гг. опубликовал трехтомный труд «Путешествие вокруг света в 1803, 4, 5 и 1806 годах на кораблях «Надежда» и «Нева»». В 1823-1826 гг. опубликовал 2-томный «Атлас Южного моря», содержащий историко-географический анализ разнообразных русских и иностранных географических исследований.
12 То обстоятельство, что трое серьезных исследователей, точно сговорившись, повторили одну и ту же ошибку, говорит уже само за себя. Если они не открыли входа в Амур, то потому, что имели в своем распоряжении самые скудные средства для исследования, а главное, — как гениальные люди, подозревали и почти угадывали другую правду и должны были считаться с ней. Что перешеек и полуостров Сахалин — не мифы, а существовали когда-то на самом деле, в настоящее время уже доказано.
Обстоятельная история исследования Сахалина имеется в книге А.М. Никольского «Остров Сахалин и его фауна позвоночных животных». В этой же книге можно найти и довольно подробный указатель литературы, относящейся к Сахалину.
13 …если бы не заступничество самого государя… — Чехов имел в виду нападки на Невельского министра иностранных дел и канцлера Нессельроде; в черновике Чехова есть заметка: «…и неизвестно, к чему бы еще повела мудрость судей [вроде Нессельроде]».
14 Подробности в его книге: «Подвиги русских морских офицеров на крайнем Востоке России. 1849-1855 гг.»
15 Жена Невельского, Екатерина Ивановна, когда ехала из России к мужу, сделала верхом 1100 верст в 23 дня, будучи больною, по топким болотам и диким гористым тайгам и ледникам охотского тракта. Самый даровитый сподвижник Невельского, Н.К. Бошняк, открывший Императорскую гавань, когда ему было еще только 20 лет, «мечтатель и дитя», — так называет его один из сослуживцев, — рассказывает в своих записках: «На транспорте «Байкал» мы все вместе перешли в Аян и там пересели на слабый барк «Шелехов». Когда барк стал тонуть, никто не мог уговорить г-жу Невельскую первую съехать на берег. «Командир и офицеры съезжают последними, — говорила она, — и я съеду с барка тогда, когда ни одной женщины и ребенка не останется на судне». Так она и поступила. Между тем барк уже лежал на боку…» Дальше Бошняк пишет, что, часто находясь в обществе г-жи Невельской, он с товарищами не слыхал ни одной жалобы или упрека, — напротив, всегда замечалось в ней спокойное и гордое сознание того горького, но высокого положения, которое предназначило ей провидение. Она проводила зиму обыкновенно одна, так как мужчины были в командировках, в комнатах с 5o тепла. Когда в 1852 г. из Камчатки не пришли суда с провиантом, то все находились в более чем отчаянном положении. Для грудных детей не было молока, больным не было свежей пищи, и несколько человек умерло от цинги. Невельская отдала свою единственную корову во всеобщее распоряжение; все, что было свежего, поступало в общую пользу. Обращалась она с туземцами просто и с таким вниманием, что это замечалось даже неотесанными дикарями, А ей было тогда только 19 лет (Лейт. Бошняк. Экспедиция в Приамурском крае. — «Морской сборник», 1859, 11). Об ее трогательном обращении с гиляками упоминает и ее муж в своих записках. «Екатерина Ивановна, — пишет он, — усаживала их (гиляков) в кружок на пол, около большой чашки с кашей или чаем, в единственной бывшей во флигеле у нас комнате, служившей и залом, и гостиной, и столовой. Они, наслаждаясь подобным угощением, весьма часто трепали хозяйку по плечу, посылая ее то за тамчи (табак), то за чаем».
16 «Nouvel Atlas de la Chine, de la Tartaire, Chinoise et de Thibei». 1737.
17 Японец, землемер Мамиа Ринзо, в 1808 г. путешествуя в лодке вдоль западного берега, побывал на Татарском берегу у самого устья Амура и не раз плавал с острова на материк и обратно. Он первый доказал, что Сахалин остров. Наш натуралист Ф. Шмидт отзывается с большою похвалой об его карте, находя, что она «особенно замечательна, так как, очевидно, основана на самостоятельных съемках».
18 О назначении этой бухты в настоящем и будущем см. К. Скальковского «Русская торговля в Тихом океане», стр. 75.
II
Краткая география. — Прибытие в Северный Сахалин. — Пожар. — Пристань. — В Слободке. — Обед у г. Л. — Знакомства. — Ген. Кононович. — Приезд генерал-губернатора. — Обед и иллюминация.
Сахалин лежит в Охотском море, загораживая собою от океана почти тысячу верст восточного берега Сибири и вход в устье Амура. Он имеет форму, удлиненную с севера на юг, и фигурою, по мнению одного из авторов, напоминает стерлядь. Географическое положение его определяется так: от 45o 54′ до 54o 53′ с.ш. и от 141o 40′ до 144o 53′ в.д. Северная часть Сахалина, через которую проходит линия вечно промерзлой почвы, по своему положению соответствует Рязанской губ, а южная — Крыму. Длина острова 900 верст; наибольшая его ширина равняется 125, и наименьшая 25 верстам. Он вдвое больше Греции и в полтора раза больше Дании.
Прежнее деление его на северный, средний и южный неудобно в практическом отношении, и теперь делят только на северный и южный. Верхняя треть острова по своим климатическим и почвенным условиям совершенно непригодна для поселения и потому в счет не идет; средняя треть называется Северным Сахалином, а нижняя — Южным; строго определенной границы между двумя последними не существует. Ссыльные в настоящее время живут в Северном, по реке Дуйке и по реке Тыми; Дуйка впадает в Татарский пролив, а Тымь — в Охотское море, и обе реки на карте встречаются своими верховьями. Живут также и по западному побережью, на небольшом пространстве вверх и вниз от устья Дуйки. В административном отношении Северный Сахалин делится на два округа: Александровский и Тымовский.
Переночевавши в де-Кастри, мы на другой день, 10 июля, в полдень пошли поперек Татарского пролива к устью Дуйки, где находится Александровский пост. Погода и в этот раз была тихая, ясная, какая здесь бывает очень редко. По совершенно гладкому морю, пуская вверх фонтаны, гуляли парочками киты, и это прекрасное, оригинальное зрелище развлекало нас на всем пути. Но настроение духа, признаюсь, было невеселое, и чем ближе к Сахалину, тем хуже. Я был непокоен. Офицер, сопровождавший солдат, узнав, зачем я еду на Сахалин, очень удивился и стал уверять меня, что я не имею никакого права подходить близко к каторге и колонии, так как я не состою на государственной службе. Конечно, я знал, что он не прав, но все же от слов его становилось мне жутко, и я боялся, что и на Сахалине, пожалуй, я встречу точно такой же взгляд.
Когда в девятом часу бросали якорь, на берегу В пяти местах большими кострами горела сахалинская тайга. Сквозь потемки и дым, стлавшийся по морю, я не видел пристани и построек и мог только разглядеть тусклые постовые огоньки, из которых два были красные. Страшная картина, грубо скроенная из потемок, силуэтов гор, дыма, пламени и огненных искр, казалась фантастическою. На левом плане горят чудовищные костры, выше них — горы, из-за гор поднимается высоко к небу багровое зарево от дальних пожаров; похоже, как будто горит весь Сахалин. Вправо темною тяжелою массой выдается в море мыс Жонкьер, похожий на крымский Аю-Даг; на вершине его ярко светится маяк, а внизу, в воде, между нами и берегом стоят три остроконечных рифа»Три брата». И все в дыму, как в аду.
К пароходу подошел катер, таща за собою на буксире баржу. Это привезли каторжных для разгрузки парохода. Слышались татарский говор и брань.
— Не пускать их на пароход! — раздался крик с борта. — Не пускать! Они ночью весь пароход обокрадут!
— Тут в Александровске еще ничего, — сказал мне механик, заметив, какое тяжелое впечатление произвел на меня берег, — а вот вы увидите Дуэ! Там берег совсем отвесный, с темными ущельями и с угольными пластами… мрачный берег! Бывало, мы возили на «Байкале» в Дуэ по 200-300 каторжных, так я видел, как многие из них при взгляде на берег плакали.
— Не они, а мы тут каторжные, — сказал с раздражением командир. — Теперь здесь тихо, но посмотрели бы вы осенью: ветер, пурга, холод, волны валяют через борт, — хоть пропадай!
Я остался ночевать на пароходе. Рано утром, часов в пять, меня шумно разбудили: «Скорее, скорее! Катер в последний раз уходит к берегу! Сейчас снимаемся!» Через минуту я уже сидел в катере, а рядом со мной молодой чиновник с сердитым заспанным лицом. Катер засвистел, и мы пошли к берегу, таща за собой две баржи с каторжными. Изморенные ночною работой и бессонницей, арестанты были вялы и угрюмы; все время молчали. Лица их были покрыты росой. Мне припоминается теперь несколько кавказцев с резкими чертами и в меховых шапках, надвинутых до бровей.
— Позвольте познакомиться, — сказал мне чиновник, — коллежский регистратор Д {1}.
Это был мой первый сахалинский знакомый, поэт, автор обличительного стихотворения «Сахалино», которое начиналось так: «Скажи-ка, доктор, ведь недаром…» Потом он часто бывал у меня и гулял со мной по Александровску и его окрестностям, рассказывая мне анекдоты или без конца читая стихи собственного сочинения. В длинные зимние ночи он пишет либеральные повести, но при случае любит дать понять, что он коллежский регистратор и занимает должность Х класса; когда одна баба, придя к нему по делу, назвала его господином Д., то он обиделся и сердито крикнул ей: «Я тебе не господин Д., а ваше благородие!» По пути к берегу я расспрашивал его насчет сахалинской жизни, как и что, а он зловеще вздыхал и говорил: «А вот вы увидите!» Солнце стояло уже высоко. То, что было вчера мрачно и темно и так пугало воображение, теперь утопало в блеске раннего утра; толстый, неуклюжий Жонкьер с маяком, «Три брата» и высокие крутые берега, которые видны на десятки верст по обе стороны, прозрачный туман на горах и дым от пожара давали при блеске солнца и моря картину недурную.
Гавани здесь нет и берега опасны, о чем внушительно свидетельствует шведский пароход «Atlas», потерпевший крушение незадолго до моего приезда и лежащий теперь на берегу. Пароходы останавливаются обыкновенно в версте от берега и редко ближе. Пристань есть, но только для катеров и барж. Это большой, в несколько сажен сруб, выдающийся в море в виде буквы Т; толстые лиственные сваи, крепко вбитые в дно морское, образуют ящики, которые доверху наполнены камнями; настилка из досок, по ней вдоль всей пристани проложены рельсы для вагонеток. На широком конце Т стоит хорошенький домик — контора пристани — и тут же высокая черная мачта. Сооружение солидное, но недолговечное. Во время хорошего шторма, как говорят, волна иногда хватает до окон домика и брызги долетают даже до мачтовой реи, причем дрожит вся пристань.
Возле пристани по берегу, по-видимому без дела, бродило с полсотни каторжных: одни в халатах, другие в куртках или пиджаках из серого сукна. При моем появлении вся полсотня сняла шапки — такой чести до сих пор, вероятно, не удостаивался еще ни один литератор. На берегу стояла чья-то лошадь, запряженная в безрессорную линейку. Каторжные взвалили мой багаж на линейку, человек с черною бородой, в пиджаке и в рубахе навыпуск, сел на козлы. Мы поехали.
— Куда прикажете, ваше высокоблагородие? — спросил он, оборачиваясь и снимая шапку.
Я спросил, не отдается ли тут где-нибудь внаймы квартира, хотя бы в одну комнату.
— Точно так, ваше высокоблагородие, отдается.
Две версты от пристани до Александровского поста я ехал по превосходному шоссе. В сравнении с сибирскими дорогами это чистенькое, гладкое шоссе, с канавами и фонарями, кажется просто роскошью. Рядом с ним проложена рельсовая дорога. Но природа по пути поражает своею бедностью. Вверху на горах и холмах, окружающих Александровскую долину, по которой протекает Дуйка, обгорелые пни, или торчат, как иглы дикобраза, стволы лиственниц, высушенных ветром и пожарами, а внизу по долине кочки и кислые злаки — остатки недавно бывшего здесь непроходимого болота. Свежий разрез земли в канавах обнажает во всем ее убожестве болотную перегорелую почву с полувершковым слоем плохого чернозема. Ни сосны, ни дуба, ни клена — одна только лиственница, тощая, жалкая, точно огрызенная, которая служит здесь не украшением лесов и парков, как у нас в России, а признаком дурной, болотистой почвы и сурового климата.
Александровский пост, или, короче, Александровск, представляет из себя небольшой благообразный городок сибирского типа, тысячи на три жителей. В нем нет ни одной каменной постройки, а все сделано из дерева, главным образом из лиственницы: и церковь, и дома, и тротуары. Здесь резиденция начальника острова, центр сахалинской цивилизации. Тюрьма находится близ главной улицы, но по внешнему виду она мало отличается от военной казармы, и потому Александровск совсем не носит того мрачного острожного характера, какой я ожидал встретить.
Возница привез меня в Александровскую слободку, предместье поста, к крестьянину из ссыльных П. Мне показали квартиру. Небольшой дворик, мощенный по-сибирски бревнами, кругом навесы; в доме пять просторных, чистых комнат, кухня, но ни следа мебели. Хозяйка, молодая бабенка, принесла стол, потом минут через пять табурет.
— Эта квартира у нас ходила с дровами 22 рубля, а без дров 15, — сказала она.
А когда час спустя вносила самовар, сказала со вздохом:
— Заехали в эту пропасть!
Она девушкой пришла сюда с матерью за отцом-каторжным, который до сих пор еще не отбыл своего срока; теперь она замужем за крестьянином из ссыльных, мрачным стариком, которого я мельком видел, проходя по двору; он был болен чем-то, лежал на дворе под навесом и кряхтел.
— Теперь у нас в Тамбовской губернии, чай, жнут, — сказал» хозяйка, — а тут глаза бы мои не глядели.
И в самом деле неинтересно глядеть: в окно видны грядки с капустною рассадой, около них безобразные канавы, вдали маячит тощая, засыхающая лиственница. Охая и держась за бока, вошел хозяин и стал мне жаловаться на неурожаи, холодный климат, нехорошую землю. Он благополучно отбыл каторгу и поселение, имел теперь два дома, лошадей и коров, держал много работников и сам ничего не делал, был женат на молоденькой, а главное, давно уже имел право переселиться на материк — и все-таки жаловался.
В полдень я ходил по слободке. На краю слободки стоит хорошенький домик с палисадником и с медною дощечкой на дверях, а возле домика в одном с ним дворе лавочка. Я зашел купить себе чего-нибудь поесть. «Торговое дело» и «Торгово-комиссионный склад» — так называется эта скромная лавочка в сохранившихся у меня печатном и рукописном прейскурантах — принадлежит ссыльнопоселенцу Л. {2}, бывшему гвардейскому офицеру, осужденному лет 12 тому назад Петербургским окружным судом за убийство. Он уже отбыл каторгу и занимается теперь торговлей, исполняет также разные поручения по дорожной и иным частям, получая за это жалованье старшего надзирателя. Жена его свободная, из дворянок, служит фельдшерицей в тюремной больнице. В лавочке продаются и звездочки к погонам, и рахат-лукум, и пилы поперечные, и серпы, и «шляпы дамские, летние, самые модные, лучших фасонов от 4 р. 50 к. до 12 р. за штуку». Пока я разговаривал с приказчиком, в лавочку вошел сам хозяин в шелковой жакетке и в цветном галстуке. Мы познакомились.
— Не будете ли добры отобедать у меня? — предложил он.
Я согласился, и мы пошли в дом. Обстановка у него комфортабельная. Венская мебель, цветы, американский аристон и гнутое кресло, на котором Л. качается после обеда. Кроме хозяйки, я застал в столовой еще четырех гостей, чиновников. Один из них, старик без усов и с седыми бакенами, похожий лицом на драматурга Ибсена {3}, оказался младшим врачом местного лазарета, другой, тоже старик, отрекомендовался штаб-офицером оренбургского казачьего войска. С первых же слов этот офицер произвел на меня впечатление очень доброго человека и большого патриота. Он кроток и добродушно рассудителен, но когда говорят о политике. то выходит из себя и с неподдельным пафосом начинает говорить о могуществе России и с презрением о немцах и англичанах, которых отродясь не видел. Про него рассказывают, что когда он, идучи морем на Сахалин, захотел в Сингапуре купить своей жене шелковый платок и ему предложили разменять русские деньги на доллары, то он будто бы обиделся и сказал: «Вот еще, стану я менять наши православные деньги на какие-то эфиопские!» И платок не был куплен.
За обедом подавали суп, цыплят и мороженое. Было и вино.
— Когда приблизительно идет здесь последний снег? — спросил я.
— В мае, — ответил Л.
— Неправда, в июне, — сказал доктор, похожий на Ибсена.
— Я знаю поселенца, — сказал Л., — у которого калифорнская пшеница дала сам-22.
И опять возражение со стороны доктора:
— Неправда. Ничего ваш Сахалин не дает. Проклятая земля.
— Позвольте, однако, — сказал один из чиновников, — в 82 году пшеница уродилась сам-40. Я это отлично знаю.
— Не верьте, — сказал мне доктор. — Это вам очки втирают.
За обедом же была рассказана такая легенда: когда русские заняли остров и затем стали обижать гиляков, то гиляцкий шаман проклял Сахалин и предсказал, что из него не выйдет никакого толку.
— Так оно и вышло, — вздохнул доктор.
После обеда Л. играл на аристоне. Доктор пригласил меня переехать к нему, и в тот же день вечером я поселился на главной улице поста, в одном из домов, ближайших к присутственным местам. С этого вечера началось мое посвящение в сахалинские тайны. Доктор рассказал мне, что незадолго до моего приезда, во время медицинского осмотра скота на морской пристани, у него произошло крупное недоразумение с начальником острова и что будто бы даже в конце концов генерал замахнулся на него палкой; на другой же день он был уволен по прошению, которого не подавал. Доктор показал мне целую кипу бумаг, написанных им, как он говорил, в защиту правды и из человеколюбия. Это были копии с прошений, жалоб, рапортов и… доносов {4}.
— А генералу не понравится, что вы у меня остановились, — сказал доктор и значительно подмигнул глазом.
На другой день я был с визитом у начальника острова В.О. Кононовича {5}. Несмотря на усталость и недосуг, генерал принял меня чрезвычайно любезно и беседовал со мною около часа. Он образован, начитан и, кроме того, обладает большою практическою опытностью, так как до своего назначения на Сахалин в продолжение 18 лет заведовал каторгой на Каре; он красиво говорит и красиво пишет и производит впечатление человека искреннего, проникнутого гуманными стремлениями. Я не могу забыть о том удовольствии, какое доставляли мне беседы с ним, и как приятно в первое время поражало постоянно высказываемое им отвращение к телесным наказаниям. Ж. Кеннан {6} в своей известной книге отзывается о нем восторженно.
Узнав, что я намерен пробыть на Сахалине несколько месяцев, генерал предупредил меня, что жить здесь тяжело и скучно.
— Отсюда все бегут, — сказал он, — и каторжные, и поселенцы, и чиновники. Мне еще не хочется бежать, но я уже чувствую утомление от мозговой работы, которой требуется здесь так много, благодаря, главным образом, разбросанности дела.
Он обещал мне полное содействие, но просил обождать: на Сахалине готовились к встрече генерал-губернатора, и все были заняты.
— А я рад, что вы остановились у нашего врага, — сказал он, прощаясь со мной. — Вы будете знать наши слабые стороны.
До приезда генерал-губернатора я жил в Александровске, в квартире доктора. Жизнь была не совсем обыкновенная. Когда я просыпался утром, самые разнообразные звуки напоминали мне, где я. Мимо открытых окон по улице, не спеша, с мерным звоном проходили кандальные; против нашей квартиры в военной казарме солдаты-музыканты разучивали к встрече генерал-губернатора свои марши, и при этом флейта играла из одной пьесы, тромбон из другой, фагот из третьей, и получался невообразимый хаос. А в комнатах у нас неугомонно свистали канарейки, и мой хозяин-док гор ходил из угла в угол и, перелистывая на ходу законы, мыслил вслух:
— Если на основании статьи такой-то я подам прошение туда-то, и т.д.
Или же он вместе со своим сыном садился писать какую-нибудь кляузу. Выйдешь на улицу, тут жарко. Жалуются даже на засуху, и офицеры ходят в кителях, а это бывает не каждое лето. Движение на улицах здесь гораздо значительнее, чем в наших уездных городах, и это легко объяснить приготовлениями к встрече начальника края, главным же образом — преобладанием в здешнем населении рабочего возраста, который большую часть дня проводит вне дома. К тому же здесь на небольшом пространстве сгруппированы: тюрьма более чем на тысячу и военные казармы на 500 человек. Спешно строят мост через Дуйку, воздвигают арки, чистят, красят, подметают, маршируют. По улицам носятся тройки и пары с колокольчиками — это готовят для генерал-губернатора лошадей. Такая спешка, что работают даже в праздники.
Вот по улице, направляясь к полицейскому управлению, идет толпа гиляков, здешних аборигенов, и на них сердито лают смирные сахалинские дворняжки, которые лают почему-то на одних только гиляков. Вот другая группа: кандальные каторжные в шапках и без шапок, звеня цепями, тащат тяжелую тачку с песком, сзади к тачке цепляются мальчишки, по сторонам плетутся конвойные с потными красными лицами и с ружьями на плечах. Высыпав песок на площадке перед домом генерала, кандальные возвращаются тою же дорогой назад, и звон кандалов слышится непрерывно. Каторжный в халате с бубновым тузом ходит из двора во двор и продает ягоду голубику. Когда идешь по улице, сидящие встают и все встречные снимают шапки.
Каторжные и поселенцы, за немногими исключениями, ходят по улицам свободно, без кандалов и без конвоя, и встречаются на каждом шагу толпами и в одиночку. Они во дворе и в доме, потому что они кучера, сторожа, повара, кухарки и няньки. Такая близость в первое время с непривычки смущает и приводит в недоумение. Идешь мимо какой-нибудь постройки, тут каторжные с топорами, пилами и молотками. А ну, думаешь, размахнется и трахнет! Или придешь к знакомому и, не заставши дома, сядешь писать ему записку. а сзади в это время стоит и ждет его слуга — каторжный с ножом, которым он только что чистил в кухне картофель. Или, бывало, рано утром, часа в четыре, просыпаешься от какого-то шороха, смотришь — к постели на цыпочках, чуть дыша, крадется каторжный. Что такое? Зачем? «Сапожки почистить, ваше высокоблагородие». Скоро я пригляделся и привык. Привыкают все, даже женщины и дети. Здешние дамы бывают совершенно покойны, когда отпускают своих детей гулять с няньками бессрочнокаторжными.
Один корреспондент пишет, что вначале он трусил чуть не каждого куста, а при встречах на дороге и тропинках с арестантом ощупывал под пальто револьвер, потом успокоился, придя к заключению, что «каторга в общем — стадо баранов, трусливых, ленивых, полуголодных и заискивающих». Чтобы думать, что русские арестанты не убивают и не грабят встречного только из трусости и лени, надо быть очень плохого мнения о человеке вообще или не знать человека.
Приамурский генерал-губернатор барон А.Н. Корф прибыл на Сахалин 19 июля, на военном судне «Бобр». На площади, между домом начальника острова и церковью, он был встречен почетным караулом, чиновниками и толпою поселенцев и каторжных. Играла та самая музыка, о которой я только что говорил. Благообразный старик, бывший каторжный, разбогатевший на Сахалине, по фамилии Потемкин, поднес ему хлеб-соль на серебряном блюде местного изделия. На площади же стоял мой хозяин-доктор в черном фраке и в картузе и держал в руках прошение. Я в первый раз видел сахалинскую толпу, и от меня не укрылась ее печальная особенность: она состояла из мужчин и женщин рабочего возраста, были старики и дети, но совершенно отсутствовали юноши. Казалось, будто возраста от 13 до 20 лет на Сахалине вовсе не существует. И я невольно задал себе вопрос: не значит ли это, что молодежь, подрастая, оставляет остров при первой возможности?
На другой же день по приезде генерал-губернатор приступил к осмотру тюрем и поселений. Всюду поселенцы, ожидавшие его с большим нетерпением, подавали ему прошения и словесно заявляли просьбы. Говорили каждый за себя или один за все селение, и так как ораторское искусство процветает на Сахалине, то дело не обошлось и без речей; в Дербинском поселенец Маслов в своей речи несколько раз назвал начальство «всемилостивейшим правительством». К сожалению, далеко не все, обращавшиеся к барону А.Н. Корфу, просили того, что нужно. Тут, как и в России в подобных случаях, сказалась досадная мужицкая темнота: просили не школ, не правосудия, не заработков, а разных пустяков: кто казенного довольствия, кто усыновления ребенка, — одним словом, подавали прошения, которые могли быть удовлетворены и местным начальством. А.Н. Корф отнесся к их просьбам с полным вниманием и доброжелательством; глубоко тронутый их бедственным положением, он давал обещания и возбуждал надежды на лучшую жизнь {7}. Когда в Аркове помощник смотрителя тюрьмы отрапортовал: «В селении Аркове все обстоит благополучно», барон указал ему на озимые и яровые всходы и сказал: «Все благополучно, кроме только того, что в Аркове нет хлеба». В Александровской тюрьме по случаю его приезда арестантов кормили свежим мясом и даже олениной; он обошел все камеры, принимал прошения и приказал расковать многих кандальных.
22 июля после молебна и парада (был табельный день) прибежал надзиратель и доложил, что генерал-губернатор желает меня видеть. Я отправился. А.Н. Корф принял меня очень ласково и беседовал со мной около получаса. Наш разговор происходил в присутствии ген. Кононовича. Между прочим, мне был предложен вопрос, не имею ли я какого-либо официального поручения. Я ответил: нет.
— По крайней мере нет ли у вас поручения от какого-либо ученого общества или газеты? — спросил барон.
У меня в кармане был корреспондентский бланок, но так как я не имел в виду печатать что-либо о Сахалине в газетах, то, не желая вводить в заблуждение людей, относившихся ко мне, очевидно, с полным доверием, я ответил: нет.
— Я разрешаю вам бывать, где и у кого угодно, — сказал барон. — Нам скрывать нечего. Вы осмотрите здесь все, вам дадут свободный пропуск во все тюрьмы и поселения, вы будете пользоваться документами, необходимыми для вашей работы, — одним словом, вам двери будут открыты всюду. Не могу я разрешить вам только одного: какого бы то ни было общения с политическими {8}, так как разрешать вам это я не имею никакого права.
Отпуская меня, барон сказал:
— Завтра мы еще поговорим. Приходите с бумагой.
В тот же день я присутствовал на торжественном обеде в квартире начальника острова. Тут я познакомился почти со всею сахалинскою администрацией. За обедом играла музыка, произносились речи. А.Н. Корф, в ответ на тост за его здоровье, сказал короткую речь, из которой мне теперь припоминаются слова: «Я убедился, что на Сахалине «несчастным» живется легче, чем где-либо в России и даже Европе. В этом отношении вам предстоит сделать еще многое, так как путь добра бесконечен». Он пять лет назад был на Сахалине и теперь находил прогресс значительным, превосходившим всякие ожидания. Его похвальное слово не мирилось в сознании с такими явлениями, как голод, повальная проституция ссыльных женщин, жестокие телесные наказания, но слушатели должны были верить ему: настоящее в сравнении с тем, что происходило пять лет назад, представлялось чуть ли не началом золотого века.
Вечером была иллюминация. По улицам, освещенным плошками и бенгальским огнем, до позднего вечера гуляли толпами солдаты, поселенцы и каторжные. Тюрьма была открыта. Река Дуйка, всегда убогая, грязная, с лысыми берегами, а теперь украшенная по обе стороны разноцветными фонарями и бенгальскими огнями, которые отражались в ней, была на этот раз красива, даже величественна, но и смешна, как кухаркина дочь, на которую для примерки надели барышнино платье. В саду генерала играла музыка и пели певчие. Даже из пушки стреляли, и пушку разорвало. И все-таки, несмотря на такое веселье, на улицах было скучно Ни песен, ни гармоники, ни одного пьяного; люди бродили, как тени, и молчали, как тени. Каторга и при бенгальском освещении остается каторгой, а музыка, когда ее издали слышит человек, который никогда уже не вернется на родину, наводит только смертную тоску.
Когда я явился к генерал-губернатору с бумагой, он изложил мне свой взгляд на сахалинскую каторгу И колонию и предложил записать все, сказанное им, что я, конечно, исполнил очень охотно. Все записанное он предложил мне озаглавить так: «Описание жизни несчастных». Из нашей последней беседы и из того, что я записал под его диктовку, я вынес убеждение, что это великодушный и благородный человек, но что «жизнь несчастных» была знакома ему не так близко, как он думал. Вот несколько строк из описания: «Никто не лишен надежды сделаться полноправным; пожизненности наказания нет. Бессрочная каторга ограничивается 20-ю годами. Каторжные работы не тягостны. Труд подневольный не дает работнику личной пользы — в этом его тягость, а не в напряжении физическом. Цепей нет, часовых нет, бритых голов нет».
Дни стояли хорошие, с ясным небом и с прозрачным воздухом, похожие на наши осенние дни. Вечера были превосходные; припоминается мне пылающий запад, темно-синее море и совершенно белая луна, выходящая из-за гор. В такие вечера я любил кататься по долине между постом и деревней Ново-Михайловкой; дорога здесь гладкая, ровная, рядом с ней рельсовый путь для вагонеток, телеграф. Чем дальше от Александровска, тем долина становится уже, потемки густеют, гигантские лопухи начинают казаться тропическими растениями; со всех сторон надвигаются темные горы. Вон вдали огни, где жгут уголь, вон огонь от пожара. Восходит луна. Вдруг фантастическая картина: мне навстречу по рельсам, подпираясь шестом, катит на небольшой платформе каторжный в белом. Становится жутко.
— Не пора ли назад? — спрашиваю кучера.
Кучер-каторжный поворачивает лошадей, потом оглядывается на горы и огни и говорит:
— Скучно здесь, ваше высокоблагородие. У нас в России лучше.
Сноски ко второй главе
1 …коллежский регистратор Д. — Чехов говорит об Эдуарде Дучинском; в письме к Суворину от 2 декабря 1896 г. он описывает этого чиновника так: «На Сахалине я встретил некоего Дучинского …почтового чиновника, который писал стихи и прозу. Он писал «Сахалино» — пародию на «Бородино», всегда таскал в кармане брюк громадный револьвер и сильно зашибал муху».
2 …лавочка… принадлежит ссыльнопоселенцу Л. — Имеется в виду К.X. Ландсберг, дворянин, гвардейский офицер, осужденный в 1879 г. за зверское убийство. Петербургский суд под председательством А.Ф. Кони приговорил Ландсберга к лишению всех прав состояния и к каторжным работам в рудниках сроком на 15 лет. Кроме содержания магазина, Ландсберг сотрудничал в газете «Владивосток», где публиковал свои охотничьи зарисовки: «Случайный выстрел», «Охота на Сахалине» и др. Возможно, что и к нему относится замечание в гл. XVIII (см. стр. 276): «Нельзя позволить бывшему убийце часто убивать животных и совершать те зверские операции, без которых не обходится почти ни одна охота, — например, закалывать раненого оленя, прикусывать горло подстреленной куропатке и т.п.».
3 Ибсен Генрик (1828-1906) — выдающийся норвежский драматург.
4 Вот образчик доноса по телеграфу: «Долгом совести, семьсот двенадцатой статьи, том третий, поставлен необходимость утрудить ваше-ство прибегнуть защите правосудия против безнаказанности за совершаемые N лихоимство, подлоги, истязания».
5 Кононович Владимир Осипович — генерал, в 1888-1893 гг. начальник острова Сахалина (до назначения на остров в течение 18 лет заведовал Карийской каторгой; на этом посту обнаружил излишнюю, с точки зрения властей, гуманность по отношению к политическим заключенным). Службу на Сахалине Кононович начал с самыми благими намерениями, но не смог покончить с казнокрадством и служебными злоупотреблениями чиновников, в частности служащих колонизационной кассы. После раскрытия их афер Кононович был вызван для следствия в Петербург, но признан невиновным, однако вынужден был подать в отставку.
6 Кеннан Джордж (1845-1924) — либеральный американский журналист. Неоднократно путешествовал по Сибири; в 1885-1886 гг. посетил каторжные тюрьмы и места ссылки русских революционеров. А.П. Чехов знал книгу Кеннана «Сибирь и ссылка».
7 И даже несбыточные надежды. В одном селении, говоря о том, что крестьяне из ссыльных теперь уже имеют право переезда на материк, он сказал: «А потом можете и на родину, в Россию».
8 …не могу я разрешить вам… общения с политическими… — Во время исследования Чеховым Сахалина на острове находилось 40 политических заключенных, встречаться с которыми было строжайше запрещено, однако Чехов неоднократно подчеркивал, что видел на Сахалине все.
I
Г. Николаевск-на-Амуре. — Пароход «Байкал». — Мыс Пронге и вход в Лиман. — Сахалин полуостров. — Лаперуз, Браутон, Крузенштерн и Невельской. — Японские исследователи. — Мыс Джаоре. — Татарский берег. — Де-Кастри.
5 июля 1890 г. я прибыл на пароходе в г. Николаевск, один из самых восточных пунктов нашего отечества. Амур здесь очень широк, до моря осталось только 27 верст; место величественное и красивое, но воспоминания о прошлом этого края, рассказы спутников о лютой зиме и о не менее лютых местных нравах, близость каторги и самый вид заброшенного, вымирающего города совершенно отнимают охоту любоваться пейзажем.
Николаевск был основан не так давно, в 1850 г., известным Геннадием Невельским, и это едва ли не единственное светлое место в истории города. В пятидесятые и шестидесятые годы, когда по Амуру, не щадя солдат, арестантов и переселенцев, насаждали культуру, в Николаевске имели свое пребывание чиновники, управлявшие краем, наезжало сюда много всяких русских и иностранных авантюристов, селились поселенцы, прельщаемые необычайным изобилием рыбы и зверя, и, по-видимому, город не был чужд человеческих интересов, так как был даже случай, что один заезжий ученый нашел нужным и возможным прочесть здесь в клубе публичную лекцию. Теперь же почти половина домов покинута своими хозяевами, полуразрушена, и темные окна без рам глядят на вас, как глазные впадины черепа. Обыватели ведут сонную, пьяную жизнь и вообще живут впроголодь, чем бог послал. Пробавляются поставками рыбы на Сахалин, золотым хищничеством, эксплуатацией инородцев, продажей понтов, то есть оленьих рогов, из которых китайцы приготовляют возбудительные пилюли. На пути от Хабаровки до Николаевска мне приходилось встречать немало контрабандистов; здесь они не скрывают своей профессии. Один из них, показывавший мне золотой песок и пару понтов, сказал мне с гордостью: «И мой отец был контрабандист!» Эксплуатация инородцев, кроме обычного спаивания, одурачения и т. п., выражается иногда в оригинальной форме. Так, николаевский купец Иванов, ныне покойный, каждое лето ездил на Сахалин и брал там с гиляков дань, а неисправных плательщиков истязал и вешал.
Гостиницы в городе нет. В общественном собрании мне позволили отдохнуть после обеда в зале с низким потолком — тут зимою, говорят, даются балы; на вопрос же мой, где я могу переночевать, только пожали плечами. Делать нечего, пришлось две ночи провести на пароходе; когда же он ушел назад в Хабаровку, я очутился как рак на мели: камо пойду? Багаж мой на пристани; я хожу по берегу и не знаю, что с собой делать. Как раз против города, в двух-трех верстах от берега, стоит пароход «Байкал», на котором я пойду в Татарский пролив, но говорят, что он отойдет дня через четыре или пять, не раньше, хотя на его мачте уже развевается отходный флаг. Разве взять и поехать на «Байкал»? Но неловко: пожалуй, не пустят, — скажут, рано. Подул ветер, Амур нахмурился и заволновался, как море. Становится тоскливо. Иду в собрание, долго обедаю там и слушаю, как за соседним столом говорят о золоте, о понтах, о фокуснике, приезжавшем в Николаевск, о каком-то японце, дергающем зубы не щипцами, а просто пальцами. Если внимательно и долго прислушиваться, то, боже мой, как далека здешняя жизнь от России! Начиная с балыка из кеты, которым закусывают здесь водку, и кончая разговорами, во всем чувствуется что-то свое собственное, не русское. Пока я плыл по Амуру, у меня было такое чувство, как будто я не в России, а где-то в Патагонии или Техасе; не говоря уже об оригинальной, не русской природе, мне всё время казалось, что склад нашей русской жизни совершенно чужд коренным амурцам, что Пушкин и Гоголь тут непонятны и потому не нужны, наша история скучна и мы, приезжие из России, кажемся иностранцами. В отношении религиозном и политическом я замечал здесь полнейшее равнодушие. Священники, которых я видел на Амуре, едят в пост скоромное, и, между прочим, про одного из них, в белом шёлковом кафтане, мне рассказывали, что он занимается золотым хищничеством, соперничая со своими духовными чадами. Если хотите заставить амурца скучать и зевать, то заговорите с ним о политике, о русском правительстве, о русском искусстве. И нравственность здесь какая-то особенная, не наша. Рыцарское обращение с женщиной возводится почти в культ и в то же время не считается предосудительным уступить за деньги приятелю свою жену; или вот еще лучше: с одной стороны, отсутствие сословных предрассудков — здесь и с ссыльным держат себя, как с ровней, а с другой — не грех подстрелить в лесу китайца-бродягу, как собаку, или даже поохотиться тайком на горбачиков.
Но буду продолжать о себе. Не найдя приюта, я под вечер решился отправиться на «Байкал». Но тут новая беда: развело порядочную зыбь, и лодочники-гиляки не соглашаются везти ни за какие деньги. Опять я хожу по берегу и не знаю, что с собой делать. Между тем уже заходит солнце, и волны на Амуре темнеют. На этом и на том берегу неистово воют гиляцкие собаки. И зачем я сюда поехал? — спрашиваю я себя, и мое путешествие представляется мне крайне легкомысленным. И мысль, что каторга уже близка, что через несколько дней я высажусь на сахалинскую почву, не имея с собой ни одного рекомендательного письма, что меня могут попросить уехать обратно, — эта мысль неприятно волнует меня. Но вот наконец два гиляка соглашаются везти меня за рубль, и на лодке, сбитой из трех досок, я благополучно достигаю «Байкала».
Это пароход морского типа средней величины, купец, показавшийся мне после байкальских и амурских пароходов довольно сносным. Он совершает рейсы между Николаевском, Владивостоком и японскими портами, возит почту, солдат, арестантов, пассажиров и грузы, главным образом казенные; по контракту, заключенному с казной, которая платит ему солидную субсидию, он обязан несколько раз в течение лета заходить на Сахалин: в Александровский пост и в южный Корсаковский. Тариф очень высокий, какого, вероятно, нет нигде в свете. Колонизация, которая прежде всего требует свободы и легкости передвижения, и высокие тарифы — это уж совсем непонятно. Кают-компания и каюты на «Байкале» тесны, но чисты и обставлены вполне по-европейски; есть пианино. Прислуга тут — китайцы с длинными косами, их называют по-английски — бой. Повар тоже китаец, но кухня у него русская, хотя все кушанья бывают горьки от пряного кери и пахнут какими-то духами, вроде корилопсиса.
Начитавшись о бурях и льдах Татарского пролива, я ожидал встретить на «Байкале» китобоев с хриплыми голосами, брызгающих при разговоре табачною жвачкой, в действительности же нашел людей вполне интеллигентных. Командир парохода г. Л., уроженец западного края, плавает в северных морях уже более 30 лет и прошел их вдоль и поперек. На своем веку он видел много чудес, много знает и рассказывает интересно. Покружив полжизни около Камчатки и Курильских островов, он, пожалуй, с большим правом, чем Отелло, мог бы говорить о «бесплоднейших пустынях, страшных безднах, утесах неприступных». Я обязан ему многими сведениями, пригодившимися мне для этих записок. У него три помощника: г. Б., племянник известного астронома Б., и два шведа — Иван Мартыныч и Иван Вениаминыч, добрые и приветливые люди.
8 июля, перед обедом, «Байкал» снялся с якоря. С нами шли сотни три солдат под командой офицера и несколько арестантов. Одного арестанта сопровождала пятилетняя девочка, его дочь, которая, когда он поднимался по трапу, держалась за его кандалы. Была, между прочим, одна каторжная, обращавшая на себя внимание тем, что за нею добровольно следовал на каторгу ее муж. [На амурских пароходах и «Байкале» арестанты помещаются на палубе вместе с пассажирами III класса. Однажды, выйдя на рассвете прогуляться на бак, я увидел, как солдаты, женщины, дети, два китайца и арестанты в кандалах крепко спали, прижавшись друг к другу; их покрывала роса, и было прохладно. Конвойный стоял среди этой кучи тел, держась обеими руками за ружье, и тоже спал.] Кроме меня и офицера, было еще несколько классных пассажиров обоего пола и, между прочим, даже одна баронесса. Читатель пусть не удивляется такому изобилию интеллигентных людей здесь, в пустыне. По Амуру и в Приморской области интеллигенция при небольшом вообще населении составляет немалый процент, и ее здесь относительно больше, чем в любой русской губернии. На Амуре есть город, где одних лишь генералов, военных и штатских, насчитывают 16. Теперь их там, быть может, еще больше.
День был тихий и ясный. На палубе жарко, в каютах душно; в воде +18°. Такую погоду хоть Черному морю впору. На правом берегу горел лес; сплошная зеленая масса выбрасывала из себя багровое пламя; клубы дыма слились в длинную, черную, неподвижную полосу, которая висит над лесом… Пожар громадный, но кругом тишина и спокойствие, никому нет дела до того, что гибнут леса. Очевидно, зеленое богатство принадлежит здесь одному только богу.
После обеда, часов в шесть, мы уже были у мыса Пронге. Тут кончается Азия, и можно было бы сказать, что в этом месте Амур впадает в Великий океан, если бы поперек не стоял о. Сахалин. Перед глазами широко расстилается Лиман, впереди чуть видна туманная полоса — это каторжный остров; налево, теряясь в собственных извилинах, исчезает во мгле берег, уходящий в неведомый север. Кажется, что тут конец света и что дальше уже некуда плыть. Душой овладевает чувство, какое, вероятно, испытывал Одиссей, когда плавал по незнакомому морю и смутно предчувствовал встречи с необыкновенными существами. И в самом деле, справа, при самом повороте в Лиман, где на отмели приютилась гиляцкая деревушка, на двух лодках несутся к нам какие-то странные существа, вопят на непонятном языке и чем-то машут. Трудно понять, что у них в руках, но когда они подплывают поближе, я различаю серых птиц.
— Это они хотят продать нам битых гусей, — объясняет кто-то.
Поворачиваем направо. На всем нашем пути поставлены знаки, показывающие фарватер. Командир не сходит с мостика, и механик не выходит из машины; «Байкал» начинает идти всё тише и тише и идет точно ощупью. Осторожность нужна большая, так как здесь нетрудно сесть на мель. Пароход сидит 12 1/2 местами же ему приходится идти 14 фут., и был даже момент, когда нам послышалось, как он прополз килем по песку. Вот этот-то мелкий фарватер и особенная картина, какую дают вместе Татарский и Сахалинский берега, послужили главною причиной тому, что Сахалин долго считали в Европе полуостровом. В 1787 г., в июне, известный французский мореплаватель, граф Лаперуз, высадился на западном берегу Сахалина, выше 48°, и говорил тут с туземцами. Судя по описанию, которое он оставил, на берегу застал он не одних только живших здесь айно, но и приехавших к ним торговать гиляков, людей бывалых, хорошо знакомых и с Сахалином и с Татарским берегом. Чертя на песке, они объяснили ему, что земля, на которой они живут, есть остров и что остров этот отделяется от материка и Иессо (Японии) проливами. [Лаперуз пишет, что свой остров они называли Чоко, но, вероятно, название это гиляки относили к чему-нибудь другому, и он их не понял. На карте нашего Крашенинникова (1752 г.) на западном берегу Сахалина показана река Чуха. Не имеет ли эта Чуха чего-нибудь общего с Чоко? Кстати сказать, Лаперуз пишет, что, рисуя остров и называя его Чоко, гиляк нарисовал и речку. Чоко переводится словом «мы».] Затем, плывя дальше на север вдоль западного берега, он рассчитывал, что найдет выход из Северо-Японского моря в Охотское и тем значительно сократит свой путь в Камчатку; но чем выше подвигался он, тем пролив становился всё мельче и мельче. Глубина уменьшалась через каждую милю на одну сажень. Плыл он к северу до тех пор, пока ему позволяли размеры его корабля, и, дойдя до глубины 9 сажен, остановился. Постепенное равномерное повышение дна и то, что в проливе течение было почти незаметно, привели его к убеждению, что он находится не в проливе, а в заливе и что, стало быть, Сахалин соединен с материком перешейком. В де-Кастри у него еще раз происходило совещание с гиляками. Когда он начертил им на бумаге остров, отделенный от материка, то один из них взял у него карандаш и, проведя через пролив черту, пояснил, что через этот перешеек гилякам приходится иногда перетаскивать свои лодки и что на нем даже растет трава, — так понял Лаперуз. Это еще крепче убедило его, что Сахалин — полуостров. [Тут кстати привести одно наблюдение Невельского: туземцы проводят обыкновенно между берегами черту для того, чтобы показать, что от берега к берегу можно проплыть на лодке, то есть что существует между берегами пролив.] Девятью годами позже его в Татарском проливе был англичанин В. Браутон (Broughton). Судно у него было небольшое, сидевшее в воде не глубже 9 фут., так что ему удалось пройти несколько выше Лаперуза. Остановившись на глубине двух сажен, он послал к северу для промера своего помощника; этот на пути своем встречал среди мелей глубины, но они постепенно уменьшались и приводили его то к сахалинскому берегу, то к низменным песчаным берегам другой стороны, и при этом получалась такая картина, как будто оба берега сливались; казалось, залив оканчивался здесь и никакого прохода не было. Таким образом, и Браутон должен был заключить то же самое, что Лаперуз.
Наш знаменитый Крузенштерн, исследовавший берега острова в 1805 г., впал в ту же ошибку. Плыл он к Сахалину уже с предвзятою мыслью, так как пользовался картою Лаперуза. Он прошел вдоль восточного берега и, обогнув северные мысы Сахалина, вступил в самый пролив, держась направления с севера на юг, и, казалось, был уже совсем близок к разрешению загадки, но постепенное уменьшение глубины до 3 1/2 сажен, удельный вес воды, а главное, предвзятая мысль заставили и его признать существование перешейка, которого он не видел. Но его все-таки точил червь сомнения. «Весьма вероятно, — пишет он, — что Сахалин был некогда, а может быть, еще в недавние времена, островом». Возвращался он назад, по-видимому, с неспокойною душой: когда в Китае впервые попались ему на глаза записки Браутона, то он «обрадовался немало». [То обстоятельство, что трое серьезных исследователей, точно сговорившись, повторили одну и ту же ошибку, говорит уже само за себя. Если они не открыли входа в Амур, то потому, что имели в своем распоряжении самые скудные средства для исследования, а главное, – как гениальные люди, подозревали и почти угадывали другую правду и должны были считаться с ней. Что перешеек и полуостров Сахалин – не мифы, а существовали когда-то на самом деле, в настоящее время уже доказано. Обстоятельная история исследования Сахалина имеется в книге А. М. Никольского «Остров Сахалин и его фауна позвоночных животных». В этой же книге можно найти и довольно подробный указатель литературы, относящейся к Сахалину.] Ошибка была исправлена в 1849 году Невельским. Авторитет его предшественников, однако, был еще так велик, что когда он донес о своих открытиях в Петербург, то ему не поверили, сочли его поступок дерзким и подлежащим наказанию и «заключили» его разжаловать, и неизвестно, к чему бы это повело, если бы не заступничество самого государя, который нашел его поступок молодецким, благородным и патриотическим. [Подробности в его книге: «Подвиги русских морских офицеров на крайнем Востоке России. 1849–1855 гг.»] Это был энергический, горячего темперамента человек, образованный, самоотверженный, гуманный, до мозга костей проникнутый идеей и преданный ей фанатически, чистый нравственно. Один из знавших его пишет: «Более честного человека мне не случалось встречать». На восточном побережье и на Сахалине он сделал себе блестящую карьеру в какие-нибудь пять лет, но потерял дочь, которая умерла от голода, состарился, состарилась и потеряла здоровье его жена, «молоденькая, хорошенькая и приветливая женщина», переносившая все лишения геройски. [Жена Невельского, Екатерина Ивановна, когда ехала из России к мужу, сделала верхом 1100 верст в 23 дня, будучи больною, по топким болотам и диким гористым тайгам и ледникам охотского тракта. Самый даровитый сподвижник Невельского, Н. К. Бошняк, открывший Императорскую гавань, когда ему было еще только 20 лет, «мечтатель и дитя», – так называет его один из сослуживцев, – рассказывает в своих записках: «На транспорте „Байкал“ мы все вместе перешли в Аян и там пересели на слабый барк „Шелехов“. Когда барк стал тонуть, никто не мог уговорить г-жу Невельскую первою съехать на берег. „Командир и офицеры съезжают последними, – говорила она, – и я съеду с барка тогда, когда ни одной женщины и ребенка не останется на судне“. Так она и поступила. Между тем барк уже лежал на боку…» Дальше Бошняк пишет, что, часто находясь в обществе г-жи Невельской, он с товарищами не слыхал ни одной жалобы или упрека, – напротив, всегда замечалось в ней спокойное и гордое сознание того горького, но высокого положения, которое предназначило ей провидение. Она проводила зиму обыкновенно одна, так как мужчины были в командировках, в комнатах с 5° тепла. Когда в 1852 г. из Камчатки не пришли суда с провиантом, то все находились в более чем отчаянном положении. Для грудных детей не было молока, больным не было свежей пищи, и несколько человек умерло от цинги. Невельская отдала свою единственную корову во всеобщее распоряжение; всё, что было свежего, поступало в общую пользу. Обращалась она с туземцами просто и с таким вниманием, что это замечалось даже неотесанными дикарями. А ей было тогда только 19 лет (Лейт. Бошняк. Экспедиция в Приамурском крае. – «Морской сборник», 1859, II). Об ее трогательном обращении с гиляками упоминает и ее муж в своих записках. «Екатерина Ивановна, – пишет он, – усаживала их (гиляков) в кружок на пол, около большой чашки с кашей или чаем, в единственной бывшей во флигеле у нас комнате, служившей и залом, и гостиной, и столовой. Они, наслаждаясь подобным угощением, весьма часто трепали хозяйку по плечу, посылая ее то за тамчи (табак), то за чаем».] Чтобы покончить с вопросом о перешейке и полуострове, считаю не лишним сообщить еще некоторые подробности. В 1710 г. пекинскими миссионерами, по поручению китайского императора, была начертана карта Татарии; при составлении ее миссионеры пользовались японскими картами, и это очевидно, так как в то время о проходимости Лаперузова и Татарского проливов могло быть известно только японцам. Она была прислана во Францию и стала известною, потому что вошла в атлас географа д’Анвилля. [«Nouvel Atlas de la Chine, de la Tartaire, Chinoise et de Thibet». 1737.] Эта карта послужила поводом к небольшому недоразумению, которому Сахалин обязан своим названием. У западного берега Сахалина, как раз против устья Амура, на карте есть надпись, сделанная миссионерами: «Saghalien-angahata», что по-монгольски значит «скалы черной реки». Это название относилось, вероятно, к какому-либо утесу или мысу у устья Амура, во Франции же поняли иначе и отнесли к самому острову. Отсюда и название Сахалин, удержанное Крузенштерном и для русских карт. У японцев Сахалин называли Карафто или Карафту, что значит китайский остров.
Работы японцев попадали в Европу или слишком поздно, когда в них уже не нуждались, или же подвергались неудачным поправкам. На карте миссионеров Сахалин имел вид острова, но д’Анвилль отнесся к ней с недоверием и положил между островом и материком перешеек. Японцы первые стали исследовать Сахалин, начиная с 1613 г., но в Европе придавали этому так мало значения, что когда впоследствии русские и японцы решали вопрос о том, кому принадлежит Сахалин, то о праве первого исследования говорили и писали только одни русские. [Японец, землемер Мамиа Ринзо, в 1808 г. путешествуя в лодке вдоль западного берега, побывал на Татарском берегу у самого устья Амура и не раз плавал с острова на материк и обратно. Он первый доказал, что Сахалин остров. Наш натуралист Ф. Шмидт отзывается с большою похвалой об его карте, находя, что она «особенно замечательна, так как, очевидно, основана на самостоятельных съемках».] Давно уже на очереди новое, возможно тщательное исследование берегов Татарии и Сахалина. Теперешние карты неудовлетворительны, что видно хотя бы из того, что суда, военные и коммерческие, часто садятся на мель и на камни, гораздо чаще, чем об этом пишут в газетах. Благодаря, главным образом, плохим картам командиры судов здесь очень осторожны, мнительны и нервны. Командир «Байкала» не доверяет официальной карте и смотрит в свою собственную, которую сам чертит и исправляет во время плавания.
Чтобы не сесть на мель, г. Л. не решился плыть ночью, и мы после захода солнца бросили якорь у мыса Джаоре. На самом мысу, на горе, стоит одиноко избушка, в которой живет морской офицер г. Б., ставящий знаки на фарватере и имеющий надзор за ними, а за избушкой непроходимая дремучая тайга. Командир послал г. Б. свежего мяса; я воспользовался этим случаем и поплыл на шлюпке к берегу. Вместо пристани куча больших скользких камней, по которым пришлось прыгать, а на гору к избе ведет ряд ступеней из бревнышек, врытых в землю почти отвесно, так что, поднимаясь, надо крепко держаться руками. Но какой ужас! Пока я взбирался на гору и подходил к избе, меня окружали тучи комаров, буквально тучи, было темно от них, лицо и руки мои жгло, и не было возможности защищаться. Я думаю, что если здесь остаться ночевать под открытым небом, не окружив себя кострами, то можно погибнуть или, по меньшей мере, сойти с ума.
Изба разделяется сенями на две половины: налево живут матросы, направо — офицер с семьей. Хозяина дома не было. Я застал изящно одетую, интеллигентную даму, его жену, и двух дочерей, маленьких девочек, искусанных комарами. В комнатах все стены покрыты еловою зеленью, окна затянуты марлей, пахнет дымом, но комары, несмотря ни на что, все-таки есть и жалят бедных девочек. В комнате обстановка не богатая, лагерная, но в убранстве чувствуется что-то милое, вкусное. На стене висят этюды и, между прочим, женская головка, набросанная карандашом. Оказывается, что г. Б. — художник.
— Хорошо ли вам тут живется? — спрашиваю я даму.
— Хорошо, да вот только комары.
Свежему мясу она не обрадовалась; по ее словам, она и дети давно уже привыкли к солонине и свежего мяса не любят.
— Впрочем, вчера варили форелей, — добавила она.
Провожал меня до шлюпки угрюмый матрос, который, как будто догадавшись, о чем мне хочется спросить его, вздохнул и сказал:
— По доброй воле сюда не заедешь!
На другой день рано утром пошли дальше при совершенно тихой и теплой погоде. Татарский берег горист и изобилует пиками, то есть острыми, коническими вершинами. Он слегка подернут синеватою мглой: это дым от далеких лесных пожаров, который здесь, как говорят, бывает иногда так густ, что становится опасен для моряков не меньше, чем туман. Если бы птица полетела напрямик с моря через горы, то, наверное, не встретила бы ни одного жилья, ни одной живой души на расстоянии пятисот верст и больше… Берег весело зеленеет на солнце и, по-видимому, прекрасно обходится без человека. В шесть часов были в самом узком месте пролива, между мысами Погоби и Лазарева, и очень близко видели оба берега, в восемь проходили мимо Шапки Невельского — так называется гора с бугром на вершине, похожим на шапку. Утро было яркое, блестящее, и наслаждение, которое я испытывал, усиливалось еще от гордого сознания, что я вижу эти берега.
Во втором часу вошли в бухту де-Кастри. Это единственное место, где могут во время бури укрываться суда, плавающие по проливу, и не будь ее, судоходство у сахалинских берегов, которые сплошь негостеприимны, было бы немыслимо. [О назначении этой бухты в настоящем и будущем см. К. Скальковского «Русская торговля в Тихом океане», стр. 75.] Даже есть такое выражение: «удирать в де-Кастри». Бухта прекрасная и устроена природой точно по заказу. Это круглый пруд, версты три в диаметре, с высокими берегами, защищающими от ветров, с нешироким выходом в море. Если судить по наружному виду, то бухта идеальная, но, увы! — это только кажется так; семь месяцев в году она бывает покрыта льдом, мало защищена от восточного ветра и так мелка, что пароходы бросают якорь в двух верстах от берега. Выход в море сторожат три острова, или, вернее, рифа, придающие бухте своеобразную красоту; один из них назван Устричным: очень крупные и жирные устрицы водятся на его подводной части.
На берегу несколько домиков и церковь. Это Александровский пост. Тут живут начальник поста, его делопроизводитель и телеграфисты. Один местный чиновник, приезжавший к нам на пароход обедать, скучный и скучающий господин, много говорил за обедом, много пил и рассказал нам старый анекдот про гусей, которые, наевшись ягод из-под наливки и опьяневши, были приняты за мертвых, ощипаны и выброшены вон и потом, проспавшись, голые вернулись домой; при этом чиновник побожился, что история с гусями происходила в де-Кастри в его собственном дворе. Священника при церкви нет, и он, когда нужно, приезжает из Мариинска. Хорошая погода бывает здесь очень редко, так же как в Николаевске. Говорят, что весною этого года здесь работала промерная экспедиция и во весь май было только три солнечных дня. Извольте работать без солнца!
На рейде мы застали военные суда «Бобр» и «Тунгус» и две миноноски. Вспоминается и еще одна подробность: едва мы бросили якорь, как потемнело небо, собралась гроза и вода приняла необыкновенный, ярко-зеленый цвет. «Байкалу» предстояло выгрузить четыре тысячи пудов казенного груза, и потому остались в де-Кастри ночевать. Чтобы скоротать время, я и механик удили с палубы рыбу, и нам попадались очень крупные, толстоголовые бычки, каких мне не приходилось ловить ни в Черном, ни в Азовском море. Попадалась и камбала.
Выгружают здесь пароходы всегда томительно долго, с раздражением и порчей крови. Впрочем, это горькая участь всех наших восточных портов. В де-Кастри выгружают на небольшие баржи-шаланды, которые могут приставать к берегу только во время прилива и потому нагруженные часто садятся на мель; случается, что благодаря этому пароход простаивает из-за какой-нибудь сотни мешков муки весь промежуток времени между отливом и приливом. В Николаевске беспорядков еще больше. Там, стоя на палубе «Байкала», я видел, как буксирный пароход, тащивший большую баржу с двумя сотнями солдат, утерял свой буксирный канат; баржу понесло течением по рейду, и она пошла прямо на якорную цепь парусного судна, стоявшего недалеко от нас. Мы с замиранием сердца ждали, что вот еще один момент и баржа будет перерезана цепью, но, к счастью, добрые люди вовремя перехватили канат, и солдаты отделались одним только испугом.
Чехов Антон Павлович
Остров Сахалин
Антон Чехов
Остров Сахалин
I. Г. Николаевск-на-Амуре. — Пароход «Байкал». — Мыс Пронге и вход в Лиман. — Сахалин полуостров. — Лаперуз, Браутон, Крузенштерн и Невельской. Японские исследователи. — Мыс Джаоре. — Татарский берег. — Де-Кастри.
II. Краткая география. — Прибытие в Северный Сахалин. — Пожар. — Пристань. — В Слободке. — Обед у г. Л. — Знакомства. — Ген. Кононович. — Приезд генерал-губернатора. — Обед и иллюминация.
III. Перепись. — Содержание статистических карточек. — О чем я спрашивал, и как отвечали мне. — Изба и ее жильцы. — Мнения ссыльных о переписи.
IV. Река Дуйка. — Александровская долина. — Слободка Александровка. Бродяга Красивый. — Александровский пост. — Его прошлое. — Юрты. Сахалинский Париж.
V. Александровская ссыльнокаторжная тюрьма. — Общие камеры. Кандальные. — Золотая Ручка. — Отхожие места. — Майдан. — Каторжные работы в Александровске. — Прислуга. — Мастерские.
VI Рассказ Егора
VII. Маяк. — Корсаковское. — Коллекция д-ра П.И. Супруненко. Метеорологическая станция. — Климат Александровского округа. Ново-Михайловка. — Потемкин. — Экс-палач Терский. — Красный Яр. — Бутаково.
VIII. Река Аркан. — Арковский кордон. — Первое, Второе и Третье Арково. Арковская долина. — Селения по западному побережью: Мгачи, Танги, Хоэ, Трамбаус, Виахты и Ванги. — Туннель. — Кабельный домик. — Дуэ. — Казармы для семейных. — Дуйская тюрьма. — Каменноугольные копи. — Воеводская тюрьма. Прикованные к тачкам.
IX. Тымь, или Тыми. — Лейт. Бошняк. — Поляков. — Верхний Армудан. — Нижний Армудан. — Дербинское. — Прогулка по Тыми. — Усково. — Цыгане. — Прогулка по тайге. — Воскресенское.
X. Рыковское. — Здешняя тюрьма. — Метеорологическая станция М.Н. Галкина-Враского. — Палево. — Микрюков. — Вальзы и Лонгари. — Мадо-Тымово. — Андрее-Ивановское.
XI. Проектированный округ. — Каменный век. — Была ли вольная колонизация? Гиляки. — Их численный состав, наружность, сложение, пища, одежда, жилища, гигиеническая обстановка. — Их характер. — Попытки к их обрусению. Орочи.
XII. Мой отъезд на юг. — Жизнерадостная дама. — Западный берег. — Течения. Маука. — Крильон. — Анива. — Корсаковский пост. — Новые знакомства. Норд-ост. — Климат Южного Сахалина. — Корсаковская тюрьма. — Пожарный обоз.
XIII. Поро-ан-Томари. — Муравьевский пост. — Первая, Вторая и Третья Падь. Соловьевка. — Лютога. — Голый мыс. — Мицулька. — Лиственничное. Хомутовка. — Большая Елань. — Владимировка. — Ферма или фирма. — Луговое. Поповские Юрты. — Березняки. — Кресты. — Большое и Малое Такоэ. Галкино-Враское. — Дубки. — Найбучи. — Море.
XIV. Тарайка. — Вольные поселенцы. — Их неудачи. — Айно, границы их распространения, численный состав, наружность, пища, одежда, жилища, их нравы. — Японцы. — Кусун-Котан. — Японское консульство.
XV. Хозяева-каторжные. — Перечисление в поселенцы. — Выбор мест под новые селения. — Домообзаводство. — Половинщики. — Перечисление в крестьяне. Переселение крестьян из ссыльных на материк. — Жизнь в селениях. Близость тюрьмы. — Состав населения по месту рождения и по сословиям. Сельские власти.
XVI. Состав ссыльного населения по полам. — Женский вопрос. — Каторжные женщины и поселки. — Сожители и сожительницы. — Женщины свободного состояния.
XVII. Состав населения по возрастам. — Семейное положение ссыльных. — Браки. Рождаемость. — Сахалинские дети.
XVIII. Занятия ссыльных. — Сельское хозяйство. — Охота. — Рыболовство. Периодическая рыба: кета и сельдь. — Тюремные ловли. — Мастерства.
XIX. Пища ссыльных. — Что и как едят арестанты. — Одежда. — Церковь. Школа. — Грамотность.
XX. Свободное население. — Нижние чины местных воинских команд. Надзиратели. — Интеллигенция.
XXI. Нравственность ссыльного населения. — Преступность. — Следствие и суд. — Наказание. — Розги и плети. — Смертная казнь.
XXII. Беглые на Сахалине. — Причины побегов. — Состав беглых по происхождению, разрядам и проч.
XXIII. Болезненность и смертность ссыльного населения. — Медицинская организация. — Лазарет в Александровске.
Остров Сахалин. Впервые — журн. «Русская мысль», 1893, №№ 10-12; 1894, №№2, 3, 5-7. В журнале были опубликованы главы I-XIX; с добавлением глав XX-XXIII «Остров Сахалин» был опубликован отдельным изданием: Антон Чехов, «Остров Сахалин». Из путевых записок. М., 1895.
Еще во время подготовки путешествия на Сахалин Чехов начал составление библиографии и даже написал отдельные куски будущей книги, которые не требовали личных сахалинских наблюдений.
В Москву с Сахалина Чехов вернулся 8 декабря 1890 г. Из сахалинского путешествия А.П. Чехов привез, по его словам, «сундук всякой, каторжной всячины»: 10000 статистических карточек, образцы статейных списков каторжных, прошения, жалобы врача Б. Перлина и т.д.
Чехов приступил к работе над книгой о Сахалине в начале 1891 г. В письме к А.С. Суворину от 27 мая 1891 г. Чехов замечает: «…Сахалинская книга будет осенью печататься, ибо я ее, честное слово, уже пишу и пишу». Первое время он собирался непременно напечатать всю книгу целиком и отказывался от публикации отдельных глав или просто заметок о Сахалине, но в 1892 г. в связи с общественным подъемом среди русской интеллигенции, вызванным организацией помощи голодающим, Чехов решился опубликовать главу своей книги «Беглые на Сахалине» в сборнике «Помощь голодающим», М., 1892.
В 1893 г., когда книга была закончена, Чехова стал беспокоить ее объем и стиль изложения, не подходящий для публикации в толстом журнале. Редактор «Русской мысли» В. М. Лавров вспоминал в своем очерке «У безвременной могилы»: «»Сахалин» был обещан нам, и мы с большим трудом отстояли его в том виде, в котором он появился в последних книжках 1893 г. и в первых книжках 1894 г.» («Русские ведомости», 1904, № 202).
Несмотря на опасения Чехова по поводу отношения правительственных инстанций к его работе, «Остров Сахалин» прошел с небольшими затруднениями. 25 ноября 1893 г. Чехов писал Суворину: «Галкин-Враской «начальник Главного тюремного управления. — П.Е.» жаловался Феоктистову «начальнику Главного управления по делам печати. — П.Е.»; ноябрьская книжка «Русской мысли» была задержана дня на три. Но все обошлось благополучно». Подытоживая историю публикации «Острова Сахалина» в журнале «Русская мысль», Чехов писал С.А. Петрову (23 мая 1897 г.): «Мои путевые записки печатались в «Русской мысли» все, кроме двух глав, задержанных цензурой, которые в журнал не попали, но зато попали в книгу».
Еще в период подготовки к путешествию на Сахалин Чехов определил жанр будущей книги, ее научно-публицистический характер. В ней должны были найти свое место и авторские размышления, и экскурсы научного характера, и художественные зарисовки природы, быта и жизни людей на Сахалине; несомненно, на жанр книги большое влияние оказали «Записки из мертвого дома» Ф.М. Достоевского и «Сибирь и каторга» С.В. Максимова, на которые неоднократно ссылается автор в тексте повествования.
Читать дальше
Человек на острове: путешествие Антона Чехова на Сахалин
29 января 1860 года родился «Пушкин в прозе», писатель и драматург Антон Павлович Чехов. О классике мировой литературы принято говорить в контексте его произведений, которых насчитывается более пятисот, в контексте театра, реже – врачебной карьеры. Но был в биографии Чехова сюжет, который часто обходят стороной, хотя он представляет собой интереснейшее путешествие. Речь о поездке драматурга на Сахалин.
27 января 2022
В 1890 году Антон Чехов отправился в длительное путешествие из Москвы через Сибирь в исправительную колонию на острове Сахалин. Он провел там три месяца, которые вылились в книгу «Остров Сахалин», изданную отдельно в 1895 году. Она представляет собой увлекательный рассказ о его впечатлениях, дополненный удивительными фактами о жизни заключенных и природе острова.
В 1889 году Чехов озадачил родных и знакомых, объявив, что собирается отправиться в путешествие через всю Российскую империю, чтобы посетить заброшенное поселение на окраине цивилизации. Чехов говорил о Сахалине, самом большом из островов России на ее северо-восточном побережье, расположенном между полуостровом Камчатка на севере и Японским архипелагом на юге. Это было место, печально известное своей изолированностью и бедностью.
«Северная часть Сахалина, через которую проходит линия вечно промерзлой почвы, по своему положению соответствует Рязанской губернии, а южная — Крыму. Длина острова 900 верст; наибольшая его ширина равняется 125, и наименьшая 25 верстам. Он вдвое больше Греции и в полтора раза больше Дании».
Чехов в письме, написанном перед отъездом, высказал предположение, что процесс отправки заключенных в колонии был бесчеловечным и непрактичным, поскольку бывшим заключенным предстояло долгое и трудное путешествие домой после отбытия наказания. Он подозревал, что власти полагались на бедность и инерцию, чтобы удерживать жителей на острове. Примечательно, что Чехов считал систему деградирующей не только для ссыльных, но и для общества в целом, поскольку система позволяла отказаться от необходимости выяснять причины преступлений и исследовать эффективные средства реабилитации.

Этот и дальнейшие снимки в конце прошлого века были сделаны Иннокентием Павловским –
заведующим телеграфом на Сахалине, а также агрономом Алексеем Фрикеном. Источник: chehov-lit.ru
Чехову предстояло предпринять одно из самых долгих и трудных путешествий. Еще более поразительно то, что Чехов болел туберкулезом и знал, что тяжелое путешествие во влажных антисанитарных условиях может серьезно подорвать его здоровье. Но он все же решил уехать. Точные приоритеты его путешествия остаются предметом споров. Путешествие туда было изнурительным, длилось много недель, дороги были ужасными, погода переменчивой, еда — неудовлетворительной.

Чехов и Сонька Золотая Ручка. Источник: novosib-room.ru
«После обеда, часов в шесть, мы уже были у мыса Пронге. Тут кончается Азия, и можно было бы сказать, что в этом месте Амур впадает в Великий океан, если бы поперек не стоял о. Сахалин. Перед глазами широко расстилается Лиман, впереди чуть видна туманная полоса – это каторжный остров; налево, теряясь в собственных извилинах, исчезает во мгле берег, уходящий в неведомый север.
Кажется, что тут конец света и что дальше уже некуда плыть. Душой овладевает чувство, какое, вероятно, испытывал Одиссей, когда плавал по незнакомому морю и смутно предчувствовал встречи с необыкновенными существами. И в самом деле, справа, при самом повороте в Лиман, где на отмели приютилась гиляцкая деревушка, на двух лодках несутся к нам какие-то странные существа, вопят на непонятном языке и чем-то машут».
Во время своего трехмесячного пребывания на острове Чехов провел личную перепись жителей — неблагодарное и изнурительное занятие, так как многие люди не знали (или не хотели называть) своих настоящих имен.
«Чтобы побывать по возможности во всех населенных местах и познакомиться поближе с жизнью большинства ссыльных, я прибегнул к приему, который в моем положении казался мне единственным. Я сделал перепись. В селениях, где я был, я обошел все избы и записал хозяев, членов их семей, жильцов и работников. Чтобы облегчить мой труд и сократить время, мне любезно предлагали помощников, но так как, делая перепись, я имел главною целью не результаты ее, а те впечатления, которые дает самый процесс переписи, то я пользовался чужою помощью только в очень редких случаях».
Он поговорил с каждым некоренным жителем острова — это примерно 10 тысяч человек. Он заполнял анкеты в полутемных однокомнатных лачугах, часто без мебели, а почтительные жители острова обращались к нему «ваше высокоблагородие».

Ссыльные
«Иногда за мной или на некотором расстоянии следовал, как тень, надзиратель с револьвером. Это посылали его на случай, если я потребую каких-нибудь разъяснений. Когда я обращался к нему с каким-нибудь вопросом, то лоб у него мгновенно покрывался потом и он отвечал: «Не могу знать, ваше высокоблагородие!»
Чехов дал яркое описание дождливого, холодного и влажного климата на острове. Из его заметок мы узнаем, что в одном году за все лето было восемь солнечных дней, а в некоторых самых северных районах была вечная мерзлота.
«Небо по целым неделям бывает сплошь покрыто свинцовыми облаками, и безотрадная погода, которая тянется изо дня в день, кажется жителям бесконечной. Под ее влиянием многие холодные люди стали жестокими, а многие добряки и слабые духом, не видя по целым неделям и даже месяцам солнца, навсегда потеряли надежду на лучшую жизнь».
Основными источниками дохода (и еды) жителей острова были сельское хозяйство, рыболовство, сбор ягод, охота и китобойный промысел. Остров Сахалин расположен на краю зоны выращивания морозостойких однолетних культур, что снижает их жизнеспособность. Чехов также отметил, что единственная тяжелая промышленность на острове — добыча угля — работает не лучше и не хуже, чем в других регионах Империи.


Местное население
Чехов провел потрясающее исследование русской каторги и жизни людей, обреченных на страдания. Немногочисленные больницы на острове были старыми, с неисправным оборудованием и неряшливым персоналом; у тюремных врачей не было лекарств. Тюрьмы были грязными, а осужденные жили в беспорядочных общих камерах.
После выхода книги в свет, Главное тюремное управление заинтересовалось описанными Чеховым фактами и отправило на остров своих представителей с проверкой. Итогом проверки стало проведение частных реформ: отмена телесных наказаний для женщин, увеличение суммы на содержание детских приютов, отмена вечной ссылки и пожизненной каторги.
Для оформления кабинета, презентации или тематического урока скачайте карточки-цитаты великого писателя.
